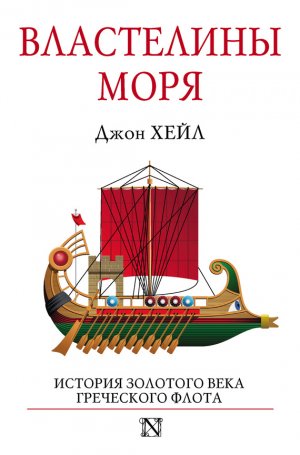
Введение
Впервые афинский флот вошел-вплыл в мое сознание одним зимним днем 1969 года, когда я столкнулся в Нью-Хейвене, на Колледж-стрит, с Доналдом Кэгеном. В заснеженном студенческом городке Йеля его фигуру боксера с походкой моряка легко было узнать еще издали. Я знал его как профессора, совершенно потрясающе читавшего вводный курс древнегреческой истории, но все никак не мог набраться смелости подойти и заговорить с ним. В первый же день занятий Кэген, дабы продемонстрировать характер боевых маневров, велел студентам, сидевшим в первом ряду аудитории, выстроиться в импровизированную фалангу греческих воинов с тетрадями в руках взамен щитов и ручками взамен мечей. Будучи, подобно мне, в Йеле новичком, Кэген тем не менее уже считался гигантом в кругу университетской профессуры. Давая ему пройти, я отступил к краю заледеневшего тротуара, но он остановился, спросил, как меня зовут, и поинтересовался, чем я занимаюсь в Йеле. Я выдавил из себя несколько слов: занимаюсь, мол, археологией и еще выступаю за команду гребцов-первокурсников. Кэген так и просиял:
— Ага! Гребец, стало быть. В таком случае объясните мне кое-что. Осенью 429 года до н. э., после того как Формион побил пелопоннесцев на море, они тайно организовали атаку на Пирей. Фукидид пишет, что у каждого гребца были собственные весла и подушки. Но на черта они, я имею в виду подушки, им понадобились? Путь ведь был совсем недальний.
Целый час, не обращая внимания на холод, мы проговорили о судах и веслах и героях-флотоводцах. Я вспомнил, что в XIX веке американцы придумали специальные подушечки, в которые можно было упираться ногами при гребле. Кэген, в свою очередь, заговорил о тактическом гении упомянутого им малоизвестного афинского флотоводца Формиона, стал говорить о разных других вещах, недостаточное знакомство с которыми не позволяет в полном объеме охватить историю могучего афинского флота, этого оплота свободы и двигателя демократии. При следующей встрече этот великий человек сказал, что банка гребца дает особые преимущества во взгляде на историю Афин и я должен им воспользоваться. Так определилась моя судьба.
Последующие четыре года я посвятил поискам материалов, связанных с гребной техникой античных времен, в надежде понять, каким образом на протяжении целого дня беспрерывной работы веслами афинским триерам удавалось достигать, как говорится в надежных источниках, феноменальной скорости в десять узлов (18,52 км/ч). Помимо того я погрузился в изучение удивительной судьбы Формиона, который одержал целую серию побед, при том что по всем признакам одержать их никак не мог. Неким контрапунктом этим занятиям морем стало комическое представление по мотивам обновленной версии «Лягушек» Аристофана, разыгранное в бассейне спортивного комплекса «Пейн Уитни». В античном оригинале содержится немало отсылок к афинскому флоту как сатирического, так и патриотического характера. Большинство из них в современном варианте не сохранилось, но кульминационным моментом комедии все равно стало шумное кваканье лягушек — состоящий из участников команды Йеля по плаванию хор исполнил старую песенку гребцов «брекекекекс — коэкс», под звуки которой бог Дионис пересекает на ялике Стикс. Веселые были деньки.
Затем, уже в Англии, в Кембридже, работая над докторской диссертацией, посвященной так называемым «длинным кораблям» викингов, я еще глубже погрузился в мир афинского флота, чему способствовало знакомство с Джоном Моррисоном. К тому времени его классическое исследование «Греческие гребные суда» стало для меня библией. В молодости Моррисон занимался философией Платона, но, обнаружив, что никто так и не смог объяснить значения различных морских терминов, которые то и дело встречаются в его диалогах, увлекся новой темой. В результате ему удалось впервые реконструировать действующую модель афинской триеры с ее сложной, состоящей из трех ярусов, гребной системой. А будучи упомянуто в колонке писем газеты «Таймс», открытие Моррисона приобрело общенациональную известность. Предметом самых жарких споров стала максимальная скорость триеры античных времен.
Энтузиасты-последователи решили сколотить триеру, пусть в уменьшенной форме, прямо в саду у Моррисона, жившего в селеньице Грейт-Шелфорд, в четырех милях к югу от Кембриджа. Мне повезло — я оказался среди тех гребцов кембриджской команды, кто принял участие в ее испытаниях. Мы опустили лопасти весел в пластмассовую ванну, установленную рядом с корпусом триеры. Там же я познакомился и с Джоном Коутсом, королевским судостроителем, который, выйдя на пенсию, проявил интерес к этому проекту. Кончилось все сооружением полноценной, один к одному, копии греческой триеры, по схеме Моррисона и под руководством Коутса. А когда много лет спустя я поднялся на борт триеры «Олимпия» в сухом доке невдалеке от Афин, сел на одну из 170 банок и посмотрел на сверкающую гладь залива, на противоположной стороне которого угадывались контуры Саламина, это стало одним из самых счастливых моментов моей жизни.
Даже по окончании Кембриджа, уже дома, где я занял пост профессора археологии Луисвиллского университета, песнь сирен афинского флота продолжала преследовать меня. Занимаясь раскопками на одной вилле в Португалии, я наткнулся на мозаику времен Древнего Рима с изображением мифологического героя Тесея, легендарного победителя Минотавра и основателя афинского флота. А когда уже в Греции я исследовал руины храма Аполлона в Дельфах, узкие темные туннели, которыми я с трудом продвигался вперед, привели меня к месту, где Дельфийский оракул напророчил знаменитую «Деревянную стену» — туманный намек на будущую морскую мощь Афин и победу греков над персидской армадой при Саламине. Читая лекции в Финляндии, я столкнулся с современными викингами, которые словно бы заново открыли древнегреческую технику гребли, не забыв и о подушечках, в которые упираются ноги. Переплыв за день Балтийское море со скоростью — да-да — десяти узлов, они оказались на высоте легендарных достижений афинских триер.
Но ничего бы из этих разрозненных эпизодов не получилось, если бы не новое появление Дона Кэгена. Весной 2000 года он пригласил меня почитать вместе с ним лекции о «великих сражениях античности» участникам традиционного круиза выпускников Йеля. Сходя на сушу в Марафоне, Фермопилах или Спарте, Кэген рассказывал о сухопутных битвах, и я не мог не вспомнить его блестящие выступления в годы моей студенческой молодости. Ну а я воспроизводил ход морских сражений на палубе нашего теплохода «Клелия-2», когда мы продвигались маршрутами афинского флота — через пролив у Саламина, мимо островов Сибота близ Корфу (где разыгралась схватка, ускорившая начало Пелопоннесской войны), с тем чтобы на рассвете достигнуть Геллеспонта, стратегического морского пути, для завоевания контроля над которым афинянам в свое время пришлось положить столько людей и потерять столько судов.
Во время долгого обратного перелета в Америку я убеждал Кэгена, что, написав популярную версию своей истории Пелопоннесских войн, он окажет людям большую услугу. Идея имела последствия для нас обоих. Несколько месяцев спустя я получил сообщение, побудившее меня приняться за книгу, которую вы держите в руках. Послала его Уэнди Вульф, редактор нью-йоркского филиала издательства «Пингвин». Оно гласило: «Мы публикуем «Пелопоннесскую войну» Дона Кэгена. Автор предлагает нам выпустить также книгу о флоте древних Афин и называет ваше имя в качестве ее автора. Вам интересно такое предложение? По-моему, книга могла бы произвести настоящий фурор».
Да, такая перспектива меня заинтриговала. Более того, она не оставляла меня на протяжении уже более тридцати лет. Но если под «фурором» Уэнди Вульф имела в виду нечто вроде яркой вспышки, которой предстоит вскоре потухнуть, ее ждало разочарование. При личной встрече, состоявшейся в августе, я объяснил ей, что исследовательская часть работы завершена и книга может быть написана в течение года. Вульф осторожно заметила, что, может, лучше рассчитывать на два… а ждать ей пришлось семь лет. Потому что чем пристальнее я вглядывался в картину, тем больше оставалось на ней белых пятен.
Благодаря терпению редактора мне удалось посетить места всех морских сражений и десантных операций афинян, о которых сохранились документальные свидетельства, — от Сиракуз на Сицилии до реки Эвримедонт на юге Турции, а также впервые установить точные координаты Эгоспотамы («Козьей реки»), где афинский флот потерпел самое сокрушительное за все годы своего существования поражение. В Пирее, где он базировался, я стал свидетелем того, как команда молодых датских и греческих археологов во главе с неукротимым Бьорном Ловеном, размечала ныне ушедшие под воду подъемы, по которым матросы втаскивали на берег не участвующие в боевых действиях триеры. Наконец вместе со своими добрыми друзьями и почтенными коллегами Шелли Уошменом и Робертом Хольфельдером я опустился в поисках триер на дно морское. В содружестве с греческими океанографами и археологами-водолазами наша группа по исследованию останков судов, затонувших во время персидских войн, совершила четыре экспедиции в те районы Эгейского моря, где, если верить Геродоту, пошли на дно в штормах или военных сражениях триеры персидских царей Дария и Ксеркса в их завоевательных войнах с Грецией. Оставаясь на борту греческого исследовательского судна «Эгей», мы при помощи гидролокатора бокового обзора, дистанционно управляемых аппаратов «Ахилл» и «Макс Ровер», а также способной погружаться под воду «Тетис», этой настоящей «Желтой подводной лодки», обнаружили скелеты судов дальнего действия. Поиски принесли находки в виде предметов, составлявших скорее всего принадлежность триер, а также несколько старинных судов для транспортировки вина и даже грузовое судно с мраморными плитами времен Римской империи. На острове Эвбея мы загадочным образом столкнулись с местными жителями, которых называют здесь «свистунами» и которые полагают себя потомками персов, достигших вплавь этих берегов в 480 году до н. э., когда мощный шторм разметал их суда.
Но мечта обнаружить останки хоть одной-единственной триеры так и осталась неосуществленной. Классическое боевое судно афинского флота ускользает от нас сегодня так же, как ускользало от французского ученого Огюстена Карто, когда он в 1881 году выпустил свою книгу «Триера древности: опыт морской археологии», в которой речь идет об очень непрочных триерах и их неумирающем наследии. «Величественные памятники — свидетельство афинской мощи, — пишет автор, — храмы — Акрополь и Пропилеи, театр Диониса — все это сохранилось; архитекторы и ученые измерили их пропорции и восстановили первоначальный облик. Но триера, без которой ничего этого не было бы на свете, — предмет хрупкий, и он исчез. Ее поглотило море, разнесли в щепы вражеские тараны, а может, совершив свой славный подвиг, она просто сгнила на верфи».
Во времена своего величия афиняне были прежде всего и главным образом людьми моря. Эта книга — дань памяти строителям и гребцам тех давно исчезнувших триер и ключевой роли, которую они сыграли в созидании золотого века своего города, а также наследию, которое они оставили миру.
Пирей, 24 июня 2008 г.
Пролог
На рассвете, когда не тронутая ветерком гладь Эгейского моря походит на отполированный щит, приближение триер можно услышать на расстоянии, почти от самых Афин. Сначала доносятся мягкие размеренные удары, напоминающие отдаленный бой барабанов. Затем два отчетливых звука, сначала один, затем другой: глухой удар дерева о воду, за ним шумный всплеск. Бэмс! Бэмс! Эти звуки настолько вошли в жизнь, что греки придумали для них специальные слова. Удар — pitylos, всплеск — rhotios. Эхо от ударов катилось по воде и, казалось, приближало судно к берегу. Звуки постепенно превращались в биение пульса, сильного и ровного, как пульс гиганта.
Скоро будут слышны и иные звуки, неизменно сливающиеся с ударами весла: пронзительный свист дудок, мерные команды рулевого, подгоняющего гребцов, и ответное монотонное пение. К общему гулу добавляется собственный голос судна, груженного тоннами скрипящих и постанывающих бревен и пеньки. По мере того как триера продвигается вперед, весла и медные таранные орудия, осыпаемые тучами брызг, начинают шипеть, как змеи. В последние мгновения, когда обведенные красными кругами глазницы впиваются прямо в вас с носа триеры, удары весел начинают звучать как гром. А затем судно либо врезается в вас, либо отворачивает в сторону в поисках другой добычи.
Устрашающий корабль-призрак, весь почерневший от напряжения, набитый людьми и ощетинившийся веслами, — это эмблема свободы и демократии, но также имперских амбиций. Это военное судно Афин, одно из сотен, составляющих флот государства, выполняет волю его граждан. Достигнув вершин своего могущества, Афины стали во главе могучей морской империи, ныне почти забытой. Огромное географическое пространство включало в себя более ста пятидесяти островов и городов-государств, расположенных между южной частью Эгейского моря и самыми отдаленными районами моря Черного. Для того чтобы патрулировать и защищать столь удаленные друг от друга границы, афинянам был нужен быстроходный и сильный флот. Ответом на эту потребность стала триера.
Подчиненное одной лишь скорости, это деревянное торпедообразное судно насчитывало сто двадцать футов (36,6 м) в длину, от тарана на носу до закругленной и несколько приподнятой над водой кормы. Триера по самой своей конструкции настолько легка и изящна, что от того, чтобы не распасться, ее удерживают только огромные опоясывающие весь корпус тросы-сухожилия. Когда задувает попутный ветер, матросы ставят большой квадратный парус, но главным механизмом, заставляющим триеру продвигаться вперед, является весло. Греческое слово triers означает «тройная гребля» — указание на три яруса, где располагаются 170 гребцов. Команды триер, без устали работая целыми днями, достигали фантастической, невиданной по тем временам скорости в десять узлов. Греки называли триеру naus, или «длинное судно». Из этого корня возникает целая россыпь морских терминов: «навигатор», «навигация», «астронавт» («звездный мореход»), «наутилус» и даже «нозия» («тошнота», «морская болезнь», а по-гречески — «ощущение нахождения на борту»).
Афиняне были людьми, обрученными с морем, или, как выразился один острый на язык спартанец, «вступившими в порочную связь с морем». Сам же город связывал свое процветание с постоянным укреплением морского владычества. Греческие историки даже придумали специальный термин, определяющий такого рода господство, — «талассократия». На протяжении многих веков флоты разных держав постоянно сталкивались в борьбе за контроль над внутренним морским бассейном, простирающимся от ливанских берегов на запад, к Гибралтарскому проливу и Геркулесовым столпам. Как отмечает в своей работе «Влияние морской силы на историю» Альфред Т. Мэхэн, «благодаря географическому положению Средиземное море всегда играло более значительную — и в экономическом, и в военном смысле — роль, нежели любое водное пространство сопоставимых размеров. Контроль за ним стремились установить многие страны, и соперничество это продолжается и поныне».
Афины оказались первыми, кто вступил в эту борьбу. Более ста пятидесяти лет этот город-государство с населением 200 тысяч располагал сильнейшим в мире флотом. Если быть более точным, афинская талассократия, знавшая взлеты и падения, просуществовала 158 лет и один день. Начало ей было положено у Саламина, на девятнадцатый день месяца бэдромиона (что примерно соответствует нашему сентябрю) 480 года до н. э., когда афиняне одержали историческую морскую победу над армадой царя Ксеркса. Конец же наступил в Пирее, в виду того же острова Саламин, на двадцатый день того же месяца 322 года до н. э., когда преемник Александра Великого направил сюда военный отряд с целью захвата морской базы. На этот промежуток времени пришелся золотой век Афин.
Без афинского флота не было бы ни Парфенона, ни трагедий Софокла и Эврипида, ни «Республики» Платона, ни «Политики» Аристотеля. До греко-персидских войн Афины не могли похвастать сколько-нибудь серьезными завоеваниями в таких областях, как философия, архитектура, драматургия, политические учения, история. А после того как в начале V века до н. э. афиняне проголосовали за строительство флота и город-государство сделался, таким образом, морской державой, наступил стремительный подъем искусств и гуманитарных наук. Что касается других городов образовавшейся морской империи, то хоть временами они и бунтовали против афинского владычества, ветер времени дул и в их паруса тоже. Своим огромным трудом, посвященным греко-персидским войнам, уроженец Галикарнаса Геродот положил начало исторической науке, какой мы ее знаем. Гиппократ из Коса заложил основы медицины, не поколебленные и поныне, как сохранила свою силу приписываемая ему клятва. Гипподам из Милета завоевал репутацию первого в мире градостроителя. Самый знаменитый его проект — Пирей, где и поныне, на территории современного порта, можно увидеть заложенную им сетку (решетку) улиц.
Золотой век Афин был также веком триеры. В борьбе за господство на море афиняне сталкивались с множеством соперников — персами, финикийцами, спартанцами, сицилийцами, македонянами, даже с пиратскими флотилиями. Морское сражение, или навмахия , приходилось вести в спокойных водах, а при штиле парусник беспомощен. Мачты и паруса были настолько не нужны триерам в баталиях, что перед их началом оснастку снимали и оставляли на берегу. С другой стороны, штиль был условием совершенно необходимым, ибо нижний ярус триеры располагался прямо над ватерлинией. Лучше всего бой было вести ранним утром. Чуть задует ветер, и сражение приходилось прекращать. Ночевала команда на берегу, так как сражения проходили близ суши. Очень важно для афинян было держать под контролем не только морские пути, но и сотни сухопутных стоянок на песчаных берегах, где имелись запасы пресной воды.
В отличие от судов с округлыми бортами, так называемых holkas (грузовое морское судно, которое могло перевозить и жидкие грузы, например, вино или оливковое масло) — тяжелых, остойчивых парусников с глубоко сидящим килем и просторными трюмами, триеры проводили на море примерно столько же времени, сколько и на берегу. Даже оставляя в стороне повседневные нужды большой команды, приходилось, и тоже едва ли не каждый день, сушить корпус, иначе древоточцы и корабельные черви быстро бы сделали свое дело (именно по этой причине грузовые суда обшивали жестью, но для триер это не подходило — слишком увеличился бы вес). В общем, греческая триера — это морской дьявол-амфибия, режущий морскую волну в дневное время, расправляющий парус, как крыло, при ветре и возвращающийся на берег с закатом солнца. Дома, в закругленных бухтах Пирея, усталая команда тянула триеры вверх по каменному настилу, под своды обнесенного колоннами дока. Тут суда, подобно рысакам в конюшне, отдыхали, покуда из народного собрания не последует приказ на очередной выход в море.
Вопреки распространенному заблуждению гребцы на этих боевых судах вовсе не были рабами, прикованными к веслам цепями. Начало этой популярной легенде положил в своем романе «Бен Гур» Лью Уоллес, а новое дыхание она получила с публикацией «Самого замечательного в мире рассказа» Редьярда Киплинга, в центре которого стоит галерный раб древности, возродившийся в облике лондонского клерка. Ну и уж едва ли не бессмертие обрел этот миф в тысячах карикатур. Подобно рогам на шлемах викингов, это заблуждение в какой-то момент зажило собственной жизнью. Иное дело, что образ изможденного полуобнаженного галерного раба возник не в античной Греции, но в средневековой и ренессансной Европе, а точнее — в моряцкой среде арабов и турок времен Оттоманской империи. Ведя родословную «битников» от рабского труда античных гребцов, Джек Керуак в своем романе «Ангелы тоски» поэтически убедителен, но историческую правду он нарушает:
«Ритм везде. Ритм. Все, что нужно выдерживать, это ритм. Ритм сердцебиения. Это как ритм, в котором покачивается мир и какой в древних цивилизациях выдерживали гребцы-невольники на галерах».
Точно так же мало чего общего имеет опыт афинских моряков с корабельной жизнью, известной современным читателям по картине британского флота, воспроизведенной то ли в документально-исторической (Горацио Нельсон), то ли в художественной (Хорнблауэр, Обри, Мэтьюрин) форме. Уинстон Черчилль якобы заметил как-то, что английский флот со всеми его традициями — это «не что иное, как ром, содомия и бич». Что касается последнего, то афинские гребцы немедленно выбросили бы за борт любого офицера, взявшегося за плетку. Триера отнюдь не представляла собой тигль, в котором кипела взаимная ненависть высокомерных командиров и недовольной команды. Силой сюда никто никого не загонял, а бунт был событием исключительным.
Когда народное собрание призывало афинян к новым морским сражениям, гребцы были свободными людьми, более того, в большинстве своем гражданами. Они гордились флотом и ценили предлагаемые им возможности получать постоянное жалованье и добиваться политического равноправия. В пору критических испытаний все свободные афиняне мужского пола, достигшие совершеннолетия — богатые и бедные, граждане и не-граждане, знать (всадники) и простые ремесленники, — поднимались на борт триер и брались за весла во имя спасения родного города. Однажды, когда положение сделалось по-настоящему отчаянным — главные морские силы оказались заперты в отдаленной бухте, афиняне дали свободу тысячам рабов и сформировали новые команды, бросившиеся на выручку тем, кто попал в беду. После этого всем бывшим рабам было дано гражданство.
Древние греки отдавали себе отчет в том, что строительство флота — это такое предприятие, у которого будут ясные политические последствия. Флотское дело, опирающееся на мышечную силу и пот людских масс, неизбежно ведет к установлению демократии — от морской силы к силе демократии. Афины в этом смысле являют собой наиболее выразительный пример: величайшее наследие афинского флота — это и впрямь радикальная демократия. В «Политике», написанной Аристотелем в годы, когда он преподавал в Ликее, в Афинах, философ называет конституцию Афин «демократией триеры». Корни ее он усматривает в греко-персидских войнах: «Афинская демократия укреплялась людскими массами, служившими на флоте и одержавшими победу при Саламине, ибо достигнутое в ее результате ведущее положение Афин опиралось на их морское могущество».
Таким образом, флот стал колыбелью прямой демократии Афин. А также основой распространения демократических форм правления во всем древнегреческом мире и инструментом защиты Афин против врагов демократии дома и за границей. В своей «Риторике» Аристотель отмечает, что некий политик, по имени Пифолай, однажды произнес речь, в которой назвал «Парал», флагманский корабль афинского флота, «большой народной дубинкой» (этот Пифолай явно был ранним воплощением Тедди Рузвельта[1]).
Нечего говорить, что, помимо всего прочего, военный флот стимулировал развитие торговли и обеспечивал ее безопасность. Ну а морская торговля, в которой тогда, как, впрочем, и сейчас, первую скрипку играли греческие суда, способствовала превращению древних Афин в богатейший город Средиземноморья. Пирей — афинский порт — сделался средоточием международной торговли, охватывающей восточное Средиземноморье, Адриатику, Тирренское, Эгейское и Черное моря. В многочисленных лавках агоры оживленно торговали африканскими изделиями из слоновой кости, балтийским янтарем, китайским шелком. Персидские павлины полагались, кажется, сугубо дипломатическим подарком, как сегодня панда. Наряду с экзотическими предметами роскоши трюмы кораблей ломились от бытовых товаров вроде вина, соленой рыбы, строительного камня, леса. Благодаря Афинам морская торговля зерном, этим хлебом насущным самого Сократа, нашла большее развитие в Северном Причерноморье (Скифии), на Сицилии или в Египте, нежели в Аттике, прямо за городскими стенами. Далекие горизонты, делавшиеся благодаря флоту ближе, позволяли тому же Сократу говорить: «Не называйте меня афинянином. Я гражданин мира».
Жизнь, тесно связанная с морем, питала свободный дух эксперимента и исследования. В отличие от многих соседних городов Афины широко открывали ворота заморским гостям, не важно — грекам или варварам, более того, всячески поощряли их к оседлости, охотно предоставляя гражданство. Терпимость афинян простиралась до того, что они разрешали иностранным купцам устанавливать собственные святилища (храмы) своим богам в стенах Пирея. Такой либерализм был редкостью. На сопредельных землях, в таких странах, как Спарта или Фивы, пехотные фаланги сдерживали рост и развитие. Военные режимы Греции отличались ксенофобией и хронической подозрительностью к просвещенности, а также к любым переменам. Спарта была антиподом и соответственно заклятым врагом Афин золотого века.
В отдаленной перспективе дух Афин оказался более гибким и долговечным, чем дух Спарты. Через десять лет после так называемого падения Афин (404 год до н. э.) и победы Спарты в Пелопоннесской войне герои афинского флота вернули городу независимость и восстановили демократическое правление и флотские традиции. А при жизни уже следующего поколения Афины изгнали спартанцев и вновь стали властелинами морей. Вместе с возрожденным золотым веком — этим прямым результатом возрождения флота — пришли исторические штудии Ксенофонта, скульптуры Праксителя, философские диалоги Платона, речи Демосфена и научные труды Аристотеля. Да и сам флот, как институт, достиг в IV веке до н. э. невиданного расцвета. Ко времени последнего столкновения с македонянами, когда Спарта окончательно рухнула под напором Афин и других греческих городов, общее количество триер в восстановленной афинской верфи достигло четырехсот, значительно превзойдя показатели времен греко-персидских или Пелопоннесских войн.
Во времена золотого века наиболее известные граждане Афин были прямо связаны с флотом. Среди командиров флотилий и отрядов триер были государственный деятель Перикл, историк Фукидид, драматург Софокл, чье избрание на должность стратега было прямо объявлено общественной наградой за имевшую огромный успех трагедию «Антигона». Ветеран Саламина Эсхил положил это историческое морское сражение в основу «Персов» — первого в мире из дошедших до нас театральных произведений. Оратор Демосфен служил на флоте и как командир триеры, и как лоббист интересов флота в народном собрании. И даже жизнь Сократа, первого доморощенного афинского философа, обычно изображаемого прочно упирающимся обеими ногами в булыжники агоры, была в некотором роде связана с флотом. Он был на борту судна, идущего с подкреплениями к отдаленному месту боевых действий, он председательствовал на суде морских военачальников, он не без удовольствия предавался развлечениям на борту одного из прогулочных кораблей, которому не позволял вернуться в город встречный ветер.
Даже давая детям имена, афиняне выказывали свою неразрывную связь с флотом. Скажем, мужчину могли звать Нобисом («Морская жизнь») или Нократом («Морская мощь»), женщину — Номахией («Морское сражение») или Нозиникой («Морская победа»). Перикл, этот архитектор и строитель золотого века, настолько сильно ощущал свою неразрывную связь с флотом, что второго сына назвал по имени легендарного государственного судна «Парал». Другой афинянин-патриот назвал сына Эвримедонтом — по имени реки в Малой Азии, где в 466 году до н. э. афинский военный флот нанес сокрушительное поражение флоту и армии персидского царя. Точно так же в семьях не столь отдаленных времен детей могли бы окрестить, положим, «Трафальгаром» или «Мидуэем»[2]. Неудивительно, быть может, что юный Эвримедонт стал впоследствии морским военачальником.
Море плескалось в каждом уголке афинской жизни. Суда и мореплавание были сквозной темой поэтов, художников, драматургов, историков, оно не отпускало политиков, философов и юристов. Власть народ именовал «государственным кораблем», а первых лиц — рулевыми. В академиях изучали строение весел, направления ветров, звездное небо, а некоторые мыслители с тревогой отмечали воздействие флота на нравы афинян. В театре Диониса морские эпизоды то и дело разыгрывались как в трагедиях, так и в комедиях (в театральный реквизит входило миниатюрное суденышко на колесах, использовавшееся в сценах с греблей). Вечерние домашние застолья именовались плаванием по темным морским волнам вина, что действительно зеркально отражает цвет морской поверхности в ночную пору. Морская терминология вошла даже в сексуальную жизнь афинян, сделавшись жаргонным словарем для обозначения любовных утех.
Многое из того, что тогда впервые возникало из самой повседневной жизни Афин, придавало ей специфически современный оттенок. Первые военно-морские трибуналы. Первые корабельные страховки. Первые политические карикатуры (их мишенью стал в середине IV века до н. э. герой морских сражений Тимофей). Первое упоминание о пассажире, коротающем время на борту судна за чтением книг, встречается в «Лягушках» Аристофана. Наконец, один из первых в истории мемориальных проектов, когда усилиями городских ремесленников была сохранена в изначальном виде маленькая галера, в которой, по легенде, Тесей отправился на Крит, чтобы сразиться с Минотавром.
Самые состоятельные из афинян по традиции сменяли друг друга на посту триерархов, то есть командиров триер, во время морского похода. Их финансовая помощь флоту считалась налогом, взимаемым с них демократическим большинством, наряду с поддержкой театральных фестивалей и хоровых песнопений. Если рядовые граждане просто с охотой шли на флотскую службу, то богачи всячески стремились превзойти друг друга послужным списком — кто чаще становился избираемым на год триерархом, — убранством судна, а также скоростью, достигаемой триерой под их командой.
В нашем современном представлении славу Афин составляет прежде всего Акрополь. Но древние афиняне смотрели на свой город иначе. Если говорить о патриотизме, то храмы богам затмевались в их сознании огромным комплексом судовых построек. Неподалеку от Пирея располагалось крупнейшее в Афинах, а возможно, во всей Греции, крытое здание — морской арсенал длинной в четыреста футов (122 м). Его спроектировал под хранилище полотна для парусов, снастей и «иного подвесного такелажа» афинский архитектор Филон. Он был настолько горд своей «скевотекой» (складом), что написал о ней целую книгу, а народное собрание постановило высечь цифры — показатели ее размеров на мраморной стеле. Парфенон в пору своего возведения таких почестей не удостоился. И вообще до нас дошло только одно литературное упоминание о нем, относящееся к тем временам, — в сохранившихся фрагментах некоей анонимной комедии. Но даже и тут Парфенон остается в тени морских реалий: «О, Афины, царица городов! Как прекрасна твоя верфь! Как прекрасен твой Парфенон! Как прекрасен твой Пирей!»
Именно флот и море обеспечивали Афинам сплоченность и единство духа. Подобно викингам и венецианцам, афиняне строили свою цивилизацию на фундаменте мореплавания. Лишь финикийцы и жители островов Полинезии превосходили их по объему морских операций. Древние спартанцы военизировали свое общество, афиняне «оморячивали» его. Наряду с Афиной они, как своему покровителю, поклонялись Посейдону.
Одиссея афинян-мореплавателей предстает перед нашими глазами как одна из величайших в истории морских эпопей. Она изобилует тяжело давшимися победами над многократно превосходящими силами врага, сокрушительными поражениями, битвами, исход которых решался то чистой храбростью, то тактическим гением, то умело выбранной стратегией, а то и просто случайностью. Бывало, удача сопутствовала афинянам благодаря смелому маневру, позволившему вырваться из блокированного порта, а бывало — благодаря отчаянной, целый день продолжавшейся погоне за противником в открытом море. Конструкция триеры с ее плоским дном позволяла вести сражения не только на море, но и на суше. Моряки высаживались на вражеский берег, всадники вскакивали на лошадей, доставленных морем, и летели в атаку на противника, а (военные) инженеры обстреливали стены прибрежных городов из осадных орудий, установленных прямо на палубе триеры. Ходить по морю приходилось при сильных ветрах и волнении, так что штормы и кораблекрушения собирали обильную человеческую дань. Однажды огромная приливная волна, поднятая землетрясением, подхватила триеру и перебросила ее через город, как игрушку.
Триера открыла новую эпоху в мореплавании. Впервые в истории сражения велись в условиях, когда большинство участников так и не сходилось с противником в рукопашной, да, собственно, вообще не видели его в глаза. Оставаясь в укрытии, за специальной перегородкой, или хотя бы защищенные деревянными бортами судна, гребцы не представляли себе, как протекает бой. Они молча сидели на своих местах в ожидании команды и сигнала трубача. Простая личная храбрость значила меньше, чем техническое мастерство и точное исполнение маневра. Боевая задача быстроходной триеры заключалась в том, чтобы одним ударом корабельного тарана обездвижить, разбить и захватить вражеское судно. Таким образом, целью была техника, а не людские силы.
Ключевое значение в сражении с участием триер имело мастерство рулевого. Афиняне называли его kubernetes, в древнеримском, а затем и современном понятии слова «губернатор». Греческий термин спрятан также в акрониме Фи Бета Каппа — Philosophia, Biou Kubernetes: «Философия, жизненный рулевой». Один из множества упреков Платона в адрес флота заключался в том, что для победы в бою он опирается на техническое мастерство рулевого, отодвигая на второе место доблесть гражданина — воина фаланги.
Афинские творцы тактики морского боя стремились прежде всего ввести противника в заблуждение: главное — не грубая сила, а хитрость и мастерство. Тот же самый подход практиковался в это время и на противоположном конце Великого шелкового пути, в эпоху Сражающихся царств в Китае. «Война — это путь обмана», — провозглашал китайский военный гуру, известный под именем Сунь-Цзы, и афинские морские военачальники с готовностью подписались под этим лозунгом. Фемистокл заманил персидскую армаду в узкий пролив у Саламина посредством ложного сообщения. Симон украсил свои суда и одежду моряков персидской морской символикой и, таким образом, захватил противника врасплох. Фрасилл связал свои триеры попарно, так чтобы отряд показался маленькой и соблазнительной мишенью. Как сказал бы Сунь-Цзы, «заманивайте противника призраком преимущества». Сократ писал о распространенной среди ведущих афинских семей практике составлять перечни военных заповедей и передавать их от отца к сыну.
С самого начала афинский флот стал школой государственного управления. Афинский взгляд на историю сосредоточен на крупных фигурах — полководцах, стратегах, демагогах, политика и действия которых приводят либо к славным победам, либо к позорным поражениям. Пусть временами античные авторы взывают к року, национальному характеру, силам природы, наконец, к простому стечению обстоятельств, — в центре поступательно развивающейся истории у них всегда стоит индивид, прежде всего индивид-лидер. И уж само собой, народное собрание Афин всегда возлагало на избранных народом руководителей полную ответственность за последствия их решений.
Две силы внутри самих Афин подрывали морскую политику города. Во-первых, демократическое собрание привыкло относиться к вождям-избранникам народа без должной осмотрительности, а порой даже расточительно, заставляя многих обещающих начальников преследовать частные цели взамен общенародных. А во-вторых, партия антидемократически настроенных граждан передала в конце концов флот и военно-морскую базу в Пирее в руки наследников Александра Великого. Иные афинские аристократы тайно противостояли флоту с самого начала. Среди них был и Платон, чей знаменитый миф о затонувшем материке, Атлантиде, являет собой сложную историческую аллегорию зла, воплощенного в образе морской империи.
И все же огонь открытий и гения, в том числе гения Платона, питался энергией моря. В легендарные времена Дельфийский оракул предсказал, что Афины никогда не исчезнут, это город, предназначенный «бороздить морские просторы». И покуда у него оставались суда, начальники, сильные матросы и железная воля идти на риск и приносить жертвы, Афины выдерживали любые бури и поднимались после любых бед. А в конце, ослабленный дефицитом сильных вождей и подорванный беспомощностью городской верхушки, афинский флот, а вместе с ним и золотой век разом рухнули, словно кто-то вдруг выключил свет. Это случилось в 322 году до н. э.
Афины стали первым истинно современным обществом, которым управляют не цари или священство, не аристократия, но суверенное демократическое народное собрание. Афинянам пришлось бороться с теми же самыми крайностями, с какими имеют дело нынешние демократические страны. Как и нас, их раздирали конфликты между Западом и Востоком, между либералами и консерваторами, между научной мыслью и религиозной верой. Как и мы, они сталкивались с неразрешимыми политическими парадоксами. Тот же самый флот, что привел Афины к демократии у себя дома, за границей превратил их в силу империалистическую, а порой в угнетателя тех же самых городов, освобождению коих из-под власти персов они способствовали. Золотой век отчасти подпитывался той данью, которой Афины обложили своих морских вассалов и союзников. А Парфенон? Эти священные руины из чистого белоснежного мрамора создают в современном сознании образ древних Афин как средоточия безмятежности, высоких видений и классического равновесия. Увы, во времена своего строительства Парфенон вызывал не столь однозначное отношение, ибо деньги на него, хотя бы отчасти, совершенно напрасно, как считали оппоненты Перикла, отнимаются у флота.
Время и зимние дожди смыли с Парфенона его первоначальные алые, золотые, лазурные краски. Минувшие века покрыли травой забвения и потоки крови, многочисленные жертвы, усобицы, поставив на их место современное представление об Афинах. Лишь смутно различая контуры афинского флота, потомство проглядело могучую жизненную силу, стоявшую за всеми этими памятниками. Между тем именно оно, это живое морское существо, все из мышц, полное аппетита, заряженное энергией роста, сформировало блестящий остов вдохновенного искусства, литературы и политических идеалов. Сегодня мы восхищаемся собственной красотой этого остова, но, не проследив жизненный цикл того живого существа, которое его породило, мы не сможем оценить в полной мере ни искусства, ни литературы, ни политики. Ритмические движения весел были сердцебиением Афин золотого века. Соответственно эта книга представляет собой рассказ об уникальном, гигантском по своим масштабам морском организме — афинском флоте, который стал фундаментом цивилизации определенного типа, вдохнул силу в первую великую демократию нашего мира и повел группу обыкновенных граждан в новые миры. Их эпическое плавание изменило курс истории человечества.
Часть 1 Свобода
Величайшая слава достигается ценой борьбы с величайшими угрозами. Когда наши отцы столкнулись с персами, их ресурсы были несопоставимы с нынешними. По сути дела, им пришлось отдать все, что у них есть. А потом, благодаря отнюдь не счастливому стечению обстоятельств и материальным преимуществам, но мудрому руководству и отважным деяниям они вышвырнули захватчиков и превратили наш город в то, что он представляет собой сегодня.
Перикл. Из обращения к афинянам.
Глава 1
Один человек, единый образ (483 год до н. э.)
— Но расскажи и ты свой сон.
— Мой сон важней, я государственный во сне видал корабль.
— Суть дела с киля ты выкладывать начни.
Аристофан. «Осы», пер. В.Ярхо
Вся слава Афин — Парфенон, Платоновская академия, бессмертные трагедии, даже революционный демократический эксперимент — корнями своими уходит в одно общественное собрание, где с речью о серебре и морских судах выступил один упрямый гражданин.
В день того собрания Фемистокл проснулся задолго до рассвета. Афиняне вообще-то привыкли вставать рано, но для него это было необычное утро помимо всего прочего. В среднем три раза в месяц на каменистой верхушке холма близ его дома заседало Народное собрание Афин. В обнародованную заранее повестку дня входило голосование о распределении серебра, обнаруженного недавно в богатых месторождениях Аттики, но Фемистокл собирался выступить с другим предложением. Он встал с постели, которую делил со своей женой Архиппой, надел тунику и сандалии и спустился вниз. Завтрак был прост — хлеб с вином. Другие домочадцы тоже поднялись. В доме было много детей — трое сыновей и две дочери. Но за столом всегда оставалось пустое место — старший сын, Неокл, умер молодым, упав с лошади. Пока Фемистокл готовился к выступлению, младшие сыновья делали школьные уроки. Над внутренним двориком небо постепенно светлело. Фемистокл накинул на плечи шерстяной плащ, открыл дверь и вышел наружу. Если все пойдет хорошо, то к ужину он вернется домой, изрядно поправив собственные дела, не говоря уж о том, что изменит судьбу города.
Дом его был скромен даже по афинским меркам. Стоял он на немощеной улице, неподалеку от городских ворот, ведущих к морю. По мере того как Фемистокл поднимался по каменистым склонам холма, перед ним постепенно вырисовывались очертания города: беспорядочно разбросанные дома с плоскими крышами — всего-то тысяч десять, наверное; это монотонное пространство рассекали кривые проулки, сбегающие к просторной агоре — рыночной площади и общественному центру города. От печей, гончарных кругов, кузнечных и литейных горнов поднимался дым. Вокруг лавок и домов змеей извивалась городская стена из обожженного кирпича на каменной основе. В центре возвышался Акрополь — афинская цитадель.
Афины в те времена были провинцией. Многие города-государства превосходили их военной силой, религиозным значением, масштабами торговли. Искусства и науки процветали повсюду, но Афины не могли похвастать ни знаменитыми памятниками, ни сколько-нибудь значительными философскими школами, ни остроумными инженерными решениями, ни скульптурами, известными многим. И даже храмы Акрополя уступали сходным сооружениям в других городах и заповедных местах. Но при всем при том перед внутренним взором Фемистокла вставало видение Афин, поднимающихся над всеми соперниками. «Я не могу настроить арфу или сыграть на лире, — говаривал он, — но я знаю, как превратить городок в великий город».
Насчет того, что наверх дорога ведет тяжелая и скользкая, иллюзий у него не было. Из сплоченных рядов афинян с голубой кровью на него посматривали как на чужака и выскочку. Его отец Неокл был не особенно богат и не особенно известен; мать даже не была гражданкой Афин. Когда Фемистокл был молод, отец брал его с собой прогуляться по берегу моря в надежде убедить сына не заниматься политикой. Они подходили к месту, где догнивали триеры, вытащенные некогда на сушу и брошенные там. «Взгляни! — говорил Неокл, указывая на обнаженные скелеты кораблей-сирот. — Видишь, как люди обращаются со своими вожаками, когда в них отпадает нужда».
Фемистокл добрался до вершины Пникса, холма, где происходило собрание и откуда открывался вид на Аттику, эту территорию города — государства Афины. Вокруг расстилалась равнина — плодородные поля, обрывающиеся прямо у городских стен. Окружающие равнину горбатые холмы были покрыты лесом либо шрамами каменных карьеров. С южной стороны на берег набегали волны Фалеронского залива, а дальше — открытое море. Больнее всего Фемистоклу было видеть незаконченные портовые постройки Пирея, расположенного в четырех милях отсюда к юго-западу, лицом к острову Саламин. Город начал расти на этой каменистой, мысом вдающейся в море площадке еще десять лет назад по рекомендации самого Фемистокла. Он считал, что эти стены превратят Афины в крупную морскую силу и защитят граждан от неизбежного, по его мнению, иноземного вторжения.
Еще при жизни деда Фемистокла персы, живущие где-то далеко от Афин, приступили к строительству невиданной по своим масштабам и могуществу империи. Фемистокл давно пришел к выводу и только укреплялся в своем мнении, что персидский царь собирается покорить Афины, как он уже покорил греческие города в Малой Азии и на островах Эгейского моря. Еще десять лет назад появились признаки того, что персы намерены направить в Аттику сухопутное войско и одновременно нанести удар со стороны моря.
Будучи в тот год архонтом, то есть высшим должностным лицом города, Фемистокл убедил собрание выделить средства на укрепление пирейского мыса, окруженного тремя естественными гаванями. Обнесенный стеной порт станет надежным убежищем для афинских семей, пока граждане, сделавшись моряками, будут отражать атаки персидского флота. Доверившись его интуиции, афиняне потратили много денег и энергии на возведение мощной стены из каменных блоков, спаянных друг с другом свинцом и железом; стена получалась такой могучей, что сверху по ней могли проехать две запряженные быками повозки. Но прошло несколько лет, угроза со стороны персов вроде как испарилась, и дорогостоящее строительство осталось незавершенным. Теперь вот стена и обрубки башен в Пирее поднимаются только на половину высоты, задуманной Фемистоклом, представляя собой неизбывное напоминание о том, что пророк из него не вышел.
Афины навлекли на себя гнев персов, еще когда Фемистокл находился в романтическом возрасте юноши, едва перевалившего за двадцать. На одном из наиболее памятных собраний, когда-либо проходивших на Пниксе, Аристагор из Милета призвал афинян поддержать восстание ионийских греков против их сюзерена, персидского царя Дария. В этом случае бунт, направленный на освобождение одного народа, может превратиться в широкомасштабную войну, которая перекинется в столицу персов Сузы, по ту сторону Тигра. Афиняне проголосовали за то, чтобы выступить на стороне своих собратьев из Малой Азии, и послали в Эгейское море двадцать судов с экипажами на борту. Объединившись с ионийцами, она атаковали главный город персов в Малой Азии Сарды. При разграблении города возник пожар, в котором сгорело большинство домов, в том числе храм богини Кибелы.
Возмездие не замедлило. При возвращении афинян на побережье персидская армия перехватила тех и нанесла им жестокое поражение. Когда потрепанные суда добрались до дома и оставшиеся в живых поведали согражданам о случившемся, народное собрание проголосовало за отстранение в дальнейшем от всякого участия в восстании ионийцев, продолжалось оно шесть лет. Незадолго до избрания Фемистокла архонтом персидский флот разбил эскадру ионийских повстанцев невдалеке от острова Лада. Фемистокл был убежден: теперь на очереди Афины, значит — надо укреплять Пирей.
И действительно, как он и предупреждал, Дарий направил армию и флот на завоевание Афин. Первое наступление персов закончилось, так, по существу, и не начавшись: сильнейший северный ветер погнал царские триеры к скалистому берегу у подножия горы Афон в северной части Эгейского моря, где персы потеряли сотни судов и тысячи воинов. Второе наступление было остановлено у Марафона, в северо-восточном углу Аттики. Возглавляемая харизматичным полководцем Мильтиадом афинская фаланга тяжеловооруженных воинов, называемых гоплитами, разбила прибывший морем персидский десант на равнине, расстилающейся всего в двадцати шести милях от Афин. Во время подготовки к третьему походу царь Дарий умер. Это случилось через три года после Марафонского сражения, а далее различные бунты внутри империи не позволяли персам отвлекаться ни на что другое. Таким образом, Фемистокл стал походить на мальчика из басни Эзопа. «Волк! Волк!» — кричит он, а никакого волка нет. Город пребывал в довольстве и покое. После многочисленных ложных тревог афиняне посчитали то ли надуманным, то ли сомнительным существование персидской угрозы и заодно уж бросили заниматься глупостями в Пирее.
Но сам Фемистокл не разуверился в своей правоте. И на сегодняшнем собрании он собирался убедить сограждан в необходимости укрепления военной силы Афин на случай нападения персов. Только сделает он это обходным путем. Вновь заговорить о возможности персидского вторжения — значит только разозлить собрание. Нет, Персия вообще не будет упоминаться. И вообще идти поперек общественного мнения Фемистокл не собирается, лучше он прибегнет к помощи меты .
Это типично греческое понятие трудно передать средствами какого-либо иного языка. В общем, под ним подразумевается нечто явно противоположное ценностям иных народов, прежде всего персов. Мета объемлет такие свойства, как ловкость, живость ума, мастерство, умение, быстрота реакции, наконец, творческий подход. Эти качества и способности служат оружием людям, оставшимся в меньшинстве. Афиняне знали, что нет в мире силы, превышающей силу ума. В мифологии у античной богини Метис (Метиды) Афина и почерпнула именно свою силу и мудрость[3]. Не мускульную силу, но мету ценила Афина в своем любимом герое Одиссее, придумавшем уловку с троянским конем, которая успешно сработала после того, как на протяжении десяти лет одна за другой проваливались попытки прямого действия. Любой образованный грек знает строки из «Илиады»:
Будь, мой сын, рассудителен, будь осторожен, любезный!
Если уже близ меты возьмешь ты перед и погонишь,
Верь: ни один из возниц ни догонит тебя, ни обскачет.
Гомер. «Илиада». Песнь 23, пер. Н. Гнедича
Будучи страстным поборником военно-морской мощи, Фемистокл видел дальше своих современников-афинян. На кону было нечто большее, чем угроза со стороны персов. Фемистокл был убежден, что с морем тесно сопряжено само будущее Афин. А укрепление Пирея — это только шаг к превращению города в морской центр, где скрещиваются торговые пути и базируется сильный военный флот. На протяжении последних десяти лет его планы постоянно обо что-то разбивались. Но когда несколько дней назад была обнародована повестка предстоящего собрания, которое между прочим обсудит предложения, касающиеся доходов от серебряных рудников в Лаврионе, Фемистокл решил, что судьба или удача наконец-то ему благоволят.
Лаврион («Серебряная жила») — средоточие островерхих холмов в южной оконечности Аттики, примерно в двадцати пяти милях от Афин. Старатели разрабатывали эту жилу на протяжении вот уже тысячи лет. Сначала они наткнулись на зеленоватого цвета руду, залегавшую близко от поверхности, потом, следуя за блестящими прожилками, двинулись вглубь. Ко временам Фемистокла некоторые шахты достигли глубины в триста футов. Рудокопов, в большинстве своем рабов, вооруженных железными прутьями и глиняными лампами, в которых масла хватало на 8–10 часов работы, опускали вниз. С помощью веревок и лебедок руду поднимали наверх и здесь дробили, промывали, просеивали и плавили. В Афинах серебро принимал монетчик и при помощи железной наковальни и щипцов чеканил монеты, или, как их здесь называли, «совы», нанося на одну сторону голову Афины в шлеме, а на другую сову, символ мудрости, и оливковую ветвь.
Грекам, жителям других городов, приходилось отыскивать драгоценные металлы либо на островах Эгейского моря, либо в горах на севере. В принципе Лаврийские серебряные рудники находились в общественной собственности, но на деле деньги вкладывали и разработками занимались отдельные лица. В начале каждого года объявлялось нечто вроде аукциона на аренду каждого месторождения, а в конце его, когда срок аренды истекал, победители отдавали часть выручки жителям города. Земли, принадлежавшие семье Фемистокла, находились в местности под названием Фреарры («Колодцы»), на самой границе горнорудного района. Ему было известно, что относительно недавно рудокопы неожиданно наткнулись на богатую подземную жилу. Ручеек серебра из Лавриона вскоре превратился в могучий поток. Инспекторы докладывали об увеличении объемов серебра в рудное управление, которое, в свою очередь, переправляло их советникам. В результате счастливой находки в Лаврионе образовался избыток, достаточно значительный для того, чтобы пустить его в общественное пользование. Совет подготовил предложение, согласно которому половина серебра уходит в хранилище, а половина распределяется в равных долях между всеми тридцатью тысячами граждан. Согласно предварительному тексту резолюции, который можно было прочитать на дощечках-объявлениях, стоимость каждой доли составляет десять драхм. Но у Фемистокла были на этот счет свои соображения.
В то утро, сразу с рассветом в Афинах был вывешен флаг, долженствующий напомнить гражданам о том, что сегодня заседает народное собрание. Еще до Фемистокла на Пникс поднялись должностные лица и освятили жертвами и молитвами место собрания. Вскоре сюда потянулись от агоры граждане. Перед подиумом становилось все шумнее и шумнее: обычный афинский гвалт — взаимные приветствия, случайные реплики, споры, сквернословие, шутки. Следом за неумолчной беспорядочной толпой ровными рядами двигались рабы. Они несли веревку, вымоченную в краске, и с ее помощью направляли медленно шагающих граждан в нужном направлении. Всякий, кто по неаккуратности коснется веревки и на его тунике отпечатается красная полоса, будет подвергнут штрафу. Девять архонтов во главе со стратегом, чьим именем называется текущий год, расселись по своим местам. Десять лет назад стратегом был Фемистокл, сейчас — Никодим. Специальные места были также зарезервированы для пятидесяти членов совета, избранных на эту должность в результате ежегодной ротации. Секретарь приготовил стило и восковые дощечки. По знаку председательствующего на подиум поднялся глашатай и произнес слова заклинания. В Афинах не было разделения по религиозному или социальному признаку: высшая обязанность власти состояла в том, чтобы умилостивить богов путем практически неизменных ритуалов и жертв. Покончив с заклинанием, глашатай зачитал проект резолюции, составленный советом, и выкрикнул: «Кто желает говорить?» Собрание Афин приступило к работе.
В то утро мысли большинства граждан приятно волновал вопрос: «На что мне потратить свои десять драхм?» На эти деньги можно было купить новый плащ, необыкновенно красивую раскрашенную чашу или даже быка. Положим, для представителей трех высших классов городского населения — трехсот или четырехсот самых богатых землевладельцев, тысячи двухсот всадников и десяти тысяч воинов, облачавшихся в час угрозы в свои тяжелые доспехи и выступавших в фаланге навстречу врагу, — для всех них эта сумма была ничтожной. Но для большинства афинян — безземельных работников, принадлежащих к четвертому, низшему, сословию граждан, которых называли фетами, — десять драхм хорошая прибавка к их скудным доходам.
А было таких граждан порядка двадцати тысяч. Большинство трудилось по найму в земледелии, в ремесленных мастерских или на транспорте. Каждый сам по себе не мог похвастать ни состоянием, ни положением, но в совокупности они составляли демос — «народ», это сердце афинской демократии. Хотя феты составляли явное большинство граждан, законы города не позволяли им занимать выборные должности. Недемократические ограничения касались и воинов, но в отличие от последних феты не могли даже входить в совет пятисот. Таким образом, повестка заседаний народного собрания находилась в руках одних богатых, а фетам оставалось лишь голосовать «за» или «против» предложений, устраивающих представителей высших сословий. Словом, в ту пору, когда Фемистокл готовился к своему выступлению, Афины хоть и называли себя демократией, по целому ряду позиций были таковой лишь номинально.
В предвидении благоприятного исхода голосования по «серебряной доле» монетный двор отлил тысячи монет для раздачи гражданам. На одной стороне каждой из них красовалась голова улыбающейся Афины в шлеме и с жемчужными серьгами в ушах, на другой — сова, символ мудрости богини. В отличие от спартанцев, открыто заявлявших о своем презрении к личному преуспеянию и даже не имевших собственной валюты, афиняне были людьми практичными, знавшими цену драхме. Трудно было ожидать, что они упустят столь неожиданно свалившуюся на голову удачу.
Откликаясь на зов глашатая, Фемистокл ступил вперед и поднялся на подиум. В ту пору это был крепкий сорокалетний мужчина с пронзительным открытым взглядом и шеей, как у быка. Волосы были коротко пострижены, как у мастерового, а аристократы обычно имели шевелюру. Наряду с необыкновенной памятью на имена и лица Фемистокл обладал еще одним свойством, необходимым для афинского политика, — у него был громкий голос.
На заседаниях народного собрания никто не говорил по написанному — речи либо заучивались, либо произносились экспромтом. При этом существовали некоторые твердые правила. Не следовало отклоняться от какого-то одного предмета и касаться иных тем. Запрещалось порочить репутацию сограждан, сходить во время выступления с подиума, нападать на председательствующего. А главное — нельзя было дважды высказываться по одному и тому же вопросу, разве что того потребует собрание. Перед тем как сойти с трибуны, Фемистоклу нужно было представить свой план в мельчайших деталях, объяснить его выгоды, заранее отразить могущие последовать возражения. При этом было бы крайне неразумно испытывать терпение сограждан, выражающих, как правило, свое недовольство свистом, улюлюканьем и иными шумовыми эффектами. Но если оратор не нарушает установленных правил, перебивать его нельзя.
Не прибегая к резкой жестикуляции и иным театральным приемам, Фемистокл спокойно изложил согражданам смысл своего предложения. Совет объявил о дополнительных поступлениях в бюджет города и предложил поделить их поровну. Но он, Фемистокл, считает, что серебром можно распорядиться более эффективным способом. Чем резать на части огромный кусок, лучше потратить добытое богатство, все шестьсот тысяч драхм, на осуществление единого проекта — строительство флота. В этом случае в распоряжении Афин окажется сотня новых боевых судов, быстроходных триер, незаменимых в морском сражении. В сочетании с уже имеющимися семьюдесятью и небольшим ежегодным приростом общее число быстро достигнет двухсот единиц. Именно для такого количества судов, не более того, можно обеспечить набор команд за счет собственного населения города. Так, в одночасье, Афины станут крупнейшей морской силой в Греции.
В этой идее не было ничего экзотического: флот защитит Афины от вполне реальной, непосредственной угрозы своей безопасности. Фемистокл выступает со своим революционным предложением, имея в виду вполне конкретного, всем известного противника. Вот с этого самого места, продолжал он, можно протянуть руку в сторону южного горизонта, над которым нависают мрачные горные пики острова Эгина. На протяжении жизни многих поколений Эгиной правят торговцы, удушающие и военный, и торговый флот Афин. Афинским «совам» противостоят на зарубежных рынках эгинские «черепахи» — монеты с изображением морских животных. Стандарты меры и веса устанавливают отнюдь не афиняне, а эгинцы. Какой-то египетский фараон уже давно предоставил торговцам из Эгины перевалочный пункт в дельте Нила, а с Черного моря в Эгину каждое лето отправляются суда, груженные зерном. Этот остров давно уже сделался крупнейшим в Греции коммерческим центром, в то время как у Афин все еще нет надежно защищенной гавани, где могли бы разгружаться и останавливаться торговые суда. А однажды эгинцы даже унизили афинян, наложив эмбарго на их торговлю гончарными изделиями.
Но одного лишь превосходства в торговле эгинцам, оказывается, мало. В течение последних двадцати лет они ведут с Афинами необъявленную войну — нечто вроде тлеющего конфликта, который греки называют polemos akeryktos — «необъявленной войной». Однажды ни с того ни с сего эгинские военные суда выбросили десант в Аттике и по-пиратски, смерчем пронеслись по Фалерону и другим прибрежным городам. Следующей мишенью стал священный корабль, направляющийся в храм Посейдона на мысе Сунион. Эгинцы перехватили судно и взяли в плен священнослужителя и других находившихся на борту видных лиц. В тот раз афиняне немедленно нанесли ответный удар, одержав тяжелую победу в морском сражении. Но вот уже совсем недавно островитяне исподтишка напали на афинскую флотилию и захватили четыре галеры с командой. Парировать эти молниеносные уколы афинянам становится все труднее.
В ту пору афинский флот представлял собой в основном разрозненную массу галер. Поскольку амбициозный пирейский проект Фемистокла остался незавершенным, иные из судов втащили на берег в Фалероне, другие оказались разбросаны по портам и деревням вдоль всего побережья Аттики. Недавно этот так называемый флот пополнился семью персидскими боевыми судами, захваченными после сухопутного сражения при Марафоне, и двадцатью триерами, закупленными в Коринфе за символическую плату — пять драхм за каждую. Эти коринфские суда достигли Афин буквально на следующий день после поражения демократического восстания в Эгине, где очень рассчитывали на их помощь, отсутствие которой и стало, по существу, причиной неудачи. А ведь победи повстанцы — и вражде с островом, вполне вероятно, пришел бы конец.
По замыслу Фемистокла новый флот будет построен частными лицами во имя общественного блага. Выглядит это так: сотне самых состоятельных афинских граждан выделяется по таланту серебра (что и составляет шестьсот тысяч драхм), а затем каждый закупает на эти деньги материалы и организует постройку боевого корабля. Более того, Фемистокл включил в свой проект примечание. Если почему-нибудь афиняне в конце концов передумают и отбросят первоначальный план, каждый из вышеупомянутых состоятельных граждан возвращает свой талант в казну — но корабль при этом остается за ним. В этом случае граждане не лишаются своей десятидрахмовой доли — просто выплата откладывается на несколько месяцев. Никто ничего не теряет, а выиграть можно много. Воззвав таким образом к чувству патриотизма и гордости сограждан, их здравому смыслу и не забыв при этом о личном интересе каждого, Фемистокл сошел с подиума и вернулся к себе на место, среди других.
Непроясненной осталась, возможно, одна существенная сторона его предложения. Сотне новых триер понадобится по тысяче семьсот гребцов на каждый борт, и лишь в том случае, если призыв коснется граждан низшего сословия, фетов, у Афин будет по-настоящему боевой, сильный флот, о котором говорит Фемистокл. Такой флот и укрепит положение города, и обеспечит ему свободу морских дорог.
Не давая председательствующему поставить вопрос на голосование, слова попросил другой гражданин. Глашатай вызвал на подиум Аристида из «дема» (территориальный округ), Алопека. Этот благородный афинянин — земляк жены Фемистокла — давно завоевал себе репутацию честного и неподкупного арбитра, отсюда его всем известное прозвище — Аристид Справедливый. Ровесник Фемистокла, он был его политическим противником. Семь лет назад оба они участвовали в Марафонском сражении в качестве стратегов, каждый командуя отрядом своей филы[4]. После победы, когда большая часть войска начала свой двадцатишестимильный марш, дабы предотвратить контратаку персов на Афины, Аристиду было поручено остаться охранять добычу и военнопленных. На следующий год он был избран архонтом эпонимом города. И вот сейчас он поднимался на трибуну, собираясь возглавить оппозицию плану Фемистокла.
Запись его речи если и велась, то не сохранилась, но вот ее возможный смысл. Как арбитру, Аристиду, наверное, хотелось, чтобы Афины решали свои споры с Эгиной путем переговоров. Да и к чему настолько уж расширять военные действия против островитян? Если мишенью действительно являются именно они, вполне достаточно небольшого усиления флота, оно даст Афинам преимущество на море. Ну а если Фемистокл все еще опасается персидского вторжения, то победа при Марафоне убедительно показала, что Афинам предпочтительнее противостоять персам на суше. Фемистоклу уже случалось сбивать граждан с пути истинного, не надо позволять ему снова делать это.
Председательствующий был обычным гражданином, избранным афинянами в качестве высшего должностного лица города всего на один день. И вот теперь, когда Фемистокл и Аристид закончили свои выступления, ему предстояло осуществить свою единственную, по существу, прерогативу — поставить оба предложения на голосование. В Афинах граждане изъявляли свою волю, просто поднимая руки, и, если голоса не разделялись примерно поровну, председательствующий и другие официальные лица просто обегали взглядом толпу и объявляли, какое предложение прошло, а какое нет. Но вопрос был слишком важен, так что сейчас афиняне, вопреки призыву Аристида, сначала проголосовали против предложения совета о десятидрахмовой доле, а затем за предложение Фемистокла выделить ста гражданам по таланту серебра на осуществление проекта, от которого выиграют все. Так образ, возникший и взлелеянный в сознании одного человека, стал судьбой целого города.
Фемистокл выступил со своим предложением в самый нужный момент. Почти в тысячах миль к востоку от Афин, по ту сторону Тигра, как раз вынашивались планы вторжения в Грецию. Главной мишенью должны были стать Афины. И вот благодаря случайному обнаружению серебряной жилы в Лаврионе на пути осуществления цели персидского царя теперь встанет баррикада в виде судов из дерева и таранов из бронзы. Себя же Фемистокл видел командующим флотом, этой жизненно важной силой в борьбе с персидскими захватчиками. А когда угроза свободе останется позади — ему виделись и эти дали, — Афины займут свое законное место первого в ряду городов Греции, и городок превратится в город, обязанный своим величием мете, решительным действиям и флоту.
Глава 2
Флот строится (483–481 годы до н. э.)
Должно спустить на священные воды корабль,
чернобокий,
В море еще не ходивший.
Гомер. «Одиссея». Песнь 8, пер. В.Жуковского
Афиняне были мореходами с незапамятных времен, но всегда оставались позади морских государств Малой Азии и других городов Греции. По легенде, даже во времена первого афинского царя Кекропа народ Аттики вынужден был отбиваться от налетчиков, терроризировавших ее берега. По прошествии жизни нескольких поколений царь Менестей отправил в Трою флот из пятидесяти судов в качестве афинского подспорья греческой армады, состоявшей из тысячи двухсот кораблей. Участие города в Троянской войне было незначительным, афинское воинство уступало даже контингенту островка Саламин во главе с Аяксом. С окончанием бронзового века царские цитадели, разбросанные по всей Греции, уступили место поселениям века железного, а тем, в свою очередь, пришли на смену процветающие города-государства. Новые морские торговые потоки и колонизация отбросили Афины на обочину, а вперед вышли такие города, как Коринф, Мегары, Халкида и Эретрия.
Тем временем аристократические кланы Афин занимались своими делами, строили собственные боевые суда, собирали военные отряды, торговали, принимали высокородных гостей, отправляли религиозные обряды. А самые мощные даже захватывали и обустраивали крупные участки на северных берегах Эгейского моря и Геллеспонта. И единственное, кажется, чего они сделать даже не пытались, так это объединить свои суда в один кулак и создать общий государственный флот. Даже завоевание Саламина, а это была первая после Троянской войны морская экспедиция Афин, было, как говорят, осуществлено силами одной-единственной галеры с экипажем из тридцати человек и небольшой флотилии рыбацких лодок. Однако же сам дух свободного плавания, что был издавна силен среди корабельных князей Аттики, будет унаследован новым флотом Фемистокла.
Серьезные морские сражения в ранней истории Греции были большой редкостью. Гомер, собственно, ничего не знал о столкновениях кораблей в своем «море винного цвета», хотя и в «Илиаде», и в «Одиссее» много говорится о военных кораблях, перечисляются их названия. Их действия ограничивались нападениями на прибрежные города (Троянская война в этом смысле лишь наиболее известный пример) либо морским пиратством. С ходом времени в Греции в конце концов сформировались два типа быстроходных, открытых, с гладкими бортами галер: тридцати— (триаконтор) и пятидесятивесельная (пентеконтор). Использовали их обычно купцы, воины и пираты, ищущие за морями барыш и славу, и они же сами садились за весла.
На новый уровень — в буквальном смысле — галеры подняли финикийцы, селившиеся на побережье Ливана. Эти хананеяне-мореплаватели и придумали триеру, хотя когда именно, не скажет ни один грек. Увеличивая суда в размерах, тамошние корабелы предусмотрели достаточно места и высоты, чтобы разместить три ряда гребцов. При этом они совершенно не помышляли о морских стычках, тогда вообще не знали, что это такое. Большие суда были нужны финикийцам для освоения морей, торговли, колонизации. В ходе своих грандиозных путешествий финикийские мореходы основали великие города, от Карфагена до Кадиса, за три года обогнули на своих триерах (впервые в истории) Африку и одарили все Средиземноморье самым ценным из того, чем обладали, — алфавитом.
Из греков первыми построили триеру коринфяне. Их город Истм был расположен близ Коринфского перешейка, что позволяло этим пионерам мореплавания контролировать западные морские пути, а поскольку у них имелась возможность перетаскивать свои галеры через узкий перешеек на противоположную сторону, то и восточные тоже. Новая греческая триера отличалась от финикийского оригинала в том смысле, что не все гребцы помещались внутри основного корпуса, — для гребцов верхнего яруса предусматривалось отдельное помещение. Некоторые триеры сохраняли открытые и легкие формы своих предшественниц — триаконторов и пентеконторов. У других над весельными ярусами надстраивались деревянные палубы для колонистов и гоплитов. Эти последние, греческие воины-наемники, пользовались большим спросом у заморских властителей, от дельты Нила до Геркулесовых столпов.
Подобно финикийским городам Тиру и Сидону, Коринф был одновременно крупным центром торговли и отправной точкой колониальных экспедиций. Триеры немало способствовали успеху этих последних, ведь на них можно было перевозить товаров больше, чем требовалось новым городам, — домашний скот и фрукты; оборудование для обработки земли, мельниц, материалы для строительства фортификационных сооружений, домашнюю утварь и предметы личного обихода. Необходимость защиты от разных опасностей на море и на суше превращала триеры с их многочисленной командой и вздымающимся над волнами корпусом едва ли не в плавучую крепость.
Самым ранним из известных истории морских сражений в Греции было противостояние между коринфянами и их собственными воинственными и независимыми земляками, колонизовавшими некогда Керкиру (Корфу). Хотя сражение развернулось через много лет после того, как коринфяне начали строить триеры, в том столкновении с обеих сторон участвовали неповоротливые пентеконторы. А исход его был решен рукопашной, происходившей на борту. О морских маневрах тогда никто ничего не знал. И эта примитивная тактика будет характерна для всех греческих морских сражений на протяжении ближайших полутора веков.
Затем, примерно в годы, когда родился Фемистокл, в противоположных концах Греции разыгрались две битвы, имевшие поворотное значение. Эти баталии стали вехами в истории: в военно-морском деле произошел сейсмический сдвиг. В первой, что произошла невдалеке от корсиканского городка Алалия, шестьдесят греческих галер разбили вдвое превосходивший их флот этрусков и карфагенян[5]. Что за чудо? А все дело в том, что в этом бою греки полагались уже не на рукопашную схватку, а на мастерство рулевых и мощь корабельных таранов. Вскоре после этого сорок греческих транспортных триер уничтожили у Самоса, в Эгейском море, военный флот местного тирана, насчитывающий сто пентеконторов. В обоих случаях победа пришла к слабейшему числом, но более искусному в тактике или располагающему более совершенной техникой. Таким образом, новое вооружение и триеры вышли на военную сцену почти одновременно. В течение следующих двухсот лет этому союзу предстоит определять характер военных действий на море.
Теперь все жаждали заполучить триеры, уже не просто как транспортное средство, но как военный корабль. Их брали на вооружение греческие города в Сицилии и Италии. Персидский Царь царей специальным указом обложил своих подданных, от Египта до берегов Черного моря, данью в виде триер. Ядро морской мощи персов составлял финикийский флот, но указ касался и покоренных греков Малой Азии и островов. Собранные в случае необходимости воедино, эти суда составляли могучий флот персидской империи. Но Фемистокл был убежден, что новый афинский флот триер вскоре сможет бросить вызов не только Эгине, но и армаде Царя царей персов.
Многие города и империи из кожи вон лезли, лишь бы извлечь максимум выгод от владычества на море, но конечный успех в борьбе требует таких жертв, на которые редко кто был готов или мог позволить себе пойти. Лишь самые целеустремленные и решительные из морских стран выделят огромные средства и потратят массу энергии для достижениях не отдельных побед, но долговременного господства на море. С появлением триер многократно возросли масштабы военных действий и связанные с ними финансовые риски. Эти большие суда требовали гораздо больше материалов и живой силы, нежели меньшие по размеру галеры. Впервые подлинной движущей силой войны стали деньги.
Но еще большее, поистине драматическое, значение приобрел человеческий фактор. Греки-фокейцы, одержавшие историческую победу у Корсики, отдавали себе отчет в необходимости тяжелой, изнурительной повседневной учебы на море. В новой войне победу одерживает не тот, в чьем распоряжении имеются храбрые воины, но тот, чья команда лучше обучена и более дисциплинирована. Умелое владение рулем и веслами, скорость, что приходит только в результате долгих напряженных тренировок, — вот отныне залог успеха. А маневренное использование корабельного тарана вообще изменило картину мира — рулевые, гребцы, мичманы, как сейчас бы сказали, словом, люди низших сословий приобрели большую значимость, нежели состоятельные воины-гоплиты. В конце концов, копье, пущенное моряком, может в лучшем случае поразить одного противника. А таранный удар триеры способен разом уничтожить целое судно со всей его командой.
Фемистокл сформулировал четко: новый афинский флот должен состоять из быстроходных триер — легких, открытых, беспалубных, что и позволит как раз достичь наивысшей скорости и маневренности. Корма с ее местом для рулевого соединяется с фордеком у носа, где располагаются впередсмотрящий, матросы и лучники, только продольными мостками. Новые афинские триеры предназначались не для транспортировки крупных военных контингентов, но для таранных атак — отсюда и конструкция. Сделав именно такой выбор, Фемистокл и его земляки-афиняне шли на осознанный риск. Ведь во многих отношениях полнопалубные триеры удобнее. Время покажет, был ли их выбор верен.
И одну-то единственную триеру сконструировать — большое дело, построить же сотню — геркулесов труд. Сразу по получении ста талантов серебром подрядчикам предстояло прежде всего найти опытных корабелов. Ни чертежей, ни рисунков моделей, тем более руководств у строителей не было. Изначально триера, не важно — быстроходная или тяжеловесная, существовала лишь в воображении мастера. Для строительства ему требовалось много разного материала. Все это имелось под рукой — в лесах, на полях, в шахтах и карьерах самой Аттики. На помощь корабелам придут и местные торговля и ремесла.
Прежде всего — лес. Холмы Аттики загудели от ударов железа по деревьям, загрохотали от падения высоких стволов на землю: дуб для прочности; сосна и пихта для маневренности; ясень, шелковица и вяз для водонепроницаемости и остойчивости. Дождавшись, пока рубщики леса очистят стволы павших монархов от веток, возницы, запрягши быков и мулов, тащат их на берег. Корабел готовит строительную площадку, забивая деревянные сваи в песок и тщательно выравнивая их по высоте. На сваи кладет киль. Это позвоночный ствол судна — большой, квадратной формы дубовый брус длиной семьдесят и более футов. В идеальном случае в этом киле нет не только трещин, но даже наростов. От его прочности зависит судьба триеры при шторме и в бою. Дуб хорош еще и тем, что позволяет, не теряя своих качеств, то и дело втаскивать триеры на берег, а затем снова спускать их на воду. Закрепив киль, мастер с обеих концов прикрепляет к нему по одному большому брусу. Таким образом, судно обретает форму. Загибающаяся вверх корма изяществом своим напоминает то ли лебединую шею, то ли хвост дельфина. Впереди, на небольшом расстоянии от окончания киля устанавливается форштевень. Небольшая часть киля сразу за форштевнем образует основу носа и главным образом служит опорой бронзового тарана.
Пространство между кормой и форштевнем обшивается досками из сосны. Скрепленные друг с другом, они образуют панцирь триеры — в этом смысле она отличается от судов позднейших поколений, так называемых «остовиков», в которых доски накладываются на остов и бортовые ребра. Сооружая же первые, «панцирные», триеры, мастера устанавливали по обе стороны от киля леса, чтобы обшивка судна приобрела форму. Доски выпиливались при помощи железных пил и обстругивались теслами. Поскольку гладкая плоскость доски долго удерживает первоначальную форму, согнуть ее под нужным углом не составляет особого труда. По узким краям каждой доски мастера просверливали в ряд отверстия: маленькие для льняных веревок, побольше для gomphoi, деревянных гвоздей длиной примерно в человеческий палец, служащих шипами. Начиная с конца каждой из сторон киля, помощник мастера закреплял доски таким образом, чтобы большие отверстия верхней доски совпадали с концами деревянных гвоздей, выступающих из нижней доски, а затем деревянным молотком сажал верхнюю доску на нижнюю. Гвозди, которых теперь не видно, станут чем-то вроде ребер, увеличивающих прочность корпуса. Железные гвозди и заклепки при строительстве триер не употреблялись. Закрепив доски, помощник перебирался внутрь постепенно растущего корпуса, где целыми днями трудолюбиво продергивал веревки через маленькие отверстия, натягивая их как можно туже. Осенью греки сеяли лен, зимой обрабатывали поля, выпалывали сорняки, весной, дав опасть голубым цветкам льна, собирали урожай. Они срезали стебли, вымачивали их, давали высохнуть и сгнить, затем отбивали и резали на куски, после чего из шелухи выползали блестящие белые волокна. Сплети их в нить и получишь материал, обладающий поистине чудесными свойствами. Льняная ткань и набивка обладали такой прочностью, что служили броней гоплитам на суше и морякам на море, а сеть из льняных нитей не давала уйти тунцу и дикому кабану. При этом материя настолько тонка, что из клубка весом в фунт можно свить нить длиной в целые мили. В отличие от шерсти она не растягивается и сохраняет эластичность на суше и на море. Помимо того лен обладает сугубо морским свойст-вом — влага делает его только прочнее.
Такая технология позволяла триерам выдерживать жестокие штормы. Лишь после того, как корпус был просверлен и прошит льняными веревками, или, как сказали бы афиняне, gomphatos и linorraphos, строитель начинал скреплять его загибающимися деревянными ребрами. А если камень или вражеский таран пробьет в обшивке дыру, ее можно сразу же залатать деревом.
Далее корабел устанавливал на узком изящном корпусе некое сооружение, которое отличало греческую триеру от финикийской, — весельную деревянную раму, или parexeiresia (что в переводе означает примерно: «то, что находится за пределами зоны гребли»). Именуемая иногда аутриггером (то есть шлюпкой с выносными уключинами), эта рама была шире корпуса судна и выполняла многообразные функции.
Во-первых, здесь располагались уключины для гребцов верхнего ряда («транитов»), и широкий размах рамы позволял делать сильные гребки. Во-вторых, к раме могли крепиться боковые щиты, что было важно в бою, — они защищали гребцов верхнего ряда от вражеских копий и стрел. В-третьих, рама, в случае необходимости, прикрывалась и сверху — холщовым или деревянным навесом. На быстроходных триерах, вроде тех, что велел строить Фемистокл, легкое холщовое полотно защищало гребцов от палящего солнца. А на тяжелых триерах или военно-транспортных судах поверх рамы наводилась деревянная крыша, пригодная для перевозки пехоты и военной техники. Ну и, наконец, мощные поперечные балки, укрепленные в задней части рамы, служили для буксировки поврежденных судов либо добытых в бою трофеев.
Уже из самих размеров весельной рамы следует, что именно весла были основным двигателем триеры. На каждую полагалось по двести весел (тридцать запасных), а для этого новому флоту Фемистокла требовалось общим числом двадцать тысяч жердей из высококачественной пихты. Длинное древко заканчивалось на одном конце широкой, гладко отполированной лопастью, а на другом ручкой с набалдашником для удобства гребца. Шестьдесят два гребца на верхнем ряду — «траниты» — считались аристократией триеры. Внутри и ниже тянулись банки для пятидесяти четырех «зигитов» и такого же количества «таламитов». Последнее название происходит от слова «таламос», или трюм, ибо помещались они в самом низу, почти прямо над ватерлинией. Все гребцы располагались лицом к корме, погружая весла в воду по команде рулевого.
Корпус готов, и подходит время смолить судно. Раз в год смоловары надрезали или сдирали смолистую кору с многолетних деревьев. В случае крайней необходимости обдирали пихты, рубили их на поленья и поджигали, так что в какие-то два дня набиралось достаточно смолы. Возчики перевозили на своих повозках тысячи кувшинов смолы на строительную площадку. Поэтические метафоры «темные суда» или «черные суда» вырастают из действительности: корабли облекали в смоляную одежду.
Больше вражеских таранов и подводных рифов мастера опасались тередонов, или червей-сверлильщиков. С нашествием этих беспощадных моллюсков можно было бороться только самой тщательной уборкой, включающей в себя просушку корпуса на берегу, и просмаливанием корпуса сантиметр за сантиметром. Летом греческие моря кишат мечущими икру древоточцами, которых иногда называют «корабельными червями». Каждая крошечная личинка плавает в поисках дерева, будь то обыкновенная щепка или проходящий мимо корабль. Стоит ей только попасть на древесную поверхность, как она быстро проделывает в ней ход, действуя острыми краями своей остаточной раковины как рашпилем. Оказавшись таким образом в укрытии, существо уже никогда его не покидает, лишь подставляет переднюю часть к выходу, словно стремясь глотнуть живительной морской воды. А само меж тем при помощи находящейся сзади острой раковины внедряется все глубже и глубже и в конце концов начинает осваивать постоянно удлиняющуюся норку — свой новый дом.
Через месяц похожий на слизняка древоточец пробьется чуть не на фут вглубь. Теперь он уже готов откладывать собственные личинки, затопляя ими море. И так из раза в раз. Источенная древесина становится похожей на решето, и в какой-то момент судно может надломиться и затонуть прямо посреди моря. Даже когда оно опустится на дно, древоточец продолжает свою разрушительную работу, и в непродолжительном времени не останется и щепки, свидетельствующей о том, что корабль нашел здесь место своего последнего упокоения. А добросовестный уход — постоянное обследование корпуса, просмолка, просушка, немедленная замена части прохудившейся древесины — позволит афинской триере оставаться на плаву двадцать пять лет.
В ее конструкции предельно возможная легкость сочеталась с максимальной длиной. Все было рассчитано до грамма и сантиметра, тем не менее и тысячи деревянных гвоздей и веревочных узлов не удержали бы триеру в ровном положении даже при спокойной гребле, а уж если разыграется шторм, то и говорить не приходится. Поэтому прочность и остойчивость, каких недостает дереву, афинской триере придавали огромные hypozomata, или кольцевые тросы. Весил такой трос около 250 фунтов и насчитывал примерно 300 футов в длину. Наброшенные петлей на корпус в носовой части, тросы — по два на каждом судне — тянулись по всей его длине, проходя ниже гребной рамы. Концы уходили внутрь, где моряки туго накручивали их на кабестан или выбирали лебедкой. Подобно тому как деревянные гвозди и льняные веревки представляли собой суставы судна, тросы выполняли роль его сухожилий.
Триера оснащалась и другими веревками. Свитые из папируса, камыша, конопли, льна, они шли на оснастку мачт и парусов, служили якорными цепями, швартовами, буксирными тросами. Высокие мачты триер и широкие реи, на которых крепились паруса, делались из лучших сортов сосны или пихты. Для самих же парусов афинянки готовили на вытянутых в длину ткацких станках большие рулоны льняной ткани, которые затем сшивались в большое полотно квадратной формы. Несмотря на значительный вес и немалую цену, мачта и парус играли в сравнении с веслами второстепенную роль и накануне сражения вообще снимались с судна и хранились на берегу. Некоторые триеры на крайний случай оснащались дополнительным «корабельным парусом» и мачтой размерами поменьше.
Нос, или, вернее, «клюв» корабля был с самого начала спроектирован как часть корпуса, а в качестве последнего штриха металлисты, устанавливая на триеру ее смертельное орудие таран, обшивали «клюв» бронзой. На изготовление сотни таранов, потребных для фемистокловых триер, ушли тонны металла, это была гигантская работа производителей бронзы. Этот сплав, состоящий из девяти частей меди и одной олова, не ржавеет и потому более пригоден для морских операций, нежели железо. Некоторая часть бронзы, использовавшейся для изготовления таранов, представляла собой своего рода вторсырье — на переплавку шли мечи, затупившиеся в старых, забытых сражениях, ключи от вышедших из употребления кладовых, идолы, которым давно уже никто не поклоняется, украшения почивших женщин, отличавшихся некогда незаурядной красотой. При изготовлении таранов мастера-ремесленники использовали ту же технику, что при отливке полых бронзовых статуй богов и героев, которыми украшались храмы и святилища.
Вначале для тарана делали форму из воска и примерялись к деревянному «клюву», так чтобы впоследствии каждый нашел свое место именно на данном конкретном судне. Мастера забивали воск в «клюв», он постепенно разогревался, становился мягче и удобнее в обработке. На переднем конце тарана воск вдавливался во фланец с тремя, как на трезубце Посейдона, наконечниками. Когда воск застывал и полностью принимал нужную форму, его аккуратно отделяли от дерева и переносили в яму, заранее выкопанную на песчаном берегу.
На следующем этапе требовалась глина, такая же твердая, как железо, из нее, кстати, в Афинах изготавливались различные гончарные изделия. Восковой манекен укладывался на дно ямы, снаружи обмазывался глиной, которая затем заполняла полость, — все, можно приступать к отливке. В воск и глину входят изготовленные кузнецами железные прутья. Когда воск полностью заполняет глиняную форму — за вычетом самого верха, — тяжелое изделие извлекают из ямы, переворачивают и греют на огне до тех пор, пока воск полностью не расплавится и глина не примет точные очертания тарана. Теперь остается залить внутрь расплавленную бронзу. Но дело это совсем непростое.
Костер из веток и коры не дает достаточной температуры, нужен древесный уголь. Между тем отливка тарана для триеры — это единый и быстротекущий процесс. Прежде всего работники устанавливают по ободу ямы небольшие глиняные печи, от каждой из которых к изложнице тянутся прорытые в песке узкие русла. В печи укладываются куски бронзы, то ли осколки большого слитка, то ли металлолом, и, по мере того как уголь разгорается, содержимое быстро превращается в красную расплавленную массу. По знаку мастера работники снимают со всех печей глиняные заслонки, и в тот же самый момент по руслам устремляются ручейки пылающей лавы, которая сразу заполняет глиняную форму. Бронза быстро застывает и отвердевает, после чего глина отваливается (чтобы уже никогда больше не пойти в дело), и на свет, как цыпленок из яйца, является гладкий черный устрашающий таран. Убрав железные прутья, обработав заднюю часть и отполировав поверхность, работники устанавливают таран на носу триеры и тщательно закрепляют его при помощи гвоздей из той же бронзы.
Каменщики стаскивают вниз с находившейся рядом с городом горы Пентеликс глыбы превосходного белого мрамора, и скульпторы, нарезав предварительно тонких плит, вырезают для каждой триеры по два офтальмоя, или «глаза», радужной оболочкой которых служили расцвеченные красной охрой круги. «Глаза» крепятся по обе стороны носа. Афиняне верили в то, что, завершая чудесный процесс превращения неодушевленного предмета в живое существо, «глаза» позволяют судну прокладывать себе безопасный путь в бушующем море. Если следовать греческой терминологии, расходящиеся в стороны концы поперечной реи, расположенной над глазами, представляют собой рога корабля, парус и банки гребцов — крылья, а абордажные крючья — железные руки.
Кузнецы изготавливали для каждой триеры по паре железных якорей, закреплявшихся по обе стороны носа. Их предназначение — удерживать судно в ровном положении, когда его втаскивают на берег. Дубильщики и кожевенники выделывали трубчатые рукава для весел. В этих же мастерских производили защитные перегородки для гребных рам и подушки из овечьей шкуры, позволявшие гребцам удобно упираться ногами и таким образом увеличивать мощь каждого гребка.
Ну и, наконец, ювелиры покрывали позолотой Афину — носовое украшение судна, свидетельствующее о его государственной принадлежности. На богине были шлем и кираса, иначе говоря — эгида с изображением головы горгоны Медузы, способной одним взглядом превратить любого смертного в камень. Как божественная покровительница искусств и ремесел и одновременно богиня войны, Афина с начала и до конца освящала затеянное предприятие.
Из рудников Лавриона серебро поступало на монетный двор города, где переплавлялось в монеты с символикой Афин. Затем, как и замышлял Фемистокл, серебряный поток растекался на сотню отдельных ручьев, проходя через руки состоятельных граждан, осуществлявших грандиозный проект строительства флота. По ходу работ серебро попадало всем участникам — лесорубам, корабелам, кузнецам и так далее, чьими усилиями мечта Фемистокла превращалась в реальность. В конечном итоге деньги доставались и тем самым гражданам, что отказались от своих десяти драхм ради общего блага.
К тому времени как сотня новеньких триер блестела на солнце в водах Фалеронского залива, афиняне не были уже теми людьми, что вчера. И в великих делах, что ждали их впереди, когда новые суда отправятся в рискованные плавания в борьбе за свободу и само существование афинян, их объединяло чувство общей цели, и оно будет укрепляться с каждым новым испытанием, с каждой новой встающей перед ними угрозой.
Глава 3
Деревянная стена (481–480 годы до н. э.)
Речь за огнем мы такую послушаем
в зимнюю пору,
Лежа на мягкой постели, насытившись
всякого брашна,
Сладким вином заливая бобов угощенье:
Кто ты, откуда пришел ты, любезнейший?
Много ли прожил?
Скольких был лет, когда мидяне к нам ворвалися? Ответствуй!
Ксенофон Колонфский. Фрагмент 12, пер. Ф.Зелинского
Афиняне любили рассказывать о том, как реагировал персидский царь Дарий на известие о том, что они участвовали в сожжении Сард. Он велел принести лук, натянул тетиву и пустил стрелу высоко в небо. В стране лучников это было равнозначно принесению клятвы. И пока стрела парила в воздухе, Дарий уже на словах поклялся в том, что когда-нибудь отмстит за это покушение на границы своей империи. И повернувшись к царскому чашнику, велел тому ежедневно повторять одни и те же слова: «О, господин мой, помни об афинянах». Когда Фемистокл выступил с предложением о строительстве флота, Дария уже не было в живых. Трон вместе с клятвой об отмщении унаследовал его сын Ксеркс.
Уже три года продолжалось строительство, когда Ксеркс выступил в поход. В свои тридцать восемь лет он правил империей, простиравшейся от пустыни Сахары до Каспийского моря и от Балкан до Гиндукуша. По углам ее протекали четыре величайшие реки тогдашнего мира: Нил, Дунай, Аму-Дарья и Инд. А посредине ее рассекали Тигр и Евфрат, реки, вот уже много веков питавшие своими водами разные царства и империи. Предпринимая поход на запад, новый царь рассматривал его отнюдь не только как исполнение давней ритуальной клятвы. После того как афиняне сожгли храм верховной богини в Сардах, у Ксеркса появился повод начать священную войну. Наказание Афин с неизбежностью повлечет за собой завоевание остальных греческих городов-государств, а затем и всей Европы, вплоть до берегов Атлантики. Великие империи должны разрастаться, а Ксеркс унаследовал Персию в ее зените.
Персы верили в то, что бог, или, в их случае, всемогущее божество Ахура Мазда, сражается на стороне больших соединений[6]. Начав с подавления восстаний в Египте и Вавилоне, Ксеркс стянул для вторжения в Грецию силы со всех концов империи. В результате собралось воинство столь огромное, что понадобилось полгода, чтобы переправить его из столичных Суз к берегам Эгейского моря. Посыльные царя то же расстояние в 600 миль верхом покрывали всего за тринадцать дней. Девиз этих посыльных сохранился в веках: «Ни снег, ни дождь, ни жара, ни тьма ночная не собьют нас с курса».
Подобно своим гонцам, Ксеркс прокладывал себе дорогу упрямо и неумолимо, разве что со скоростью пешехода. Царский шатер, который вечером на очередной стоянке разворачивали, а утром снимали, по своим размерам был равен концертному залу. По обе стороны колесницы царя шли волхвы с переносными жертвенниками и зажженными факелами. Дабы держать своих братьев и других родичей подальше от домашних смут[7], Ксеркс взял их с собой. Его свита — наложницы, повара, музыканты, банщики, астрологи, хранители гардероба, носильщики и многие другие — сама по себе составляла целую армию. Рядом с царской колесницей вышагивали два лазутчика, которых называли Глазом и Ухом Царя царей. Сопровождали его и высокородные греческие изгнанники: эти предатели будут, уже на территории Европы, указывать дорогу персидской армии в расчете на то, что после победы Ксеркс посадит их управлять от своего имени завоеванными государствами. Спарту представлял изгнанный некогда царь Демарат, Афины — сыновья старого тирана Гиппия. Покрыв за полгода Царский путь, великая армия остановилась на отдых в Сардах, на восточной границе греческого мира, где ей предстояло провести холодную и дождливую зиму. А ранней весной персы начнут наступление.
Но еще до того Ксеркс рассчитывал сломить своего ничтожного противника двумя и впрямь потрясающими шагами. Первый должен был позволить персидской армии войти в Европу. Его инженеры перекинули через Геллеспонт понтонные мосты, соединив таким образом Европу и Азию при помощи огромных тросов из папируса и травы альфа. Здесь отшвартуются более шестисот галер с материалами для дорожного покрытия на борту. Второе чудо даст триерам Ксеркса возможность пройти посуху, как по морю. Почти три года под руководством другой группы инженеров целая армия землекопов прокладывала ров через полуостров к горе Афон. Попав этим рвом в греческие воды, персидская армада минует опасный мыс, где штормовые ветры уже разметали однажды флот Дария.
Уже одними этими сверхчеловеческими подвигами Ксеркс рассчитывал подавить дух противника и, став на зимние квартиры, отправил в Грецию гонцов с требованием земли и воды. Этот символический жест показал бы, что народ уступает свою территорию царю. Когда несколько месяцев спустя посланные вернулись, стало ясно: война нервов вполне стоила усилий и денежных затрат. Капитулировали все города, расположенные к северу от Фермопил; покориться отказалось лишь несколько — в центральной и южной Греции. Невзирая ни на что, они готовы, вместе со Спартой и Афинами, к борьбе за свободу.
Когда армия Ксеркса вторглась в Малую Азию, греки наконец осознали необходимость совместных действий. Спартанцы, эти традиционные лидеры и вершители дел в Элладе, созвали на Истме совет. Своих представителей прислали все города, решившие оказать Ксерксу сопротивление. Совет заседал в сосновой роще, близ святилища Посейдона, бога морей и покровителя коневодства. Дело было осенью, когда персидский Царь царей уже расположился в Сардах, а прокладка рва и строительство понтонных мостов приближались к концу. Совет решил послать на другой берег Эгейского моря трех лазутчиков для уточнения подлинной численности вражеской армии. Неожиданно предприятие оказалось делом смертельно опасным. В персидском лагере шпионов опознали, подвергли пытке и приговорили к смерти. Однако же Ксеркс лично распорядился их помиловать. Ему было даже на руку, что греки получат о его мощи самые свежие, из первоисточника, сведения. Лазутчиков освободили, провели по всему лагерю и отправили назад в Истм. Отчет их произвел дома шок.
Прикидывая общую численность вражеского войска, греки пришли к цифрам, которые не укладывались в сознании. В конце концов они решили, что Ксеркс привел с собой от одного до трех миллионов воинов, а флот его состоит из более чем тысячи двухсот триер. Правда, суда эти не его, персы — народ не морской. Царь царей обложил данью те страны своей империи, которые знают море не понаслышке, — Финикию, Египет, Сирию, Кипр, Киликию, Карию, ну и вдобавок покорившиеся ему греческие города. Во главе армады были поставлены четыре перса высшего ранга — родичи царя, но отдельными подразделениями флота командовали представители местной знати. Среди них была Артемисия, царица греческого города Галикарнаса в Малой Азии, — единственная женщина-воительница, бросившая вызов тысячам мужчин, которых привел в Грецию Ксеркс.
Может быть, общее число персидских триер греки и преувеличили, но подавляющее количественное преимущество противника на море было очевидным, не говоря уже о материальных ресурсах, инженерном обеспечении, осадных орудиях и едином командовании. И не важно, измерялись ли силы Ксеркса миллионами или сотнями тысяч, он в любом случае выказал грекам уважение, обрушивая на них объединенную мощь армии и флота, какой еще свет не видывал.
Выслушав доклад лазутчиков, совет решил, что к войне с персами необходимо привлечь новых союзников. В Сицилию было отправлено посольство с задачей заручиться поддержкой Гелона, могучего тирана Сиракуз. Будучи изначально коринфской колонией, Сиракузы давно уже превратились в один из самых богатых и сильных городов Греции. Фемистокл озаботился тем, чтобы в этой почетной миссии афинского посланника сопровождали спартанцы. В ходе переговоров в Сиракузах посланник предложил, чтобы его город возглавил сопротивление на море, а сухопутными операциями будут руководить спартанцы. С ними это было согласовано заранее и вполне их устраивало. У Спарты имелось в распоряжении менее дюжины боевых судов, к тому же, имея за спиной, в сельской местности, враждебные массы илотов, власти с величайшей неохотой снаряжали заморские военные экспедиции. Увы, дипломатическая миссия в Сиракузы успеха не принесла. У западных греков и своих забот было по горло. Вдохновленные примером Ксеркса, финикийские колонисты в Карфагене готовились напасть на греческие города в Сицилии.
Столь же неудачно закончились и иные попытки в том же роде. В конце концов лишь тридцать из сотен греческих городов-государств и островов, разбросанных по всему Средиземноморью, присоединились к союзу против персов, и, учитывая соотношение сил, удивляться следует не тому, что их оказалось так мало, а другому — странно, что вообще нашлись охотники. Так что же все-таки заставило афинян, спартанцев и некоторых других поднять оружие?
Отчасти — чисто греческий дух независимости, страстная, до фанатизма, жажда свободы. На этой суровой, каменистой почве выросла раса сильных, самодостаточных людей. Ревниво защищая свои свободы, греческие города выказывали то же упорство, что и отдельные граждане. Веками этот дух питал их внутреннюю разобщенность. А теперь он же помог им объединиться перед лицом общего врага.
Далее, имелись некоторые рациональные, стратегического свойства, соображения, которые превращали сопротивление в нечто большее, чем в пустую надежду. Фемистокл видел это яснее других. В Истм послали своих представителей все города-государства. Более того, создавшееся положение — жизнь или смерть — понудило власти предоставить этим делегатам такие полномочия, о каких в мирное время и речи быть не могло. С другой стороны, участие Фемистокла в этой встрече резко увеличило его влияние. У себя дома, в Афинах, он был всего лишь одним из десяти избираемых на год стратегов, на которого что ни день (как, впрочем, и на всех остальных афинских деятелей) нападают сограждане. А в Истме он внезапно сделался голосом Афин. Номинально главными на заседаниях совета были спартанцы, но даже и они вскоре признали его ведущую роль в выработке общей стратегии.
Фемистокл считал, что самое уязвимое место Ксеркса — флот. С виду могучая, невиданных размеров армада, а на самом деле — колосс на глиняных ногах. Если сухопутные силы, состоявшие из конницы, копьеносцев, лучников — уроженцев Персии и Медии, действительно составляли собой сердцевину армии персов, то военный флот находился в основном в руках вассалов. Под началом четырех военачальников царских кровей пребывала причудливая мешанина, состоящая из людей разных национальностей, говорящих на разных языках, следующих разным морским традициям (или не имеющих таковых). Вряд ли подобная рать способна на умелые действия. Да и безусловная ее преданность Ксерксу была под вопросом. Учитывая все это, Фемистокл и пришел к выводу, что грекам, поставив во главу угла не благородный героизм, но трезвый и тонкий расчет — в общем, мету , следует нанести удар по слабейшему звену в цепи противника.
В Истме хитроумный Фемистокл разворачивал действия по двум направлениям одновременно. За откровенными, у всех на глазах, усилиями по выработке победной стратегии мелькала другая цель — сокровенная: утвердить позиции Афин как равноправного со Спартой лидера греческого мира. Тут на стороне Фемистокла была, помимо всего прочего, медлительность спартанцев, что в мыслях, что в действиях. Это открывало более подвижным людям, будь то друзья или враги, массу благоприятных возможностей. Фемистокл начал с предложения союзникам забыть внутренние разногласия, в том числе и многолетнюю свару своих родных Афин с Эгиной. Образ Афин — города-миротворца и объединителя произвел на собравшихся весьма благоприятное впечатление. Теперь Фемистокл мог начинать свою необъявленную кампанию.
Он умело подвел совет к мысли о том, что варваров надо «по возможности опередить». В результате уже ранней весной альянс предпринял первую свою военную акцию — снарядил экспедицию, долженствующую запереть персидскую армию в узком горном ущелье Темпы, в Фессалии. Отряд спартанцев возглавил некий Эвенет. Фемистокл в такой же примерно роли повел колонну афинян. Этим десяти тысячам воинов, направляющимся на север, предстояло обновить новорожденный флот триер. Но уже через несколько дней после прибытия в Фессалию Эвенет и Фемистокл обнаружили, что в распоряжении персов имеется несколько горных проходов и перекрыть все у греков не хватит сил. Обескуражило и то, что Ксеркс, оказывается, еще не пересек границ Европы и в Фессалии, возможно, окажется лишь через несколько месяцев. Так что Темпы пришлось оставить. Греки поднялись на борт и поплыли домой.
Потерпев неудачу своего плана, Фемистокл вернулся в Истм, где вновь приступил к работе в совете. Был выработан новый план обороны центральной Греции. Предлагалось с появлением персов разделить свои силы надвое. Армия запрет противника в узком проходе Фермопилы («Горячие Ворота»), а флот встретит вражескую армаду в проливах у мыса Артемисий. Фемистокла этот план вполне устраивал. А поскольку противник был еще очень далеко, он и слова не сказал, столкнувшись с нежеланием союзников вновь посылать свои войска и корабли на север.
Ну а Ксеркс, где он находился? Пока афиняне и другие греки возвращались несолоно хлебавши из Фессалии домой, персы все еще топтались у границ Европы. Их предводитель устраивал смотры своим судам на азиатском берегу Геллеспонта. Увеселения и лодочные гонки — приятное времяпрепровождение, пока армия готовится к переходу через два новых понтонных моста. Но царя ждала неожиданная беда. Не успел никто и шага ступить по мосту, как мощный шторм оборвал крепкие тросы, и мостовые опоры рухнули в воду. Разгневанный царь велел обезглавить смотрителей работ и приказал высечь непослушные воды Геллеспонта. После того как новая команда строителей в рекордно короткие сроки восстановила мост, Ксеркс в окружении приближенных величественно ступил на европейский берег. Всей же армии потребовался месяц, чтобы перейти из Азии в Европу.
В то время как воинство продвигалось по пересеченной местности за Геллеспонтом, корабли дрейфовали вдоль берега в сторону горы Афон. Персы миновали смертоносный мыс, пройдя вновь прорытым каналом. Усилившись по пути галерами, пришедшими из покоренных греческих городов, флот объединился с армией в Терме, на македонском побережье. Здесь Ксеркс остановился. Воины и гребцы отдыхали, а инженеры очищали дорогу в горах. Отсюда, с нового привала, Ксерксу была видна поднимающаяся на юге гора Олимп. Здесь, на ее покрытой снежной шапкой вершине был дом Зевса и других богов греческого пантеона. Уступая соблазну, Ксеркс сел на самую быстроходную в своем флоте триеру, прибывшую из финикийского города Сидон, и вышел в море — посмотреть с более близкого расстояния на Олимп и долину Темпы. Священная гора была теперь частью его империи, и, казалось, ничто не может помешать тому, что в недалеком будущем в нее войдут и другие земли, где поклоняются этим богам.
Как только персы вошли в Европу, сильно обеспокоенные афиняне послали двух граждан в Дельфы, к оракулу Аполлона. Эта маленькая деревушка, прилепившаяся к склону горы Парнас, почиталась греками центром мира и пупом земли. Ее знаменитый храм был посвящен Аполлону, богу солнечного света, поэтического вдохновения и прорицаний. Встроенная в него крипта представляла собой каменную нишу, через которую сочились воды священного Кастальского источника и проникали таинственные испарения. Греки верили, что с самых времен Всемирного потопа, затем героического века Троянской войны и поныне Дельфийский оракул является кладезем мудрости и проводником по дорогам истории. Аполлон доносил свою волю через уста местной женщины — пифии, сидевшей на бронзовом треножнике, установленном над нишей. Только ей дозволялось входить в крипту. Экстатическое состояние, в которое она приходила, было вызвано испарениями — им она и обязана своим пророческим даром. Впадая в транс, пифия вещала от имени самого бога.
На рассвете седьмого дня пути, в новолуние, два афинских посланца поднялись по горной тропе и заняли почетное место в самом начале длинной очереди. На дверях храма были начертаны слова: «Познай себя». Оракулы часто изъяснялись туманно и двусмысленно, не столько предсказывая нечто, сколько испытывая проницательность и способность людей к самопознанию. В какой-то момент, когда Ксеркс уже приближался к Греции, Дельфийский оракул напророчил спартанцам, что страна их сохранится, но для этого царь Спарты должен умереть. Теперь наступила очередь Афин. Посланцы переступили порог высокой двери и прошли к затененному месту, освещавшемуся тусклым светом вечного огня. Спустившись по некрутому настилу, они оказались в полумраке внутреннего святилища, вроде бы глубоко под землей. Впереди блестела золотая статуя Аполлона; слева смутно виднелась фигура пифии, склонившейся над треножником. От имени народного собрания Афин посланцы вопросили: что делать городу в такой час? Голос женщины зазвучал глухо и торжественно, как у Гомера.
Аполлон гневается. Что эти афиняне так долго делают в Дельфах? Давно им пора оставить свой город и как можно скорее лететь на край земли. Арес, бог войны, приближается к Афинам в азиатской колеснице, неся с собой огонь и разрушение. Он сметет с лица земли храмы и башни. Изваяния богов покроются сыростью и пошатнутся. С крыш домов польется черная кровь. Заканчивая устами пифии свое страшное пророчество, бог повелел насмерть перепуганным афинянам немедленно покинуть свою родину. Оказавшись на свету, посланцы стали решать, что делать дальше. Пока они в сомнениях топтались на месте, к ним подошел житель Дельф, у которого они остановились, и настойчиво порекомендовал вернуться в храм, на сей раз с оливковой ветвью мира, и попросить о новом предсказании. Афиняне последовали совету, и их настойчивость была вознаграждена пророчеством, сулившим на сей раз некоторую надежду:
Деметра — богиня земледелия и плодородия, и по календарю афинских крестьян посевная приходится либо на осень, либо на раннее лето. Конечно, Саламин — это остров неподалеку от Аттики, но ведь это также название греческого города на Кипре, где восставшие ионийцы выиграли морское сражение у Финикии. Так как же понять Аполлона — направляет ли он афинян к Саламину или, напротив, удерживает от этого шага? Что касается «деревянной стены», то обычно это ограждение, которым обносят военный лагерь, однако же могут быть и другие толкования. Так или иначе, второе пророчество в отличие от первого, устрашающего, заключает в себе некую обнадеживающую двусмысленность. Несколько ободрившиеся посланцы записали слова пифии и отправились домой.
В Афинах пророчество сделалось достоянием гласности, и для обсуждения его было созвано собрание. Если следовать словам оракула, буквально афинянам следует покинуть свою землю и, избегая столкновения с Ксерксом, где-то далеко-далеко, «на краю земли», основать новый город. И иные профессиональные толкователи, а также старейшие граждане призывали именно к этому — не обольщаться пустыми надеждами и трогаться в путь. В их рассуждении, боги сулят защитить свои собственные храмы, окружив их живой колючей изгородью, наподобие той, что окружает Акрополь. Это и есть деревянная стена пророчества.
Пифия не посулила окончательной победы, ни словом не заикнулась о море или кораблях, не призвала афинян бороться до последней капли крови, да и вообще о войне ничего не сказала. Между тем ничто не могло нанести Фемистоклу и его смелым флотоводческим замыслам такого сокрушительного удара, как неожиданная готовность афинян «повернуться спиной» к персам. Остается одно — перетолковать пророчество так, чтобы оно соответствовало его целям.
Именно в этом духе Фемистокл и выступил на собрании. «Деревянная стена, — заявил он, — это вовсе не живая изгородь, окружающая Акрополь, а флот. Наши триеры, число которых достигает теперь двухсот, станут деревянным бастионом, защитой Афин. Вот что говорит Аполлон на самом деле: плавучая деревянная стена выстоит и послужит будущим поколениям. Не бежать следует афинским гражданам, а садиться за весла и противостоять персам на море».
Большинство согласилось с таким толкованием. Используя достигнутый успех, Фемистокл провел через собрание целый набор экстренных мер. Все граждане, независимо от сословной принадлежности, должны записаться в личный состав флота, большинство — в качестве гребцов. Афиняне не будут ждать решения союзников, они сами проявят инициативу. По настоянию Фемистокла собрание проголосовало за то, чтобы направить суда на север, к Артемисию, и призвать всех греков разделить с Афинами тяготы и опасности войны. Задача флота должна состоять в том, чтобы как можно дольше не подпускать персов к берегам Аттики и уж тем более не дать им проникнуть в глубь Греции. Единогласное решение афинян стало подлинным триумфом Фемистокла.
Важнейшим условием приведения флота в боевую готовность была эвакуация гражданского населения. Фемистокл не мог рассчитывать на то, что все его сограждане мужского пола выйдут в море, оставив в тылу на произвол судьбы беззащитных людей, которые вполне могут стать заложниками. Так что по его же совету собрание приняло приглашение пелопоннесского города Трезена, изъявившего готовность предоставить убежище женам и детям афинских граждан. Трезен считался родным городом афинского героя Тесея и всегда поддерживал с Афинами дружественные связи. Ну а стада афинских землевладельцев и скотоводов будут переправлены на острова.
Как только физически здоровые граждане соберутся за деревянной стеной, а их семьи будут эвакуированы в Трезен, продолжал Фемистокл, афинские старейшины сформируют правительство в изгнании, с резиденцией на Саламине. Это афинская территория, и, пока триеры смогут удерживать армаду персидского царя на расстоянии, здесь вполне безопасно. Фемистоклу удалось убедить сограждан, что, угрожай афинянам на Саламине хоть какая-то опасность, оракул ни за что не назвал бы остров «божественным».
Афиняне жили налегке. Дома у них были простые, пожитков немного, да и те свободно поддаются перемещению. Сам же Фемистокл, пока в прибрежных водах Аттики сновали триеры и паромы, раздавались рыдания и слова прощания, люди снимались с места, скот грузился на транспортные суда, вернулся в Истм. Тут он сообщил спартанцам и другим союзникам Афин о принятом гражданами решении и от имени города призывал всех «разделить опасности» морской кампании.
Лишь одно афинское сословие решительно воспротивилось всеобщей мобилизации — всадники. Они не могли примириться с мыслью о совместной службе с людьми низших общественных классов. У афинских всадников были собственные начальники, так называемые гипархи, и они готовы были выказать открытое неповиновение не только Фемистоклу, но и всему собранию. Трудную ситуацию разрешил сын Мильтиада, молодой афинянин-патриот Кимон. Не достигнув еще и тридцати лет, он тем не менее благодаря твердому характеру успел стать вожаком всадников. По отношению к Фемистоклу лично он не испытывал никаких особенных чувств, но город любил. Собрав группу друзей, Кимон повел их пешим ходом в Акрополь. Там, на большом жертвеннике, он торжественно посвятил упряжь своего боевого коня Афине Палладе и оставил ее на попечение богини. А затем вместе с друзьями слился с простонародьем и отправился в Фалерон. То ли воодушевленные, то ли пристыженные этим примером, остальные всадники последовали за ними на суда.
Тем временем усилия, которые предпринимал Фемистокл в Истме, оставались тщетными. Союзники наотрез отказывались участвовать в действиях флота, которым командуют афиняне. Жителям Эгины, Коринфа, Мегар, Фив и, разумеется, в первую очередь Спарты афиняне и их ближайшие сородичи ионийцы представлялись низшим среди всех греков племенем и, мало того, опасно переменчивым, беспокойным и самонадеянным. Столкнувшись с этим угрюмым сопротивлением, Фемистокл чувствовал, что его мечта о том, что флот возглавит афинянин, тает на глазах. Команда судов более чем на две трети состоит из граждан Афин, но командовать флотом, выходит, должен спартанец.
Лето клонилось к закату, переговоры вяло топтались на месте, и тут в Истм с севера прибыли гонцы с сообщением, что Ксеркс двинулся вперед. Армия персов идет на юг, огибая гору Олимп, флот же готовится к выходу в море. Менее чем через месяц персов можно ожидать у Фермопил, этих ворот в Грецию. И если греки собираются встретить персов севернее Истма, нужны немедленные действия. Там, где пасует логика аргументов (в данном случае аргументов Фемистокла), срабатывает логика событий. Союзники быстро вернулись к плану перехватить и задержать противника у Фермопил и Артемисия. Таким образом, удастся избежать риска, связанного с крупным сражением на открытой местности. А на море объединенный греческий флот попытается нанести поражение армаде Ксеркса.
В соответствии с этим замыслом совет принял беспрецедентное предложение Афин бросить все силы на укрепление флота. На суше афиняне сражаться не будут, хотя десять тысяч их гоплитов сильно укрепили бы греческие фаланги. Небольшой отряд во главе со спартанским царем Леонидом будет удерживать Фермопилы до подхода главных сил греческой армии. «Навархом», или командующим объединенным флотом, был назначен другой спартанец, Эврибад, хотя своего флота у Спарты практически не было. Участники совета в Истме немедленно известили свои города о принятых решениях и велели согражданам направить корабли и сухопутные войска соответственно под команду Эврибада и Леонида. А главные силы тем временем сосредоточатся в Истме.
Вернувшись в Афины, Фемистокл был вынужден сообщить согражданам, что флотом будут командовать другие. Во имя свободы, да и просто выживания афиняне уступили уговорам Фемистокла и согласились потерпеть со своими претензиями до лучших времен. Возникла и еще одна проблема — к выходу в море была готова только часть флота. Темпы и объем строительства кораблей превышали возможности города обеспечить все двести триер необходимым количеством гребцов. Если можно было бы посадить за весла рабов, проблема решилась бы сама собой, потому что недостатка в них Аттика не испытывала — тысячи и тысячи. Но на военном корабле гребец — воин, а люди, сражающиеся за свободу города-государства, и сами должны быть свободными. Вот и пришлось афинянам, восполняя недостаток живой силы, направить двадцать судов грекам из Халкиды, одного из городов Эвбеи, а также добровольцам из Платей, сгоравшим от нетерпения попробовать себя на море, при том что эти сухопутные союзники с трудом могли отличить один конец весла от другого. Учитывая эти пополнения, общая численность флота, направляющегося в район Артемисия, составляла примерно сто пятьдесят судов. Оставшиеся подойдут позднее.
Наступило утро отплытия. На всем протяжении фалеронского берега люди тащили суда к воде. Команды штурмовали лестницы, прислоненные к бортам, и вскоре в пустом зеве триер уже было полно людей. Моряки, лучники, впередсмотрящие занимали свои места на передней палубе, рядом с тараном, рулевые с помощниками — на корме. Когда все поднялись на борт, состоятельные граждане, триерархи, да и начальники триер, вылили в воду по чаше вина — дань богам. Гребцы изготовились по команде рулевого опустить весла в воду.
Глядя на исчезающий вдали Акрополь, афиняне вместе со спартанцами и представителями других союзных городов взяли курс на север. На борту спартанского флагмана вместе с глашатаем, трубачом, прорицателем и другими шел командующий флотом Эврибад. Корабли обогнули мыс Сунион с его храмом Посейдона, миновали холмы Лавриона и продолжали путь в сторону Марафонской равнины и границы Аттики. Десять лет миновало с тех пор, как афинской армии удалось отбросить военные силы царя Дария, заставив их вернуться на свои суда, находившиеся в Марафонском заливе. Сейчас их ближайшие наследники рассчитывали повторить этот успех в новой схватке с персами. Оставив место исторической битвы позади, греки вошли в длинный извилистый пролив, отделяющий остров Эвбея от материка. Впереди лежали Фермопилы и Артемисий. Великие, величайшие в истории Афин события вот-вот начнутся.
Глава 4
До последней капли крови (Лето 480 года до н. э.)
«…это ясно понял и Пиндар, сказавший по поводу сражения при Артемисии следующее:
…там афинян сыны заложили славный
свободы оплот.
И правда: начало победы — смелость».
Плутарх
Три быстроходные триеры прошли вперед, чтобы установить наблюдательный пункт на Скиатосе, острове у входа в пролив у мыса Артемисий. По традиции он располагается на западной оконечности Скиатоса, откуда открывается вид на северные морские пути, где вскоре появятся суда армады Ксеркса. Между Скиатосом и верхушками холмов в Эвбее греки протянули цепь маяков, так чтобы наблюдатели с трех триер, по одной от Афин, Эгины и Трезена, могли, разложив костры, послать световой сигнал главным силам греческого флота.
Сколь пристально ни вглядывались впередсмотрящие в северном направлении, приближение передового отряда, состоящего из десяти быстроходных финикийских триер, застало их врасплох. Спасаясь, незадачливые греки рассыпались по своим судам и попытались скрыться. У триер из Трезена и Эгины ни малейшего шанса не было, хотя один эгинский моряк сражался так отчаянно и отважно, что восхищенные финикийцы перевязали ему раны и оставили при себе как нечто вроде талисмана. А вот афинской триере удалось вырваться в открытое море. Яростно преследуемые противником триерарх Форм и его команда мчались вперед вдоль гористого магнезийского побережья и в конце концов опередили самые быстроходные суда Ксеркса на полдня. Когда в виду показалась гора Олимп, афиняне рискнули сойти на берег. Случилось это в Темпах, откуда моряки быстрым шагом двинулись вглубь вдоль узкого русла реки Пеней. Финикийцам досталось лишь брошенное у берега пустое судно. Это была первая афинская триера, оказавшаяся в руках противника, зато Форм и его люди после изнурительного перехода благополучно добрались до дома.
По возвращении финикийских разведывательных судов в Терму вся персидская армада изготовилась двинуться в южном направлении. Фермопил она могла бы достичь в течение каких-то трех дней, в то время как армии, чтобы добраться туда же через Фессалию сушей, требовалось четырнадцать. Так что Ксеркс, выходя с армией, велел своим морским военачальникам выждать одиннадцать дней и только потом трогаться в путь. Однако, торопясь не пропустить назначенный срок, персидские флотоводцы опрометчиво проскочили длинную косу у подножия горы Осса — последнего прибежища для своих судов — и весь день, пока не стемнело, шли вперед, к магнезийскому берегу. Ночь застала их невдалеке от горы Пелион, где внизу, между скалистыми выступами, глубоко вдающимися в море, было лишь несколько тесных песчаных отмелей. Здесь, у враждебного берега, армада рассыпалась на множество якорных стоянок, некоторые из них были совсем близко от берега, почти на мели, другие дальше.
Тем же летом, только немного раньше, Дельфийский оракул воззвал: «Молитесь ветру». И вот теперь молитва была услышана: на магнезийское побережье налетел шквалистый ветер, который в здешних краях называли «геллеспонтцем». Три дня подряд беспомощные триеры Ксеркса било о прибрежные скалы, пока волхвы тщетно молились, чтобы шторм утих. Много военных и транспортных судов превратилось в щепы, иные отнесло и рассеяло в открытом море. Потом местные жители долго еще находили на берегу золотые чаши и другие персидские драгоценности.
Ну а греческий флот провел эти три дня в надежном укрытии эвбейских гаваней. Узнали здесь об ущербе, нанесенном персам, от наблюдателей, расположившихся на холмах и морском побережье. Когда шторм наконец выдохся, греки продолжили свой путь к Артемисию, очень надеясь, что потери противника достаточно велики. В Фермопилах они остановились переговорить с Леонидом, чей четырехтысячный отряд был занят восстановлением древних укреплений на перевале. Все были убеждены, что со дня на день подойдут главные греческие силы. Отплывая далее в Артемисий, афиняне оставили у Горячих Ворот галеру, на случай если Леониду понадобится с ними связаться. Этим судном командовал гражданин по имени Аброних. Взамен, в одном городке рядом с Фермопилами, в состав греческого флота влился местный корабль для наблюдения за боевыми действиями в районе Артемисия и доклада Леониду. Таким образом, достигалась координация действий греческих сил, что должно было способствовать успешному противостоянию персам на суше и на море.
Еще несколько часов пути, и греки дошли до места назначения. Артемисий — это, собственно, длинный искривленный берег на севере Эвбеи, прилегающий к проливу и с незапамятных времен служащий воротами в центральную Грецию. Золотой песок прямо подступает к храму Артемиды, богини целомудрия, охоты и плодородия. Фемистокл глубоко почитал эту богиню, называя ее Артемидой Аристобулой, то есть «Артемидой, Подающей советы». Так что не только военные, но и религиозные соображения заставили счесть Артемисий лучшим местом, где следует перехватить армаду Ксеркса.
Греки прибыли сюда на закате, в то же самое время, когда сильно потрепанный персидский флот огибал мыс Сепия и входил в пролив с противоположной стороны. На северном побережье столь же протяженных песчаных полос, как у Артемисия, не было, так что частям персидского флота приходилось останавливаться раздельно, швартуясь в маленьких бухтах, известных под названием «афеты» («стартовая площадка»). В одной из таких бухт, кстати, начинал свое плавание за золотым руном Ясон и другие аргонавты. Расчеты Фемистокла оправдались, громадная численность персидского флота обернулась его слабостью — здесь имелось слишком мало мест, чтобы такая громада могла собраться воедино.
В какой-то момент из полуденной дымки выплыли пятнадцать персидских судов, направляющихся прямо через пролив в сторону греков. Что это — чистое безумие? Или парламентеры? Но скоро все прояснилось. Эти припозднившиеся корабли, не заметив рассеянных по отдельным стоянкам соотечественников, приняли греческий флот за свой собственный и пошли на соединение. Гостей немедленно окружили и препроводили к Артемисию. Среди плененных оказался один военачальник с Кипра, потерявший в шторме одиннадцать судов. А теперь по собственной близорукости терял двенадцатое — и последнее. Подвергнув предварительно допросу, пленников заковали в железо и отправили под конвоем в Истм.
В ту ночь в районе Артемисия находилось примерно пятьдесят тысяч греков. В знак благодарности за участие в судьбе своего острова эвбейцы — жители Гистеи и других близлежащих городов доставили морякам и воинам еду, дрова на растопку, скот, вообще все, что нужно для проживания. Афинские части занимали восточную половину лагеря. На якоре покачивалась 271 триера, более половины общего количества — из Афин. Подчеркивая значение внесенного афинянами вклада в общее дело, командующий флотом — спартанец выделил им завидное и почетное место на правом фланге. Остальную часть греческого флота составляли суда еще из одиннадцати городов-государств. Десять триер, почитавшихся авангардом всего соединения, пришли из Спарты. Свою лепту внесли Коринф, Сикион, Эпидавр и Трезен. Центральная Греция была представлена только триерами из Мегар и устаревшими пятидесятивесельными галерами из Опунтских Локр. Помимо того, в общие силы входили суда из Эгины, Эвбеи и Кеоса. На западной оконечности берега расположились коринфяне, чьи пятьдесят триер составят левый фланг боевых порядков греков.
Лишь Афины мобилизовали во флот все свое мужское население. Молодой Кимон и его товарищи стали теперь всадниками моря. Афинские гоплиты сменили щиты и копья на весла. Что же до тысяч обыкновенных граждан, то военно-морская экспедиция позволила им впервые в жизни испытать чувство равенства с представителями высших сословий. Весло стало великим уравнителем. Гребля требует синхронных действий, а дисциплина однозначно порождает тесную духовную общность. У богатых и бедных равно натружены ладони, равно покрыты волдырями ягодицы, равно ноет все тело, и страхи, и надежда на будущее у них тоже одинаковые. На палубах и гребных банках триер формировались новые единые Афины.
В воде, на целые мили в обе стороны, плясали огоньки — отсвет костров. Опасаться, что персы ускользнут в ночное время, не приходилось — Ксеркс приказал своим военачальникам уничтожить всех греков, вплоть до последнего сигнальщика. Серьезного сопротивления персы не ожидали, но почему бы не воспользоваться их легкомыслием? Десятимильный пролив у Артемисия скоро станет ареной морского сражения.
В тот вечер до лагеря греков добрался на утлой лодчонке персидский дезертир. Это был знаменитый ныряльщик по имени Скиллиас из Скионы. Веками ныряльщики доставали со дна Эгейского моря губку, жемчуг, кораллы, ценности с утонувших судов. Поколениями совершенствовали они мастерство и развивали выносливость, чтобы подолгу работать на глубине сто и больше футов. Дело было семейное, хотя девушки после замужества нырять, как правило, переставали. Оберегаясь от опасностей, подстерегающих в подводном мире, ныряльщики натирались оливковым маслом и брали с собой ножи. Со временем глаза их краснели от кровоизлияния, тела скрючивались от ревматизма, но драгоценности, найденные, если повезет, на каком-нибудь затонувшем корабле, могли сделать семью богатой.
На военном флоте ныряльщиков использовали для разведки, подъема затонувших судов и тайных операций. Скиллиаса насильно заставили служить персам, когда Ксеркс появился в северной Греции, его родных краях; вскоре Скиллиас вместе с другими поднимал кое-какие персидские драгоценности с кораблей, не выдержавших шторма у магнезийского побережья. Увидев береговые огни своих сородичей-греков, он воспользовался случаем предупредить их о нависшей угрозе. Дело в том, что персы направили отряд кораблей вдоль северного побережья Эвбеи, вдоль берега, обращенного к морю, чтобы обойти греческие позиции с фланга. Такого маневра не предполагал никто. Между тем каким бы курсом этот отряд ни пошел — кружным путем к Артемисию, или вперед к Аттике, или к Сароникскому заливу, в любом случае конечный успех морской операции греков оказывался под угрозой.
Эврибад созвал совет военачальников, чтобы обсудить план действий. Большинство высказалось за то, чтобы остаться на берегу, и пусть противник сам обнаружит свои намерения. Фемистокл придерживался иной позиции. С его точки зрения, напротив, все свидетельствует в пользу решительных действий. Греки, пусть их немного, собраны в единый кулак. Персы же рассеяны по бухтам и помимо того ослаблены отсутствием соединения, огибающего в данный момент Эвбею. С полной убежденностью Фемистокл заявил остальным, что хотел бы посмотреть на персов в деле. Хороши ли рулевые и гребцы Ксеркса в том, что называется diekplous — в прорыве линии кораблей противника? Или в их окружении — periplous? А ведь это смертельно опасные маневры для греческих триер — борт и корма оказываются прямо перед вражескими таранами.
Численное преимущество персов, говорил Фемистокл, надо компенсировать продуманным подходом и мастерством. Вряд ли противнику удастся наладить взаимодействие своих кораблей. Далее, представляется весьма вероятным, что финикийцы, египтяне и остальные будут больше полагаться на моряков, нежели на рулевых. А это значит, что воюют они на старый манер, когда суда жмутся друг к другу, а люди с оружием в руках используют палубу в качестве поля боевых действий. Да, количественно персы превосходят греков в соотношении примерно три к одному, и в открытых водах, таких, например, как пролив у Артемисия, более крупный флот побеждает, просто окружая уступающего ему числом противника. Но Фемистокл задумал маневр, который, с его точки зрения, позволит грекам выбраться из трудного положения.
На следующий день греческие воины отдыхали до самого обеда. Когда же светового времени оставалось всего несколько часов, они погрузились на суда и поплыли на север, в сторону Афет. Обычно сражения на море происходили в утреннее время, когда ветер стихает и волнения нет. Так что атака в послеобеденное время застанет противника врасплох. К тому же, рассуждал Фемистокл, приближение темноты выгодно в любом случае, потому что даже если события обернутся неблагоприятным для греков образом, бой получится слишком коротким для того, чтобы персы могли одержать решающую победу.
Увидев приближающегося противника, персы решили, что греки, должно быть, сошли с ума. Связь между разбросанными бухтами и затонами Афет наладить было не просто, но даже при этом сотни судов Ксеркса довольно скоро вышли на перехват противника и, сблизившись с ним, принялись разворачиваться веером. Сделано это было довольно неумело, ибо каждый из кораблей шел со своей скоростью. Начальники порешительнее подгоняли свои команды, с тем чтобы столкнуться с врагом первыми и заслужить, таким образом, благодарность своего предводителя. Всем не терпелось взять в плен хоть одного афинянина.
Не успели два флота подойти друг к другу вплотную, как трубач на спартанском флагмане подал сигнал. Повинуясь ему, линия афинских триер выстроилась дугой. Теперь она походила на огромную выгнутую арку. Тем временем коринфяне на левом фланге повернули назад, избегая столкновения с приближающимися персами. Они направили свои устрашающие тараны на противника, кружащего вокруг них, как волки, собирающиеся наброситься на стадо овец. Препятствуя попыткам персов окружить (periplous) их флот, греки в конце концов выстроились в огромный замкнутый круг (kyklos), и корабли, находившиеся вначале по краям линии, теперь сомкнулись, обращаясь носом на юг. Кормовая часть триер вместе с рулевыми оказалась внутри круга, а носовая сторона ощетинилась таранами. Похоже на свернувшегося в кольцо дикобраза, выпустившего наружу все свои иглы.
Фемистокл рассчитывал на то, что оборонительное построение kyklos заставит противника слишком уверовать в свои силы. И когда персидский флот начал маневрировать вокруг греков, беззаботно подставляя борта противнику, Эврибад велел трубачу подать на сей раз знакомый сигнал к атаке. Услышав его, греческие гребцы вспенили веслами воду, и триеры рванулись вперед. Оказавшись за пределами защитного круга, каждый из рулевых искал в массе вражеских кораблей свою мишень, целя то ли в корпус, то ли в весельную банку. Персы не ожидали такого поворота событий. Греки поражали своими таранами борта, дробили весла, и один за другим вражеские корабли выходили из строя. Их несло к берегу, на палубе начиналась паника, и нападавшим оставалось только буксировать триеры к своему лагерю. В иных случаях греки взлетали на палубу вражеского судна, убивали либо захватывали в плен находившихся там воинов и объявляли корабль вместе со всей его командой военным трофеем.
Едва персы хоть немного пришли в себя от неожиданности и попытались организовать контратаку, как конец бою положила сгустившаяся тьма. Деморализованные моряки великой персидской армады расходились по своим убежищам. Вслед им течение несло останки кораблей, сломанные весла, тела погибших. Действия греков оказались настолько впечатляющими, что одна триера Ксеркса с острова Лемнос в Эгейском море перешла на сторону греков. В знак благодарности греки подарили триерарху участок земли на Саламине.
Подобно судьям музыкальных или спортивных состязаний, греческие военачальники голосованием решили отметить тех, кто внес наибольший вклад в победу. Афиняне получили коллективную награду за доблесть, а один из них (это был родич Фемистокла Ликомед) удостоился индивидуального приза — он стал первым триерархом, захватившим вражеское судно.
На следующий день греки увидели, что с запада к Артемисию приближается крупный отряд триер. Но это были не те персидские суда, о которых предупреждал их ныряльщик, а пятьдесят три афинских триеры, которые оставались в Аттике, когда они выходили в море. Встретили их с распростертыми объятиями и как подкрепление, и как носителей добрых вестей. В виду опасной береговой полосы, известной под наименованием «Эвбейская впадина», ураганный ветер разметал направляющийся на юг отряд вражеских кораблей. Как и предрекал Дельфийский оракул, ветры все еще остаются на стороне греков.
Во второй половине дня, как и накануне, они вышли в море. На сей раз пришлось иметь дело с отдельной группой кораблей флота Ксеркса, состоящей из ста судов, базирующихся в малазийской области Киликия. Копья и абордажные сабли пиратов из Киликии оказались слабым оружием против греческого тарана: триеры персов выходили из строя одна за другой. А поскольку мало кто из азиатов умел плавать, то гибель корабля означала гибель множества людей. Когда бой кончился, от киликийской флотилии остались практически одни воспоминания.
Персы, сосредоточившиеся в Афетах, прекрасно понимали, что заставляют своего царственного владыку ждать, но что им было предъявить в оправдание своей задержки? Наконец, на третий день, они решились-таки сами проявить инициативу и около полудня всеми силами двинулись к берегу Эвбеи. Моряки издавали боевой клич, размахивали вымпелами, всячески подбадривали друг друга. Мелкие амбиции первого дня сражения остались позади, и теперь флот персов представлял собой единую силу. Греки спокойно ждали начала атаки. Их замысел состоял в том, чтобы держаться как можно ближе к берегу, не давая противнику подойти с кормы.
Персы начали с обходного маневра. Их левый и правый фланги двинулись вперед двумя загибающимися зубьями, направленными на края короткой линии греческих кораблей, это было похоже на бычьи рога или полумесяц. В этот момент Эврибад дал сигнал к наступлению. Две силы столкнулись по всему фронту, и порядок персов рассыпался. В возникшем хаосе они приносили ущерб своим судам не меньший, чем греческим. И все же не отступали, а египетские части вроде даже начали брать верх. Суда теряли обе стороны, но в конечном итоге могучий флот Ксеркса в очередной раз потерпел поражение. Три последовавшие одна за другой стычки у Артемисия подтвердили, что Фемистокл верно истолковал пророчество Дельфийского оракула. Деревянная стена выстояла.
Персы отошли, оставив греков господствовать на море. Выполняя священный долг, они подняли на борт тела убитых товарищей и отбуксировали поврежденные суда к Артемисию. После третьего, самого тяжелого, дня битвы в ремонте нуждалась едва ли не половина греческих триер. Учитывая малочисленность своего флота, греки просто не могли себе позволить терять боевые единицы. И все же они выстояли, не дали врагу вытеснить себя с моря. Празднуя на берегу одержанную победу, все проголосовали за то, чтобы награда за доблесть вновь досталась афинянам. И индивидуальный приз тоже был вручен гражданину Афин, на сей раз высокородному Клинию. Его судно было построено не на общественные деньги, полученные от добычи серебра, но, как в старые пиратские времена, на собственные средства, и команде тоже платил сам Клиний.
Пока все ужинали, впередсмотрящие заметили быстро приближающееся с запада судно. Это была афинская галера из Фермопил. Едва она коснулась дна, как на берег выскочил Аброних. Сообщения от Леонида он не привез — царь был мертв. Два дня спартанцы вместе со своими союзниками из других городов Греции отражали накатывающиеся волны вражеских атак, а главные силы пелопоннесской армии все не подходили. А наутро третьего дня с холмов спустились гонцы с сообщением, что персы прорвали линию фронта.
Ночью местный проводник-грек, минуя Фермопилы, вывел измученных копьеносцев, которых обычно называли «бессмертными», на тропу, бегущую вдоль высокой горной гряды. Вскоре Леонид оказался меж двух огней. У спартанского царя было три возможности: бежать, сдаться, умереть. Ксеркс, конечно, был бы только рад, если бы противник пошел на переговоры, но Леонид, демонстрируя в эти последние часы своей жизни истинный героизм, решил, что будет драться до самой смерти. Вдохновленные мужеством царя, за ним последовали три сотни спартанцев и тысяча воинов из города Феспии. Основной же корпус своей армии Леонид повернул на юг и одновременно посадил на галеру Аброниха с его командой из Афин. Оставшись в тылу, Леонид с тысячью тремястами воинами должен был сдерживать наступление персов, давая возможность остальным оторваться. Хоть день, да они выстоят.
В последний раз царь выстроил своих гоплитов и повел их боевым строем в горы. Теперь ему самому предстояло защищаться от врага и с фронта и с тыла, поскольку «бессмертные» в этот самый момент у него за спиной с трудом спускались с горной гряды вниз, пробираясь к узкой дороге, ведущей от района боевых действий. Убедившись, что сдаваться греки не намерены, Ксеркс обрушился на них с такой яростью, что его собственные люди, оказавшиеся на фланге наступающей массы, попадали в море, и многие утонули. Греки сражались с отвагой обреченных. Когда закончились или сломались копья, они вступили в ближний бой, орудуя и мечами, и голыми руками. Они не капитулировали даже после того, как был сражен Леонид. В конечном итоге Ксерксу пришлось послать на поле боя легковооруженный отряд, который напустил на оставшихся в живых греков тучу стрел. Это решило дело. Дорога на юг оказалась открыта. Бессильные хоть чем-то помочь товарищам, афиняне во главе с Абронихом оставались на галере до последнего и, лишь убедившись, что все кончено, решили удалиться.
Полученные из Фермопил известия круто переменили ситуацию. Измученным морскими боями минувших трех дней, особенно последнего, грекам оставалось лишь немедленно оставить Артемисий. Потому что, если дожидаться рассвета, персы сядут им на хвост. Так что выходит, мудро они поступили, заранее отправив в Фермопилы афинскую галеру: это позволяет им выиграть у персов несколько часов. У Ксеркса там кораблей нет, а гонцам, чтобы по суше добраться с новостями до Афет, понадобится не меньше суток.
Фемистокл делал все от него зависящее, чтобы обеспечить благополучный отход и поднять дух товарищей. Он предложил сразу грузиться на суда, но одновременно подбросить в горящие по всему берегу костры побольше дров. Так они не погаснут всю ночь, быть может, это заставит персов думать, что греческий флот по-прежнему остается на месте. Фемистокл также поделился с соратниками новым планом, направленным на то, чтобы убедить греков с востока страны лишить Ксеркса своей поддержки на море. По дороге на юг он оставит на скалах письмена, взывающие к ионийцам присоединиться к своим братьям-грекам в общей борьбе за свободу.
Оставалось выбрать маршрут и место назначения. Будучи уверен, что армия Ксеркса, объединившись с флотом, в самое ближайшее время обрушится на Аттику, Фемистокл убедил Эврибада, что идти надо не в Коринф, а на Саламин. Тут, на острове, афинские старейшины давно учредили правительство в изгнании. Они снабдят флот всем необходимым, точно так же, как у Артемисия это сделали эвбейцы. А в хорошо защищенных водах Саламина греки смогут сдерживать напор армады Ксеркса до тех пор, пока погода не внесет зимой свои коррективы. В Фермопилах пали первые герои — мученики сопротивления. Дух Леонида и его людей уже чувствовался во всем греческом флоте, готовом перекрыть еще одну дорогу — на сей раз не горную, но морскую.
Ничто, однако, не могло скрыть того печального факта, что жертвы, принесенные у Артемисия, оказались напрасными. С каждым очередным гребком греки приближали армаду Ксеркса к сердцу родины. И никто из афинян не смог бы в этот горький час поверить, что придет день и поэт восславит Артемисий как место, «где афинян сыны заложили славный свободы оплот» (Пиндар).
При свете полной луны, прокладывавшей на воде блестящую серебряную дорогу, греческие триеры одна за другой отваливали от берега. Позади, на пустом берегу полыхали костры. Фемистокл шел впереди с отрядом самых быстроходных судов. За ним — коринфяне, далее — основные силы объединенного флота. Замыкали процессию афинские триеры. Через несколько часов авангард достиг крайней западной точки Эвбеи — мыса, стреловидно нацеленного на материковую часть Греции. В пятнадцати милях впереди, по ту сторону пролива, за отмелью, лежали Фермопилы.
В районе Горячих Ворот над отдаленным берегом поднималось какое-то нездешнее зарево. Это были огни персидского лагеря — победные фейерверки, сторожевые факелы, костры, на которых жарилось мясо, наконец, полыхающие огни жертвенников. Армия Ксеркса впервые попробовала вкус греческой крови и вот теперь отмечала это событие. Где-то там, посреди жутковатой пляски всех этих огней, покачивалась на пике отделенная от туловища голова Леонида — главный трофей Ксеркса. А в море, скрытая тьмой, проходя мимо сцены, на которой разыгрывался пир победителей, скользила призрачная цепочка кораблей. Она тянулась на юг, в сторону ночи.
Глава 5
Саламин (Конец лета 480 года до н. э.)
Раздался клич могучий: «Дети эллинов,
В бой, за свободу родины! Детей и жен
Освободите, и родных богов дома,
И прадедов могилы! Бой за всех идет!»
Эсхил. «Персы», пер. С. Апта
Час за часом персидские часовые вглядывались со стороны Афет в мерцающие в отдалении огни лагеря греков. Моряки и воины тем временем отдыхали. Где-то около полуночи тишину нарушил донесшийся с той стороны пролива плеск воды. Лунный свет упал на небольшую лодку, быстро приближающуюся к берегу. Из темноты донесся чей-то голос: сидевший за веслами грек заявил, что у него есть сообщение для персидских военачальников. Лодка причалила к берегу, разбудили спящего со всеми остальными переводчика, и гость заговорил.
По его словам, прибыл он из Гистиеи, городка на Эвбейском побережье, неподалеку от Артемисия. Некоторое время назад он то ли увидел, то ли услышал от кого-то, что мимо, направляясь на запад, идут греческие суда. Ему сразу стало понятно, что они возвращаются домой, бросая жителей города на произвол судьбы. И вот, после того как в темноте исчезла последняя триера, он собрал команду и поплыл сюда в надежде на награду или хотя бы на доброжелательное отношение к жителям Гистиеи. Если персы немедленно организуют погоню, то, догнав греков, можно будет нанести им удар с тыла и покончить с противником раз и навсегда.
История показалась персам несколько фантастической. Всего несколько часов назад они собственными глазами видели, как дерзкие греки возвращались к Артемисию, потрепанные после трехдневных стычек, но все еще сохраняющие боевой дух и потому опасные. И пылающие костры хорошо видны отсюда. Греки щедры на выдумку и хорошо известны своими фокусами: наверное, и эта история, с начала до конца, не более чем ловушка. Не иначе, их хотят то ли выманить из безопасных гаваней Афет, то ли истощить ночной погоней. Не зная еще ничего о прорыве Ксеркса под Фермопилами и боясь совершить промах, персидские военачальники взяли человека из Гистиеи под стражу и послали несколько судов на юг проверить, правду ли он сказал. Вернулись гонцы, когда небо на востоке уже светлело. Да, они нашли город опустевшим; единственный признак жизни — догорающие костры.
Хитрость Фемистокла раскрылась, но, по-видимому, было уже поздно стягивать разбросанные по бухтам и бухточкам корабли воедино и затевать погоню. Вместо того чтобы, как было велено царем, уничтожить греков всех до единого, вплоть до последнего сигнальщика-кострового, персидские военачальники дали ускользнуть, просочиться, как песку сквозь пальцы, целому флоту. Хуже того, недоверие к ночному гостю стоило им последней возможности одержать победу. Теперь на них обрушится гнев Ксеркса. Во что он выльется? В лучшем случае снимут с должности, но могут и казнить. Дабы показать, что не зря все же они провели здесь время, персы переправили флот на противоположный, северный, берег Эвбеи, взяли беззащитную Гистиею и выжгли прилегающие к ней земельные угодья. Разграбление города еще продолжалось, когда наконец-то сюда добрался царский гонец из Фермопил. Ксеркс приглашал своих военачальников осмотреть поле битвы, пусть собственными глазами увидят, что ожидает тех, кто противится воле Царя царей. Моряки с восторгом откликнулись на приглашение, снарядив для похода все лодки, что имелись под рукой: к сожалению, триеры использовать было нельзя, они бы просто застряли в илистых отмелях Фермопил. У Горячих Ворот о военных потерях персов судить было невозможно — на виду оставались только тела погибших в резне спартанцев и других греков. В центре залитой кровью сцены виднелась голова царя Леонида. К счастью, упоенный победой Ксеркс не обратил особого внимания на доклад о сомнительных действиях своего флота. На осмотр поля боя ушел целый день и еще больше времени на ожидание подходящего момента для нанесения очередного удара — на сей раз по Афинам.
Медлительность Ксеркса дала грекам возможность получить передышку. За те несколько драгоценных дней, что прошли между отплытием от Артемисия и появлением персов, Фемистоклу удалось осуществить практически полную эвакуацию жителей Аттики. Спартанец Эврибад разрешил афинским судам отделиться от основной части флота, на них-то люди и перебрались в Трезен и другие безопасные места. В конечном итоге из десятков тысяч лишь около пятисот упрямцев отказались уйти из своих домов.
Изначально, еще до событий в Артемисии, Фемистокл призывал сограждан оставить храмы Акрополя на попечение Афины и других богов и богинь. Наряду с немногочисленными бедняками, решившимися испытать судьбу, укрывшись за другой «деревянной стеной» — живой изгородью, Ксеркс обнаружит здесь только жриц и других служителей храма. Но после катастрофы в Фермопилах положение начало выглядеть иначе, и Фемистокл почел за благо найти надежное укрытие и для жриц, и для древней деревянной статуи богини. Предвидя сопротивление со стороны клерикалов-консерваторов, он убедил хранителя священной змеи Акрополя объявить, что змеи в ее убежище больше нет — знак того, что боги тоже покинули город и всем должно последовать их примеру. По окончании эвакуации афинские триеры вновь объединились с греческим флотом, закрепившимся на неприступных с виду позициях близ Саламина.
Этот изрезанный скалами остров, легендарная родина Аякса-героя, был завоеван афинянами более столетия назад в ходе грандиозного сражения, в котором участвовал флот, состоящий из рыболовецких судов и одной тридцативесельной галеры. Длинная водная полоса, отделяющая северный берег острова от материка, и образует пролив Саламин. Крупнейший порт находится между двумя естественными гаванями, на косе, глубоко врезающейся в пролив. Здесь, с самого начала эвакуации, афинские старейшины и устраивали собрания, обсуждая текущие дела и финансовые вопросы. Здесь же афинский флот будет ожидать появления персов. Теперь, после падения Фермопил и Артемисия, где проходила первая линия обороны, приходится выстраивать новую — в самом сердце Греции. Одним своим концом она упирается в Истм, где пелопоннесская армия возводит новую стену, которая должна остановить продвижение сухопутных сил Ксеркса. Другим — в пролив Саламин. Все, что лежит севернее этой линии, захвачено персами.
Большинству греков стратегический план Фемистокла не понравился. Они склонялись к тому, что флот следует перевести в Истм, где он будет прикрывать армию. А пролив представляется смертельной ловушкой для самих же греков. Но в глазах Фемистокла тот же самый пролив — это водное зеркало Фермопил, замкнутое пространство, где сама природа позаботилась о том, чтобы свести на нет количественное превосходство персов. Правда, в его рассуждениях было слабое место, ибо в одном критически важном отношении Саламин от Фермопил отличался. Царю Леониду не надо было выдумывать ничего особенного, чтобы заставить Ксеркса двинуться к Горячим Воротам — оттуда в Грецию ведет только один узкий проход. Иное дело здесь: никто персов входить в пролив не заставляет, более того, главный морской путь в южную Грецию лежит в стороне, в открытых водах Сароникского залива. Так что Фемистоклу придется каким-то образом заманивать противника.
В конце лета персидские орды достигли наконец Аттики, пройдя через ущелья горы Киферон и растекшись по опустевшим полям, как полноводная река. Они сразу же захватили жителей города, отказавшихся вопреки распоряжению Фемистокла уехать, и отправили их на далекий Самос как военнопленных. Афины перешли в руки Ксеркса, кроме Акрополя, где за живой оградой, ныне значительно обновленной, закрепился целый гарнизон. Уговоры сдаться со стороны подошедших к подножию Акрополя афинских изгнанников успеха не имели. Точно так же в ответ на град стрел с горящими наконечниками, которыми осыпали храм персидские лучники, его защитники покатили огромные булыжники, не дающие даже шага ступить вверх по склону. Природа сама забаррикадировала Акрополь отвесными голыми скалами, внутрь одной из которых поместила источник столь необходимой его защитникам пресной воды. Бессильный пока сломить их сопротивление, Ксеркс решил временно воздержаться от столкновений как с греческим флотом в Саламине, так и с греческой армией в Истме. Он разбил в Афинах царский шатер и приступил к осаде Акрополя.
Тем временем Фемистокл столкнулся у себя на Саламине с новой трудностью. Сражаясь — впервые в жизни — с врагами своего города, его рядовые граждане, двадцать тысяч фетов, испытывали острую нехватку денег. Новому, сильно разросшемуся флоту Фемистокла нужны были все граждане, не важно, богатые или бедные. Всадники и гоплиты были люди состоятельные, они и на войне сами могли о себе позаботиться. Но по прошествии почти месяца корабельной службы у бедняков иссякли их скудные сбережения. А у города не было резервов, чтобы хоть как-то поддержать их деньгами, и запасов продовольствия тоже не было.
И тут, в трудный момент, на выручку пришли богатые афиняне, заседавшие в ареопаге — совете мудрецов. Входил в него и Фемистокл, более того, он был, как и все прежние архонты, пожизненным членом. Откликаясь на нужды флота, ареопагиты выделили личные средства для поддержки моряков — по восемь серебряных драхм на человека. Кризиса удалось избежать, а ареопаг завоевал среди граждан репутацию совета доброй воли, которая удерживалась на протяжении жизни целого поколения.
Незадолго до дня осеннего равноденствия греки, перебравшиеся на Саламин, увидели столб черного дыма, поднимающийся где-то со стороны Афин. Натиск Ксеркса увенчался наконец успехом, и храмы Акрополя загорелись, как факелы. Это была месть за сожженные Сарды; клятва Дария — «Афины еще попомнят» — осуществилась. Сын сделал то, чего не смог сделать отец. За три месяца, что прошли с того момента, как Ксеркс пересек Геллеспонт и вошел в Европу, он умертвил царя Спарты, завоевал Афины и присоединил к своей империи всю северную и центральную Грецию. Европейский поход подходил к своему победоносному концу. Царские курьеры уже скакали в Сузы с добрыми вестями.
Примерно в то же самое время, как пал Акрополь, звездочеты-предсказатели увидели на востоке, прямо перед рассветом, звезду Арктур. Ее появление традиционно знаменовало окончание судоходного сезона в восточном Средиземноморье и на Эгейском море. Вскоре предстоит вытаскивать лодки и более крупные суда на берег и прикрывать их на зиму. Стоит Ксерксу упустить несколько оставшихся дней, и его флот надолго застрянет в Греции. Придется много месяцев подряд задаром кормить более ста тысяч моряков, которым совершенно нечего делать. Если его флот не в состоянии сокрушить греков одним ударом, лучше отправить армаду через Эгейское море назад и перезимовать в Азии. А к весне, глядишь, союз общегреческого сопротивления распадется сам собой.
Действительно, хотя Ксерксу неоткуда было знать об этом, единству греческого флота угрожал тяжелый конфликт. Чем дольше тянулись дни томительного ожидания, тем сильнее становилось скрытое недовольство Фемистокловым планом военной кампании. Греков угнетало положение, при котором приходится торчать на виду у скрытого от их глаз противника. Островерхий холм давал персидским наблюдателям отличную возможность отслеживать каждый шаг греков. Флот же Ксеркса, базирующийся в Фалероне, был скрыт от них верхушкой пирейского мыса, поднимающегося на восточной оконечности пролива.
Увидев поднимающийся от Акрополя столб дыма, греческие военачальники принялись уговаривать Эврибада, покуда не поздно, уйти из Саламина и вернуться в Истм. Спартанец созвал совет, на котором Фемистокл пылко возражал против этого шага. Военачальник из Коринфа сердито напомнил ему о традиции побивания палками того, кто на спортивных играх принимает старт слишком рано, не дождавшись сигнала. «Положим так, — возразил Фемистокл, — но стартующие слишком поздно не побеждают». Далее афинянин принялся взвешивать шансы на успех при отходе. В Истме любое морское сражение развернется в открытом море, где сразу скажется количественное превосходство персов: греков просто окружат и уничтожат. В Саламине в этом смысле надежнее. Основа греческого сопротивления, настаивал Фемистокл, это флот, им рисковать нельзя. А помимо того, напомнил он, разве не говорилось в пророчестве о Деревянной стене, что искать укрытие надо именно в Саламине?
Желая положить конец этой бурной перепалке, коринфянин заявил, что Фемистокла вообще нужно лишить слова на совете. Ведь теперь это человек без гражданства, просто беженец. Эта оскорбительная реплика заставила Фемистокла выразить в самых ясных словах свою веру в афинский флот. Он заявил коринфянину, которого звали Адеймантом, что пока у Афин имеется в распоряжении две сотни судов с полностью укомплектованными экипажами, они будут превосходить значением Коринф и любой иной греческий город. И если остальным угодно уйти из Саламина, афиняне вместе с семьями отправятся в своем плавучем городе на запад, в поисках нового дома, располагающегося вдали и от персов, и от пелопоннесцев. Столкнувшись с таким ультиматумом, союзники отступили и решили никуда не трогаться с места. Итак, в этом споре Фемистокл оказался победителем, но время поджимало. Каким образом, какой хитростью заставить Ксеркса принять бой на выгодных для греков условиях, то есть на узкой полосе пролива? И тут его осенило. Фемистокл поделился идеей в частном разговоре со спартанцем, командующим флотом, и с его согласия начал приводить ее в действие.
Среди его рабов был некий Сикинн, человек отважный и находчивый. Работал он главным образом педагогом, в чьи обязанности входило присматривать за домашними занятиями сыновей Фемистокла и водить их на уроки и с уроков. Вечером, сразу после разговора со спартанцем, Фемистокл посадил Сикинна в небольшую лодку и велел ему грести в Фалерон, кишевший сотнями триер, что Ксеркс привел в Аттику. Там на него сразу же обратили внимание персы, которым он и передал по поручению Фемистокла некое сообщение. Теперь будущее Афин, а возможно, и свободы всей Греции, зависело от того, насколько точно Фемистокл просчитал реакцию Ксеркса.
Сикинн представился тайным гонцом лидера афинян Фемистокла. Его сограждан собираются предать, и это заставляет его искать дружбы Царя царей. Уже ближайшей ночью, продолжал Сикинн, все греки, кроме афинян, собираются покинуть Саламин и отплыть в свои города. Но у царя еще есть возможность взять верх, для этого надо предотвратить исход. Союзники перессорились между собой. Кое-кто наверняка предпочел бы покориться Ксерксу. Стоит ему появиться вблизи Саламина, как афиняне и некоторые другие недовольные греки перейдут на его сторону. Конечно, это была откровенная ложь, но, как и любая хорошая выдумка, она содержала в себе элементы правды. Сикинн передал сообщение и, не давая персам возможности задать ему неудобные вопросы, поспешно вернулся в Саламин.
Судя по всему, история повторялась. Точно такое же сообщение, и тоже ночью, военачальники Ксеркса получили от греческого перебежчика у Артемисия. Тогда они не поверили, и грекам удалось ускользнуть. Теперь персы не собирались повторить прежней ошибки. Сообщение было передано Ксерксу, и тот велел быть готовым к броску на Саламин завтра вечером. Он также распорядился подготовить колесницу, которая доставит его на вершину холма, откуда открывается вид на остров. Царь был убежден, что в его присутствии персы у Артемисия будут выглядеть куда достойнее. Теперь он решил наблюдать за сражением лично.
Наутро случилось небольшое землетрясение, но, несмотря на дурной знак, Ксеркс дал сигнал к отплытию. Выстроившись в боевой порядок, персы ожидали появления противника у входа в пролив, но никого не было видно. В полдень армада вернулась в Фалерон, и экипажи сошли на берег пообедать. Иное дело, что в предвидении ночных событий гребцы оставили весла в уключинах. После заката экипажам было приказано вернуться на борт.
В беспрецедентных ночных действиях должен был принять участие весь персидский флот. Части триер предстояло направиться к южному побережью Саламина и заблокировать узкий проход в открытое море у западной оконечности острова, в районе Мегар. Основные же силы войдут в пролив Саламина. Ксеркс напутствовал персов теми же словами, что произнес, отправляя свой флот к Артемисию: уйти не должен ни один грек. Его люди были преисполнены уверенности в успехе. Рассаживаясь по местам, экипажи приветствовали друг друга воинственными возгласами.
План персов заключался в том, чтобы под покровом ночной темноты либо захватить греческие суда, либо повернуть их вспять, не давая выйти в открытое море. Рассвет застанет армаду занявшей позиции у северной оконечности пролива и готовой сокрушить все, что осталось от раздробленного, как можно ожидать, и утратившего боевой дух флота противника. Персы уверились благодаря хитрости Фемистокла, что афиняне перейдут на их сторону. Победа казалась предопределенной, как оно и должно быть, когда за действиями своих подданных наблюдает сам Царь царей.
Когда солнце свалилось на запад, освещать море осталась одна-единственная звездочка. Триеры медленно отвалили от берега и выстроились в линию, по три в ряд. Именно в таком порядке персы, памятующие о тройном превосходстве в силах, предполагали войти в пролив. В полночь над горой Гиметт медленно покачивалась луна, величественно сопутствуемая планетой Зевс, как греки именовали Юпитер. Полнолуние было уже четыре дня назад, но луна светила еще достаточно ярко, чтобы впередсмотрящие могли прокладывать курс триер. Шедшие впереди финикийские суда начали медленно поворачивать на запад. Они прошли мимо острова Пситталея и оказались у входа в пролив. Никто уже особенно не веселился. Наступила тишина. Следом за финикийцами в пролив втягивались остальные — нескончаемый поток судов, растянувшийся на целые мили вдоль побережья Аттики. Лишь приглушенный скрип весел и переливающиеся светом гребешки волн отмечали проход кораблей.
Последними, через много часов после авангарда, в пролив вошли триеры ионийских греков, второй по величине (после финикийцев) эскадры персидского флота. Большинство из них базировались в греческих городах Малой Азии либо на островах, рассыпанных вдоль азиатского побережья. Лишь семнадцать пришли из Киклады, архипелага скалистых островов в Эгейском море. От этого подразделения, образующего тыл могучей армады, с решимостью отчаяния откололся один экипаж. Он состоял из жителей Теноса, острова, расположенного к востоку от Аттики, которые не смогли смириться с подданством персидскому царю. В этот судьбоносный час они тайно сговорились бросить Ксеркса и перейти на сторону греков. Соотношение сил им было известно, как известно было и то, чего ожидают персы от завтрашнего дня. И все равно рулевой принялся табанить, мягко меняя курс и все больше отставая от ровно идущей вперед эскадры. Одинокая триера взяла курс на огни греческого лагеря, находящегося на Саламине, где несколько часов спустя наступит торжество чести и свободы.
Под исход ночи транспортные суда переправили на остров Пситталею четыреста отборных персидских воинов, ударный кулак всей армии. Афиняне почитали это место священным островом великого Пана, бога лесов и рощ, покровителя пастухов, нагоняющего «панический» страх на всех, кто осмелится нарушить его покой. Для персов же это была всего лишь стратегически выгодная позиция для размещения армейского резерва. Если развернется сражение, эти воины окажут поддержку своим товарищам, которые по той или другой причине попадут на этот остров, а вместе с тем добьют греков, спасшихся с затонувших кораблей.
Передовые финикийские триеры уже достигли того места, где пролив сворачивает на север, к Элевсину. Занимая позиции, как и прежде, по три в ряд, суда разворачивались и становились носом ко все еще невидимому в темноте берегу Саламина. Таким образом, бесконечно на вид растянувшаяся линия свернулась в четкий боевой порядок, лицом к югу. Тыловые суда должны были, по замыслу, страховать авангард, предотвращая одновременно вражеский diekplous. Триеры могут маневрировать в ночное время, но атаковать не способны. Впередсмотрящим и рулевым необходим свет для того, чтобы управляться с таранными орудиями и отличать своих от чужих.
В ту ночь на кораблях царской армады все бодрствовали и были начеку — ни один грек не должен проскочить с Саламина. Но время шло, а никакого движения не наблюдалось, разве что собственные корабли покачивались на волнах. Много часов персы гребли без устали, чтобы добраться до места, но, и заняв боевые позиции, настоящего отдохновения не обрели, в триерах было слишком тесно, чтобы размять натруженные конечности.
Незадолго до рассвета, еще в темноте, Ксеркс сел в колесницу и направился на верхушку холма, расположенного прямо напротив Саламина. Слуги раскинули там царский шатер. С этой естественной возвышенности и остров, и пролив открывались взгляду, как театральная сцена, на которой вот-вот должен начаться спектакль. Царя окружали придворные, писари готовы были в любой момент приступить к работе, фиксируя события дня. Ничуть не сомневаясь в исходе сражения, царь взял их с собой, чтобы те занесли в скрижали имена военачальников, особо отличившихся в разгроме греческого флота.
Что же касается греков, расположившихся на противоположной стороне пролива, их гребцы и воины отдыхали на берегу. Военачальникам было не до сна. Фемистокл все еще не имел данных о миссии Сикинна, увенчалась ли она успехом или провалилась. О том, что персы, возможно, войдут в пролив, знал Эврибад и другие высшие чины, от рядовых это держалось в секрете. Подтверждение пришло с неожиданной стороны. Посреди ночи к острову подошел на лодке Аристид (десятилетний срок остракизма ввиду чрезвычайных обстоятельств был сокращен); с Эгины он привез с собой местных идолов. Направляясь к Саламину, он заметил при лунном свете персидские суда, более того — у входа в пролив его едва не перехватили дозорные. Аристид прежде всего отвел Фемистокла в сторону и сообщил ему об увиденном. Затем довел те же сведения до всех членов совета. А вскоре подошла и триера с Теноса с сообщением о том, что греки окружены. Члены экипажа подтвердили, что персы не сомневаются в победе.
Поблагодарив вновь прибывших и укрепив их триерой союзные силы, греческие лидеры принялись поспешно составлять план сражения. Было решено, как и на третий день у Артемисия, расположить суда в одну линию прямо вдоль побережья. Греческим триерархам и рулевым будет указано поддерживать четкий боевой порядок, пока в персидском строю не образуются разрывы. И вот тогда-то они пустят в ход свои тараны, которые нанесут противнику максимальный урон. Ну а дальше — на то воля богов. Все зависящее от людей греки благодаря Фемистоклу сделали.
Самого же его ждало еще одно, последнее, жгучее разочарование. По приказу Эврибада почетное место на правом фланге было на сей раз предоставлено непримиримым врагам афинян эгинцам вместе с моряками со Спарты во главе с флагманской триерой. Из сообщения теносцев следовало, что правому крылу греков будут противостоять ионийцы, расположившиеся на восточной оконечности боевой линии, на ближайшем расстоянии от Пирея и устья пролива. Афиняне займут позиции слева, составляя, по существу, всю западную половину боевого порядка греков. Им предстоит в основном столкнуться с финикийцами. Утвердив план сражения, военачальники разошлись по своим частям.
В предрассветных сумерках воины собрались на берегу, вокруг своих начальников, чтобы выслушать по традиции напутственные речи, предшествующие любому сражению. Фемистокл обратился к афинским триерархам и морякам, их было почти две тысячи. То был девятнадцатый день месяца боэдромиона (сентября) — одна из самых важных дат в афинском календаре. Если Ксеркс не сгонит их с родной земли, афиняне проделают четырнадцатимильное паломничество из Афин в Элевсин, центр культа Деметры. Жертвоприношения и мистерии позволят собрать богатый урожай с давних посевов; сами же паломники возродятся духом. Говорить об этих мистериях было не принято и даже незаконно, так что Фемистокл просто призвал своих сограждан-афинян задуматься о том лучшем, что может быть дано человеческой природой и судьбой, и о худшем. И еще призвал взять в этот день судьбу в свои руки и сделать выбор в пользу лучшего. И наконец, предложил принести жертвы во имя победы, после чего все разошлись по своим судам.
Триеры уже были спущены на воду, только корма оставалась на мели. Экипажи поднялись на борт, каждый пробирался к своей банке. Гребцов нижних ярусов словно обволакивала ночная мгла. Да и верхний ярус, стоило закрыть рамы боковыми щитами из плотных шкур, исчез из вида. Не остыв еще после речи Фемистокла, триерархи прошли на переднюю палубу, где располагались тараны. Матросы подняли якоря, перебросили через борт веревочные лестницы, гребцы опустили весла в воду, и триеры медленно двинулись вдоль берега.
Персов пока видно не было, как, впрочем, и те не видели греков. Иное дело, что гребцы, сидя спиной к врагу, в любом случае не ведают о происходящем, разве что их судно идет ко дну. По мере продвижения триер к выходу из бухты звезды постепенно бледнели, хотя сам пролив все еще оставался в тени. Но вскоре рассветет, и триеры, рассыпаясь в стороны, займут свое место в боевом строю. А пока кое-кто из моряков запел военный гимн. Это был старинный пеан, неизменно предшествующий сражению: «Иэ пеан! Иэ пеан! Приветствуем тебя, бог-целитель Аполлон!» Если грекам повезет и они каким-то чудом выиграют это сражение, пеан повторится в его финале. Песнь подхватывали всё новые экипажи, вот она уже стала эхом отражаться от склонов холмов, и весь пролив наполнился торжествующими звуками.
В какой-то момент горнист на флагманском корабле вскинул блестящий раструб и повернулся в сторону далеко отсюда расположившихся афинян. Прижимая мундштук к губам, он ждал команды Эврибада, который, в свою очередь, ожидал рассвета. Наконец небо на востоке порозовело, и впередсмотрящим стал виден скалистый берег. Глубокий вздох — команда «вперед!» — звук горна, и греческие триеры рванулись вперед. На большой скорости шли они вдоль побережья Саламина. Вода вспенивалась барашками под лопастями весел. Только тут персы впервые ясно увидели противника. И это было вовсе не то случайное сборище, какое они ожидали встретить. Тем не менее адмиралы Ксеркса не дрогнули ни на секунду. Каждый хотел блеснуть в глазах наблюдавшего за ними царя. По сигналу трубы они тоже бросились вперед. Корабли передовой линии постепенно приближались к широкой полосе спокойной воды, все еще разделяющей два флота.
Не давая персам подойти вплотную, греки резко остановились и направили тараны на врага. Зазвучали отрывистые команды табанить — триеры развернулись носом к скалистому берегу острова. Рулевые по всему фронту выравнивали ряд, по возможности оставляя за кормой как можно больше свободного пространства. Далеко за персидскими кораблями греки видели Ксеркса, восседающего на верхушке холма.
Атака сломала ровные ряды персидской армады. Линия искривилась, блестящие бронзовые тараны торчали, словно зубья пилы. Заметив, что один финикийский корабль оказался в стороне от остальных, афинский триерарх по имени Амейний скомандовал начало атаки — первая схватка морского сражения. Его гребцы погрузили весла в воду, и триера в одиночку понеслась на противника. В последний момент рулевой сманеврировал так, чтобы подойти к финикийцу сбоку. Удар тарана оказался настолько силен, что разнес в щепы корпус вражеского корабля и оторвал всю кормовую часть. Пострадала и триера Амейния. Сомкнув ряды, афиняне бросились к нему на выручку, и бой разгорелся по всему фронту. То же самое происходило и на правом фланге греков, где начало сражению положило столкновение эгинской триеры с ионийским судном.
С того места, где восседал Ксеркс, казалось, что внизу, на море, где друг другу противостояли сотни кораблей, извивается какая-то огромная змея. Персы все еще никак не могут оправиться от первого удара, и самые быстроходные триеры противника уже обходили их с тыла. Завязались одиночные бои. Зажатые в узкой полосе воды, суда Ксеркса наносили друг другу ущерб не меньший, чем грекам. Разлетались на куски банки, гребцов сносило в море. Более того, случалось, персы даже наносили таранные удары по своим, что приводило к еще большей сумятице в их действиях. Командиры кораблей двух тыловых линий боялись, что, если отступить, царь обвинит их в трусости, и, вместо того чтобы держаться друг от друга на некотором расстоянии для возможности маневра, сблизились и пошли вперед. Озабоченные собственной репутацией, они даже не подумали, какие последствия может иметь такое продвижение для передовой линии, корабли которой оказались под ударом греческих таранов. Израненные, с поврежденными бортами, персы пытались, избегая полного разгрома, отойти, но безуспешно, им не хватало места, а противник поджидал их на каждом шагу. Разрывы в линии персидских кораблей увеличивались, и греки бросались в каждую новую щель.
А вот тонкая линия греческих триер, упругая, подвижная, сохраняла все это время цельность. И отражая атаки персов, и сами переходя в наступление, греческие моряки, словно гоплиты, образующие прикрытую щитами фалангу, выдерживали строй, не давая себя обойти ни с одной стороны. Вообще-то ключевую роль всегда играет мастерство рулевого, но когда триера стоит на месте, оно отходит на второй план, а главным становится умение гребцов мгновенно реагировать на команды, направляя судно в ту или другую сторону. Крутой поворот в тесном пространстве требовал от матросов одного борта грести сильнее, чем их товарищи на противоположной стороне, а то и грести одним бортом. И вот тут греческие экипажи, владеющие длинным мощным гребком, имели преимущество. Ближе к полудню, когда солнце поднялось достаточно высоко, чтобы в лучах его были видны тесно жмущиеся друг к другу суда, наблюдатели заметили с берега некоторые изменения в конфигурации обоих флотов. Начались они на левом фланге греков, где Фемистокл командовал афинянами. С самого раннего утра там узкой струйкой тянулись поврежденные персидские суда, направляющиеся в сторону восточного выхода из пролива, чтобы найти укрытие в Фалероне. Соответственно этому ослабевало давление, которое оказывали на афинян финикийцы. И в конце концов наступил момент, когда расположившиеся в самой удаленной точке левого фланга афинские триеры получили возможность отвалить от берега и выйти на открытое пространство. Таким образом, они обошли финикийцев с запада и погнали их к центру персидского фронта — к тому, что от него осталось. Это был поворотный пункт всего сражения.
Наконец-то ровная линия греческих кораблей распалась. Одна за другой афинские триеры пускались в погоню за персами, союзники за ними. Они уверенно прокладывали себе путь в месиве судов — охотники, жаждущие добычи. Персы же, измученные недосыпом и многочасовой греблей, шли, напротив, вяло и медленно. Иным удавалось уйти от афинян, но лишь затем, чтобы столкнуться с эгинцами, курсировавшими в районе у входа в пролив. Сражение превратилось в бегство, даже уцелевшие персидские корабли гребли прочь, стремясь обогнуть с обеих сторон Пситталею, — так стадо антилоп бежит от львов. Греки делали все от них зависящее, тем не менее большинству персидских кораблей удалось уйти от погони.
В открытом море сражение приняло иной характер. Оно распалось на множество столкновений один на один, вроде того, как у Гомера греческие герои на равнинах Трои сражаются с героями троянскими. И тут как раз для греков наступил час самой большой опасности. Единая линия флота распалась, и каждый стал сам за себя. В открытом море даже успешная таранная атака не уберегает нападающего от ответного удара со стороны проходящего мимо противника. Вот тут-то, в ходе этих поединков, нашлась работа для писцов Ксеркса. И для какого-нибудь храбреца-начальника тоже открывались самые широкие возможности. Отличились два ионийских триерарха с острова Самос — они захватили греческие суда. К сонму героев была причислена и царица Геликарнаса Артемисия, потопившая один из союзнических кораблей. Узнав ее триеру по эмблемам, кто-то из свиты Ксеркса обратил на нее внимание царя, и тот воскликнул: «Мужчины у меня превратились в женщин, а женщины стали мужчинами!»
Если бы Ксеркс знал, как все было на самом деле, почестей Артемисии не досталось бы, хотя она и впрямь совершила подвиг. За ее кораблем пустилась в погоню афинская триера. Деться царице было некуда — впереди кипели бои. Ее преследователем оказался тот самый Амейний, что нынче утром потопил первый персидский корабль. Знай он, что гонится именно за кораблем царицы Артемисии, он наверняка удвоил бы усилия, потому что афиняне уже давно назначили премию за ее голову. Увидев неприятеля в непосредственной близости, Артемисия решилась на отчаянный шаг. Единственный путь к бегству отрезал корабль, оказавшийся прямо перед носом ее триеры. Это был союзнический, калиндийский, корабль, и плыл на нем сам царь калиндян Дамасифим, подданный Ксеркса и давний личный враг Артемисии. Ни секунды не колеблясь, она приказала гребцам налечь на весла и врезалась в калиндянина с такой силой, что и корабль, и вся его команда пошли ко дну, так что не осталось ни единого человека, кто мог бы рассказать Ксерксу, что же произошло на самом деле. Так что царице сопутствовала двойная удача: во-первых, она расправилась с недругом, а во-вторых, Амейний решил, что это персидское судно перешло на сторону греков, и спокойно позволил ему уйти.
Во второй половине дня, когда персидский флот оказался полностью рассеян, афиняне соединились с эгинцами, хоть те и другие начинали сражение на противоположных флангах. Им пришлось совместно участвовать в одном ярком эпизоде. Наблюдая сверху за разворачивающимися на море событиями, Ксеркс увидел, как одна из его галер, греческая триера с острова Самофракия, таранит афинский корабль. Как это нередко бывает, таранное орудие, врезавшись в деревянную бортовую обшивку неприятельского судна, застряло в ней. Воспользовавшись этим, проходящий мимо эгинец, в свою очередь, нанес таранный удар беспомощному самофракийцу, и все трое сплелись воедино. Зажатые между тяжеловооруженными судами из Афин и Эгины, островитяне, казалось, были обречены. Но к радости Ксеркса, на фордек эгинского корабля полетел град легких снарядов: это самофракийцы, перескочив через борт, с такой яростью принялись забрасывать противника копьями, что эгинцы вынуждены были покинуть корабль. Объявив его военным трофеем, победоносные островитяне продолжили путь в поисках дальнейших приключений.
Примерно в это же самое время несколько глубоко подавленных финикийских военачальников поднялись на наблюдательный пункт Ксеркса. Все они потеряли свои суда и винили в своих злоключениях вероломных ионийцев и других греков с востока, изменивших, по их словам, делу персов. По несчастному (для них) стечению обстоятельств выступили они со своими обвинениями как раз в тот момент, когда самофракийские греки пустили ко дну один неприятельский корабль и захватили в плен другой. Разъяренный этими неправедными упреками, Ксеркс сделал из финикийцев козлов отпущения и велел всех их обезглавить.
Фемистокл был рядом, когда одна эгинская триера захватила в плен финикийский корабль из Сидона. На борту его эгинцы обнаружили соотечественника. Это был воин, которого финикийцы захватили в плен еще в сражении с греческими разведывательными судами у острова Скиатос. Для эгинцев освобождение земляка стало важнейшим моментом всего сражения. Заметив неподалеку Фемистокла, командир судна окликнул его, желая знать, по-прежнему ли он считает эгинцев друзьями персов.
Греческие моряки, размахивая мечами и копьями, брали персидские суда на абордаж или просто сбрасывали неприятелей в море, и в какой-то момент пролив стал походить на место массовой резни. Среди погибших был брат царя и один из четырех адмиралов персидского флота Ариарамнес. Большинство персов просто утонуло вместе со своими кораблями, поглощенными морской пучиной. У греков же потери были невелики. Все они отлично плавали и легко сумели добраться до берега. Погибали даже те персы, которым удалось зацепиться за обломки разнесенных в щепы судов: греки рыскали по поверхности вод, подобно рыбакам, окружающим косяки тунца, и добивали выживших оружием или просто веслами. Повсюду плавали подбитые и перевернувшиеся вверх дном триеры, скалы и рифы были усеяны телами.
Едва последние персидские корабли были изгнаны из пролива, греки переключили внимание на силы, сосредоточившиеся на островке Пситталея. Персидский флот и так был изрядно потрепан, и начальникам не хотелось рисковать его остатками, подбирая этих людей. В результате четыреста отборных бойцов армии Ксеркса оказались в ловушке, и греки собирались воспользоваться удобным случаем и отомстить за фермопильскую резню. Ведомые Аристидом, они высадились на остров и обрушили на персов град стрел. К лучникам присоединились гребцы, чьим оружием были камни. Прижав легковооруженных персов к горному кряжу, рассекающему остров надвое, гоплиты Аристида перебили их всех до единого. Сцену освещали золотистые лучи закатного солнца: в ясном вечернем свете все было видно как на ладони. Трагедия Саламина достигла своей кульминации, для персидского царя это был горький финал. Он в отчаянии разодрал на себе одежду, сел в колесницу и уехал.
План Фемистокла оправдал себя. Быстроходные и маневренные триеры греческого флота вкупе с теснотой Саламинского пролива стали двумя ключевыми факторами, обеспечившими грекам победу. Под конец сражения западный ветер понес то, что осталось от кораблей противника, мимо Пситталеи, но греки не решились последовать за ними в открытое море. Основные силы персидского флота все еще удерживали Фалерон, да и численное преимущество оставалось на его стороне. Точно так же, если не считать незначительных потерь на Пситталее, полную боевую готовность сохраняла сухопутная армия Ксеркса. Вечером греки отбуксировали кое-какие поддающиеся восстановлению останки кораблей на берег. Здесь же они развели погребальные костры и сожгли тела павших в тот день товарищей. Но траурные церемонии, как и неопределенность ближайшего будущего, не мешали испытывать восторг победы. Принеся благодарственные жертвы Зевсу, греки отметили свой триумф воинственными песнопениями и танцами.
Ближайшие два-три дня флот пребывал в напряженном ожидании очередного шага противника. Персы не отказались от своих замыслов после первого поражения при Артемисии, так что и сейчас не было никаких оснований предполагать, что Саламин заставит их отступить. Правда, греки не знали, что на следующий день после сражения финикийцы, составлявшие хребет армады, по сути дела, разбежались по домам. А вскоре после того, пользуясь темнотой, Фалерон покинули основные силы персидского флота, держа курс отчасти в район Геллеспонта, а отчасти в порты Малой Азии и на отдаленные острова. Ксеркс посадил некоторых из своих незаконных сыновей на корабль и отправил в сопровождении Артемисии назад в Азию. Сам же, вместе с частью армии, отступил сушей. Но большинство осталось на месте под командой Мардония, которому было предписано следующей весной завершить завоевание Греции.
Когда на Саламине стало известно, что персидские корабли отплыли домой, греки немедленно бросились в погоню. Они вырвались из залива, столь долго их не отпускавшего, и пошли мимо опустевшего берега Фалеронского залива на юг, вдоль Аттики, остановившись лишь, когда впереди показался мыс Суний. На нем одиноко лежал в руинах храм Посейдона, который персы разрушили так же беспощадно, как и Акрополь. А противника и след простыл. Ночь застала греков невдалеке от острова Андрос.
Фемистокл настаивал на том, чтобы идти к Геллеспонту и перерезать понтонные мосты. Но верх взял Эврибад, выразивший мнение большинства пелопоннесцев: чем скорее Ксеркс уберется из Европы, тем лучше, и не надо предпринимать ничего, что может этому помешать. Позиция Эврибада была неожиданно подтверждена верховной волей. В тот самый момент, когда спартанский военачальник Клеомброт, брат павшего царя Леонида, приносил благодарственную жертву в честь победы, наступило солнечное затмение. Это было истолковано как знак того, что никуда идти не надо. Поначалу Клеомброт и другие спартанцы поддерживали план Фемистокла, но теперь и они отказались от преследования Ксеркса.
Давно уж было пора грекам отпраздновать славную победу на море. Среди трофеев оказались три совершенно не поврежденные финикийские триеры. Одну из них втащили наверх, к останкам храма Посейдона. Другую отправили в Истм и освятили в тамошнем храме Посейдона. Третья осталась на Саламине и была принесена в жертву Аяксу-герою. Остатки добычи морских сражений при Саламине и Артемисии были поделены между городами; правда, предварительно с каждого вражеского тарана, как и со всего оружия, была взята десятина. Эта бронза пошла на отливку статуи Аполлона высотой в пятнадцать футов, которая была затем установлена в святилище Дельфийского оракула. Если бы не пророчество о Деревянной стене, Фемистокл, вполне возможно, так и не убедил бы афинян принять морское сражение с персами. Перед отплытием в Истм военачальники объединенного флота устроили голосование: кто заслужил наибольших почестей за победу над персами. Победителей должно было быть двое. Дело сочли столь важным, что жребий бросали на алтаре Посейдона. Каждый счел, что первый приз должен достаться ему, так что победителя голосование не выявило. Но когда стали подсчитывать голоса по второму претенденту, выяснилось, что большинство выбрало Фемистокла. Совершив этот последний ритуал, единые в своей разъединенности, греки поднялись на борт и отправились по домам.
Фемистокл пошел с Эврибадом в Спарту. Здесь он удостоился почестей за союзническую верность и вклад в общую победу, архитектором которой по всеобщему признанию стал именно он. За мудрость и хитроумие спартанцы увенчали его короной из диких олив. Они также приставили к нему почетную стражу из трехсот воинов, уравняв тем самым в правах с Леонидом. И еще, в качестве материального выражения своей признательности, преподнесли ему, известному любителю лошадей, лучшую в Спарте колесницу.
Пока Фемистокла чествовали в Спарте, его сограждане-афиняне с облегчением возвращались на родину. Кое-кто поднялся на вершину холма, откуда Ксеркс наблюдал за морским сражением, и обнаружил там позолоченную скамеечку для ног, на которую Царь царей ступил, садясь в колесницу. Наверное, в спешке его слуги просто забыли про нее. Эта ценнейшая реликвия — как же, сам царь касался этой вещи — была отнесена в сожженный дотла, разоренный Акрополь и принесена в жертву Афине. Афиняне и сами отпраздновали победу песнями и танцами. Тон последним задавал красивый и одаренный юноша по имени Софокл, которому в то время сравнялось шестнадцать лет. Великий поэт Симонид написал эпитафию в честь павших в бою, а потом сочинил два одических стихотворения — соответственно в честь победы при Артемисии и Саламине. Вполне возможно, они исполнялись во время освящения нового храма бога северного ветра Борея, до того пребывавшего в тени, но заслужившего признательность афинян за его разящие налеты на корабли персидского царя.
Наступила осень — сезон холодных дождей и порывистых ветров. На смену тяжким испытаниям пришел мир, и афиняне вернулись на свои любимые поля. Приближалась посевная. С неба, затянутого облаками, доносился крик журавлей, летящих на запад, к озерам Африки. Скоро и загадочные сестры, все семеро Плеяд, исчезнут с вечернего неба, и зима положит конец посевам. Пока же по всей Аттике крестьяне выходили на поля, запрягали быков — словом, начинали очередной трудовой цикл. Мозолистые ладони, привыкшие за последнее время к веслу триеры, лежали теперь на ручках плуга.
Семена, брошенные в землю той осенью, прорастут плодами в новом мире. На крохотный отрезок времени, чуть больше месяца, граждане Афин покинули землю своих предков для того, чтобы все до единого сплотиться в деревянном пристанище — на своих только что построенных триерах. Нигде они не были в большей степени городом, чем в этом не-городе. Никогда они не представляли еще столь грозную силу, как ныне, когда, отложив в сторону щит и меч, забыв о сословных различиях и политических симпатиях, они объединились под общим знаменем, имя которому — флот. Они поставили на карту все, но риск их стократно оправдался. А главное, они осуществили мечту Фемистокла. Вдохновленные явившимся ему образом, афиняне подняли свой городок до уровня самых могучих городов мира. И в тех Афинах, что выросли на месте скудных полей и полуразрушенных стен, из поколения в поколение будет гореть дух этих людей.
Часть 2 Демократия
Наша конституция называется демократией, потому что власть принадлежит не меньшинству, а всему народу. Когда речь идет о частном споре, все равны перед законом; когда речь идет о том, кому должно занять то или иное общественное положение, в расчет идет не принадлежность сословию, но реальные достоинства личности.
Перикл. Из обращения к афинянам.
Глава 6
Своя команда (479–463 годы до н. э.)
Мореплавание, как и все остальное, это искусство. Это не то, что можно подобрать и чем заняться в свободное время. На самом деле оно не оставляет свободного времени ни для чего иного.
Фукидид
После победы при Саламине Фемистоклу, как единственному лидеру афинян, был брошен вызов со стороны двух амбициозных соперников. Когда над родиной нависла угроза, оба, преданные ранее остракизму, были призваны к служению, а когда весной начался новый этап войны, народное собрание назначило Аристида командующим сухопутной армией, а Ксантиппа флотом. Фемистокла обошли. Его политические противники представляли собой сплоченную силу, да и сам он раздражал людей своим тщеславием, корыстолюбием и симпатиями к спартанцам. В будущем герой Саламина посвятит себя внутренним делам Афин, войнами за рубежом займутся другие. А эту войну ни в коем случае нельзя было считать законченной. Персы славились своим упорством, даже самые тяжелые поражения не останавливали их. Предвидя новое появление азиатской армады, спартанцы объявили, что греческий флот сосредоточится в Эгине под командой царя Спарты Леотихида. Это решение стало очередным ударом по престижу Афин. Впрочем, в любом случае афиняне уже не могли поставить объединенному флоту прежнего количества триер. Восемь тысяч граждан из сословия гоплитов во главе с Аристидом выступят против оставшихся в Греции частей армии Ксеркса, что само по себе значительно уменьшает число гребцов. Словом, Ксантипп пришел в Эгину всего со 140 триерами. Тем не менее в количественном отношении они по-прежнему составляли костяк греческого флота.
Миновало лето, а персов все не было видно. Греки так и пребывали бы в Эгине неизвестно сколько времени, если бы с острова Хиос не пришел корабль с просьбой о помощи. Хиосцы по-прежнему оставались подданными Ксеркса, и их тайный бросок в Грецию был сопряжен с большим риском. Города и острова Ионии, уверяли они Леотихида, жаждут свободы. Появление 250 судов в восточной части Эгейского моря станет искрой, от которой загорится пожар восстания. Царь Спарты неохотно послал эскадру на Делос, но дальше идти отказался. Азиатский берег находился всего в ста пятидесяти милях к востоку, но спартанцам — народу сухопутному это расстояние казалось «таким же далеким, как Геркулесовы Столпы».
На Делосе от ионийцев с Самоса поступило новое сообщение. В нем говорилось, что в настоящий момент туда прибыл и бросил якорь весь персидский флот — награда за боевые действия. Возможность сокрушить морскую силу персов одним ударом была слишком соблазнительной. Леотихид дал приказ к выступлению. Увидев приближающихся греков, персидские адмиралы, не оправившиеся еще от поражения при Саламине, переместились в более надежные гавани Малой Азии. Афиняне же вместе с союзниками загрузились на Самосе сходнями и всем остальным, необходимым для абордажа, и двинулись на восток в надежде настичь противника. Искать его долго не пришлось.
По прошествии нескольких часов непрерывной гребли впередсмотрящие заметили у подножия скал, образующих гору Микале, скопление судов. Одного взгляда оказалось достаточно, чтобы грекам стало ясно: сегодня морского сражения не будет. Персы вытащили все свои корабли на берег и соорудили вокруг них нечто вроде эллинга из камней, бревен и заостренных столбов. Но слишком уж далеко зашли греки, чтобы отступить без боя. Флагманский корабль Леотихида бросил якорь поодаль от персидского укрытия, и царь немедленно отправил гонца к ионийцам, все еще остающимся под пятой Ксеркса, с призывом встать в ряды борцов за свободу.
Греки подошли вплотную к берегу и начали высадку. На каждой триере было примерно по десять воинов, так что в целом собиралась армия, состоящая не менее чем из двух тысяч гоплитов. Выстроившись в традиционную, по восемь в ряд, фалангу, они заняли фронт длиной примерно в триста ярдов — слишком много, чтобы уместиться между морем и горой. Честь требовала от спартанцев занять место на правом фланге, хотя тут они были полностью отрезаны от берега, упираясь в скалистое подножие горы. В центре, на плоской поверхности, расположились воины пелопоннесского союза — Коринфа, Сикиона, Трезена, а афиняне во главе с Аристидом образовали левое крыло, на кромке моря. Их дух укрепляло присутствие спортсмена-чемпиона Гермолика, общенациональной знаменитости. Он был многократно увенчан лавровыми венками как победитель Панэллинских игр по pankration (название ныне перекочевало в смешанные единоборства). Находиться рядом с таким героем из мира спорта почти то же, что пребывать в свите божественного героя.
Лишь во второй половине дня Леотихид подал сигнал к наступлению. Так началось удивительное морское сражение, когда оба противоборствующих флота находятся на берегу, а греческие гребцы наблюдают за происходящим словно с трибуны стадиона. Стараясь удержать греческие фаланги как можно дальше от их кораблей, персы вышли из укрытия и расположили своих лучников и легковооруженных воинов за целым частоколом из сплетенных, тесно прилегающих один к другому щитов. По мере продвижения афинян спартанцы на правом фланге постепенно отсекались от общего фронта, все глубже втягиваясь в ущелье. Вскоре они вообще пропали из вида. Тем временем передовые части греков оказались в зоне досягаемости персидских лучников. Не уступая боевым патриотическим духом Фемистоклу, Ксантипп решил продолжать наступление — со спартанцами или без них. Передав по линии фронта: «делай, как я», он возглавил атаку, в результате которой стена из щитов была сметена, и греки оказались в непосредственной близости от импровизированного эллинга. Поначалу персы пытались сопротивляться, но слабость защитных доспехов ставила их в рукопашном бою в заведомо невыгодное положение. Поломав строй, они повернулись и скрылись в эллинге.
Но греки следовали за ними по пятам. Ведомые Ксантиппом и его афинянами, они ворвались внутрь укрытия и, раздробив персов на отдельные группы, принялись методично подавлять сопротивление. Теперь персы сражались в одиночку: ионийцы и другие греки — подданные Ксеркса перешли на другую сторону. И решающий удар нанес именно находившийся дотоле в тени правый фланг греков. Одолевая крутизну скал, спартанцы выбрались наконец на склон, нависающий над береговой полосой, куда персы вытащили корабли, и обрушились на эллинг сверху. Множество персов были убиты, уцелевшие либо сдались на милость победителя, либо ушли горными тропами в Сарды. Там им предстояла незавидная доля сообщить о случившейся катастрофе самому Ксерксу.
В тот же вечер торжествующие победу греки премию за доблесть присудили коллективно — афинянам, а индивидуально Гермолику-чемпиону. Пелопоннесцы оказались на втором месте, о спартанцах же никто даже не упомянул. Встал серьезный вопрос, что делать с персидскими судами. Людей, чтобы эвакуировать их, у греков не хватало, а оставлять врагу нельзя. И тогда греки, предварительно обчистив персидские триеры до нитки, устроили из них грандиозный костер. Дерево и смола полыхали, как факел, а в конце концов пламя охватило и эллинг. Зарево, освещавшее в ту ночь угрюмые склоны горы Микале, стало для азиатских греков маяком победы и свободы.
Через несколько дней из Греции появились гонцы с вестью о том, что союзная армия нанесла сокрушительное поражение великой армии Ксеркса на равнинах близ Платеи. Завоевательной экспедиции персидского царя пришел конец: греки были свободны. Когда об этом стало широко известно, азиатские греки обратились к Леотихиду с предложением создать союз во главе со Спартой. В случае согласия Спарта в ближайшие годы окажется втянутой в войну на море, ибо, конечно же, Царь царей не отпустит на волю свою богатейшую провинцию — Ионию просто так, без жестокой борьбы. Поэтому Леотихид выдвинул контрпредложение: ионийцы оставляют свои города в Азии или недалеко от азиатского побережья и морем возвращаются в свои старые родные края. Портовые города, где живут греки-изменники, сдавшиеся Ксерксу, освобождаются от их присутствия и передаются ионийцам. Ксантипп и афиняне выступили против. Они заявили, что в Ионии издавна селились жители Афин и никто не вправе лишать ионийцев тех городов, что основаны ими в далекие времена. По их настоянию греки с Самоса, Лесбоса, Хиоса и других островов присягнули на верность общему союзу.
При том что сезон мореходства заканчивался, греческий флот, усиленный теперь ионийцами, отправился с Самоса в последний свой поход. Преодолевая встречный ветер, он шел на север, где предстояло смести построенные Ксерксом понтоны. Но греки опоздали — их и без того смыло штормами. От местных осведомителей Леотихиду стало известно, что новые поставлены в Сесте, городе на европейской стороне Геллеспонта. За его высокими стенами укрываются персидские силы всего этого района. Не решаясь штурмовать их, Леотихид дал команду к отходу в Грецию.
Пути Ксантиппа и афинян с ним разошлись. При поддержке нового союзника ионийцев они и после отплытия спартанцев и пелопоннесцев остались на берегах Геллеспонта. И в отсутствие осадных орудий решили уморить защитников города голодом и таким образом вынудить их к капитуляции. Кончилось дело тем, что персы в отчаянии ночью перебрались через городскую стену и ушли в поле. Некоторые попали в руки фракийцев, принесших одного из персидских военачальников в жертву своим богам. А остальных захватили в плен греки, и случилось это примерно в двенадцати милях от Сеста, рядом с прибрежным местечком Эгоспотамы («Козья река»). Среди пленников оказался один персидский вельможа, осквернивший греческое святилище тем, что переспал там с наложницей. Персы предложили за него и его сына царский выкуп — триста серебряных талантов, но Ксантипп отказался и распял пленника, как если бы это был обыкновенный пират. Перед отплытием домой афиняне загрузили трюмы своих кораблей огромными прочными тросами, пошедшими на возведение персами мостов, ненадолго соединивших Азию и Европу.
Афины, в которые они вернулись, трудно было узнать. Персы разрушили все, кроме домов, где разместились их военачальники. Так что город предстояло отстраивать с самого основания. В этот судьбоносный момент Фемистокл снова оказался в самом центре жизни Афин. Спартанцы отговаривали афинян от этого намерения на том основании, что, если Ксеркс вернется, Афины станут персидской цитаделью. Фемистоклу пришлось пустить в ход все свое хитроумие, чтобы отвлечь спартанцев, пока его сограждане все как один были заняты строительством. После победы при Платеях греки поклялись не восстанавливать храмы, сожженные Ксерксом: пусть их почерневшие от копоти руины останутся вечным напоминанием о персидском святотатстве. Но никто не запрещал возводить новые храмы. Так, Фемистокл построил святилище в Пирее, а также — рядом со своим домом в Афинах — храм богини Артемиды Подающей советы. На берегу реки Илисс афиняне воздвигли храм богу, которого раньше не почитали, — Борею, разметавшему вражеские корабли. В этих и других священных местах они развесили тросы от мостов Ксеркса как дань благодарности богам.
Когда город еще лежал в руинах, Фемистокл попытался убедить сограждан отойти от прежнего плана, когда в центре возвышался Акрополь, и воздвигнуть новый город прямо на берегу. С ним не согласились, зато народное собрание проголосовало в пользу завершения строительства укрепленного порта в Пирее, оживив тем самым давно дремлющий проект. Граждане признали также необходимым ежегодно увеличивать флот на двадцать триер и выделить средства на привлечение умелых мастеров из других городов. Все это была инициатива Фемистокла.
Когда подошло время вновь, после победы при Саламине, отправлять флот в море, афиняне поставили во главе своей эскадры Аристида Справедливого. Четыре года назад он был подвергнут остракизму (изгнанию) за отказ поддержать предложение Фемистокла построить флот на серебро, добытое в Лаврионе. Теперь, подобно большинству своих сограждан, Аристид тоже пришел к убеждению, что будущее Афин — в море. Прошлым летом он одержал славные победы в сражениях на острове Пситталея у Саламина и при Платеях. Главнокомандующим объединенным флотом спартанцы назначили Павсания, главнокомандующего греческим войском в битве при Платеях, который был регентом при малолетнем сыне царя Леонида. Павсаний был блестящий тактик, одержимый манией величия. Правда, обнаружилось это позднее.
Расширяя диапазон действий на море, Павсаний первым делом повел флот на Кипр, затем, подняв на всем острове восстание против персов, обогнул западную оконечность Малой Азии и подошел к Византию, греческой колонии, расположенной прямо у пролива, ведущего в Черное море. Подчинив ее себе, спартанский адмирал повел себя как настоящий тиран, что вызвало возмущение даже у его сторонников, и в конце концов некоторые части флота взбунтовались. Ионийцы обратились к афинянам с просьбой взять флот под свое крыло. Такой шаг подтвердил бы неформальную договоренность, достигнутую прошлой осенью, когда Ксантипп повел объединенный флот ионийцев и афинян к Сесту. Помимо общих корней, ионийцы находили, что афиняне лучше, чем кто-либо, защитят их интересы в случае нового вторжения персов. Афиняне энергичны и изобретательны, спартанцы (порывистый Павсаний явно представлял собой исключение) скорее флегматичны и неподвижны. Имел в этом случае значение и бесспорный авторитет, каким пользовался Аристид буквально у всех.
Когда спартанские власти прислали в Византий нового военачальника на смену Павсанию, ионийцы отказались ему подчиняться. Жребий был брошен. Униженный адмирал вернулся домой, а пелопоннесские триеры откололись от союзного флота. Объединив афинян и ионийцев, Аристид остался закладывать основания нового мирового порядка, в котором первую скрипку предстояло играть Афинам.
Ионийцы предложили афинянам организовать новое морское объединение на манер того, которое под водительством спартанцев одержало победу над Ксерксом. Спартанцы созывали свои советы в Истме; афиняне и ионийцы будут встречаться на острове Делос, в самом сердце Эгейского моря. Роль гегемона (что в буквальном переводе означает «тот, кто идет впереди») в этом союзе отводится афинянам. Объединенным флотом командуют афинские военачальники, окончательные решения принимают тоже афиняне, союзный совет дает только рекомендации. Цель ясна: война с варварами до победного конца. Новый союз отомстит персам за все нанесенные грекам обиды.
Поскольку главным делом нового союза должны были стать военно-морские операции, возникла необходимость в том, в чем союз во главе со Спартой не нуждался, — в постоянном притоке денег и новых судов. Многочисленным командам гребцов надо было платить; равным образом предстояло строить новые триеры и ремонтировать старые. Содержание постоянного флота стоит гораздо дороже, чем организация отдельных кампаний, да и пребывание в порту — это немалые расходы.
Чтобы разделить финансовое бремя по справедливости, афиняне предложили систему взносов, во многом напоминающую ежегодную контрибуцию персам. Каждому городу или острову будет определен ежегодный взнос соответственно его возможностям, и выплачиваться он может как деньгами, так и триерами — именно такую форму выбрали для себя Афины. Определять размеры взноса предстоит самому Аристиду. Каждую весну серебро будет переправляться на Делос и сдаваться на хранение десяти афинским гражданам, носящим пышный титул hellenotamiai, то есть «греческих казначеев». Полное название нового объединения будет звучать так: афиняне и их союзники. Позднее историки окрестят его Делосским союзом.
Аристид произвел первоначальные расчеты. Получилось в итоге 460 серебряных талантов в год. По мере расширения союза эта сумма будет увеличиваться. Афиняне постановили, что те, кто располагает крупными флотами, например, жители островов Самос, Лесбос, Хиос, Наксос и Фасос, делают свой взнос триерами. У других в распоряжении имеются только небольшие устаревшие галеры — они вносят свою долю серебром. После согласования всех деталей представители городов и островов, собравшиеся на Делосе, принесли присягу на верность новому Афинскому союзу, в знак чего торжественно бросили в море железные бруски. Символика этого жеста состояла в том, что верность клятве сохраняется до тех пор, пока железо не всплывет со дна. При взгляде с Делоса на восток Персидское царство должно было представляться им достаточно обширным, чтобы выжигать его огнем и вечно грабить.
Во главе новых объединенных военно-морских сил народное собрание Афин поставило не испытанных и прославленных победителей в сражениях последних трех лет Фемистокла, Ксантиппа, Аристида, а новичка по имени Кимон, известного тем, что именно он убедил молодых всадников принять участие в событиях при Саламине. Это был высокий, атлетического сложения мужчина с коротко подстриженными вьющимися волосами и приятными, сразу располагающими к себе манерами. Отцом его был Мильтиад, матерью — фракийская царевна. В отрочестве он жил в родительском поместье на северном берегу Геллеспонта, наблюдая за тем, как торговые суда, груженные всяческой роскошью, следуют из Черного моря в Средиземное.
И вот сейчас, в возрасте тридцати одного года, Кимон готовился повести вновь созданное флотское объединение на первое дело. Самой соблазнительной мишенью представлялся Эйон — обнесенный стеной город на европейской земле и все еще находящийся в руках персов. Стоял он на берегу реки Стримон во Фракии, родине его матери, на пути к плодородным фракийским полям. Объединенные силы во главе с Кимоном высадились на берег и нанесли поражения противнику в бою на открытой местности; однако же уцелевшие персы ударили по грекам из-за хорошо укрепленных стен города. Тогда Кимон показал, что он не уступает персам в инженерном искусстве. Он велел прорыть каналы, и воды Стримона хлынули в сторону укреплений города. Глина, скрепляющая кирпичные стены, начала растворяться. Начальник персидского гарнизона в отчаянии покончил с собой, и Кимон вошел в город. Те, кто пошел в услужение персам, были проданы в рабство, а добыча разделена между союзными городами и островами. Богатые земли персов и сотрудничавших с ними Кимон передал во владение афинским поселенцам.
Так закончилась первая успешная военная кампания нового союза. Благодарные афиняне воздвигли на агоре мемориал в честь победы и высекли на нем стихотворные строки, в которых Кимон и его войска уподобляются героям Троянской войны, «искусным воинам и вождям храбрецов». Довольное сделанным выбором, народное собрание Афин еще пятнадцать лет подряд отправляло Кимона на войну во главе союзного войска. По мере увеличения свитка его побед множилось и количество участников союза, достигшее в конце концов цифры в сто пятьдесят городов и островов.
Самое знаменитое из деяний Кимона связано с тем, что он оказался участником поиска драгоценных реликвий — останков Тесея. Афинский флот завоевал репутацию одного из ведущих в мире: пришла пора обзавестись покровителем из круга мифологических героев. Тесей — искатель приключений, освободитель, победитель разбойников и чудовищ — показался вполне подходящей кандидатурой. В лабиринте в Кноссе на Крите Тесей убил Минотавра — полубыка-получеловека, тем самым освободив Афины от ужасной дани, наложенной на них критским царем Миносом: ежегодно город должен был посылать на съедение чудовищу семь юношей и столько же девушек. За свою долгую жизнь Тесей совершил столько разнообразных подвигов и участвовал в таком количестве предприятий, что слова «без Тесея не обойтись» вошли в поговорку. Считается, что Тесей погиб на острове Скирос, но где похоронен, неизвестно.
Через несколько лет после основания Делосского союза, Дельфийский оракул объявил, что афиняне должны перенести останки Тесея в Афины и поклоняться ему отныне как божественному герою. За выполнение задачи взялся Кимон. Однажды, после продолжительных поисков, он увидел орла, долбящего клювом землю на каком-то кургане. Решив, что это знак свыше, он велел начать на этом месте раскопки. Под землей обнаружился саркофаг с мечом, копьем и костями очень крупного мужчины. С подобающей торжественностью Кимон перенес останки на борт флагманского корабля и доставил их в Пирей. Афиняне отметили возвращение реликвии шествиями и жертвоприношениями, останки же героя поместили в саркофаг и воздвигли великолепный храм Тесейон. Отныне ежегодно в Афинах устраивались два морских празднества: одно в память о дате, когда Тесей, по легенде, отправился в свое великое странствие, другое, осенью, в честь его возвращения. Точно так же раз в год рулевые афинских триер чествовали уроженца Саламина, проведшего галеру с Тесеем на борту на Крит и обратно.
Афиняне унаследовали множество мифов из прошлого, но когда текущие события вроде строительства и стремительного развития флота оказались настолько впечатляющими, то мысль о некой связи современных свершений с мифологическим прошлым просто не могла не возникнуть. И афиняне с готовностью творили новые легенды. Кимон всячески содействовал этому. Среди поэтов, кому он покровительствовал, был между прочих некто Фересид — знаток генеалогии и мифов. Он уже давно проследил родословную Кимона, возведя ее к Аяксу, сыну саламинского царя Теламона. И вот теперь этот самый Фересид принялся перерабатывать миф о Тесее. По новой версии, Тесей, убив Минотавра, бросается в кносскую бухту; там он, избегая возможного преследования, сокрушает все критские корабли и благополучно покидает остров. Впоследствии еще один мифотворец, Демон, несколько видоизменил легенду, превратив Минотавра в критского военачальника по имени Тавр и представив Тесея его победителем в морском сражении — первом в истории Афин! — разыгравшемся там же, у входа в бухту.
Помимо останков Тесея, Афины заявили претензию и на другую весомую реликвию, связанную с его личностью. Небольшая галера под названием «Делия» являлась старейшим в городе судном. Каждую весну она отправлялась в паломническое плавание на Делос, родину Аполлона, где афиняне и другие ионийские греки устраивали нечто вроде семейного сбора, дабы вознести молитвы своему древнейшему богу. В одном из первых дошедших до нас от тех времен свитков говорится, что городские плотники постоянно ремонтировали священную галеру, заменяя раскрошившуюся или гниющую обшивку. «Делия» являла собой типичную военную галеру железного века, что не мешало афинянам представлять ее именно тем судном, на котором Тесей плыл на бой с Минотавром. Вот это и есть та вторая реликвия, еще одно звено в цепи, соединяющей Афины с воображаемым героическим прошлым.
Одна из картин, украшающих храм Тесея, принадлежит кисти афинского живописца Микона. На полотне изображен Тесей, окруженный на глубине моря тритонами и дельфинами. Богиня Амфитрита, владычица морей, передает юному герою корону; за сценой наблюдает Афина. Есть и иные версии мифа о Тесее, всячески подчеркивающие его роль в истории Афин. Утверждается, например, что в годы своего царствования Тесей объединил Аттику, основал первое демократическое народное собрание, способствовал притоку жителей из других городов, всячески радел о бедных и угнетенных, даже о рабах. Таким образом, легендарный основоположник морской мощи города стал и прародителем афинской свободы, единства и демократии.
Между тем подлинный основатель флота Фемистокл был еще вполне жив и здоров. В городском собрании против него объединились влиятельные кланы Аттики, личной репутации Фемистокла нанесла сильный урон развернувшаяся против него очернительская кампания, сопровождавшаяся обвинениями в коррупции и измене. В попытке восстановить свое положение и честь, а также противопоставить что-то мифотворчеству Кимона Фемистокл способствовал постановке новой трагедии драматурга Фриниха. Пьеса называлась «Финикиянки», сражение при Саламине представлялось в ней как трагедия персов. Открывается пьеса монологом перса-евнуха, укладывающего подушки для собирающихся в царском дворце членов совета. Доносится хор женщин — вдов финикийских моряков Ксеркса, оплакивающих судьбу своих мужей. Таким образом, Фемистокл хотел напомнить согражданам о своей роли в разгроме персов на море. И не напрасно он велел разыграть драматическую историю Саламина на сцене, где в качестве персонажей обычно предстают боги и античные герои: это могло бы и его собственные деяния возвысить до уровня эпоса и мифа.
Пьеса Фриниха бесследно исчезла в анналах, и точно так же покатилась под уклон карьера Фемистокла-политика. Через два года после премьеры «Финикиянок» афиняне проголосовали за то, чтобы предать его остракизму. Правда, такая мера не всегда означает конец политической жизни. Скажем, Ксантипп и Аристид вернулись к власти, пережив позор и изгнание. Но Фемистоклу судьба не улыбнулась. Примерно на середине его десятилетнего изгнания мстительные спартанцы и завистливые афиняне возобновили прежние интриги, что привело к выдвижению формального обвинения в измене. Народное собрание направило Фемистоклу вызов в Афины, где он должен был предстать перед судом.
Не желая предаваться воле своих переменчивых нравом сограждан, Фемисктол, преследуемый афинскими посланниками, бежал сушей и морем через весь Пелопоннес и Керкиру, затем, по горам северной Греции, в Македонию, и, наконец, на корабле в Персию, в эту единственную гавань, где можно укрыться от длани афинского закона. Победитель при Саламине и отец афинской морской мощи закончил свои дни как трофей, доставшийся персидскому монарху, — наполовину пленник, наполовину наместник царя в греческих городах Малой Азии.
Умер Фемистокл изгнанником, с которого так и не было снято обвинение в измене. Поэтому детям не разрешили перевезти его останки в Афины. Ни памятника ему не поставили в родном городе, ни поминальной молитвы не прочитали. Много лет должно было пройти, чтобы сограждане отдали наконец должное основателю флота: «Именно он первым открыл афинянам глаза на то, что их будущее связано с морем. Так он сразу стал в ряд тех, кто закладывал основания империи». Эти слова принадлежат Фукидиду, историку, родившемуся через несколько лет после смерти Фемистокла. «Это был человек, — продолжает Фукидид, — умевший провидеть будущее и сокрытые в нем возможности добра и зла. Пытаясь охарактеризовать его в нескольких словах, можно сказать, что благодаря силе ума и деятельной натуре этот человек был непревзойден в совершении именно того, что надо и когда надо».
Со смертью Фемистокла у Кимона не осталось в Афинах соперников. Год за годом он сохранял верховенство, выходя летом на морскую охоту, а в свободное от военных дел время принимая у себя дома видных, да и простого звания граждан. Впрочем, при всем своем демократическом нраве, Кимон всячески выпячивал собственное довольно тщеславное представление о будущем города. И образцом ему, как ни странно, служила Спарта.
Единственные среди греков, спартанцы, едва достигнув зрелости, находились постоянно в состоянии боевой готовности. Удерживая под пятой враждебных илотов и иных данников, спартанцы всех сословий и разрядов, вплоть до царей, стали военным народом. Они проходили постоянную физическую подготовку, и в греческом мире их боялись больше, чем кого бы то ни было. Кимон безоговорочно восхищался Спартой: он даже одного из своих сыновей-близнецов назвал Лакедемонием, то есть «Спартанцем». В спартанском образе жизни — город как вооруженный военный лагерь — он видел пример, которому должны следовать и афиняне, если хотят сохранить лидирующее положение в Делосском союзе.
Под руководством обладавшего несомненной харизмой Кимона афинское общество «оморячилось» с головы до пят. До Саламина представители низшего сословия феты никогда не готовились к военной службе. А теперь они каждую весну выходили в море тысячами, садясь за весла или осваивая ремесло впередсмотрящих, рулевых, старших по команде. Гоплиты тоже периодически меняли место службы, то поднимаясь на триеры, то отправляясь за моря сражаться на чужой территории. Самые состоятельные из афинян участвовали в морских делах в качестве триерархов — командиров кораблей и финансистов, на чьи средства строились новые галеры.
Ну и окончательно превращаясь в город моря, Афины взяли за правило выбирать политических лидеров не из круга законодателей или ораторов, но из среды военных. Хотя высшая власть принадлежала народному собранию, власть исполнительная сосредоточивалась в руках ежегодно избираемых десяти генералов, или стратегов. Это и впрямь были генералы, рассматривавшие и решавшие все военные дела: флот, армия, фортификационные сооружения, иногда даже дипломатия. Более того, однажды, во время театрального фестиваля, когда молодой Софокл впервые бросил вызов Эсхилу, судьями выступили именно стратеги во главе с Кимоном.
Каждый из них представлял свою филу. Фемистокла некогда избрали сограждане из четвертой филы — Леонта; Ксантиппа и Перикла — из пятой, Акаманта; Кимона — из шестой, Ойнея. Вслед за Мильтиадом все эти люди исключительно высоко подняли престиж военачальника, и если кто-то из честолюбивых граждан хотел достичь действительно важного положения в Афинах, то иного пути наверх, кроме как через армию или флот, не существовало. Так создалась политическая «власть генералов», которой предстояло продержаться целое столетие.
Афины и их флот преуспевали, а вот энтузиазм союзников постепенно сходил на нет. Иным бесконечная, вяло текущая война с персами представлялась непосильным и ненужным бременем. Ведь персидские корабли годами не появлялись в Эгейском море. В результате возникло недовольство, и мало кому уже хотелось вовремя платить взносы и участвовать в совместных действиях с тем энтузиазмом, которого ожидали от своих союзников Афины и какой предполагался взаимно принятыми обязательствами.
Кое-кто из афинских деятелей весьма нервно реагировал на этот бунт на корабле, но Кимон избрал другой стиль поведения. Держался он мирно и призывал союзные города вносить свой вклад в общее дело в той форме, какая им подходит. Большинство предпочли уклониться от активного участия в ежегодных военно-морских кампаниях и передали свои триеры — без экипажей — в распоряжение Афин; отныне они ежегодно будут платить в общую казну определенную сумму серебром. Кимон был сговорчивым и мягким, его последователи более суровы, но результат от этого не менялся. С каждым годом склонность к военной службе, как и мастерство ведения боя, среди союзников ослабевала, и на этом фоне военная мощь Афин выглядела особенно впечатляюще.
Сохранение союза и пополнение казны требовали железной воли. С самого начала афинянам стало ясно, что войну придется вести не только против Персидской империи, но и с другими греками. Аргументация была простой: все те, кто хочет пользоваться преимуществами участия в Афинском союзе — свобода мореплавания и защита от персидской агрессии, — должны вносить вклад в общее дело, то есть платить. Некоторым городам и островам пришлось вступить в союз против собственной воли, под давлением силы. Другие, например, богатый остров Наксос, по прошествии времени пытались выйти из союза, но кончалось это тем, что союзный флот подходил к их берегам, блокировал порты и обращался с местными жителями как с опасными бунтовщиками. Афиняне извлекали из таких конфликтов максимум выгоды. Например, на Скиросе они изгнали аборигенов-пиратов и заселили остров своими земляками-колонистами, которым уже не хватало места в Афинах. На Фасосе афиняне затеяли с собственными союзниками войну за контроль над местными рудниками. Все закончилось тем, что островитяне были вынуждены и флот отдать Афинам, и рудники. А приносили они тем не менее ежегодно восемьдесят серебряных талантов.
Бесспорно, многим столь жестокое обращение с собратьями-греками было не по душе, тем более что сами же Афины поклялись защищать их свободу. Но возникшая в восточном Средиземноморье новая угроза, казалось, оправдывала самые жесткие меры, направленные на сохранение союза. Через четырнадцать лет после Саламина персы, готовясь к новой войне с Грецией, начали сколачивать мощные вооруженные силы — армию и флот. Ксеркс не мог больше закрывать глаза на успехи Делосского союза и ослабление собственных западных границ. Придется снарядить морскую экспедицию, только так можно сдержать дальнейшее усиление афинян и их союзников. Оторвавшись на время от гаремных услад, Ксеркс дал слово покончить с греками. Местом сбора сухопутных и военно-морских сил была определена долина реки Эвримедонт, на южном побережье Малой Азии.
Предотвращая вторжение персов в акваторию Эгейского моря, Кимон сосредоточил союзный флот у юго-западной оконечности Малой Азии, невдалеке от древнегреческого города Книд, одного из центров культа Афродиты. Он намеревался посадить гоплитов на триеры, для чего следовало несколько модифицировать их так, чтобы легче было вести бой не покидая палубы, в ходе любого морского сражения, а их избежать скорее всего не удастся. Благодаря тщательному уходу многие триеры, построенные еще Фемистоклом, сохраняли свои боевые качества. Легкая, открытая конструкция делала их быстрыми и маневренными, но много людей здесь поместиться не могло. Следуя указаниям Кимона, корабелы соединили борта широким настилом — поверх гребных рам. Теперь гребцы окажутся под новой палубой, а десятки гоплитов и копьеносцев на ней.
По завершении перестройки Кимон взял курс на восток, к Эвримедонту. В его распоряжении было 250 триер. Пройдя бирюзово-голубыми водами мимо Карии и Ликии, миновав цепочку Хелидонских островов, объединенный флот оставил позади зону влияния Афин. Впереди таинственно мерцала гора — жилище Химеры, этого чудовища с головой и шеей льва, туловищем козы и хвостом дракона; со скалистых вершин горы ночью вырывались языки пламени. Узнав, что персы со дня на день ждут подкреплений, Кимон изготовился к немедленному нападению. Флот взял город Фазелис, пересек Анатолийский пролив и стал на ночь на расстоянии прямого удара от персидского лагеря.
Суда Ксеркса швартовались в устье реки Эвримедонт, воды которой питались тающими снегами Таврского хребта. Командовать флотом царь поставил собственного сына Тифрауста. Тот все еще ожидал подкреплений, и на горизонте действительно в какой-то момент появились черные точки кораблей и белые буруны, вырывавшиеся из-под весел; только это были не союзники-финикийцы, а греки. Персидский флотоводец в панике приказал было кипрским и киликийским триерам укрыться в устье реки, но, сообразив, что таким образом флот окажется в ловушке, которую сам же и поставил, переменил решение и скомандовал полный вперед. Таким образом, в открытом море, образовав боевой порядок, оказались сотни кораблей.
Столкновение судов первой линии оказалось для неопытных персов слишком сильным ударом. Большинство бросилось к берегу. Греки преследовали противника на мелководье. Первые персидские экипажи, достигшие суши, попрыгали на песок и бросились бежать. Сталкиваясь бортами, многие вражеские корабли становились добычей греков. По некоторым подсчетам, Кимон захватил в плен двести триер — остальные затонули, а кое-кому удалось уйти.
Тем временем персы начали срочно перебрасывать к берегу свои сухопутные силы. Моряки Кимона слишком устали, были слишком разгорячены закончившейся схваткой, но гоплиты, судя по всему, были готовы к продолжению боя. По команде Кимона они попрыгали через борт и бросились на персов — точно так же афинская армия следовала за отцом Кимона Мильтиадом по долине Марафона. Тут и обнаружилось, сколь мудро поступил Кимон, взяв с собой большое количество воинов. Мало-помалу греки усиливали нажим на противника, а под конец сражение превратилось в разгром. Афиняне вместе с союзниками отбросили персов к их лагерю. Трофеев было захвачено огромное количество.
Однако же Кимон не считал борьбу законченной. Оставив некоторую часть людей в лагере охранять добычу, он велел остальным вернуться на борт и поплыл на восток в поисках остатков персидского флота — восьмидесяти финикийских триер. Шел Кимон так быстро, что опередил новость о своей победе у реки Эвримедонт. Он захватил ничего не подозревающих финикийцев врасплох прямо в море и либо взял их суда на абордаж, либо пустил ко дну.
Кимон вернулся в Пирей с десятками захваченных вражеских кораблей. Город встретил его как героя. Победы, одержанные им этим летом, ничуть не уступали, а в некотором отношении, может, и превосходили победу при Саламине. Кимон перенес поле боя в персидские воды и на персидскую территорию. Он совершил беспримерный подвиг, выиграв в один и тот же день два сражения — одно на море, другое на суше. И если после Саламина большая часть персидского флота уцелела, то теперь разгром был полным. Но самое замечательное заключалось в том, что честь победы не надо делить со Спартой или иными пелопоннесцами.
Ксеркс ненадолго пережил унижение, испытанное его армией и флотом на реке Эвримедонт. Уже ближайшей зимой вельможи закололи царя в его собственном дворце. На троне его сменил сын Артаксеркс. Новый Царь царей был способным администратором, но не завоевателем. Не с вечных войн и расширения территории, как раньше, началось его царствование, но, напротив, с сокращения военных расходов.
А Кимон и афиняне принялись на добытые во время военных кампаний деньги украшать свой город, и он достиг невиданной прежде красоты. На агоре посадили величественные платаны с изумрудной листвой и раскидистыми, усеянными белыми и коричневыми пятнами ветвями. В их густой тени некогда раскаленный рынок и центр гражданской жизни города начал походить на прохладный парк, окружающий дворец персидского царя. Тут же, на агоре, была построена галерея с колоннами, где демонстрировались полотна с изображением исторических битв, выигранных Афинами. Это был первый в мире музей изобразительных искусств. Греки называли его «стоя» — отсюда наименование философской школы «стоиков», любивших, как, впрочем, и простые граждане, собираться в тени колонн.
Акрополь инженеры и каменщики окружили мощной опорной стеной, укрепляющей южный склон горы и одновременно поддерживающей, наподобие площадки, просторную плоскую террасу — подходящий фундамент для будущего храма. В академии, за городской стеной, Кимон расширил спортивную площадку для тренировок юных атлетов, появились каналы, фонтаны, тенистые аллеи, беговые дорожки. В Пирее поднялся новый храм в честь божественного героя, только что причисленного к афинскому пантеону. Имя ему было Эвримедонт.
Продолжая дело, начатое Фемистоклом, Кимон решил еще теснее привязать Афины к морю при помощи стен. В конечном итоге эти мощные фортификационные сооружения, начинающиеся у городских ворот, дойдут внизу до Пирея и далее до Фалерона, находящегося почти в четырех милях от Афин. При Кимоне был заложен фундамент — тонны бута покрыли болотистую местность между городом и морским побережьем.
Персы стерли город с лица земли, но не прошло и двадцати лет, как он возродился. Попытка персов сокрушить афинян парадоксальным образом обернулась для последних взлетом на новые высоты. Превращение маленького города-государства в лидера мощного морского объединения произошло при Кимоне. Но он не предвидел, к каким поразительным переменам в самом характере обыкновенных афинян это приведет. Город становился огромной, роскошно оформленной сценой, и простые горожане, ветераны целого ряда победоносных морских кампаний, вдруг почувствовали, что готовы взять режиссуру разыгрывающегося спектакля в свои руки.
Глава 7
Безмерные амбиции (462–446 годы до н. э.)
Я утверждаю, что бедные и простого звания люди имеют право ставить себя выше ро-довитых и богатых, потому что именно простые люди водят корабли и укрепляют город.
Ксенофонт-Оратор
Весло и корабельная банка простого гражданина Афин могут показаться предметами менее поэтическими и возвышенными, нежели щит и копье гоплита, но теперь всему миру стало известно, что мощь города зависит от быстроходных триер и сильных экипажей. В глазах иноземцев простой афинянин был властителем морей. Дома он по-прежнему оставался гражданином второго сорта. Закон давал ему возможность участвовать в голосовании, но закрывал дорогу к выборным должностям. Да и повседневные заботы нередко не позволяли ему принимать участие в городских собраниях. Афины были не столько демократией, сколько городом-государством, которым управляют богатейшие из его граждан. Все архонты и стратеги происходили из наиболее состоятельных семей, а планка имущественного положения была установлена так высоко, что до нее не дотягивались даже десять тысяч гоплитов. Обыкновенному гражданину оставалось только выбирать себе предводителей — сам он в их круг попасть не мог.
После Саламина совет аристократов и состоятельных граждан методично ущемлял полномочия демократического совета и народного собрания. Эта группа избранных называлась ареопагом (буквально: «Холм Ареса») — объединение бывших архонтов. Его пожизненные члены, числом около трехсот, оказывали сильнейшее воздействие на политический курс Афин. Собирались они в той части Акрополя, которая была посвящена богу войны, и оттуда, в буквальном смысле сверху, поглядывали на то, что происходит в городе.
В годы, последовавшие за победой при Эвримедонте, когда Кимон был целиком поглощен борьбой за рынки и рудники Фасоса, радикально настроенные демократические силы Афин наконец-то обрели сильного лидера. Это был Эфиальт, гражданин, уже успевший сделать себе имя в городе: в качестве морского военачальника он водил эскадру в восточное Средиземноморье, а как публичная фигура завоевал репутацию человека неукоснительно прямого и неподкупного.
Эфиальт был одним из тех немногих афинян, чьи имена возникают в «Илиаде» и «Одиссее». Согласно мифу, Эфиальт вместе со своим братом Отом, отличавшимся, как и он, недюжинной силой, дабы добиться любви Геры и Артемиды, замыслили взгромоздить на Олимп гору Оссу, а на нее Пелион. Это были истинные дети моря. Их мать, юная девушка, влюбленная в Посейдона, зачала близнецов, омочив себе колени морской водой. Достигнув зрелости, братья заковали в цепи могучего Ареса, тем самым бросив вызов богам. Повторяется история с Кимоном, которому молва, как помним, приписывала связь с Тесеем, — древний миф освящает своим авторитетом повседневные события. И стало быть, вызов, который афинянин по имени Эфиальт бросает властителям, пребывающим на Холме Ареса, даже в глазах его противников обретает некую божественную предопределенность.
Начал Эфиальт с того, что призвал отдельных ареопагитов к суду по обвинению в недолжном поведении: так, при помощи юридических процедур он добивался политических целей. Далее, бросив некоторую тень на почтенный совет, он предпринял широкомасштабное наступление на привилегии и прерогативы, которыми наделили себя его члены. В результате были приняты новые законы, по которым ареопаг оказался подотчетен совету пятисот, народному собранию или судам. В конце концов в ведении ареопага не осталось ничего, кроме двух случаев: убийство и ущерб, нанесенный священным оливковым деревьям. В качестве торжественного символического жеста Эфиальт убрал таблички с начертанными на них законами из традиционного места, где они всегда хранились, — из Акрополя, и перенес на агору, где каждый мог прочитать и свериться с ними.
В Греции революция обычно означала стасис — кровопролитное гражданское столкновение кланов. Но радикальные перемены, затеянные Эфиальтом, осуществила не вооруженная уличная толпа, но собрание путем, как и положено, поднятия рук. Это была бескровная революция, но нашелся-таки убийца-одиночка, который заколол самого Эфиальта. Убийцу не нашли, но стало известно, что это уроженец Танагры в Беотии, выполняющий чей-то заказ, но чей — не узнали. Миф повествует, что братьям выкололи стрелами глаза и приковали в Аиде к колоннам, где их уши вечно терзал крик совы. Ареопагитам и их сторонникам из аристократической среды, наверное, и таких мучений для человека, отнявшего у них власть, показалось бы мало. Но в глазах большинства афинян Эфиальт умер героем.
Факел радикальной демократии был передан сыну Ксантиппа Периклу, преисполненному решимости продолжать реформы. Десятью годами ранее, совсем еще молодым человеком, Перикл оплатил постановку «Персов» Эсхила, положив тем самым начало своей карьере на общественной ниве. Подобно Фриниху в «Финикиянках», Эсхил изображает сражение при Саламине глазами персов, а победа афинян предстает частью божественного возмездия Царю царей. Эсхил — не только первый афинский драматург, отмеченный печатью гения, он был еще и ветераном Саламина, так что поэтическое воображение питалось личным военным опытом автора. В пьесе есть строки, намекающие на демократические убеждения Перикла. Персидская королева-мать спрашивает, имея в виду афинян: «Кто пастырь их, кто стадо их ведет?» И хор персидских старейшин ответствует: «Никто ничьими их рабами или подданными не зовет».
Теперь, перевалив за тридцать, Перикл имел за спиной собственный славный опыт морских сражений. После победы на реке Эвримедонт он водил эскадру из пятидесяти триер в район восточного Средиземноморья. Продолжатель революции, начатой Эфиальтом, Перикл пустил часть богатых финансовых запасов Афин на учреждение денежного довольствия присяжным заседателям. Благодаря ему неимущие граждане получили возможность отвлекаться от повседневных трудов, входя в состав большого (до 501 члена) жюри, отправлявшего на агоре правосудие. Таким образом, демократизировалась и юридическая система Афин. Через шесть лет после смерти Эфиальта было официально объявлено, что на должность архонта могут претендовать представители сословия гоплитов. А в конечном итоге такая возможность была предоставлена и фетам.
Стремительному расширению демократии пытался, хотя и тщетно, противостоять один видный афинянин. Кимон предпринимал всевозможные усилия, чтобы вернуть ареопагу его прежнее положение. Своими победами на море он даже больше Фемистокла способствовал укреплению низших слоев общества, но последствий этого предугадать не мог. Точно так же не предвидел Кимон перемен в симпатиях и антипатиях сограждан, в результате его восхищение Спартой стало восприниматься чуть ли не как предательство. Сильнейшее землетрясение опустошило территорию Спарты и спровоцировало бунт мессенских илотов, однако спартанцы решительно отвергли предложение Афин о помощи. Возмущенное их недоверием и подозрительностью, собрание расторгло столь лелеемый Кимоном союз. А ведь сколько он твердил, что Афины и Спарта подобны двум лошадям, впряженным в одну колесницу, и коли захромает одна, то худо придется всей Греции.
Так, стараясь подавить революционный дух перемен, Кимон сколь неожиданно, столь и бесповоротно оказался по разные стороны баррикад со своими согражданами. Через год после того, как Эфиальт осуществил свои реформы, афиняне подвергли Кимона остракизму, и он вынужден был отправиться в изгнание. Всего шесть лет прошло с той поры, когда победа на реке Эвримедонт, казалось, вознесла его на самую вершину, поставив во главе пантеона афинских героев. Но нет, сын повторил судьбу своего отца Мильтиада, которого тоже сбросили с пьедестала через год после марафонской победы. Да, приходится признать, что со своими героями афиняне нередко обращались куда более сурово, чем с врагами.
Охваченное реформаторским духом собрание вернулось к договору, предлагавшемуся Афинам несколько лет назад; это соглашение вовлечет их в войну, беспрецедентную в истории города — настолько далеко от его пределов она развернется. Вскоре после гибели Ксеркса в Египте вспыхнуло восстание. Возглавляемое ливийским царем Инаром, потомком последней династии египетских фараонов, население долины Нила изгнало со своей территории наместников персидского царя, а также сборщиков налогов. Инар отправил в Афины послов с просьбой о содействии. В случае, если город пришлет свой флот и поддержит его борьбу за свободу, Инар обязуется привлечь афинян к участию в управлении страной и выплатить сумму, значительно превышающую расходы на снаряжение морской экспедиции.
Перспектива союза с египтянами чрезвычайно заинтриговала Эсхила, любившего упоминать в своих пьесах далекие заморские страны. Пока собрание обсуждало предложение Инара, он быстро написал трагедию «Просительницы», в которой мифологический сюжет переплетается с актуальными политическими событиями и общей идеей сторонней помощи в беде. Как и в десятилетней давности «Персах», Эсхил преподал афинской публике урок географии. Он напомнил о существовании египетских городов Мемфис и Каноп, о далекой земле Эфиопия, о несметных урожаях пшеницы в Северной Африке.
С первых же строк в «Просительницах» возникают образы долины Нила с ее многочисленными каналами, плантациями папируса, жужжанием насекомых, песчаными дюнами. В пьесе упоминаются даже кочевницы, передвигающиеся на верблюдах. Хор исполняет песнь о морском путешествии из Греции в Египет. Ничего особенного — всего-то и надо, что пересечь Эгейское море, пройти мимо Малой Азии, достичь Кипра, затем повернуть на юг. Сюжет держится на старинном предании о связях, соединяющих египтян и греков как потомков мифических героев Эгипта и Даная. На общий взгляд действие пьесы имеет вневременной характер, и действительно она пережила века. Но как и в большинстве произведений греческого искусства, в «Просительницах», при всей их универсальности, слышатся отзвуки дебатов, разгоравшихся в ту пору в народном собрании и на агоре.
Через два года после демократической революции собрание занялось формированием новых соглашений с Аргосом, Фессалией и Мегарами на случай спартанской агрессии. Как только они приобрели форму договоров, появилась возможность заняться делами, связанными с более отдаленными землями. Памятуя о Египте, афиняне снарядили большое количество судов, призвали из союзных городов экипажи и, поставив во главе флота, состоящего из двухсот триер, военачальника по имени Харитимид, послали его на Кипр. Остров все еще раздирала междоусобица — с одной стороны финикийские города, платящие дань персам, с другой — греческие, борющиеся за независимость.
Вскоре после прибытия афинян на Кипр там появились посланцы царя Инара, взывающего о срочной поддержке в противостоянии персидскому сатрапу и его оккупационной армии. К настоящему времени в руках повстанцев оказалась вся западная часть дельты Нила, и вот-вот должен был наступить кульминационный момент. Афиняне отказались на время от продолжения кипрской компании и устремились на юг. Лишь через день после высадки почувствовалось, что Нил где-то недалеко. Впередсмотрящие забросили лот, и он вытащил с глубины шестьдесят пять футов изрядное количество плотного ила. Его нанесло в море речным полноводьем. Вскоре вдали показались длинные песчаные дюны, обрывавшиеся в тех местах, где в море текут воды рукотворных каналов. Отсюда две сотни триер пошли в обход огромного клина земли, который греки, имея в виду его треугольную форму, назвали четвертой буквой своего алфавита — дельтой.
Афинянам, привыкшим к скалистым горам и сухому лету, эта зеленая равнина казалась заманчивой экзотикой. Вода перемешивалась с черной грязью, кишевшей какой-то живностью. Воздух влажен и свеж, земля пахнет садом. С палуб триер открывается вид на бесконечные — ни конца ни края — заросли папируса, конопли, осоки, лотоса; на эту зелень ни в какое время года ни одна снежинка не упадет, никакой мороз ей не грозит. Над колышущимися водными растениями возвышаются пальмы; их кроны покачиваются под легким дуновением северного ветра. Проносятся вспугнутые кораблями стаи диких гусей, уток, ибисов. Всхрапывают, перекрывая путь триерам, гиппопотамы (кажущиеся грекам «речными лошадями»). В пене, вскипающей под веслами, мелькают окуни и другие невиданные рыбы. В тех, кто не озаботился надеть на ночь марлевую сетку, безжалостно впиваются москиты.
Длинная вереница триер движется по каналу бок о бок с местным водным транспортом, основы которого были заложены задолго до возникновения Афин. Грузовые суда, сделанные из коротких деревянных планок, прилегающих друг к другу, словно кирпичи в стене, плоты из вязаного папируса, плоскодонки, идущие по мели с помощью длинных шестов. Странно, удивительно: мужчина перегибается через борт папирусного ялика и протыкает гарпуном крокодила; за рулевым веслом скользящей мимо баржи сидит безмятежная, с обнаженной грудью женщина; похоронные барки перевозят тела покойников, над которыми с причитаниями склонились плакальщики. На берегу люди вместо вина пьют из кружек пенистое пиво. Странно.
А вот союзники с Лесбоса, Самоса и Хиоса чувствуют себя в дельте как дома. Многие рулевые с этих островов хорошо знают Египет. Их предки были среди греков — «бронзовых мужчин», что более двух столетий служили фараонам как наемники, а впоследствии негоцианты. Ионийцам (как и эгинцам) были предоставлены в западной части дельты Нила торговые площади. Греческие купцы построили здесь город, назвали его Навкратис («Сильный флотом, господствующий на море»), и египтяне не возражали против того, чтобы они возводили здесь храмы в честь своих богов.
Как раз под Навкратисом армия Инара только что одержала большую победу над врагом, о чем он радостно известил афинян и их союзников. Уцелевшие в сражении персы устремились вверх по реке, к старинному Мемфису. Вскоре здесь появился со своим флотом Харитимид. Инар и египетское воинство разместились в греческих триерах, и началась погоня. До этой поры персы свободно перемещались на своих судах по здешним водам. Нил — главная магистраль Египта. Кто контролирует реку, тот контролирует всю страну.
Приток Нила, на котором стоял Навкратис, был слишком узок для боевых действий. Но выше, где все рукава сливались в единый поток, могучая река становилась по-настоящему широка и полноводна. Именно отсюда греки впервые увидели великие пирамиды, поднимающиеся на западном берегу среди гробниц и храмов. Возведенные две тысячи лет назад, пирамиды по-прежнему оставались самыми крупными и самыми высокими постройками на земле. К югу от Гизы, где река растекается от берега к берегу больше, чем на милю, она равняется в своем величии с этими памятниками. В некоторых местах и в определенное время года Нил разливается даже шире, чем Геллеспонт или пролив Саламин. Тут в основном мелко, но триеры с их низкой осадкой проходят легко.
В одном из широких рукавов Нила, в верхнем его течении, наконец показались персы. Числом невеликая — всего восемьдесят триер, персидская эскадра имела изначальное преимущество в том смысле, что ее гнал на греков попутный ветер. Но уже при Саламине афиняне показали, что вполне выдерживают сравнение с египтянами, находящимися на персидской службе, а ведь с тех пор прошло два десятка лет активной деятельности. В столкновении двадцать персидских судов было потоплено, тридцать взяты на абордаж, оставшимся тридцати удалось уйти, либо пробившись через дельту к морю, либо достигнув Верхнего Египта, где персы еще удерживали некоторые позиции.
Поблизости находилась самая заманчивая цель — Мемфис. Тут персы построили по-настоящему царский док — «Корабельный дом», где работали тысячи людей. Бухта буквально кишела паромами, рыбачьими лодками, торговыми и транспортными судами, а стены города поднимались почти от самой кромки воды. В прошлом Мемфис, по крайней мере однажды, уступал морской армаде — нубийский царь привел свои боевые корабли с высокими мачтами прямо к городским стенам. Тогда некоторые из его людей падали на зубчатые стены прямо с нок-рей, другие добрались до берега по мосту, собранному из здешних лодок.
На стороне Инара и его греческих союзников было большое преимущество — по ту сторону стен жили друзья, ибо большинство египтян не принимало персов, точно так же, как и любых других иноземных властителей. Довольно быстро армия повстанцев освободила две трети города. Уцелевшие персы и их египетские приспешники ушли улицами в укрепление, которое греки называли Белой крепостью. Кроме этой цитадели, весь Нижний Египет, от Мемфиса до морского побережья, оказался теперь в руках Инара и его греческих союзников. Мало того что это была богатейшая и наиболее населенная область страны — отныне греческий флот в Мемфисе становился чем-то вроде пробки в бутылке: можно было облагать налогом или конфисковать любой груз, идущий из верховьев Нила к открытому морю.
Афиняне горделиво полагали себя поборниками свободы, но за моря они отправлялись не только затем, чтобы принести ее народу Египта. По экономике это была третья страна среди колоний Персидской империи. Лишь Вавилон и Индия превосходили Египет, а его дань составляла семьсот серебряных талантов в год — больше, чем приносили за такое же время афинянам все их морские операции. И это не говоря о 120 тысячах бушелей зерна, которые Египет поставлял на нужды персидской армии. К тому же именно через Египет эфиопы обычно переправляли свою дань персам — черное дерево, слоновые бивни и неочищенное золото. Отделяя Египет от персов, Инар и его греческие союзники лишали Царя царей целого состояния, немалая часть которого отныне пойдет в Афины.
И все-таки Египет был для афинян чем-то большим, нежели просто источником дохода. За сто лет до начала греко-персидских войн знаменитый афинский законник Солон снарядил на собственные средства торговое судно для путешествия в Египет и вернулся назад с историями и мудростью, почерпнутыми у жрецов в городах Саис и Фивы. Несколько поколений спустя, сочиняя свой знаменитый миф про Атлантиду (представляющую собой в действительности аллегорию зла морской державы), афинский философ Платон утверждал, что египетские жрецы являются хранителями древнейших исторических традиций. Египет одарил Афины пшеницей, папирусом, математикой, медициной, а также богатейшей в мире традицией каменной скульптуры и архитектуры.
После успешного завершения кампании большая часть афинского флота повернула в Эгейское море, везя в трюмах обещанное Инаром добро. Харитимид остался в Египте командовать объединенным греческим флотом. Нескольким тысячам гоплитов предстояло осадить Белую крепость в Мемфисе, а эскадра из сорока триер контролировала морскую торговлю и транспортные перевозки в верховьях Нила.
Для закрепления своего военного присутствия в Египте афинянам нужна была морская база на ливанском побережье или в Палестине. Можно, конечно, воспользоваться давно освоенными стоянками на Кипре, но не было перевалочных пунктов, где экипажи могли отдохнуть на долгом пути оттуда в дельту Нила. Перспектива любой морской державы, чья мощь основывается на весельном флоте, зависит от контроля не столько над крупными территориями, сколько над портами стратегического значения, где всегда есть пресная вода и провизия и где можно надежно укрыться и от капризов погоды, и от атак противника. Таковы были финикийские города Сидон и Тир с их протяженной береговой линией, но они все еще сохраняли верность Персии. Однако в пятидесяти милях к югу от них афиняне нашли то, что им требовалось, — место укромное и соблазнительное.
Старинный город Дор прилепился к макушке подходящего к самому морю холма, защищенного с суши топкой местностью, образующей нечто вроде естественного рва. Вдали, за прибрежными низинами виднелся величественный гребень горы Кармель. К югу от Дора лагуну и песчаный берег прикрывала цепочка островков. На самой кромке моря бил ключ прозрачной воды. Пользуясь удаленностью Дора от его законного хозяина — сидонского царя, афиняне высадились на берег и стали распоряжаться здесь по собственному усмотрению. Угнездившись в этом нагорном местечке с его прямыми улочками, укреплениями персидской застройки и финикийскими красильнями, эти авантюристы создали, таким образом, на самом пороге владений Царя царей, наиболее удаленный от непобедимых по всем признакам Афин аванпост.
Через несколько лет после похода в Египет Эсхил вновь обратился к этому сюжету, создав свою знаменитую трилогию «Орестея». Когда герой, по имени которого она названа, воззвал о помощи к Афине, богиня как будто была далеко, воюя вместе со своими друзьями в северной Африке. Эсхил размышляет о таких предметах, как справедливость и гражданский непокой, войны и богатство. Он призывает сограждан чтить закон, сравнивая преуспевающего, но несправедливого человека с судном, перевозящим богатый груз через волнующееся море. Сама Афина заклинает людей от гражданских войн: «Пусть наши войны разыгрываются, во всем своем неистовстве, вдали, пусть там мы будем утолять нашу безмерную жажду славы».
Когда известия о египетском бунте достигли Суз, царь Артаксеркс начал прикидывать, как наилучшим образом справиться с афинянами. Чтобы выбросить их из Египта, нужны крупные силы, а на их подготовку понадобятся годы. А вот нанести удар где-нибудь поближе к городу стоит попробовать. Снарядив посольство с сундуками золота, Артаксеркс направил личного гонца в Спарту с заданием подкупом спровоцировать спартанцев напасть на афинян. Это наверняка вынудит последних оттянуть свои силы из Египта. Невозможно представить себе, что Афины поведут войну на два фронта.
Но спартанцы не обнаружили ни малейшего интереса к персидскому золоту. А вот их союзники по общему флоту оказались готовы атаковать Афины даже без всяких взяток. Коринфяне были злы на афинян за то, что те объединились против них с Мегарами, а эгинцам сильно не нравилось то второстепенное положение, в каком оказался их флот, военный и торговый. Афиняне намеревались нанести упреждающий удар по пелопоннесскому порту Талиасу, но коринфские гоплиты отбросили их. Далее морские союзники Спарты навязали афинянам бой недалеко от скалистого островка Кекрифалея в Сароникском проливе. На сей раз последние оказались в привычной стихии и победили. По окончании сражения они преследовали эгинцев до самого острова, где одержали еще одну, более крупную победу, захватив семьдесят вражеских триер и блокировав эгинскую гавань. После чего афинский военачальник Леократ направился в Пирей, поставил на палубы своих триер осадные орудия и вернулся к городским стенам Эгины.
Осада продолжалась месяцами, и заставить снять ее никак не удавалось ни Спарте, ни ее пелопоннесским союзникам. Артаксеркс отозвал своего посланника, его миссия закончилась полным провалом. Ничто не могло остановить Афины. Они прочно закрепились в Египте, а теперь еще появился предлог, чтобы разобраться со своими давними недругами эгинцами. Никогда еще в истории Афин не выдавалось года, столь плотно насыщенного войнами. Никогда еще смерть не собирала столь обильный урожай, не хоронили по всей протяженности Священного пути такое количество героев.
В тот год памятник павшим представлял собой длинную стену из каменных плит с именами героев. Стратеги, а случалось, даже предсказатели никак не выделялись — все в одном демократическом ряду. Над именами, со смесью гордости и скорби, люди начертали те военные сражения, в которых отдали свою жизнь их сограждане: на Кипре, в Египте, в Финикии, в Галиасе, на Эгине, в Мегарах. Всего несколько месяцев назад они собирались, чтобы принять участие в дебатах и голосовании по тому или иному вопросу. Их безмерные амбиции равнялись только их же готовности заплатить любую цену.
Вражда с Коринфом и Эгиной превращала завершение строительства Длинной стены в вопрос первой необходимости. Еще до своего остракизма Кимон осушил влажную поверхность к западу от Афин, создав, таким образом, прочный фундамент для стены, которая дотянется до самого Пирея. Другая стена соединит город со старинным портом Фалерон. Имея теперь в своем распоряжении богатства Египта и фракийское серебро, текущее в городскую казну, собрание получило возможность выделить средства на осуществление строительного проекта, невиданного по своим масштабам в истории Афин. Это было и впрямь героическое предприятие. Предстояло установить стену длиной в восемь миль, толщиной шестнадцать футов в основании и взмывающую на головокружительную высоту, где пройдет коридор шириной в двенадцать футов. Нижний ряд кладки — каменный, верхний — кирпичный; предусматривались также башенные надстройки. По завершении строительства Афины получат столь надежный выход в море, как если бы это был остров: осуществится мечта Фемистокла.
Возобновление строительства Длинной стены побудило афинских олигархов к решительным действиям. Небольшая группа граждан высшего сословия все еще не оставляла надежды избавиться от радикальной демократии. Эти люди опасались, что если Афины окажутся навсегда и бесповоротно соединены Длинной стеной с флотом, простой люд с места уж не сдвинешь, он так и останется властителем города. И вот, еще до завершения строительства, олигархи отправили тайное послание военачальникам спартанской армии, ставшей в это время лагерем недалеко от границ Аттики. Олигархи призывали их напасть на Афины, суля свою помощь в свержении нынешнего режима. Эти люди считали себя патриотами, верными заветам предков и их конституции.
Заговор каким-то образом раскрылся, и народному собранию стало известно о нависшей над городом угрозе. Гоплиты, как и моряки, на защиту демократии и Длинной стены стеной же и встали. Афинская армия отправилась в поход и столкнулась с противником на поле под Танагрой, в Беотии. Спартанцы с трудом взяли верх, но и афинские граждане сражались не напрасно. Встретив неожиданно сильное сопротивление, спартанцы отказались от дальнейших попыток вмешательства в постройку стены и вернулись домой.
А афиняне жаждали реванша. Их стратег Толмид, эта горячая голова (само имя в переводе значит «Сын Смелого»), предложил послать на Пелопоннес военно-морскую экспедицию и примерно наказать спартанцев, хоть раз поставив их в положение защищающейся стороны. Двигаясь от одной цели к другой, афиняне разрушат береговые укрепления, соберут богатую добычу и посеют страх. А когда подоспеют местные силы, нападающие возьмут их суда на абордаж и уведут к себе домой. Иными словами, Толмид предлагал своим согражданам чисто пиратский налет. Собрание проголосовало «за», Толмиду было выделено некоторое количество триер и тысяча гоплитов, но его план показался настолько привлекательным, что многие юные граждане записались добровольцами. Места для них на широкопалубных триерах, построенных по чертежам Кимона накануне событий на реке Эвримедонт, хватало.
Во главе флотилии из пятидесяти триер Толмид двинулся на юг, к мысу Малея. Обогнув этот опасный выступ, он внезапно обрушился на спартанский порт Гитиум и поджег тамошние доки. Той же мародерской тактике — удар-отплытие его люди следовали на всем протяжении пути вокруг Пелопоннесского полуострова. Перед возвращением в Афины Толмид высадился в приморском городке Навпакт в Коринфском заливе и сдал его из рук в руки мессенским бунтовщикам. Тех недавно согнали со своих мест спартанцы. Отныне эти беженцы будут торчать под боком у спартанцев постоянной занозой. Экспедиция Толмида оказалась настолько успешной в самых разных отношениях, что в последующие два года собрание посылало на запад с такой же миссией Перикла.
Что касается афинских корабелов, то среди всех подвигов Толмида более всего оказался им по сердцу союз, заключенный с жителями острова Закинф, этого райского местечка с белыми отвесными скалами и известняковыми пещерами. На дне одного из озер на острове оказалось настоящее черное сокровище: смола. В непрекращающейся войне с загниванием и жуками-древоточцами эта смола, если покрыть ею обшивку триер, могла оказаться оружием еще более эффективным, нежели хвойная смола. Добывали ее на Закинфе с двенадцатифутовой глубины при помощи миртовых веток, привязанных к шестам. Собранную в сосуды смолу можно было донести до берега и либо тут же покрыть ею обшивку, либо отправить домой и хранить в Пирее.
Дурные новости из Египта положили на время конец военным действиям Афин в Греции. Шесть лет афиняне делили там власть с восставшим царем Инаром. Но Артаксеркс, при всей своей медлительности, все же понимал, что нельзя вот так, запросто, отказаться от Египта. И он осуществил мощное контрнаступление против египтян и их греческих союзников. Персы заперли афинские и ионийские войска на острове Просопитис в дельте Нила и, после того как инженеры осушили окружающие его каналы, пленили или перебили всех врагов до единого. И в то же самое время финикийские триеры — часть персидского флота — поймали в западню и уничтожили спешащую на выручку осажденным афинскую эскадру. Произошло это в устье Нила, на самом востоке.
После столь неожиданного исхода Перикл и другие военачальники решили на время воздержаться от заморских экспедиций. Кимон же, вернувшись из ссылки, не смущаясь недавними событиями на Ниле, вновь повел союзный флот, состоящий из двухсот триер, на восток. Сто сорок остались с ним на Кипре, остальные двинулись на юг поддержать соотечественников, продолжающих вместе с египтянами оказывать сопротивление персам в дельте Нила. Одна афинская триера, отправленная лично Кимоном, пошла вдоль берега на запад, в оазис Сива, со священной миссией — спросить совета, что делать, у оракула Аммона, которого греки отождествляли с самим Зевсом. Пути было восемь-девять дней, по прошествии которых посланцы услышали пророческий голос, повелевающий им вернуться на Кипр. Кимон же, по словам бога, уже с ним.
Вернувшись к месту сосредоточения основных сил флота, афиняне обнаружили, что так оно и есть. Пока их не было, Кимон заболел и умер. Воспламененные духом своего павшего лидера, моряки дали очередное сражение крупной персидской флотилии и победили, захватив сто финикийских триер. Быстро двинувшись после этого к берегу, греческие гоплиты разбили персов на суше. Этот успех стал как бы повторением великой двойной победы, одержанной Кимоном шестнадцать лет назад на реке Эвримедонт.
Получив в Сузах печальные известия, Артаксеркс принял важное решение. Опустошительным нападениям афинян на его империю конца видно не было. Всего четыре года назад они потеряли в Египте множество людей и судов, и вот снова там опять угрожают отнять колонию. Пора положить конец войне, начатой его дедом и отцом. Артаксеркс отправил афинянам гонца с личным посланием. Царь царей приглашает к себе в Сузы афинское посольство для переговоров, в ходе которых можно решить все спорные вопросы и оставить вражду позади.
Получив послание, народное собрание Афин направило в Сузы Каллия, зятя Кимона. Наследственный афинский герольд, он был наделен полномочиями вести переговоры с Царем царей. Несколько месяцев спустя Каллий вернулся домой с ценным багажом — золотые чаши, пара павлинов и мирный договор, по которому персы соглашались держать свои морские силы восточнее Хелидонских островов на Средиземном море и восточнее Кианейских скал на Черном. Таким образом, Артаксеркс молча признавал, что Эгейское море, Геллеспонт, Мраморное море и Босфор — это территориальные воды Афин. Так закончились греко-персидские войны.
Каллий вел мирные переговоры с Персией в пору, когда сходило с арены самое яркое поколение в истории Афин. Этим людям было теперь по шестьдесят, и поворотные моменты их жизни совпали по времени с поворотными моментами войны Афин с Персией. Это было первое поколение афинян, родившихся в свободном городе после свержения последнего тирана. Когда его представителям было по двадцать, они сражались с персами под Марафоном — таких молодых воинов в истории Афин еще не было. В тридцать они во главе с Фемистоклом поднимались на борт триер в Артемисии и проливе Саламин. А на закате активной деятельности, в сорок пять, следовали за Кимоном на берега реки Эвримедонт.
Теперь бремя ведения семейных и государственных дел они передают своим сыновьям. Сами же погружаются в тихие воды старости, безмятежность семейных ритуалов и в дела судебные. Сменив копья и весла на прогулочные посохи, усаживаясь в тени высаженных при Кимоне платанов, они будут вспоминать минувшие сражения и павших товарищей. Юношами они давали традиционную клятву: «Я передам потомству землю отечества без убыли, но с приращением». И остались верны своей родине более, чем какое-либо иное поколение.
Трения со спартанцами и их союзниками продолжались. Годами афиняне оказывали поддержку демократическим силам в городах центральной Греции. Олигархи-властители были изгнаны, города заключили с Афинами союз, в них разместились афинские гарнизоны, обеспечивающие выполнение демократических законов и соблюдение союзнических обязательств. К моменту заключения мирного договора с персами зона афинского влияния простиралась от северного Пелопоннеса почти до Фермопил. А когда с сопротивлением олигархов было полностью покончено, Толмид категорически потребовал, чтобы собрание послало армию во главе с ним обеспечивать безопасность сухопутных территорий. Перикл возражал, но большинство проголосовало «за». В результате армия проиграла крупное сражение в Бетии, Толмид был убит, множество гоплитов попало в плен. Расплатиться за них пришлось недавно завоеванными территориями и Тридцатилетним миром со Спартой и ее пелопоннесскими союзниками. Впоследствии афиняне признают мудрую правоту Перикла и согласятся с тем, что судьба их — морское владычество.
Глава 8
Моряки Золотого века (Середина V века до н. э.)
К нашим представлениям о пейзаже, флоре и фауне следует добавить представление о море, ибо мы в некотором смысле — амфибии, жители суши не в большей степени, чем жители моря.
Страбон
Афинянин — гребец на одной из триер своего города обладал широким видением мира, и мир этот был полон чудес. Огромные финвалы (сельдяные киты) бороздили воды Эгейского моря — левиафаны, ведомые (во всяком случае, греки верили в это) хитроумными рыбами-лоцманами. И напротив, аргонавт, этот крохотный моллюск, скользит по ветру, как миниатюрный кораблик под развернутыми парусами. Вокруг триер, поощряемые посвистом и песнями моряков, весело играют дельфины. Существовало поверье, что они приносят удачу и даже помогают выбраться на берег жертвам кораблекрушения. Одинокие морские черепахи покачиваются на поверхности в лучах солнца либо усердно работают, как лопастями весел, своими сильными конечностями. Где-то может вдруг появиться, стремительно рассекая воду острыми плавниками, косяк тунцов. Эти большие, серебристо-голубого цвета рыбы представляют собой целое состояние. Замечая такой косяк, рыбаки накрывают его сетями, а затем бьют рыбу дубинками или древками копий.
Безоблачной ночью рулевые ориентируются по звездам, днем — по различным вехам. Архипелаги Эгейского моря представляют собой погрузившиеся на дно горные цепи с торчащими на поверхности пиками, а прибрежная суша — это тоже горы. В водном царстве афинского флота впередсмотрящий со своего поста на топ-мачте почти всегда видит землю. Иное дело, что и при столкновении с верхушками гор возникают завихрения, и в течение почти всего лета северные ветры с полудня до заката волнуют поверхность моря. Греки называли такие ветры «этесиями», то есть сезонными. Когда они задували, триерам приходилось идти, то и дело зарываясь носом в волны, а чаще они просто не выходили из порта. Порой, благодаря опять-таки близости гор, поднимался настоящий смерч — «катабатический ветер», холодные порывы которого поднимали на море стену кипящей пены. И тогда до гребцов доносились с топ-мачты сначала ругательства, а потом крики: «Шквал! Шквал надвигается!»
Перед закатом на западном горизонте зажигалась звезда Венера, как предвестие начала пышного зрелища — луна, звезды, планеты. Ветер стихает, и триеры спокойно скользят, углубляясь в лунную ночь. Иногда море освещается фосфоресцирующим блеском, и на лопастях весел вспыхивают зеленовато-белые огоньки. Как и дельфины, они обещают удачу, указывая на присутствие двух божественных покровителей мореходов, братьев-близнецов Кастора и Полидевка. К рассвету огоньки постепенно угасают, и в конце концов остается только один. Это утренняя звезда — Фосфор, «Носительница Света». Она предвещает восход солнца и начало нового дня.
В наступившие годы мира афинские суда отваживались уходить далеко за пределы домашних вод. Совершив положенный ритуал, афиняне отправляли триеру с посланцами на борту в Ливию, где в Сиве, посреди пустыни Сахары, они вопрошали оракула Зевса-Амона. Тем временем другие афинские эмиссары вели переговоры с вождями местных скифских и фракийских племен о торговле пшеницей, соленой рыбой и иными продуктами. А одно посольство добралось до самого Неаполитанского залива и знаменитой греческой колонии в Неаполисе («Новый Город»). Там афинским морякам открылась высокая, конической формы гора Везувий, дремлющая так долго, что все забыли, что это вулкан.
Тогда же афиняне прошли мимо знаменитых скал у побережья Амальфи, где две прекрасные соблазнительницы сирены пытались заманить Одиссея своим божественным пением. Посольство в Неаполисе возглавлял Диотим. Он же ходил за две тысячи миль от Афин к персидскому царю в Сузы. Такого рода экспедиции накладывали сильный отпечаток на характер афинян, укрепляя дух предприимчивости, беспокойства и гордости за свои дела.
Настали времена, когда во всем, что касается мореплавания и ратной службы, рядовой гражданин уже способен был бросить вызов аристократу. Он мог не знать наизусть Гомера или похвастать родством с воином, участвовавшим в Троянской войне, зато видел Трою собственными глазами — невысокий холм на пути к Византию через Геллеспонт. Обычный фет, пусть всего-то гребец триеры, ходил морскими путями, освященными легендами об Одиссее, Тесее, Ясоне, Кадме, в Азию, Африку, Европу и на многочисленные острова Средиземноморья. Пусть вооруженный всего лишь веслом взамен меча и копья и выглядевший в иноземных краях вполне скромно, все равно любой афинский моряк был Одиссеем своего времени — избороздивший тысячи морских миль, мудро поступавший в непростых ситуациях, спокойно смотрящий в лицо опасностям и исполненный решимости вернуться вместе со своими товарищами домой в целости и сохранности.
С приближением зимы и, стало быть, завершением навигации широко разбросанные по морям триеры возвращались в Пирей, как домашние голуби. Еще издали их приветствовал яркий блеск с Акрополя, расположенного в четырех милях от береговой полосы. Это солнечный свет отражался от бронзового шлема на голове богини Афины. Это была огромная статуя покровительницы города — чуть ли не первый шедевр Фидия. Создавалась статуя девять лет, и высота ее была 30 футов. С приближением к дому экипаж приводил себя в порядок. В ходу была поговорка — «как афинянин, входящий в гавань», то есть дело сделано, и сделано наилучшим образом. Моряки знали, что за ними следят тысячи строгих, оценивающих глаз.
Две небольшие гавани к востоку от пирейского мыса, Зеа и Мунихия, предназначались исключительно для военных кораблей, в то время как в большой бухте Канфар, на западе, наряду с военными триерами швартовались торговые суда. Перед началом любой экспедиции сюда заходили для осмотра все триеры, а в случаях крайней необходимости здесь собирался совет, члены которого не расходились, пока корабли не выйдут в открытое море.
По кромке всех трех бухт изгибались длинные ряды эллингов, строительство каждого из которых обошлось не менее чем в тысячу талантов. У каждой триеры было в эллинге свое место, куда ее втаскивали по плоскому настилу на зиму, освободив предварительно от такелажа и убрав на просушку паруса. У триерархов, замеченных в потере предмета военно-морского оборудования, или моряков, совершивших дисциплинарный проступок, оставалась возможность незаметно уйти кривыми улочками и отыскать убежище в храме Артемиды на холме Мунихия. Охранялся порт чрезвычайно строго, сотни стражников бдительно следили за всем — от пожара до кражи бочки со смолой или мотка веревки.
Первым адресом на берегу, по которому шел афинский моряк, выходя за ворота порта, была, весьма вероятно, парикмахерская. В Афинах стрижка и прическа всегда имели социально-политический оттенок. Аристократы-всадники по-прежнему носили косички и золотые шпильки для волос. Феты (и политики, выступающие от их имени) предпочитали короткую стрижку, хотя и не вполне «ежик». Клиент садится на низкую табуретку, на плечи ему набрасывается простыня, на которую падают отрезанные пряди волос. Далее парикмахер подравнивает их, втирает пахучие масла и подстригает бороду (в Афинах любого мужчину с длинной нечесаной бородой приняли бы за философа). Проступающую седину всегда можно закрасить. Помимо прически и ухода за ногтями, парикмахер развлекает клиента бесчисленным множеством историй и анекдотов. Моряк, которого долго не было дома, жадно ловит их и, случается, в свою очередь, обогащает парикмахера рассказом о своих странствиях. Греческие парикмахеры были повсюду известны как большие говоруны, и на вопрос, как его постричь, какой-нибудь остроумец вполне мог ответить парикмахеру: «Молча».
Из цирюльни афинский моряк выходил аккуратно постриженным и посвежевшим. Склонный легко потратить свое жалованье, он готов был нырнуть в лабиринты портового рынка, начинающегося прямо за эллингами бухты Зеа. Здесь его ждала роскошь, которой он был лишен в течение долгого и тяжелого плавания. Афиняне золотого века никогда не отказывали себе в удовольствии поговорить о том, какие иноземные товары и продукты идут морем в Пирей. Из Ливии — слоновая кость, кожа, лекарственные травы и диетическая добавка под названием сильфий. Из Египта — папирус и полотно на паруса. С Крита — кипарис, из дерева которого вырезаются изображения богов. Из Сирии — фимиам для курения в храмах при благодарственных молебнах в честь благополучного возвращения.
Столы, что накрывали в Афинах, были достойны самого персидского царя. На пиршество обычно подавали соленую рыбу из Черного моря, ребрышки из Фессалии, свинину и сыры из Сиракуз, финики из Финикии, изюм и фиги с Родоса, груши и яблоки из Эвбеи, миндаль с Наксоса, орехи из Малой Азии. Лепешки, часто приправленные капелькой рыбного соуса, изготовлялись, как правило, из северочерноморской, египетской или сицилийской пшеницы. Наслаждаясь этими деликатесами, афиняне удобно располагались на разноцветных коврах и подушках из Карфагена. Если ужин затягивался за полночь, шумное застолье освещали лампады на бронзовых подставках, изготовленных в центральной Италии этрусскими мастерами. Как взывал комедиограф Гермипп, составивший целый каталог импортных товаров, которыми забиты афинские рынки:
Правда, иные неудачники, вернувшись домой, шли первым делом не к лавочнику, а к врачу. Гребля и вообще морская служба связаны с профессиональным риском и заболеваниями. Среди врачей, исцеляющих такие заболевания, были ученики знаменитого Гиппократа, этого медика-революционера. Он родился на островке Кос, в восточной части Эгейского моря, но учение его далеко перешагнуло границы и Коса, и всего Афинского союза, членом которого он был. Гиппократ создал целую школу медицины по образцу философских школ. Его ученики и преемники приносили священную клятву Гиппократа, но свою научную деятельность основывали не на божественных заповедях, а на наблюдениях за симптомами, на применении разных методов лечения и на скрупулезных записях течения болезни.
Эти записи, как самого Гиппократа, так и его последователей, проясняют характер опасностей, с которыми сталкивались греческие моряки того времени. «На Саламине человек, упавший на якорь, поранил себе живот. Он испытывал сильные боли. Он выпил лекарства, но желудок не опорожнился, и рвоты тоже не последовало». Гребцов донимали не просто волдыри на ладонях или ушибы. Несмотря на шерстяную подушечку и упор для ног, греческие моряки страдали от профессионального недуга, связанного с продолжительным сидением на банке, — так называемого свища ануса.
Если не лечиться, свищ может разрушить стенку прямой кишки. И это уже серьезно. Если же принять меры вовремя, свищ убирается за какие-то несколько дней — при помощи пробок из льна и свечей из напудренного рога. Другие средства — вода, смешанная с медом (оказывает эффективное антибактериальное воздействие), щавелевый отвар, валяльная глина, глинозем. Прямая кишка несчастного гребца подвергается постоянной обработке миром, и свищ постепенно сходит на нет. Но без медицинского вмешательства дела плохи: «Кого не лечат, те умирают».
Ученики Гиппократа привнесли в медицину тот упорядоченный, научный подход, который оказал в свое время революционное воздействие и на многие другие виды деятельности того времени — от изучения истории до градостроительства. Медики изучали розу ветров, дожди, звездное небо с таким же усердием, что и моряки, ибо были твердо убеждены в том, что климат и смена времен года оказывают сильнейшее воздействие на физическое состояние человека. В городах восточной Греции под пятой персов искусства и науки пришли в упадок. И вот теперь либеральное мировоззрение афинян сделало возможным научный ренессанс. А свобода передвижения по пределам морской империи способствовала быстрому распространению свежих идей и технических нововведений.
С возрастанием роли военного флота и мореходства в целом Пирей постепенно сам по себе становился крупным городом. Афинскому флоту нужен был достойный его дом, и народное собрание обратилось к первому в мире профессиональному градостроителю, Гипподаму из Милета. Он тоже был восточным греком, но покровители его отнюдь не стремились к какому-то особому изыску, скорее даже не отдельные покровители, а жители разных мест, мечтающие о новых городах. Афины были готовы щедро платить таким странствующим консультантам, будь то предсказатели, астрономы, архитекторы или инженеры. Родной город Гипподама был перестроен по четкой разметке после того, как орды Ксеркса сровняли его с землей. Успех этого огромного предприятия побудил архитектора отправиться в путешествие по всему Средиземноморью с проповедью этого самоновейшего градостроительного направления. Гипподам представлял собой фигуру весьма красочную и эксцентричную, как и подобает ученому мужу, каким он хотел выглядеть в глазах широкой публики. Длинные, причудливо уложенные волосы, необычная одежда. Зимой и летом он носил одно и то же дешевое, странной выкройки одеяние.
Гипподам был не просто инженером-строителем, скорее теоретиком-утопистом. Он отыскивал некую физическую опору для совершенного человеческого сообщества — социальную, пространственную и духовную. В соответствии со своими философскими, метеорологическими и архитектурными воззрениями Гипподам неизменно видел мир в тройном измерении. В его идеальном городе население распадается на три категории: ремесленники, крестьяне и воины. Земля тоже имеет три сегмента: священная, общественная и частная. Даже судебный вердикт предполагает три возможности: виновен, не виновен, есть сомнения. Как, должно быть, подпрыгнуло у этого человека сердце, когда его взору впервые открылись три естественные гавани Пирея!
За ними, однако, начинался каменистый участок безводной земли, беспорядочно застроенный ко всему прочему — еще по плану Фемистокла — различными укреплениями, эллингами, рассеченный дорогами; повсюду разбросаны капища, а на мысе уже тысячи лет стоит рыбацкая деревушка. Правда, много и земли совершенно свободной, девственной, так сказать. Более того, под рукой строительный материал — камень. Карьеры приморской оконечности мыса — кладезь пористого желтовато-серого известняка и мягкого мергеля. Конечно, это не роскошный белый мрамор горы Пентелион, но материал прочный и надежный, как сам Пирей.
Афины веками разрастались в высшей степени органично — улицы и городские районы разбегаются в разные стороны от Акрополя, подобно тому как от сердца разбегаются артерии. По обе стороны извилистых переулков жмутся друг к другу частные дома, капища, общественные помещения, мастерские. У такой конфигурации были свои адвокаты. Греки, во всяком случае многие из них, были убеждены, что план города и должен быть алогичным, в нем и должно быть трудно ориентироваться. Если улицы расположены прямо и четко, враг-завоеватель проложит себе путь с такой же легкостью, как и местный житель. Разумеется, восстанавливая город после событий в проливе Саламин, афиняне решительно воспротивились переменам, которые предлагал Фемистокл. Но Пирей, дитя современности и просвещенности, будет выглядеть иначе.
Гипподаму было предложено разделить, или рассечь, Пирей на части. С самого начала в качестве оси он избрал длинную седловину земли, уходящую от подножия холма Мунихия, этого акрополя Пирея, на юго-запад, к холму Акте и карьерам. По обе стороны оси Гипподам разметил границы священной, общественной и частной земли. На пограничных камнях четко обозначено предназначение каждого из участков. Точно так же на специальных табличках указано местоположение святилищ богов, кварталы иноземных купцов и даже остановка парома, откуда можно добраться до Саламина или какого-нибудь другого острова.
В центре — агора с домом совета и общественными учреждениями. Этот центр гражданской жизни города, получивший наименование Гипподамовой агоры, архитектор расположил на ровном участке земли, к северу от бухты Зеа. Уже невдалеке от кромки бухты агора расширялась, образуя открытое пространство, где накануне выхода в море могут концентрироваться триеры.
Поперечные улицы соединяют порт Канфар по одну сторону этого гребня с военным портом бухты Зеа по другую. Размечая улицы, Гипподам взял за основу математическую пропорцию 3:5:9. Переулки, ограничивающие квартал, имеют ширину 15 футов, улицы, обозначающие границу района, — 25, а магистрали — целых 45. Все выдержано в прямых формах. Афиняне были настолько довольны работой Гипподама в Пирее, что впоследствии заказали ему городской план своей новой колонии в северной Италии — Фурии.
Схожесть домов подчеркивала демократический дух города, дух равенства. В жилых кварталах Гипподам разместил по восемь жилищ, каждое из которых представляло собой тот или иной вариант стандартного пирейского дома. На узком, вытянутом в длину участке, 40 на 70 футов, располагается сам дом, а на другой половине обнесенный флажками внутренний двор, где установлена печь и большой, в форме колокола, бак с водой для домашних нужд. В самом доме — столовая с очагом, наверху — спальни. Никто в Пирее не жил сколько-нибудь далеко от воды. Благодаря холмистой местности дома в городе поднимались амфитеатром. С крыши едва ли не любого из них открывался вид на ближайшую бухту и дальше, на открытое море.
Андрон, или мужская гостиная, выходил прямо на внутренний двор. Здесь хозяин дома принимал друзей. Спланирован андрон в Пирее был так, чтобы по квадратному периметру разместились семь кушеток: по две на трех сторонах и одна на четвертой, рядом с расположенной в углу дверью. После ужина, когда солнце начинает отбрасывать тень, более длинную, чем рост высокого мужчины, наступает время пить вино. Симпозий , или совместная дегустация, — вершина любого афинского застолья. Люди рассказывают друг другу истории, делятся мыслями, кто-то читает стихи. На фоне этого многоголосия в банкетный зал вносят разного размера сосуды, все — местного, афинского, производства, все из хорошей аттической глины, все обожжены и блестят черными и красными боками. На амфорах и чашах изображены популярные герои и сцены мифов, например, Одиссей, привязанный к мачте корабля и слушающий пение сирен. Но есть и современные сюжеты, воспроизводящие подвиги тех самых людей, которые вот-вот пригубят напиток: воины, отправляющиеся на триерах в боевой поход; военный корабль, рассекающий волны; лучники, изготовившиеся к стрельбе с палубы корабля; пираты, врасплох захватывающие мирное грузовое судно. Самые красивые из этих рисунков — длинные изящные галеры, изображенные на внутренней поверхности чаши. Стоит наполнить бокалы вином, и возникает впечатление, будто суда приходят в движение: отраженные в море вина, они сами отражают «темное, как вино, море» — море поэта, в которого влюблены все, Гомера.
Бывает, хозяин дома наряду с вином, музыкой и беседой устраивает гостям любовные утехи. Впрочем, кто угодно может найти и самый простой, свободный от всякого рода виньеток способ отдохновения — борделей в Пирее хватает. Весьма свободное, если не сказать разнузданное, сексуальное поведение практически не имело для афинских граждан никаких последствий. Болезни, передающиеся половым путем, были еще неизвестны, а ведь мало можно найти в истории обществ и государств примеров, где совершеннолетние мужчины пользовались бы такой же сексуальной свободой, как в Афинах.
Быть может, неудивительно и даже естественно, что афиняне, которым нравилось думать, говорить, шутить о сексе как бы со стороны, не занимаясь им в этот момент, смотрели на половые органы и половой акт как на продолжение своих морских приключений. Клитор они именовали «колпосом» — заливом наподобие Коринфского или Сароникского, где мореход от счастья может потерять голову. Что касается пениса, то скромный мужчина мог уподобить его «контосу» (корабельному шесту), хвастун — «педалиону» (ведущему веслу), а ни тот ни другой, средний, так сказать, персонаж — «копе» (веслу между ногами). Половой акт — перестрелка между триерами, в которой активная роль не всегда отводится мужчине. Распространенная в Афинах поза, при которой женщина находится сверху партнера, предоставляла ей возможность играть роль «навтрии», то есть «гребчихи», и «гребет» она лодкой-мужчиной. При однополой любви активный партнер «берет на абордаж» пассивного, а групповой секс иногда именовался «навмахией», то есть морским сражением.
Но это все-таки из области интимных удовольствий. А в городе была оживленная жизнь — два театра на открытом воздухе (в Афинах был только один), регулярные религиозные празднества. Пирей на протяжении всего года оставался площадкой массовых развлечений. Особенно красочный элемент жизни портового города придавало наличие капищ и храмов иноземных богов. Всякий из них становился своего рода религиозным центром для той или иной группы негоциантов из дальних стран, оседавших в Пирее. Фракийцы устраивали в честь своей северной богини Бендиды конную эстафету, когда всадники на ходу передают друг другу факел. Египетские купцы не пускались в путь с берегов Нила без Изиды, торговцы из Малой Азии — без матери-богини Кибелы, а сирийцы — без Астарты. Финикийцы познакомили жителей Пирея не только с культом Ваала, но и с загадочным божеством, наделенным торсом мужчины и головой, напоминающей нос военного корабля, вооруженного таранным орудием. Надгробие одного финикийца — жителя Пирея представляло собой камень с изображением этого удивительного корабельного бога, схватившегося со львом в борьбе за обладание трупом.
В морской стихии Пирея царили религиозный мир и согласие, такая вещь, как убийство за поклонение «неправильному» богу, была просто неведома. Преследовалось лишь безбожие и неправедность. В Афинах идеологические разногласия были уделом философских школ, но не храмов. А иноземные празднества сделались так популярны, что афиняне вышагивали четыре мили для того лишь, чтобы поглазеть на новые экзотические представления, разыгрывавшиеся на улицах Пирея.
Наиболее полное воплощение демократический дух Афин и их флота нашел в священной триере «Парал». Имя позаимствовано из мифа: бог моря Посейдон усыновил героя Парала («человек берега»), которому приписывается изобретение галеры, или длинного судна. Ежегодно экипаж священной триеры устраивал празднество и приносил жертвы своему покровителю. Одну священную триеру сменяла другая, но имя сохранялось. И это было единственное мужское имя во всем флоте — остальные триеры носили женские имена. Демократы до мозга костей, члены экипажа «Парала» яростно противились всему, что имело хоть малейший привкус олигархии или тирании. Перикл лишний раз продемонстрировал свою приверженность флоту, назвав второго сына именем этого корабля и, стало быть, легендарного героя.
«Парал» стал флагманским судном всего афинского флота. Случалось, он возглавлял военную эскадру, но выполнял также и другие функции: перевозил секретную почту и посольства, направляемые с тем или иным дипломатическим поручением, передавал разведывательные данные другим подразделениям флота, служил в буквальном смысле священным судном, когда на борт поднимались жрецы и участники церемоний и празднеств, проходивших в других странах. Раз в четыре года корабль перевозил спортсменов-олимпийцев и их свиту на знаменитые игры, устраивавшиеся в честь Зевса.
Ходил «Парал» и поближе, в Истм, где коринфяне проводили игры в честь Посейдона. Спортивные соревнования в рамках этих игр проходили рядом со святилищем в сосновой роще, где Фемистокл и другие лидеры греков разрабатывали план сопротивления Ксерксу. На трибуне стадиона афинской делегации традиционно предоставлялось столько места, сколько занимал парус «Парала», развернутый в форме навеса. В отличие от Олимпийских Истмийские игры включали корабельные гонки, так что у экипажа «Парала» была возможность бросить вызов соперникам из Коринфа, Мегар, Сикиона и многих других греческих городов. Корона победителя Истмийских игр сплеталась из сосновых веток — дерева, особо ценимого корабелами, и, стало быть, дерева, благословленного богом моря.
Все члены команды «Парала» были афинскими гражданами. Корабль не имел триерарха — полная демократия. Старшим офицером считался казначей, известный под именем Тамиаса Парала. Выборы его считались делом столь важным, что в них участвовало все народное собрание. Казначею, помимо всего прочего, доверялись средства, необходимые для поддержания судна в состоянии постоянной готовности. Иногда члены экипажа «Парала», все до единого, становились афинскими послами за рубежом. Наиболее отличившихся награждали золотыми коронами — честь, которой обычно удостаивались лишь аристократы-триерархи.
Этот демократический эксперимент подтверждал, что плоды морских побед достаются всем афинянам и меняют жизнь даже беднейших граждан. Наступил век простого человека. Впервые в истории рядовые граждане, независимо от монарха, от аристократии, от духовенства, сами, собственными руками, направляли развитие великого государства.
Часть 3 Империя
Несомненно, люди политически индифферентные просто отмахнутся от всего этого. Но те, кто, подобно нам, предпочитает действие, последуют нашему примеру. Если им не удастся достичь того, чего достигли мы, они будут завидовать нам. Все, кто взял на себя бремя руководства другими, вызывали на какое-то время ненависть и утрачивали популярность. Но если перед тобой большая цель, следует примириться с такой участью, это будет мудро. Ненависть недолговечна, а нынешнее великолепие, осев в кладезе вечной памяти человечества, обернется неувядающей славой.
Перикл. Из обращения к афинянам.
Глава 9
Имперский флот (446–433 годы до н. э.)
О Афины, царица городов!
Как прекрасен твой порт! Как прекрасен твой Пантеон! Как прекрасен твой Пирей!
Твои священные деревья — у кого еще
есть такие?
Говорят, сами небеса струят на тебя
свой яркий свет.
Отрывок из несохранившейся комедии.
В греческой мифологии история человечества начинается золотым веком. Миром правил отец Зевса Кронос. В эту идиллическую эпоху наши предки жили долго и счастливо, не испытывая недостатка ни в здоровье, ни в еде. Но со временем золотой век миновал, сменившись веками серебра, бронзы и железа. После Каллиева мира достигнутое господство на море словно бы вернуло в Афины тот легендарный век золота. Люди преуспевали. Живопись, архитектура, философия, драма, исторические штудии, точные науки — все это достигло невиданного прежде расцвета. Архитектором нового золотого века стал Перикл, под благодетельным руководством которого обрела твердый фундамент вера афинян в то, что они кладут начало новому витку в истории человечества.
Перикл строил дом на четырех мощных столпах: демократия; военно-морская сила; экономическое процветание империи; власть разума. В лице Перикла афиняне нашли лидера, чей гений прежде всего проявлял себя в общественных делах. Более трех десятилетий он оставался ведущим политиком города, оратором, военно-морским начальником, администратором, покровителем искусств и образования. Да, конечно, он стоял на плечах гигантов. На протяжении всей своей долгой карьеры Перикл оглядывался на Фемистокла как на страстного апологета флота и пропагандиста политически ориентированного театра; Аристида как архитектора империи; Эфиальта как реформатора-демократа; Кимона как общественного благодетеля; Толмида как военно-морского стратега; Анаксагора как ученого-мыслителя. Но как лидер, умеющий заглянуть в будущее, он превзошел их всех. Отчасти всерьез — в знак восхищения, отчасти в шутку современники называли Перикла «олимпийцем», или просто Зевсом.
Перикл нечасто выступал перед народным собранием, поднимаясь на трибуну, когда речь шла о действительно важных делах. Один остроумец сравнил его со священной государственной триерой «Саламиния», которая выходила в море лишь в экстраординарных случаях. Он умел чеканить фразы так, что они прочно западали в сознание. Эгина представлялась ему «бельмом в глазу» афинян, угроза конфликтов — «войной, надвигающейся на нас с Пелопоннеса», потеря молодых афинян в заморских сражениях — «утратой весны в годовом цикле». Сократ до конца жизни вспоминал, что участвовал в народном собрании, когда Перикл предложил возвести третью Длинную стену для укрепления связей Афин с Пиреем. Комедиограф Эвпол сравнивал речи Перикла с работой пчел: сладкие как мед, эти обращения в то же время жалом застревают в памяти слушателей.
Мир с Персией и государствами Пелопоннеса не ослабил морской активности Афин. Флот требовал постоянного обновления, денежных затрат, человеческих усилий. Подобно вепрю из басни Эзопа, который и на отдыхе неустанно точит клыки, афинский флот и в мирные времена не знал, что такое каникулы. Чтобы построить корабль, нужны было время и деньги, чтобы научиться управлять им — постоянная тренировка. В периклов век мира Афины будут уделять флоту не меньшее внимание, чем в кимоновы годы постоянных войн.
Перикл самолично распоряжался деятельностью флота в мирное время. Каждую весну в море выходили шестьдесят триер, экипаж которых состоял исключительно из гражданских лиц. В результате через такие экспедиции прошло общим числом двенадцать тысяч афинян. Право подняться на борт имели лишь те, кто мог доказать свое афинское происхождение и по отцовской и по материнской линии. Афинское гражданство — желанный приз (как и вознаграждение, полагающееся за военно-морскую службу), и вход на эту особую территорию бдительно охранялся. Было создано специальное морское жюри («навтодики»), рассматривающее случаи появления людей с сомнительной родословной. Эти проверки проводились ежегодно, с наступлением месяца мунихион, когда открывалась навигация.
Даже учитывая эти периодические чистки, население Афин переживало период бурного роста. Одним из самых больших преимуществ империи является обретение новых заморских земель, которые можно было разделить между неимущими гражданами Афин, превращая, таким образом, городскую бедноту в класс земельных собственников. Такие наделы назывались «клерухиями», иначе говоря, землями, выигранными в лотерею. Их новые собственники сохраняли афинское гражданство. Толмид учредил «клерухии» на островах Эвбея и Наксос, Перикл — на Галлиполийском полуострове, а определенные участки земли во Фракии были отведены для представителей двух низших классов — фетов и гоплитов. Таким образом, победы афинского флота обеспечили землей и средствами к существованию тысячи рядовых граждан.
В перикловы мирные годы триеры выходили в море ранней весной. Навигация продолжалась восемь месяцев, когда с приближением зимних штормов флот возвращался в Пирей. Все это время было занято выполнением самых различных задач. Двадцать судов сторожили берега Аттики и подходы к Пирею. Десять собирали дань с союзных городов и островов. Некоторые переправляли посольства в иноземные страны или направлялись со священными миссиями в отдаленные храмы и на религиозные празднества. Кое-кто выслеживал пиратов. Кое-кто перевозил отряды афинских гоплитов на острова и в города, где им предстояло выступить в поддержку демократических сил против местных олигархов. И в любом случае, каково бы ни было конкретное дело, все экипажи оттачивали на море навыки, необходимые для ведения сражений. Афиняне — по природе народ общительный и своевольный, но на борту триеры рядовые граждане подчинялись строгой дисциплине — никакой самодеятельности, беспрекословное подчинение. Афинский флот зависел от их мастерства, а политическая власть народа зависела от флота.
Ежегодное содержание шестидесяти триер, находящихся в плавании восемь месяцев, составляло в мирное время 480 талантов. Низшие слои населения сильно выигрывали за счет твердых поступлений в виде дани, выплачиваемой союзниками. От этого дохода зависело существование более двадцати тысяч афинских граждан. Огромное количество судейских, лучников, всадников, служащих различных учреждений, стражей Акрополя, тюремных надсмотрщиков, сирот, обездоленных и так далее могли быть никак не связаны с флотом, но и они жили за счет моря. Порт охраняли пятьсот стражников, семьсот служащих ежегодно уезжали обеспечивать своевременное получение взносов от союзников.
Для упорядочения системы поступлений афиняне со временем поделили союзников по пяти районам: острова, Кария, Иония, Геллеспонт и Фракия. Политически эти районы структурированы не были, и наместников туда, на манер персидских сатрапов, Афины не посылали. С какого-то момента появилась единая валюта, меры веса и линейные меры, и даже целый ряд судебных дел, возникающих в союзных городах, подлежал юрисдикции Афин. Афиняне учли уроки персов и спартанцев и распорядились, чтобы города разобрали свои стены и укрепления. Тысячи гоплитов были направлены туда на постоянную службу для защиты интересов Афин и поддержки демократических сил в городах-данниках. Но главной гарантией их безопасности оставался афинский флот. В империи, состоящей из островов и прибрежных городов, самую прочную линию обороны образуют корабли. Деревянная стена теперь прикрывала границу протяженностью более пятнадцати миль.
С проникновением афинян в акваторию Черного моря площадь империи более чем удвоилась. На фоне этого бездонного черного простора, так непохожего на аквамарин Эгейского моря, корабли, его бороздящие, и даже прибрежные города казались карликами. Чтобы пересечь Черное море, грузовому судну требовалось девять дней и восемь ночей, а на горизонте — лишь волны или плоская поверхность вод. Мореходам, выросшим на юге, Черное море с его штормами, туманами и мощными течениями представлялось силой грозной и враждебной. Отвращая угрозы, они прозвали его Эвксином («Гостеприимным») или просто Понтом («морем»). Первые греческие колонисты давно уже освоили берега Черного моря, но во внутренних районах жили народности негреческого происхождения, известные своим искусством владения луком и верховой езды. Это были фракийцы, скифы и пришельцы из каких-то степей — легендарные амазонки. Море их почти не интересовало, а греки со своей стороны редко забирались вглубь.
Черное море изобилует всяческими богатствами. Из всех греческих морских саг наиболее почитаема история о поисках золотого руна, за которым Ясон и аргонавты отправились на восточное побережье Понта Эвксинского. В дни же Перикла Черное море изобиловало тунцом, осетром и другими сортами рыбы, мечущей икру в Днепре, Дунае, Доне и огромными косяками перемещающейся в море. Во множестве раскиданные по всему северному побережью чаны для соления рыбы сделали этот промысел чрезвычайно прибыльным занятием. Наряду с коневодством скифы разводили скот и выделывали шкуры. Из неведомых земель, находившихся на севере, вниз по течению рек переправлялся янтарь; дождями с гор в море смывало минералы и руду. Но подлинной золотоносной жилой Черного мора была золотистая пшеница. Поля ее начинались у самого устья Дуная и простирались в сторону Крыма и дальше. В некоторых местах ее сеяли вплоть до самой кромки моря, что привлекало целые стаи ворон, не говоря уже о стремительных чайках. Подобно другим ценным продуктам, пшеницу переправляли Черным морем через Босфор, в недолгие сроки навигации — всего два летних месяца.
После греко-персидских войн слава Афин достигла берегов Черного моря. Кое-какие греческие города посылали в эти края своих гонцов на предмет возможного участия в местных конфликтах. Перикл направил сюда экспедицию по просьбе жителей Синопа, давней милетской колонии на южном берегу. Это были изгнанники, выброшенные из своих домов каким-то тираном. Перикл и его младший товарищ по имени Ламах снарядили большой флот, состоящий как из быстроходных триер, так и транспортных судов с шестью сотнями афинян на борту. Тирана свергли, а эти новые поселенцы способствовали установлению мира в Синопе — больше переворотов здесь не было. Экспедиция Перикла открыла ворота в Черное море — сюда буквально хлынули афинские гонцы, негоцианты, поселенцы, да и военные. Один из вновь образованных городов получил название «Пирей»; другой, расположенный между Трапезундом и Колхидой, — «Афины». В конце концов к афинскому союзу присоединились от пятидесяти до шестидесяти городов, выросших на берегах Черного моря.
А еще через несколько лет афинян поманил и золотой запад Средиземноморья. И вновь непосредственным поводом для их появления стали местные междоусобицы. Два ионийских города, Региум в Италии и Леонтины на Сицилии, почувствовали угрозу со стороны своего сильного соседа — дорийского города Сиракузы. Афины в это время достигли пика своей мощи, и ионийцы обратились к властителям Эгейского моря с просьбой взять их под свое крыло. Региум находился на самом носке итальянского сапожка, контролируя знаменитый Мессинский пролив — легендарное местопребывание гомеровых Сциллы и Харибды. Другой новый союзник, Леонтины, располагался на плодородных равнинах восточной Сицилии, между Этной и Сиракузами — район, известный, как и черноморское побережье, своими урожаями пшеницы.
Лишь одна непродолжительная война омрачила пятнадцать лет золотого века Перикла. Закончилась она победой, которая еще больше заставила афинян гордиться своим флотом. С самого основания Делосского союза острова Самос, Лесбос и Хиос дань Афинам не платили, а взамен этого оснащали корабли. Из этих трех полунезависимых союзников наиболее мощным был Самос. В дела местного олигархического режима Афины не вмешивались, пока островитяне не напали на один соседний город, также участвовавший в афинском союзе.
Помимо всего прочего, у Перикла были личные причины противостоять агрессивным действиям Самоса. Ведь они были направлены против Милета, родины его возлюбленной супруги Аспазии. После провала попыток договориться миром Перикл самолично повел на Самос эскадру кораблей и установил там демократию. Вскоре после его возвращения в Афины некоторые олигархи острова сбросили еще неокрепший новый режим и взяли в плен воинов афинского гарнизона. Перикл и его сподвижники снарядили еще одну экспедицию из сорока четырех быстроходных триер и вновь направились к Самосу. Среди участников похода был Софокл, избранный морским военачальником после успеха трагедии «Антигона». Воинские его достоинства Перикл ценил невысоко и предпочел направить знаменитого драматурга с миссией доброй воли на Хиос и Лесбос — острова, по-прежнему сохранявшие верность Афинам. Встретившись на Хиосе со своим собратом-поэтом Ионом, Софокл сказал: «Понимаешь, Перикл считает, что искусством поэзии я, может, и овладел, но в военном деле не разбираюсь».
Невдалеке от Трагии («Козлиный остров») афиняне столкнулись с крупным морским соединением повстанцев и разбили его. Но Самосская война на том не закончилась. Персидский сатрап в Сардах собрал финикийский флот, и Перикл поспешил на восток положить конец этим военным приготовлениям. В его отсутствие военное соединение афинян, оставленное с целью блокады главного порта, подверглось внезапному нападению. Две недели самосские олигархи распоряжались на море близ острова, пока Перикл не вернулся и не принудил их к капитуляции.
Это был патетический момент. Перикла часто избирали стратегом, но лавров, какими был осыпан его отец Ксантипп в Микале, не говоря уж о триумфе Кимона, ему пока не доставалось. Ибо стратег должен быть известен не только разумными действиями, но и храбростью в бою. И вот теперь Перикл мог утверждать, что за девять месяцев, проведенных на Самосе, он добился того, на что Агамемнону в войне с Троей понадобилось десять лет. Самос потерял свои стены, свой флот и свое привилегированное положение в империи. Кроме того, решимость персов поддержать любую смуту в границах Афинской империи, наглядно показавшая хрупкость мира, подтвердила мудрость призыва Перикла всегда держать флот в боевой готовности.
Золотой век Афин был временем силы и процветания, но также был веком разума. Убежденный в превосходстве науки над предрассудком, Перикл всячески стремился к просвещению сограждан. Однажды он поднялся в Пирее на борт своей триеры и уже готов был дать сигнал к отплытию, когда наступило солнечное затмение. Рулевого это предзнаменование ужаснуло настолько, что он не мог ни пошевелиться, ни произнести ни слова. Но Перикл не испугался. Его друг Анаксагор, греческий философ из Малой Азии, уже давно объяснил ему, что тьма — это лишь тень, упавшая на лик солнца. А вот команда сочла затмение божественным предупреждением против начала экспедиции. Перикл стремительно шагнул к рулевому и, закрыв ему глаза ладонью, спросил, страшно ли ему.
— Нет.
— Так в чем же отличие от затмения, разве что вызвано оно чем-то большим, чем моя ладонь?
Услышав это, экипаж согласился тронуться в путь — доводы Перикла и, может, его олимпийское спокойствие рассеяли все страхи.
Большинство афинян верили в приметы и предзнаменования. В любую сколько-нибудь серьезную экспедицию вместе с воинами отправлялись жрецы. Во время утренних жертвоприношений они объясняли стратегам смысл тех или иных знаков, толковали появление комет, затмения, фазы луны, пролет птичьих стай, даже сны. Чтобы хоть как-то уравновесить это религиозное вмешательство в военные и политические дела, Перикл приглашал в Афины естествоиспытателей, градостроителей, философов, военных инженеров и астрономов. Споры по поводу их идей и учений менее всего имели абстрактно-теоретический характер. Ведь если иные афиняне с готовностью откликались на разного рода новшества, то большинство они приводили в страх. Среди простого люда было широко распространено недоверие к ученым и философам, чьи идеи, как представлялось, основаны на концепции вселенной без богов. В кругу моряков предрассудки часто подавляли всякий здравый смысл.
Тем не менее Периклу и Афинам, часто идя на уступки, удавалось все же поддерживать хрупкое равновесие между разумом и традицией. Город предоставлял своим гражданам практически бесплатное обучение политическим наукам, риторике, философии, многим другим дисциплинам. Царивший в Афинах дух интеллектуальной свободы был так ощутим, что Перикл называл их «Греческой школой». К участию в общественной жизни приглашались все. «Мы не утверждаем, — говорил Перикл, — что человек, равнодушный к делам общества, занимается своим делом; напротив, мы утверждаем, что ему здесь вообще нечего делать».
Перикл был преисполнен решимости сделать из Афин величественный город своей мечты. Доходы от морского союза позволили постепенно скопить запас в несколько тысяч талантов, сначала на Делосе, потом в Афинах; и имелись все основания ожидать, что эта сумма с каждым мирным годом будет увеличиваться. Постоянно размышляя о будущем новых Афин, Перикл предложил народному собранию приступить к строительству новых храмов и общественных зданий взамен тех, что были тридцать лет назад разрушены Ксерксом. Более всего он мечтал о возведении нового величественного мраморного храма Афине на южной стороне Акрополя. По прошествии времени этот храм назовут Парфеноном. Дополнительные доходы от флота позволят покрыть стоимость материалов и строительства.
Но сразу же послышались голоса протеста, причем не от союзников, плативших дань, но от оппонентов Перикла в кругах афинской аристократии. Перикл собирается, восклицали они, нарядить наши Афины, как какую-нибудь жеманницу. Это неправильно, этого нельзя допустить. А еще хуже, что такого рода использование дани означает мошенническую растрату фондов морского флота и предательство интересов союзников. На это у Перикла был готов ответ: «Они не дали нам ни одного коня, ни одного воина, ни единого корабля. Только деньги». А это, с точки зрения Перикла, означает, что коль скоро Афины защищают своих союзников на море, всем остальным они вправе распоряжаться по собственному усмотрению.
Поднялись новые храмы — богу моря Посейдону на мысе Сунион, богине мести Немезиде в Рамносе, великим богиням Деметре и Персефоне в Элевсине, и вся Аттика преобразилась и помолодела. На холме над агорой, откуда видны дымящиеся печи для обжига и литейные мастерские, вырос храм богу мастеровых Гермесу. Но новый Парфенон и Пропилеи — ворота Акрополя — своим блеском превосходили иные строения.
Эти мраморные сооружения стали вершиной честолюбивой строительной программы Перикла и, конечно, украшением Афин — ни с чем не сравнимые в своем величественном покое и гармонии форм. Возвышаясь над мощной подпорной стеной, возведенной после победы Кимона в сражении на реке Эвримедонт, Парфенон нависал над искусственной площадкой на южной стороне Акрополя. Для украшения новой статуи Афины, установленной внутри Парфенона, из золотых трофеев, принадлежавших городу, были изготовлены тонкие листы. Затем им придали форму просторных складок одеяния богини, эффектно подчеркивающих куски полированной слоновой кости, из которой сделаны лицо и руки. В ладонь Афины Фидий вложил изображение крылатой богини Ники («Победа»), выглядящей так, будто она только что сошла с Олимпа, чтобы увенчать короной победителя чело города.
При всем своем блеске, всей божественной символике, Парфенон имел и практическое назначение. Статуя работы Фидия — из золота и слоновой кости — не только приветствовала у входа посетителей Парфенона, но и стояла на страже золотых запасов. Сформировавшиеся из дани союзников Афинам, они хранились в специальном помещении в западном крыле постройки. Помимо того, Перикл распорядился, чтобы золотые пластины были съемными: в случае необходимости металл можно быстро снять и отправить на переплавку для оплаты строительства кораблей и другого вооружения. Парфенон совмещал функции храма, казны и памятника победы в греко-персидских войнах. Недалеко от храма была установлена массивная мраморная стела с высеченным на ней перечнем годовых поступлений от союзников, или, точнее говоря, той шестидесятой доли (одна драхма на мину серебра), которую каждый выплачивал в порядке возмещения расходов, понесенных Афинами.
Золотой век — время расцвета талантов в самых различных областях человеческой деятельности. Собственно, именно в это время появилась такая наука, как история. В пору строительства Парфенона Афины посетил некий Геродот. Он расхаживал по улицам города, пересказывая всем, кто пожелает выслушать его, события греко-персидских войн. Эти эпические рассказы привели к возникновению понятия афинской талассократии («морское господство»). Уроженец малазийского города Галикарнас, Геродот был еще совсем юнцом, когда царица Артемисия вернулась во главе своих триер после сражения в проливе Саламин. В зрелые годы он много путешествовал, записывая рассказы ветеранов обеих противоборствующих сторон.
Со временем Геродот выработал взгляд на греко-персидские войны, да и на всю эллинскую историю как на цепь конфликтов Востока и Запада, Азии и Европы. Началась эта сага еще в ту пору, когда древние мореходы с одного континента уводили женщин с другого. Похищение греческой царевны Ио, финикийской царевны Европы, азиатской волшебницы Медеи и даже Елены Троянской — все это грозные эпизоды этой вековечной борьбы. Далее Геродот прослеживает развитие этого конфликта в эпоху расцвета Персидской империи и ее грандиозного столкновения со свободными городами Греции. Воздействие идей Геродота на сознание людей было столь велико, что оно изменило смысл самого понятия historia. До Геродота оно означало не более чем «изыскание», «расследование» — как он и сам определил свой монументальный труд. А после него «история» превратилась в новую область интеллектуальной деятельности: восстановление хода событий, в результате которого обнажаются корни и закономерности человеческого развития.
Рассказы, записанные Геродотом, подтвердили две неочевидные позиции, которые всегда отстаивали афиняне: их право на верховенство в греческом мире и справедливость основанной ими морской империи. Геродот пришел к выводу, что ионийцы оказались под пятой Афин, потому что сами не способны были отстаивать собственную свободу. В рассказах о крупном морском сражении при Ладе, положившем конец восстанию ионийцев против персов, Геродот выпукло показал слабость характера повстанцев, которые не сумели справиться с тяжким трудом обучения гребле и кораблевождению, что только и могло принести им победу. Говоря о подъеме Афин, Геродот выразил мысль, которая, в чем он ничуть не сомневался, шокирует общественное мнение за пределами этого города. «Если бы афиняне, — писал он, — убоявшись надвигающейся угрозы со стороны Ксеркса, бежали из города либо остались, сдавшись на милость победителя, никто другой не предпринял бы ни малейшей попытки противостоять персам на море. Потому только справедливо будет сказать, что Грецию спасли афиняне».
Если Геродот занимался историей и географией, Софокл посвятил себя проблемам этики, морали и человеческого предназначения. Сын оружейника, он обратил на себя внимание уже в молодости, когда возглавил праздничный карнавал в честь победы при Саламине. Помимо участия в качестве командира одной из эскадр афинского флота в Самосской войне, Софокл занимал пост «элленотамия», то есть члена группы «греческих казначеев», отвечавших за своевременное получение союзнической дани. В Греции считалось, что имена имеют существенное значение, поэтому неудивительно, что Софокл, сочетающий в своем имени «мудрость» и «славу», казался современникам человеком, годящимся для любой работы.
Свой флотский опыт Софокл запечатлел в драматургии. Разоблачительный портрет трусливого триерарха получился настолько живым, что, кажется, автор списал его с натуры.
В иных трагедиях Софокл наносит на карты «моря непокоя», что видятся его героям и героиням, а то уподобляет власть «государственному кораблю». Пишет Софокл и о наказаниях, что накладываются на спесивцев. Это качество в Греции считалась даже чем-то большим, нежели высокомерие. Спесь — это высокомерное, чрезмерно жесткое обращение с людьми, без которого, однако, трудно управлять империей.
На праздновании дионисий в Афинах премьере спектакля обычно предшествовала пышная церемония. Тысячи афинян и их гостей занимают свои места, после чего из-за кулис выходит вереница носильщиков, направляющихся к располагающемуся дугой оркестру, туда, где обычно располагается хор и исполняются танцы. У каждого носильщика в руках ящик с деньгами, полученными нынешней весной от союзников. Торжественным маршем проходят они с сотнями серебряных талантов перед гражданами — материальное свидетельство богатства, плывущего в Афины из-за морей. И лишь после этого начинается театральный конкурс.
В середине лета афиняне отмечали начало каждого нового политического года так называемыми панафинеями. Во времена Перикла это было общегородское празднество в честь Афин, морской империи и богини-покровительницы Афины. Город в эти дни чудесно оживал: проходили шествия, пиры, ритуалы, соревнования атлетов и артистов. В живом обличье на радость людям и богам воплощалась вся гордость афинян своими завоеваниями и своим городом.
В кругу спортивных состязаний видное место занимали гонки триер. В регате участвовали представители всех десяти фил Аттики. Фила, чей корабль приходил первым, получала от организаторов празднества приз — триста драхм и два быка. Помимо того, двести драхм, по драхме на каждого, доставалось экипажу-победителю для покрытия расходов на пир в честь выигрыша.
Кульминацией панафиней было большое шествие, в котором принимали участие все — мужчины и женщины, стар и млад, афиняне и приезжие. Дочери граждан, не уроженцев Афин несли чаши со святой водой, освобожденные рабы — дубовые ветки. Посланцы городов и островов, входивших в состав империи, гнали скот, предназначенный в жертву богине. Помимо того, в качестве дара городу они привозили с собой начищенное до блеска вооружение — мечи, щиты, доспехи гоплитов. Посреди процессии на колесах двигалась маленькая галера — панафинейский корабль. Перед началом процессии множество граждан принимали участие в ритуальном установлении мачты и нок-реи.
Самый торжественный момент — подъем паруса. Девять долгих месяцев юные девушки из старинных афинских семейств ткали и расцвечивали красивую мантию — «пеплос» — дар города своей богине на день ее рождения. И вот теперь это ручной работы одеяние украшало парус священного корабля. Роспись, переливающаяся алым и шафрановым цветами, изображала Афину торжествующей победу в великом сражении богов и титанов. Людям это новое одеяние, которым играл легкий летний ветерок, впервые являлось, когда судно проплывало через Гончарный квартал и агору. Парус, увенчанный «пеплосом», вздымался над «экипажем», состоящим из жрецов и жриц, увенчанных золотыми гирляндами. На дальнем конце агоры подъем к Акрополю становится для этого красочного плавания слишком крутым. Здесь парус сворачивали и на руках переносили по длинным мраморным пролетам на залитую солнцем вершину. И там в качестве последнего знака преклонения одеяние передавалось богине, деревянное изображение которой представляло собой самое драгоценное достояние афинского народа. Так что ежегодный дар такого рода — мантия, в то же самое время являющаяся парусом, — жест вполне уместный. Таким образом, горожане напоминали самим себе, своим союзникам, а также целому миру, что Афины, начиная с бухт и кончая этой уходящей в небо святыней, являют собой город, обрученный с морем.
Глава 10
Война и чума (433–430 годы до н. э.)
Я это помню. Вот куда волна несет.
С людьми или с богами, но в великую
Войну вступить придется. Судно на воду
Уже спустили, вбив последний гвоздь в него.
И, как ни повернись, повсюду горя жди.
Эсхил. «Просительницы», пер. С.Апта
Однажды поздним летним утром, когда строительство Парфенона близилось к завершению, из Пирея вышла эскадра, состоявшая из десяти быстроходных триер, и взяла курс на запад Греции. Небольшая по количеству, однако на борту было немало высокопоставленных лиц, среди которых, между прочим, были три афинских стратега. Один — Лакедемон, сын Кимона и внук Мильтиада, победителя сражения при Марафоне; двое других — Протей и Диотим; последний во время своих многочисленных путешествий бывал при дворе Царя царей (на востоке) и в Неаполитанском заливе (на западе). Никакой практической военной цели данный поход не преследовал, для этого не нужно было посылать сразу трех стратегов. Миссия состояла не в том, чтобы вести войну, а как раз в том, чтобы ее предотвратить.
По дороге у Лакедемона и его товарищей было достаточно времени, чтобы подумать о предстоящих трудностях. Но даже в самых страшных снах они не могли представить себе, что этот маршрут на остров Керкира разбудит дремлющую вражду со Спартой и в конечном итоге втянет Афины в самую истребительную из всех войн, которую они когда-либо вели, — Пелопоннесскую.
Периклу только что исполнилось шестьдесят. Морская держава наслаждалась миром и процветанием, даже при том, что два года назад на горизонте появилось небольшое как будто облачко: между Керкирой и Коринфом затеялась война. Афинские рулевые хорошо знали Керкиру: ее гавани были последней стоянкой в греческих водах на северном пути в Адриатическое море или на западном в Италию. С тех самых пор, как давным-давно коринфяне основали на Керкире свою колонию, островитяне находились с городом-метрополией в натянутых отношениях. Именно между ними разгорелось первое в известной греческой истории морское сражение, и тогда керкирцы победили. Сейчас это были дела давно минувших дней, но во время греко-персидских войн конфликт разгорелся с новой силой. Тогда роль арбитра пришлось принять на себя самому Фемистоклу.
И вот опять — вспышка вражды. Столкнувшись с перспективой противостояния не только Коринфу, но и другим морским городам Пелопоннесского союза, упрямые и недружелюбные керкирцы смирили гордость и, отказавшись от политики неприсоединения, обратились к Афинам с просьбой принять их в союз. Узнав об этом, коринфяне сами отправили туда гонцов. Они стали убеждать народное собрание отвергнуть просьбу Керкиры и остаться верным духу Тридцатилетнего мира. Под конец первого дня обсуждения собрание как будто склонялось к тому, чтобы воздержаться от участия в этих далеких от Афин распрях. Но потом, обговаривая дело с друзьями и семьями, участники собрания увидели, что из союза с Керкирой можно извлечь некоторую выгоду. В ту ночь многим снилось, что империя простирается все дальше на запад, в сторону Италии и Сицилии, а там, глядишь, и к границам этрусских городов-государств и Карфагена.
Наутро граждане вернулись на Пникс в несколько другом настроении. Они дали согласие на альянс — правда, сугубо оборонительный, то есть Афины обязуются прийти на помощь Керкире в случае агрессии со стороны внешнего врага. Затем собрание проголосовало за то, чтобы послать на остров десять триер. Три афинских стратега выступят наблюдателями в конфликте, и само их присутствие покажет коринфянам, что отныне остров входит в афинский союз. Сама же эта небольшая эскадра ни при каких обстоятельствах боевых действий начинать не будет, и лишь если коринфские корабли попробуют выбросить на остров десант, им нужно будет дать отпор — таков был мандат стратегов.
Прибыв на Керкиру, они обнаружили, что в распоряжении нового союзника имеется флот, состоящий из 110 триер. По прошествии примерно двадцати дней, проведенных в тревожном ожидании, наблюдатели сообщили, что со стороны Коринфского залива приближается крупное неприятельское соединение. На перехват, в южном направлении, были немедленно отправлены афинские и керкирские суда. Они рассчитывали встретиться с противником на выходе из пролива, отделяющего южную оконечность острова от материка, то есть на широкой и, как правило, беспокойной водной полосе, где течения, устремляющиеся вверх, к берегу, сталкиваются с ветрами, дующими с пролива. Десять афинских судов расположились так, чтобы прикрыть правое крыло керкирцев на крайней южной оконечности острова, где многокилометровые мели представляли большую угрозу для кораблей. По левую сторону цепочка керкирских триер доходила почти до двух выступающих из воды скал, известных под названием Сиботских островов.
Вскоре после рассвета в открытом море с южной стороны начали появляться триеры. Количественно враждебный флот производил устрашающее впечатление. Свои собственные девяносто судов коринфяне сумели усилить еще шестьюдесятью от союзников и из колоний. Берегом эту армаду сопровождало пешее воинство варваров, состоящее из представителей дружественных Коринфу племен. Коринфским впередсмотрящим не составило труда вычленить в союзном флоте афинские суда — в утреннем свете они легко узнавались по позолоченным изваяниям богини. Соответственно этому коринфяне вместе со своими союзниками вытянулись боевой линией на правом фланге, чтобы их лучшие корабли встретились лицом к лицу с афинскими «наблюдателями». Стоит только вынудить Лакедемона и других атаковать их, и Тридцатилетний мир можно считать оконченным. И если своим чередом удастся убедить спартанцев объявить Афинам войну и обрушить на них все силы своего Пелопоннесского союза, морская сила Афин будет наверняка подорвана, и Коринф восстановит свои старые позиции властителя моря.
Не считая десятка афинских триер, на всех остальных судах с обеих сторон выстроились рядами гоплиты, лучники, копьеносцы. Использование галер просто как плотов для перевозки сухопутных сил афинян, которые пока продолжали держаться в стороне, поразило своим крайним примитивом. От таких гребцов и рулевых сложных маневров и мастерства в использовании таранов ждать не приходится. Два строя кораблей рванулись навстречу друг другу, и палубы превратились в плавучее поле боя, на котором своих не всегда можно было отличить от чужих. С занятых позиций афинянам было видно, как далеко на левом фланге керкирские суда легко расправляются с триерами из Мегар и другими союзниками коринфян. После первых же стычек большинство вражеских судов пустилось в бегство в сторону открытого моря. Ничто не мешало торжествующим керкирцам покинуть строй и устремиться в погоню за противником. О дисциплине и тактике эти западные греки мгновенно забыли, как и о сражении, которое разворачивалось за их спинами и исход которого был еще далеко не ясен.
Между тем на противоположном фланге сражение протекало иначе, поскольку присутствие афинских судов обеспечивало керкирцам некоторое преимущество. Поначалу афиняне сдерживали противника, даже не нанося ему удара. Стоило какой-то коринфской галере атаковать противника, как афинская триера приходила в движение, угрожая ей с фланга, и тогда растерянные, напуганные коринфяне подавались назад или в сторону от мишени. Однако даже при всем своем мастерстве и преимуществе в скорости афиняне не могли быть везде одновременно. По мере того как солнце поднималось все выше, коринфяне, находясь на безопасном расстоянии от афинских таранов, получили возможность свободно атаковать и брать на абордаж керкирские триеры. Убедившись, что прежние маневры утратили свою эффективность, афиняне оказались вынуждены вступить в настоящий бой. Всё, больше никаких ложных маневров — только лобовое столкновение. И вот в пылу сражения афиняне забыли и об осмотрительности, и о недвусмысленных наказах народного собрания. Афинские корабли начали таранить корабли коринфские так, как будто два города находились в состоянии войны.
Не поломай керкирцы строй на левом фланге и не пустись преследовать беглецов, все могло бы повернуться иначе. Но теперь они были далеко, вместо того чтобы противостоять коринфянам одним фронтом с афинянами. А еще хуже, что, как вскоре выяснилось, афиняне прождали слишком долго и с поддержкой правому флангу опоздали. Моральное и стратегическое преимущество было потеряно, афиняне оказались вынуждены прекратить атаки и вместе с керкирцами в поисках безопасного укрытия устремились к берегу. Теперь им оставалось лишь наблюдать, как коринфяне дрейфуют вдоль побережья, добивая копьями тонущих либо цепляющихся за останки кораблей островитян. И только после того, как побоище было закончено, они смогли отбуксировать покинутые корабли, поднять на борт мертвых и, миновав Сиботские острова, вернуться на материк.
Наступил полдень. Между тем экипажи сели за весла еще до рассвета, да и палубные схватки совершенно истощили бойцов. На правом фланге керкирцы потеряли большинство своих триер и даже с возвращением товарищей, увлекшихся погоней, вряд ли могли противостоять противнику. Неудивительно поэтому, что оживление на противоположном берегу вызвало у них буквально панику. Коринфяне выходили в море, готовясь начать вторую атаку. Ясно, собираются завершить дело, начатое утром, — полностью истребить флот Керкиры и пресечь попытки Афин избежать полномасштабной войны. Что оставалось? Справившись с растерянностью, керкирцы и афиняне, теперь уже не просто наблюдатели, вновь заняли свои места за веслами и поплыли навстречу противнику.
В угасающем свете дня корабли сближались друг с другом. Коринфяне запели было боевой гимн, но почти сразу же резко оборвали пение. Афиняне ожидали нападения, однако после недолгого колебания коринфяне начали подаваться назад, не отводя, однако, от противника таранных орудий. Керкирцы и афиняне в замешательстве наблюдали за этими маневрами и опомнились, только когда впередсмотрящие заметили вдали силуэты, которые и заставили коринфян повернуться. На горизонте, с южной стороны, показались два десятка триер. Это были афинские галеры, и прибыли они по решению народного собрания: подумав, дома сообразили, что изначально послали недостаточно судов. Теперь подкрепление продвигалось через обломки — следы недавнего морского боя. Проделав долгий путь, оно опоздало всего на несколько часов, чтобы спасти честь Афин. Но подоспело вовремя, чтобы спасти жизнь со-граждан.
На следующее утро остатки керкирского флота и эскадра афинских кораблей, все еще переживая позор вчерашнего дня, выстроились в боевой порядок напротив расположенного на берегу лагеря коринфян. Те спустили свои корабли на воду, но вперед не пошли, избегая столкновения в открытом море даже с небольшим, из тридцати афинских судов, отрядом. В какой-то момент афиняне заметили небольшую лодку, направляющуюся в их сторону от вражеской цепи. Приблизившись на расстояние слышимости, сидевший в ней коринфянин окликнул афинян. На керкирцев он внимания не обращал, более того, гневно заговорил о том, что последние нарушают Тридцатилетний мир и тем самым ставят себя в уязвимое положение. Ведь коринфяне, продолжал гонец, всего лишь стараются привести в чувство собственных союзников. И если афиняне хотят преградить им путь на Керкиру или в любое иное место, если они хотят нарушить мирное соглашение, то начинать надо с них, посланцев Коринфа, тех, что сидят в этой лодке, — это будут первые военнопленные.
Керкирцы дружно воззвали к афинянам: взять их и перебить всех до одного. Но афиняне сохраняли спокойствие: коринфяне, мол, вольны направлять свои суда куда угодно, только пусть Керкиру оставят в покое. Коринфяне так и поступили, отплыв вместе со своими союзниками в южном направлении, в уверенности, что Афины не станут усугублять положение атакой с тыла. Керкира была сохранена, но ценой семидесяти местных триер, тысячи военнопленных и еще нескольких тысяч убитыми и утонувшими. А по пути домой, через осенние морские шквалы, Афины пополнили этот мартиролог еще двумя утратами — военной и политической карьерой Лакедемона, сына Кимона, и самим Тридцатилетним миром.
Не теряя времени, Коринф обратился к Спарте, лидеру своего союза, с просьбой сделать представление Афинам, которые явно нарушают мирное соглашение. Этот пример вдохновил других. Мегары жаловались на то, что Перикл перекрыл им доступ в гавани, находящиеся под контролем Афин. Эгинцы принялись оплакивать утрату автономии. К общему хору присоединились даже македоняне, которых страшило усиление Афин на севере. В ту зиму в Спарте не умолкали возмущенные голоса союзников, требовавших призвать Афины к порядку.
Выслушав доклад стратегов о сражении у Сиботских островов, собрание передало строжайшее указание единственной в пределах своей империи коринфской колонии — богатому северному городу Потидее. Хотя жители его не сделали пока ничего дурного, афиняне сомневались в их лояльности и, пресекая возможные попытки Коринфа использовать Потидею как военную базу, распорядились удалить из города администраторов-коринфян, частично разрушить сооруженные ими укрепления, а также взять заложников и отправить их в Афины. С ответом потидеанцы решили не торопиться, отправив тем временем гонцов в Спарту с просьбой о поддержке.
Получив тайные и малообоснованные заверения в том, что Спарта готовится к вторжению в Аттику, потидеанцы открыто восстали против афинского владычества. За ними последовало несколько близрасположенных городов. Над империей нависла угроза. На Спарту все это не произвело решительно никакого впечатления, она соблюдала нейтралитет. Тогда на защиту своей колонии двинулся отряд кораблей из Коринфа. Афины своим чередом посылали эскадру за эскадрой с целью вернуть себе город и закрепиться во всем районе. Первый натиск мощные стены Потидеи выдержали. Тогда Афины направили туда очередное соединение во главе со стратегом-ветераном Формионом. На корабли поднялись 1600 гоплитов, которым предстояло принять участие в осаде города.
Среди спутников Формиона было двое граждан, чьи имена многое говорили согражданам, — Алкивиад и Сократ. Алкивиад, юный родич и подопечный Перикла, шел на свое первое боевое задание. Восемнадцатилетний пылкий красавец, Алкивиад уже успел прославиться своими шумными эскападами, которые не мог сдержать даже трезвомыслящий Перикл. Отвагу юноша унаследовал от убитого в бою отца, служившего под командой стратега Толмида, а политические дарования от матери, внучатой племянницы законника Клисфена. Буйный же темперамент — это его собственное достояние. Преуспевающему семейному клану коннозаводчиков и всадников не раз приходилось иметь дело с взбесившимися жеребцами. На сей раз такой завелся в собственном доме. Алкивиад явно стремился стать главным в семье, а потом, может, и во всем городе.
Философу Сократу, постоянному спутнику Алкивиада, было под сорок. Афинянам он всегда напоминал сатира или толстопузого, с носом картошкой, вечно пьяного спутника Диониса по имени Силен. Личность на агоре знаменитая, Сократ стал первым коренным афинянином, кто на равных мог говорить с иноземными философами, избравшими Афины своим постоянным местожительством, — от Анаксагора с его первичными элементами до Зенона с его парадоксами. Отец Сократа был скульптором, мать — акушеркой. Занятия скульптурой сызмала привили ему интерес к естественной истории, и вот теперь он смущал умы земляков рассуждениями о происхождении солнца и луны, а также о том, что люди мыслят посредством кровотока. Ученый-парадоксалист, афинский гражданин Сократ, однако же, принадлежал к классу гоплитов, и, когда его имя появилось в призывном списке, он должен был явиться с оружием в руках и трехдневным запасом еды для участия в военной экспедиции.
По мере того как суда продвигались на север, становилось все холоднее, но на Сократе, как всегда, был только один плащ. К физическим неудобствам он, казалось, был вообще нечувствителен. Алкивиад, красавец и всеобщий любимец, не отходил от невозмутимого философа, выбрав его мишенью своих очередных любовных поползновений. Сократу, в свою очередь, было интересно стать воспитателем юноши, обещавшего, куда больше сыновей самого Перикла, сделаться в городе влиятельной силой; доброй или злой, это уже другой вопрос.
Части, возглавляемые Формионом, высадились на сушу в девяти милях к югу от Потидеи и медленно двинулись в сторону города, разоряя по дороге сельскую местность, в надежде, что граждане выйдут из-за стен и нападут на них. Убедившись в том, что потидеанцы на уловку не поддаются, афиняне сами предприняли несколько атак. В ходе одной из них, штурмуя стену, рассекающую узкий перешеек и упирающуюся обеими концами в море, Алкивиад сражался вместе с Сократом. В какой-то момент он потерял бдительность, и вражеское копье угодило ему прямо в грудь. Юноша упал. Афиняне продолжали движение, но Сократ остался прикрывать раненого Алкивиада, пока не подошла спасательная команда. По окончании сражения Формион вручил Алкивиаду редкую и весьма ценимую в Афинах награду за отвагу: полные бронзовые доспехи гоплита. Сократ всячески приветствовал это решение стратега. Алкивиад с не меньшим энтузиазмом настаивал, что награда эта по праву принадлежит Сократу.
Пока афиняне продолжали держать на севере свою долгую и дорогостоящую осаду, дома у них начали появляться эмиссары из Спарты. Они во всеуслышание заявляли, что Афины и впрямь нарушили договор о Тридцатилетнем мире и если город не возместит ущерб, нанесенный пелопоннесцам, его ждет война. Спартанцы выдвинули три требования. Первое: афиняне снимают осаду с Потидеи, где Формион пытается уморить людей голодом и таким образом принудить их к сдаче. Второе: Эгине возвращается автономия. И наконец, Афины аннулируют злополучное положение, известное под названием мегарийского декрета, по которому жителям Мегар закрывается доступ на агору и в гавани Афинской империи. В случае отказа — война.
Это была, во всяком случае, поначалу война слов. В ответ на требования Спарты Перикл начал задавать неудобные вопросы. Почему Спарта не передала свои жалобы в арбитраж? Афины к этому готовы. Почему ксенофобы-спартанцы не открывают свои границы афинянам? Как только Спарта перестанет изгонять со своей территории иностранцев, Афины откроют Мегарам доступ в гавани. И наконец, когда Спарта предоставит возможность своим союзникам самим избирать власть, даже если это власть демократическая? Как только это будет сделано, Афины последуют примеру Спарты.
Перикл всячески заверял сограждан, что, пока они сохраняют владычество на море, никакая Спарта им не страшна. А набравшись опыта в морской войне амфибий, афиняне теперь и на суше готовы дать отпор любому. Он утверждал, что спартанцам трудно будет овладеть навыками морского боя. Даже афиняне, имея за спиной полувековую практику, не вполне еще освоили это искусство. Так что уж говорить о спартанцах? Они не мореходы, они люди суши.
Периклу оставалось успокоить сограждан в части возможного вторжения Спарты в Аттику, где она может нанести им поражение в сухопутном бою. И вновь великому государственному деятелю пришлось убеждать собрание в том, что спасение Афин — во флоте. Тут он следовал путем Фемистокла. «Морская сила имеет громадное значение. Сами прикиньте. Допустим, Афины были бы островом — разве это не обезопасило бы нас от нападения? А ведь мы вполне можем считать себя островитянами; просто надо уйти с земли, покинуть дома и защитить подходы к городу с моря». Пока Афины связаны с морем Длинной стеной и пока флот обеспечивает поставки еды и всего необходимого, ни прямое нападение со стороны Спарты, ни осада не имеют ни малейшего шанса на успех.
В своей стратегии Перикл опирался исключительно на афинский флот, его способность контролировать морские пути, по которым в город подвозится продовольствие, и его силу, позволяющую постоянно пополнять казну. Он думал о войне, в которой Афинам, при всех соблазнах чести и национальной гордости, так и не придется столкнуться со Спартой на суше. Перикл добровольно отдаст захватчикам Аттику и ее поля, как это уже однажды сделал Фемистокл. А тем временем афинский флот безнаказанно обрушится на беззащитную территорию противника. Да, война или что-то похожее на войну начнется, но это будет скорее противостояние, в каком-то смысле война без сражений. Противники остаются противниками, вражда остается враждой, но до прямых столкновений дело не доходит. А там огнедышащие спартанцы, лишенные возможности дать решающее сражение и измученные налетами с моря, запросят мира. Стратегия Перикла отличалась научной точностью и холодным расчетом, как математическая формула или медицинское предписание.
Молодые афиняне рвались на войну, но стратегия Перикла не нуждалась в их энтузиазме, отваге и готовности умереть за родной город. Все эти чувства и достоинства хороши для войны, в которой участвуют гоплиты. А гоплиты в надвигающейся войне с пелопоннесцами будут представлять для Афин только угрозу. Периклу нужны были другие качества — морские: самообладание, расчет, умение действовать тихо. Как у рулевого государственного корабля, его дело — лоция, четкое определение действий. Покуда афинянам удается сдерживать естественный порыв к защите родной земли, они могут воевать и побеждать без риска и даже без особых неудобств. Именно для этого возводилась Длинная стена. Афины превратились в самодостаточный остров, и пока город остается таковым, он непобедим.
Что же касается спартанцев, то они были уверены в силе своей армии, но остро ощущали морскую неполноценность, и пока одни посланники вели переговоры в Афинах, другие отправлялись в Сицилию и южную Италию, к союзникам, знающим толк в морском деле. Спарта обращалась к своим собратьям — дорийским грекам за помощью в борьбе с презренными ионийцами, действующими по указке Афин. Не может быть, чтобы преуспевающие западники не выделили некоторые средства ради достижения столь высокой цели. Помимо того, ввиду надвигающейся войны с Афинами спартанцы с почти детской наивностью просили сицилийские и итальянские города снарядить флот из пятисот триер.
В провокациях и составлении планов прошли два года, но ни одно из крупных государств не желало выступить инициатором вооруженного столкновения. В конце концов искра вспыхнула благодаря действиям одного из слишком опрометчивых союзников Спарты. Граждане Фив, города — участника Пелопоннесского союза, уже давно с жадностью поглядывали на маленький независимый городок Платеи — верного союзника Афин, попавшего в орбиту их влияния еще до начала греко-персидских войн. И вот одной штормовой ночью фиванский отряд внезапно атаковал Платеи. Взять город не удалось, но обе стороны вынуждены были констатировать начало войны. Сорок девять лет прошло со времени вторжения Ксеркса, когда общая угроза сплотила Афины и Спарту на благо всем грекам. И вот вчерашние союзники вступили в войну, которая окажется для Греции более разрушительной, чем все беды, что навлекли персы.
В согласии со стратегическим замыслом Перикла афиняне — жители сельской местности приготовились к эвакуации. Покидая родной край, они морем переправляли скот в Эвбею — точь-в-точь как их предки, когда почти полвека назад Ксеркс начал свой завоевательный поход. Правда, на сей раз люди не искали убежища по ту сторону пролива. Поначалу они хлынули в Афины, останавливаясь где только можно, за вычетом святилищ. А когда положение стало уж вовсе невыносимым, в коридорах Длинной стены выросли тысячи временных жилищ. Там и поселились беженцы.
Когда пелопоннесская армия во главе со спартанским царем вошла ранним летом в Аттику, Перикл призвал афинян не предпринимать попыток уберечь свои фермы и урожай. Не встречая сопротивления, пелопоннесцы жгли и грабили покинутые деревни. При виде дыма, поднимающегося с полей, потрясенные люди мгновенно забыли о плане своего лидера и во всех бедах стали винить именно его. А Перикл, пытаясь не дать выхода бесконтрольной ярости, отменил все сессии народного собрания, демократические принципы были принесены в жертву на алтарь двух великих богов — Целесообразности и Безопасности.
В ответ на сухопутные действия пелопоннесцев Перикл распорядился нанести ответный удар по территории противника с моря. Было снаряжено сто быстроходных триер с тысячей моряков и четырьмя сотнями лучников на борту. Оставляя позади выжженную родную землю Аттики, флот стремительно продвигался к вражеской территории; пелопоннесцы, поглощенные своими делами в Аттике, были слишком далеко, чтобы прийти на защиту собственных берегов.
Действуя по примеру Толмида, оказавшегося в свое время столь удачным, афиняне наносили внезапный удар и тут же отходили. Они обрушивались на незащищенные берега, подобно хищным птицам, и почти столь же стремительно исчезали. В западных водах, как то и предусмотрено союзным договором, к грекам присоединились пятьдесят триер из Керкиры. Дойдя до мыса на юго-западной оконечности Пелопоннеса, они атаковали Мефону и едва не захватили весь город. Поднявшееся на море волнение не позволило приблизиться к Элису, и афиняне направились в северо-восточную Грецию, где захватили два города и присоединили к своему союзу лесистый остров Кефаллению. На обратном пути участники экспедиционных сил убедились, что пелопоннесская армия все еще не вернулась из Аттики, и афинская армия вторглась в Мегары, отомстив за агрессию против их территории.
На протяжении первого года войны афинские суда действовали и в домашних водах. Сотня триер патрулировала омывающие Аттику моря. Другая эскадра атаковала Эгину. Афиняне, высадившись на остров, вынудили местное население отправиться в изгнание, а освободившиеся земли распределили между поселенцами из Афин. Тридцать триер, курсируя вдоль берегов Эвбеи, охраняли от пиратов скот и другое имущество афинян. К концу лета они основали небольшую базу на островке под названием Аталанта. Отсюда пиратам можно было противостоять круглый год.
Теперь, когда стало ясно, что война продлится два, а может быть, и все три года, афиняне предприняли некоторые дополнительные меры для защиты своей территории. По всему побережью Аттики в стратегически важных местах были выставлены наблюдательные посты. В Акрополе специально отложили тысячу талантов в качестве резерва на случай вражеской атаки на город с моря. Любое предложение использовать эти деньги на какие-либо иные цели каралось смертью. В качестве другой охранной меры афиняне постановили каждый год выводить в резерв сто лучших триер во главе с триерархами, несущими всю полноту ответственности за боевую готовность судов.
Зимой афинские корабелы приступили к осуществлению в Пирее нового проекта. Они отобрали десять старых триер и превратили их в иппогогос, то есть «коневозы». Для этого понадобилось полностью изменить конфигурацию корпуса. Плотники разобрали банки для гребцов в двух нижних ярусах и законопатили уключины. Таким образом, возникло свободное пространство площадью восемьдесят футов в длину и шестнадцать в ширину, своего рода трюм. Здесь могли разместиться тридцать лошадей, по пятнадцать с каждой стороны, на расстоянии примерно пяти футов друг от друга. Пол совмещался с ватерлинией, но сверху выпуклые борта триеры оставляли достаточно места, чтобы поместились передние конечности животного. Выделялись также места для фуража и пресной воды, седел и уздечек, а также копий, щитов и шлемов всадников. К корме пристроили съемные секции и сходни, что позволяло при швартовке быстро вывести лошадь на берег или даже просто спуститься, уже сидя в седле.
Строительство «коневозов» знаменовало первый крупный сдвиг на флоте с тех пор, как тридцать пять лет назад при Кимоне появились триеры, способные перевозить крупные отряды гоплитов. Новые корабли и названий требовали новых. «Ипподром» («Бега»); «Иппарх» («Царица лошадей»); «Иппокамп» (мифическое существо, наполовину лошадь, наполовину рыба). Еще живы были афиняне, помнившие, как выглядели фургоны царя Дария и как живой груз высаживали на сушу в Марафоне. И вот теперь впервые и у афинского флота, как ранее у персов, появилась возможность доставлять морем в зону боевых действий конников.
Прошел год с начала Пелопоннесской войны. При первых признаках наступления весны могло показаться, что афинянам сопутствует успех. Они выдержали вторжение Спарты, нанесли противнику ущерб на побережье, заполучили новых союзников. Вступая в бой на всей территории от северной части Эгейского моря до островов на западе, Афины вновь, как и в дни египетской экспедиции, доказали, что способны воевать одновременно на нескольких фронтах. Акропольских запасов серебра хватит на три года боевых действий. И Перикл уже заявил, что пелопоннесцы были бы рады положить конец бессмысленному противостоянию. Даже в бушующих волнах войны государственный корабль, казалось, уверенно прокладывал себе путь.
В начале второго лета войны спартанцы снова послали военные отряды в Аттику, где те принялись методично уничтожать фермы и новые урожаи. И второй год подряд захватчики беспомощно наблюдали за тем, как афинский флот выходит из Пирея, чтобы обрушиться на их береговые укрепления. Теперь в него входили десять «коневозов» и пятьдесят триер афинских союзников — Лесбоса и Хиоса.
Словом, все выглядело неплохо, если бы не некоторые тревожные признаки, дающие о себе знать в Пирее. Появились сообщения о жертвах некоей неведомой болезни. Вину за нее афиняне возлагали на противника, чему явно способствовала сгустившаяся во время войны атмосфера сомнений и недоверия. Пелопоннесцам, говорили люди, удалось каким-то образом отравить в Пирее пресную воду. Когда флот отправлялся в свою вторую летнюю экспедицию, природа таинственного заболевания все еще не была разгадана.
На сей раз Перикл лично возглавил поход, хотя цели он преследовал значительно более скромные, чем год назад. Быть может, дело было в том, что «коневозы» сильно замедляли скорость передвижения, а может, Перикл просто не хотел уходить слишком далеко от Афин. Так или иначе, атаковав несколько городов в Сароникском заливе и на восточном побережье Пелопоннеса, афиняне повернули назад. Перикл сообщал, что им почти удалось взять штурмом город Эпидавр, но в целом экспедиция решительного успеха не имела. По возвращении же в Пирей выяснилось, что болезнь, оставшаяся на берегу, оказалась чумой и она уже унесла сотни человеческих жизней.
Вскоре в Потидею, где все еще продолжалась осада, направилась новая экспедиция во главе с новыми стратегами. На борт были подняты деревянные осадные орудия, но не только: спутницей моряков стала и чума. А в корабельной тесноте бороться со смертельной болезнью еще труднее, чем на берегу. Когда эскадра достигла Потидеи, напасть перекинулась с кораблей на весь афинский лагерь.
Юный афинский аристократ по имени Фукидид тоже заразился, но выжил и описал болезнь в мельчайших деталях: сначала начинает пылать голова и возникает резь в глазах, потом появляется кровь на деснах, боли в груди, неудержимая рвота, сыпь на коже, бессонница. Большинство заболевших умирают на седьмой или восьмой день.
Между тем новые стратеги, поняв, что взять Потидею быстро не удастся, отказались от своего замысла и повернули назад. К этому времени от чумы полегли уже более тысячи прибывших из Пирея гоплитов. А дома выяснилось, что эпидемия бушует вовсю. Начавшись на берегу и охватывая на своем пути тесные домики, жмущиеся друг к другу в проходах Великой стены, чума быстро достигла самих Афин. Вокруг храмов валялись трупы и богатых и бедных; тела плавали в цистернах с водой. Перикл потерял двух старших сыновей, Ксантиппа и Парала. Возлагая венок на чело последнего и уже готовясь возжечь погребальный костер, Перикл наконец не выдержал и разрыдался на глазах у всех. И лишь Аспазию вместе с ее незаконным сыном Периклом-младшим чума пощадила. Повинуясь общему порыву, собрание, вопреки проведенному самим же Периклом закону о гражданстве, постановило считать мальчика афинским гражданином. От чумы умерла треть гоплитов — цифра устанавливается по спискам, которые вели стратеги и командиры отдельных частей. По-видимому, та же пропорция верна и для других категорий населения.
Знаменитейшая из трагедий Софокла «Царь Эдип» подобна зеркалу, в котором отражаются трагические судьбы Перикла и Афин. Подобно Периклу, главный герой взывает к верховенству разума и порядка, даже не подозревая, что его собственные действия фатально приближают катастрофу города. И подобно афинянам, персонажи пьесы становятся жертвами неумолимой эпидемии и взывают к вождю: «Разве не лучше управлять страной, где живут люди, а не сплошная пустота господствует? Стены и корабли — ничто без людей». По мере того как события все стремительнее приближаются к страшному концу, даже царица Иокаста оказывается вынужденной признать, что государственный корабль, видно, обречен: «Всех ужас охватил, ведь без ветрил корабль плывет».
Что же касается чумы не метафорической, а реальной, то в конечном итоге афиняне выяснили, что не пелопоннесцев надо в ней винить и не отравленную воду. Беда пришла не из Спарты, а с моря, с кораблями. Эпидемия зародилась в Эфиопии, пошла вниз по течению Нила, достигла портов дельты и, проникнув с грузом в трюмы и иные корабельные помещения, достигла Пирея. Уничтожив урожай, спартанцы и их союзники, более чем когда-либо, поставили Афины в зависимость от завезенного из-за морей зерна. У самих же хватало собственной пшеницы, с другой стороны — бдительная стража афинского флота перекрывала путь импорту. Поэтому эпидемия лишь краем задела Спарту.
Чума нанесла сокрушительный удар по грандиозным стратегическим замыслам Перикла. Эту беду он не мог ни предвидеть, ни предотвратить, что не помешало людям обвинить во всем именно его. Теперь Афины были уже не в состоянии снаряжать крупные соединения, которые в ответ на ежегодные набеги спартанцев на Аттику могли наносить удар по Спарте и на суше и на море. Опасность распространения чумы делала слишком рискованным большое скопление людей на палубах кораблей. Точно так же скученность, возникшая в результате переселения почти всего населения Аттики в Афины, обернулась в конечном итоге тысячами смертей. Рассудительность Перикла оказалась бессильной перед жестокими капризами природы. Не желая удовлетворяться простым штрафом, разгневанное народное собрание лишило Перикла официальных полномочий стратега. В Спарту была направлена мирная делегация, но ее предложения были отвергнуты. Больше того, спартанцы вступили в переговоры с персами, надеясь втянуть их в войну на своей стороне. В этот грозный час Афины думали уже не о победе, просто думали о том, как выжить.
Глава 11
Фортуна улыбается смелым (430–428 годы до н. э.)
«Но тактика — это только часть военного искусства, — говорит Сократ. — Стратег должен обеспечивать свое войско всем необходимым. Он должен быть изобретателен, трудолюбив и наблюдателен — твердолоб и блистателен, дружелюбен и суров, прям и увертлив».
Ксенофонт
Единственный военачальник, способный спасти Афины, жил тогда в бедности и опале, почти забытый своими согражданами. Когда-то Формион, почти тридцать лет занимавший в Афинах официальные посты, добился выдающихся военных успехов, но, подобно Периклу, стал во время чумы жертвой поисков козла отпущения. Всегда готовый откликнуться на зов боевой трубы и не думавший при этом об оплате, Формион был Аресом в городском пантеоне знаменитостей, а Перикл, соответственно, Зевсом. И оба олимпийца впали в бесславье.
Не уступая родовитостью самым знатным из афинян, Формион был сейчас небогатым человеком. Честно служа городу в Потидее, он платил воинам из собственного кармана. А по возвращении в Афины гражданская комиссия по расследованию осудила его действия и оштрафовала на сто серебряных мин. Формион был слишком горд, чтобы оправдываться или просить денег у друзей. Ну а невыплата штрафа означала атимию , или лишение права занимать государственные должности и опалу. Пока ее не снимут, человеку запрещается ступать на освященную землю, в том числе землю Акрополя, агоры и Пникса.
Формион покинул город и удалился в родовой дом в Пайании, на противоположном склоне горы Гиметт. Семейная ферма находилась в самом центре обширной равнины, которую называли Месогеей, или Срединными землями. В начале лета они были разорены пелопоннесскими войсками. Сорок дней спартанцы и их союзники шли через Аттику, выжигая и опустошая все вокруг себя. Маленьким мальчиком Формион стал свидетелем опустошительного набега персов и вот теперь, подобно людям поколения своего отца, столкнулся с необходимостью обрабатывать почерневшую землю и выращивать на ней урожай. Морская карьера, казалось, была закончена.
Формиону почти сравнялось шестьдесят, и он привык ко всяким испытаниям. В ходе военных кампаний он делил со своими воинами и гребцами все тяготы и лишения походной жизни. Каждое утро он раздевался догола и занимался физическими упражнениями, как юноша, накачивающий мышцы в гимназическом зале у себя дома. И так весь год и при любой погоде. Торс его и лицо, всегда открытые солнцу и ветрам, приобрели бронзовый оттенок, так что люди дали ему одно из прозвищ Геракла — Мелампиг, или «Чернозадый». Спал он на земле, на тюфяке из камыша, таком тонком и убогом, что он вошел в поговорку: «как спальный мешок Формиона», говорили в Афинах, желая указать на что-то действительно жалкое.
Но облик его — простой, с обветренным лицом вояки — был обманчив. Формион брал штурмом города, подчинял Афинам новые земли, обогащал городскую казну, а однажды, имея под командой тридцать триер, побил вражеские пятьдесят. Талант Формиона-полководца заключался в умении принимать быстрые неожиданные решения; он был убежден, что в любой ситуации, даже самой трудной, сохраняется шанс на победу. И шанс этот открывается и используется благодаря мете военачальника. Однажды совсем еще юный Формион хитростью заставил защитников родного города самим открыть ворота. В другом случае он использовал театральный прием: написал монолог гонца и, переодевшись соответствующим образом, произнес его. Противник попался на эту уловку. В морском бою тридцать против пятидесяти Формион, скрывая подлинное количество своих триер, выстроил их в порядке, принятом у всадников, заставив, таким образом, противника начать поспешную и неподготовленную атаку. Подобно Фемистоклу, Формион считал, что мета — это главное в искусстве стратега, особенно на войне.
Два крупнейших вызова свободе Афин знаменуют его карьеру — вторжение персов и Пелопоннесская война. Чтобы воевать с Ксерксом, Формион был слишком молод, а чтобы и далее участвовать в сражениях со спартанцами, скоро будет слишком стар. Ему противостояли непокорные западники, всегда готовые всадить нож в спину союзники, коринфские колонисты, а он даже не мог испытать себя в борьбе с главными противниками города. Раньше его дарования впустую тратились на второстепенных направлениях, в боях где-то вдали от Афин, а теперь, когда город особенно нуждался в способных военачальниках, могло получиться так, что из-за опалы он вернется в город, когда будет слишком поздно.
Однажды на его ферме, пройдя разоренными полями, появились несколько мужчин. Это были не афиняне, а акарняне — союзники из отдаленных краев, нуждающиеся в поддержке Афин. На второе лето войны, когда чума положила конец боевым действиям афинского флота в Пелопоннесе, в море вышли более сотни судов противника. Коринфяне и другие союзники Спарты высадились в Акарнании и других союзных Афинам территориях. Представлялось очевидным, что на будущий год пелопоннесцы вернутся и доделают то, с чем не успели справиться нынче, — помешать им может только афинский флот.
Во главе его акарняне видели Формиона, считавшегося у них героем с тех самых давних пор, когда, прибыв с тридцатью триерами, он штурмовал захваченный противником город и вернул его законным хозяевам. Местные жители даже называли своих сыновей в честь героя-освободителя. В конце лета посланники, проделав опасный путь, достигли Афин, затем лишь, чтобы узнать, что нужный им человек пребывает в изгнании. Вот они и пересекли всю Аттику и пришли сюда, в надежде убедить Формиона забыть об Афинах и отправиться с ними на запад в качестве вольнонаемного стратега или, если угодно, почетного гостя, который возьмет в свои руки судьбу их родного города. Если Афинам Формион не нужен, то он нужен Акарнании.
Формион отклонил предложение, заявив, что ему стыдно предстать перед воинами обесчещенным должником. Нельзя сказать, что этот ответ был вполне искренен: в неожиданном предложении гостей Формион увидел нечто вроде рычага, с помощью которого можно заставить собрание пересмотреть его дело. Становиться на склоне лет наемником где-то в диких краях западной Греции ему совершенно не хотелось. Время утекало, а Формион еще мог послужить городу.
Тем временем в Афинах развернулась активная кампания в поддержку Формиона — возможно, просто потому, что на него возник спрос в других частях Греции. Чтобы освободить его от уплаты штрафа, собрание прибегло к уловке. Ввиду приближающихся празднеств граждане постановили поручить Формиону убранство храма Диониса. Для покрытия расходов ему будут переданы из общественных фондов сто мин серебра. Естественно, Формион немедленно направился в комиссию по расследованию и выплатил эти деньги в качестве штрафа, а затем обвел бога Диониса вокруг пальца, подсунув ему в дар какую-то дешевку. Этот сюжет отозвался в строках комедии безымянного драматурга:
Получив долг и сняв опалу, собрание вновь избрало Формиона стратегом. Ему было поручено возглавить операцию по защите интересов Акарнании и других западных союзников Афин. Базироваться эскадра будет в Навпакте, приморском городке, переданном в управление дружественных Афинам мессенцев еще во время пелопоннесской экспедиции Толмида. Здесь у Формиона будет возможность запереть Коринфский залив с обеих сторон, не позволяя кораблям противника выйти в открытое море, а сицилийским и итальянским транспортным судам с зерном войти. Противостоять ему будет объединенный флот спартанских союзников из ста кораблей, сформированный в начале нынешнего года. А в его распоряжении сколько будет? Двадцать. Это самое большее, что может ему предоставить собрание после чумы.
В первый год Пелопоннесской войны афиняне имели в своем распоряжении 180 кораблей; во второй, даже несмотря на чуму, — 150; а сейчас, на третий год войны, — всего 20, меньше, чем авангард афинского флота в годы его расцвета. Но во главе его стоял Формион, и это повышало шансы на успех даже при столь малом количестве. Флагманским судном станет «Парал» — гордость афинского флота.
Еще зимой Формион вышел из Пирея и повел свой маленький отряд вокруг Пелопоннеса к Навпакту. Город выходил на юг, расположившись по овалу бухты — крайнего западного ответвления Коринфского залива. Со склонов невысоких гор на плоский, поросший камышом берег стекали холодные ручьи. На западе берег загибался длинным пальцем в сторону Пелопоннеса, словно стараясь дотянуться до противоположной стороны залива. Мыс на кончике этого пальца прикрывал узкий вход в залив. Жители Навпакта, мессенские изгнанники, оказали Формиону и его людям самый теплый прием. Для двадцати судов места в бухте хватало, но не больше. Городские укрепления обрывались у самого берега, соединяясь с приморскими сооружениями и замыкая, таким образом, полный оборонительный круг.
Зима и весна прошли спокойно. Но где-то в середине лета в Навпакте почти одновременно появились два гонца — и оба с дурными вестями. Из Акарнании доносился вопль отчаяния: спартанский адмирал Кнем каким-то образом обошел поставленный Формионом заслон, высадился на сушу и собирается атаковать те самые города, которые его, Формиона, прислали оборонять. А из сообщения второго гонца следовало, что из Коринфа и других пелопоннесских городов вот-вот выйдет в море крупный отряд кораблей.
Формион встал перед дилеммой. Без его помощи Акарнания может пасть. Он и так уже подвел своих товарищей, позволив спартанцам перехитрить себя. Но главная-то его задача — блокировать пролив. Не приходится сомневаться в том, что флот, снаряженный морскими городами — союзниками Спарты, координирует свои действия с действиями адмирала Кнема. Столь близкое схождение двух операций во времени наталкивало на мысль, что Формиона хотят выманить из Навпакта. В надежде, что спартанцы, прежде чем продолжить наступление, дождутся подкреплений, Формион заявил явно разочарованному посланцу из Акарнании, что не может покинуть свой пост.
Ждать афинянам долго не пришлось. Через несколько дней появились военные суда противника, курсирующие в западном направлении вдоль противоположного берега. Формион немедленно скомандовал отплытие и повел все свои двадцать триер на юг. При наблюдении с более близкого расстояния обнаружилось скопление сорока семи триер в сопровождении небольшого вспомогательного отряда. Быстроходных триер было всего несколько, остальные — войсковые транспортные суда. Вступать с ними в бой в заливе Формион не собирался, просто проследил, как они проходят между мысами, направляясь с западной стороны в открытое море. В тот вечер пелопоннесская эскадра стала на якорь у Патр. Поразмыслив, Формион решил не возвращаться и разбил лагерь на противоположном от противника берегу: не исключено, что пелопоннесцы попытаются ночью пересечь пролив. Так оно и получилось.
За несколько часов до рассвета афиняне снова вышли в море, на ощупь прокладывая себе путь в темноте на юг. Было безветренно, поверхность спокойная. Впереди слышались звуки приближающихся кораблей. Но противник уже понял, что ему готовится встреча. Еще до первого столкновения пелопоннесцы выстроились колесом (киклос) — точь-в-точь как греки у Артемисия, где подобное построение принесло столь впечатляющий результат. Транспортные суда образовали широкий круг, выставив наружу тараны и прикрывая таким образом вспомогательные суда — так собаки окружают стадо овец. Внутри круга также покачивались пять быстроходных триер, готовых атаковать афинян в случае попытки прорыва.
Оценив обстановку, Формион решил наступление сразу не начинать, потянуть время. План его заключался в том, чтобы использовать тактику греческих рыболовецких судов, заметивших большой косяк тунца. Не упуская из виду вожака, рыбаки неспешно окружают косяк и раскидывают постепенно натягивающуюся сеть. Оказавшись внутри мышеловки, тунцы начинают в панике метаться и выпрыгивать из воды, и когда оказываются на берегу или рядом с лодками, рыбаки добивают их веслами. Сетей у Формиона не было, и все-таки он собирался заняться рыбной ловлей.
Следуя за флагманом, двадцатка афинских триер вытянулась в один ряд и начала медленный обходной маневр так, чтобы неподвижные киклос оказались внутри круга. Время от времени отдельная триера нарушала строй, направляя таран на пелопоннесский транспортник. Тот импульсивно подавался в глубь круга, а возникший разрыв заполняли с обеих сторон другие суда. В последний момент афинский рулевой подавался в сторону и занимал свое место в строю. Мало-помалу круг пелопоннесских кораблей сужался, и в конце концов афиняне затянули петлю так туго, что уключины пелопоннесских транспортников свились в общее кольцо.
Но даже сейчас Формион не торопился. Он ждал рассвета, когда с Коринфского пролива задувает сильный восточный ветер. Он и начался, сбивая суда противника в кучу. Орудуя длинными шестами, гребцы старались оттолкнуться, освободить себе хоть какое-то пространство для маневра. Ко всему прочему поднялся ветер, в борт, усугубляя всеобщий хаос, била сильная волна. Оказавшись в такой ситуации, неопытные пелопоннесские гребцы никак не могли вытащить из воды весла, а стало быть, и у рулевых никак не получалось придать кораблю нужное направление. Окрики, вопли, ругательства заглушали команды начальников. В самом центре всего этого водоворота находились зажатые между небольшой лодкой и военными кораблями пять быстроходных триер.
Дождавшись, пока суматоха достигнет кульминации, Формион дал сигнал к атаке. Каждая из двадцати афинских триер выбрала себе противника на внешней стороне образовавшегося круга. Первой мишенью стал флагманский корабль пелопоннесцев. За ними таранный удар был перенесен на всех, кто оказался в пределах досягаемости. Муравейник рассеялся, и уцелевшие суда противника устремились назад, в сторону Патр. Преследуя их, афиняне захватили двенадцать вражеских триер почти со всем экипажем, более двух тысяч человек. На этом погоня прекратилась — количество побежденных грозило превзойти количество победителей. Афиняне не потеряли ни единого судна.
В храме Посейдона на мысе Рион прозвучала ритуальная песнь победы. Сражение при Патрах стало для афинян первым крупным успехом на море с самого начала Пелопоннесской войны. Бог моря явно заслуживал особой благодарности, и Формион распорядился втащить наверх, на освященную землю, одну из захваченных вражеских триер. Рядом с ней был установлен камень с посвящением Посейдону и герою Афин Тесею. В самый разгар торжеств пришла добрая весть из Акарнарии. Не получив ожидавшегося с моря подкрепления, спартанский отряд во главе с адмиралом Кнемом потерпел поражение. На какое-то время афинские союзники на западе получили передышку.
Борьба за превосходство в западных морях продолжалась. Не в духе спартанцев было уступать так легко, пусть даже союзники допустили в сражении очевидную слабость. Разведка донесла Формиону, что в бухтах пелопоннесского побережья уцелевшие при Патрах суда переоборудуются в быстроходные триеры. Убежденный в том, что ему предстоят новые сражения, Формион запросил у Афин подкрепления.
Но дома были свои заботы. С самого начала эпидемии чумы прошлым летом у крупнейшей морской державы Средиземноморья не было возможности снарядить крупный флот. От двухсот до трехсот триер без экипажей простаивали в порту, представляя собою никому не нужную деревянную скорлупу. А на суше было и того хуже. Пелопоннесская армия осадила ближайшего союзника Афин Платеи, а помочь ей было нечем. Казна пустела: морская экспедиция, снаряженная в Малую Азию для сбора дани, закончилась гибелью возглавлявшего ее наварха. А ко всему прочему в эту кризисную пору весь город застыл в тревожном ожидании близящегося конца мудрейшего из своих руководителей. Перикл заразился чумой в вялотекущей форме и медленно угасал. А ведь большинство афинян уже и вспомнить не могли, когда на городском Олимпе не возвышалась эта величественная спокойная фигура.
На этом фоне Формион со своими проблемами казался всего лишь досадным недоразумением. Усилить его город мог не более чем еще двадцатью триерами, да и то не сразу. По пути в Навпакт эскадра должна будет сделать остановку на Крите, там к ней присоединятся местные силы, чтобы принять участие в наступлении на Сидонию. И только после того, как эта подмога сможет обогнуть Пелопоннес и прибыть на свидание с Формионом. Непонятно, однако, успеют ли местные до того, как спартанцы возобновят боевые действия. С этими неутешительными вестями и вернулся гонец, посланный в Афины.
В Спарте реакция на сражение при Патрах оказалась совсем другой. Доклад адмирала Кнема привел в ярость местную власть. Объяснение позорному поражению могло быть только одно: слабость! Союзники показали себя слабаками! Разгневанные спартанцы отправили на помощь к Кнему трех видных военачальников. Среди них был отважный молодой воин по имени Брасид, отличившийся в бою с экспедиционными силами Афин. Акарнания на какое-то время была забыта. Главное сейчас — разбить Формиона и его эскадру. Адмиралу были переданы через новых помощников следующие указания: собрать под свое начало как можно больше судов; подготовить экипажи к сражению; и на сей раз ни в коем случае не дать афинянам ни малейшей возможности сохранить господство на море.
Вскоре подошли свежие соединения из городов — членов союза, в результате чего в распоряжении пелопоннесцев оказалось семьдесят семь триер. Формиону предстояло столкнуться с объединенным флотом восьми государств: Спарты, Коринфа, Мегар, Сикиона, Пеллены, Элиса, Лефкады и Амбрасии. Объединились корабли у местечка Панорм, у входа в Коринфский залив. Наблюдателям Формиона, расположившимся в цитадели, господствующей над Навпактом, открывался беспрепятственный вид на Панорм, который был отсюда в пяти милях к югу, на противоположной стороне водного овала. Теперь вражеский флот вчетверо превосходил афинские силы; к тому же его поддерживал только что подошедший крупный отряд сухопутных войск. В одночасье местечко на берегу Пелопоннеса превратилось в целый военно-морской город.
Уступать господство на море никак не вязалось с убеждениями Формиона, да и с указаниями, полученными из Афин, — необходимо удерживать контроль над входом в залив. И подобно Леониду у Фермопил, он готов был умереть, но приказ выполнить. Во главе своих двадцати судов Формион двинулся вниз по течению к мысу Рион, давая понять, что готов принять сражение. Берег был усыпан галькой и щепками, что не давало возможности причалить. Пришлось обходить мыс и становиться лагерем на песчаном берегу невдалеке от храма Посейдона, выходящего на запад, где вдалеке угадывались острова Итака и Кефалления. Двадцать триер, посланных из Афин, пока не появились, и под рукой у Формиона были только несколько сот гоплитов из Навпакта. Они будут прикрывать лагерь, пока афиняне сражаются на море, а также оказывать помощь экипажу любой афинской триеры, если ее выбросит на берег.
Формион испытывал почти мистическую веру в непобедимость афинского флота. Он без устали напоминал своим матросам, что они — афиняне, и потому им под силу справиться на море с любым противником, даже самым сильным. Здравый смысл должен был бы подсказать ему, что лучше укрыться за стенами Навпакта, а там зимние штормы сами рассеют вражеский флот. Но Формион сделал выбор в пользу плохо защищенного берега и немедленной схватки. Здесь спасательной экспедиции из Афин, если, конечно, она вообще подойдет, будет найти его всего проще. Здесь он сможет утвердить афинское владычество на море, основанное Периклом — автором великого стратегического плана. Отсюда, наконец, ему удобнее всего выманить спартанцев и их союзников в открытое море, где в полной мере скажется мастерство гребцов и рулевых.
Ответ спартанцев на смелый вызов Формиона был спокоен и грозен. Не ввязываясь до времени в бой с афинянами, они занялись обучением своих экипажей в спокойных водах залива. Каждое утро афиняне отходили от берега и становились в боевой порядок у входа в залив. Отсюда было хорошо видно, чем и как занимается противник. И с каждым днем росла уверенность пелопоннесцев в своих силах, а моральный дух афинян, напротив, угасал.
Так прошло шесть или семь дней, и Формион заметил признаки надвигающегося бунта. Обычно афинские граждане, пошедшие на флотскую службу, позволяли себе без обиняков высказывать претензии начальникам; быть может, именно поэтому бунтов в Афинах практически не бывало — ни всего флота против наварха, ни экипажей отдельных триер против своих триерархов. Поэтому не могли не вызвать настороженности тайные переговоры напуганных чем-то людей, то и дело возникающие в разных концах лагеря. В надежде поднять дух моряков Формион созвал всеобщее собрание эскадры. Он прямо заявил о численном превосходстве противника, сказал, что спартанцы присвоили себе нечто вроде монополии на храбрость. Но при этом, продолжал Формион, союзники вряд ли готовы рисковать жизнью за честь Спарты. И заметил: «Уже не раз случалось, что большие силы уступали малым потому лишь, что им не хватало мастерства либо отваги. А у нас ни в том, ни в другом недостатка нет».
Формион твердо пообещал, что сделает все возможное, чтобы дать сражение в открытом море, где афиняне будут иметь большой простор для маневра, что, в свою очередь, позволит самым эффективным образом использовать тараны. И теперь каждому, воззвал Формион, остается исполнить свой долг. Каждый должен оставаться на своем посту, соблюдать дисциплину и тишину, дабы ясно слышать команды. В заключение он напомнил, что одна победа уже была одержана, притом над теми же самыми людьми, которые в массе своей составляют новые силы пелопоннесцев. «А битые никогда не сражаются с прежней решимостью».
Многодневные занятия позволили спартанцам превратить разрозненные части в боевую единицу. Со своими восемьюдесятью судами против двадцати Формиона они имели возможность расположить их на четыре ряда в глубину, одновременно не уступая афинянам по фронту. Правый и левый фланги пелопоннесцев, центр возглавляли соответственно Брасид, Ликофрон и адмирал Кнем. А за правым флангом, то есть если смотреть со стороны афинян, на севере, расположился специальный летучий отряд, состоящий из двадцати самых быстроходных триер. Им командовал спартанец Тимократ. В качестве флагманского судна он выбрал триеру с острова Лефкада — быстрейшую и красивейшую.
Наутро пелопоннесцы зашевелились еще до восхода солнца. Трудно сказать, что это было — очередное занятие или подготовка к сражению. Возглавляемые отрядом Тимократа, пелопоннесцы, двигаясь по четыре в ряд, отошли от берега и под настороженными взглядами афинян взяли курс в центр залива, на север. Формиону казалось, что они вновь готовятся отрабатывать те или другие маневры. Но сегодня все было не как раньше, это не были тренировочные занятия. Стройными рядами на афинян шел готовый к сражению боевой отряд, и атаковать он готовился не тех, кто был у мыса Рион, а тех, кто ждет их у Навпакта.
Формион обещал своим людям, что в тесноте залива воевать не будет. Но сейчас у него не оставалось выбора. Не мог он бросить союзников, отдавших ему всех своих гоплитов. И Формион против воли дал сигнал к выходу в море. Пока афиняне занимали свои места в триерах, местные похватали оружие и помчались по домам, к семьям. Триеры Формиона шли одним рядом, «Парал» держался чуть позади. Если удастся сделать разворот и встретиться со спартанцами лицом к лицу, флагман окажется ровно посредине. По мере того как одна триера за другой огибали мыс и входили в залив, рулевой флагманского корабля разворачивался на северо-северо-восток, в сторону Навпакта, почти невидимый за его закругляющейся кормой. Гонка началась.
Начало у пелопоннесцев получилось резвым, но вскоре стала сказываться сила и мастерство афинян. Наступил момент, когда передовая афинская триера вышла на один уровень с авангардом противника и рванулась вперед. Казалось, афиняне имеют шанс выиграть гонку и спасти город. Но дело в том, что спартанцы вовсе не собирались захватывать Навпакт. Гавань была хорошо укреплена, а осадных орудий на их триерах не было. И бросок на север задумывался как маневр, который должен заставить Формиона принять бой на их условиях. Так и вышло, пришла пора собирать урожай.
По сигналу семьдесят семь пелопоннесских кораблей круто повернули налево. В результате этого маневра их тараны оказались нацелены прямо на афинян. Выстроившись по четыре в ряд, пелопоннесцы атаковали противника. Но слишком уж медленно они действовали, что позволило кораблям передовой линии афинян уйти из-под удара. При столкновении девять буксиров Формиона понесло на покрытый галькой берег. Основные силы пелопоннесцев бросились следом, явно не желая упустить возможность принять участие в исторической победе над афинянами на море. При этом экипажи некоторых попавших в ловушку судов остались на своих местах, отчаянно пытаясь отбиться от пошедшего на абордаж противника. И лишь когда дальнейшее сопротивление стало бессмысленным, афиняне попрыгали за борт, на мелководье, и начали пробираться к суше.
Тем временем одиннадцать афинских триер избежали столкновения, по-прежнему стремясь в сторону Навпакта. В надежде добить врага Тимократ приказал летучему отряду правого крыла пелопоннесцев начать преследование. По команде спартанца двадцать триер пристроились в кильватер последнему в этом строю еще не захваченных афинских судов — «Паралу» — и бросились в погоню.
В результате этого продолжительного соревнования афиняне оказались близки к своей изначальной цели. Одна за другой их триеры достигали Навпакта и разворачивались носом к приближающемуся противнику. Их корабельные тараны образовали сплошную стену из бронзы, прикрывающую вход в гавань. Неподалеку виднелся храм Аполлона, возведенный на священной земле близ кромки моря. В этот момент где-то вдали зазвучала музыка. Это экипажи пелопоннесских триер, не дожидаясь конца сражения, запели старинный победный гимн — пеан Аполлону. Звуки плыли по воде, отражаясь от городских стен.
Флагманский корабль пелопоннесцев с Тимократом на борту оторвался от основных сил. Следом за ним, прямо за «Паралом», шла еще одна триера — из Лефкады. Ее обнаружил, уже недалеко от входа в бухту, впередсмотрящий и немедленно доложил Формиону. Тем временем с якоря снималось тяжеловесное торговое судно из Навпакта. Первые десять афинских триер уже миновали его, и тут Формиона внезапно озарило. Как бы катастрофически ни сложились утренние события, он все еще не оставлял надежду на ответный удар, пусть даже он будет сопряжен с большим риском. Пока пелопоннесцы распевали победную песнь, Формион составил план действий. Только приступать к делу надо немедленно, пока торговец еще не поднял якорь. Его мощный деревянный корпус давал последний шанс — пусть не выиграть сражение, но хотя бы пустить на дно вражеский корабль.
В Греции, на гонках колесниц, которые устраивали в открытом поле, иногда происходили несчастные случаи. Например, достигая дальнего конца дистанции, лидер плохо рассчитывал поворот и, описывая вокруг поворотного столба слишком широкую дугу, сталкивался с колесницей, идущей следом. Поспешая к Навпакту, «Парал» был лишен возможности атаковать преследователя. Стоило хоть чуть-чуть изменить курс, и корабль сразу же подставился бы таранам противника. А теперь случай воздвиг на пути Формиона препятствие, которое прикроет «Парал», пока он будет разворачиваться носом к преследователю. Торговец будет поворотным столбом, «Парал» — колесницей. Маневр был безрассуден, даже самоубийствен, но времени на раздумья не оставалось: спартанский флагман был совсем рядом. У входа в гавань стояли десять афинских триер — надежное убежище, но Формион даже не посмотрел в ту сторону. Он приказал рулевому обогнуть торговое судно.
Гребцам ничего не было видно: плотные щиты из звериных шкур скрывали от них и каменные стены Навпакта, и торговый корабль, и преследующего их противника. Со слепой верой гребцы повиновались пронзительным звукам дудок и громким командам рулевого, энергично орудовавшего своими длинными веслами. Выбиваясь из сил, но не потеряв уверенности в успехе, команда вторила его движениям. На половине круга, в критический момент, когда «Парал» вот-вот был готов подставиться тарану преследователя, его, как Формион и рассчитывал, скрыл торговый корабль из Навпакта. Непосредственная опасность миновала. Выйдя из поворота, «Парал» стал подобен стреле, нацеленной на противника. Роли резко поменялись: охотник превратился в жертву.
Внезапный маневр Формиона поставил Тимократа в безвыходное положение. Он был обречен потерять корабль. Остановка, разворот, отступление — все бесполезно. Тимократ все же решил продолжать движение прежним курсом, возможно, в надежде уйти от таранного удара «Парала». Не вышло. Афинские гребцы сделали последний рывок и вытащили весла из воды. Подобно распростертым крыльям, блестящим от брызг, парили они недвижно над поверхностью моря, а корабль неудержимо скользил вперед. Непосредственно перед столкновением гребцы «Парала», все до единого, ухватились, в ожидании удара, за ближайший тимберс. Бронза врезалась в дерево, таран пробил корпус вражеского судна. На мгновение оба судна застыли в неподвижности, а затем гул от удара сменился воплями раненых и шумом воды, хлынувшей через искореженную корму триеры с острова Лефкада.
И вот тут Тимократ потерял голову. У него еще сохранялась возможность собрать команду в единый кулак и повести на штурм нависшей над ним носовой части «Парала». Так уже бывало, и не раз: экипаж оставляет свое тонущее судно, перепрыгивает через борт атакующего корабля и даже объявляет его своей добычей. Но предводитель спартанцев испытал и слишком сильный удар, и слишком большой позор. Верный кодексу своей страны — лучше смерть, чем бесчестье, — Тимократ обнажил меч, вонзил его себе в сердце и рухнул на палубу. Через мгновение безжизненное тело перевалилось через борт и ушло под воду.
Тот миг мог стать последним и для Формиона. «Парал» беспомощно покачивался на волнах, представляя собой удобную мишень для авангарда вражеской эскадры. Конец и судна, и его командира казался неизбежным. Но удивительным образом ничего не последовало. При виде гибели своего флагманского корабля и эффектного самоубийства наварха, пелопоннесцы оборвали пение и опустили весла в воду. Лишившиеся вождя, они растерялись. Некоторые попрыгали за борт, в илистое мелководье, другие, потеряв голову, принялись бесполезно молотить веслами по воде. Так или иначе, все девятнадцать триер, и те, что сохранили остойчивость, и те, что сели на мель, оказались легкой добычей противника.
Афинские триерархи, остававшиеся в своих десяти триерах, стороживших вход в бухту, затаив дыхание наблюдали за подвигами «Парала». Теперь настал их час. Кто-то подал сигнал к атаке, в ответ раздался оглушительный рев. Все десять судов сорвались с места и устремились в сторону совершенно растерявшегося противника. Оторвавшись от тонущего лефкадийца, к ним присоединилась команда «Парала». Пелопоннесцы попытались было выстроиться хоть в какое-то подобие порядка, но было слишком поздно, инициативой полностью владели афиняне. Пелопоннесцы — кто мог — бросились на юг, афиняне устремились в погоню и в считанные минуты захватили шесть вражеских триер.
А когда погоня перенеслась в открытые воды залива, взору случайного наблюдателя предстало бы красочное зрелище. Вокруг девяти афинских триер, которые пелопоннесцы еще утром вытащили на берег, разгорелось настоящее сражение. Мессенские гоплиты, направлявшиеся быстрым маршем к Навпакту, свернули в сторону и бросились на помощь союзникам. Попрыгав в воду, поднимая тучи ила и брызг, они карабкались на палубы опустевших боевых кораблей, чтобы наконец-то сойтись в рукопашной со спартанцами. Вскоре несколько судов были отбиты. Оказавшись в положении защищающихся, спартанцы с изумлением увидели направляющуюся в их сторону эскадру Тимократа — то, что от нее осталось, — с наседающими на нее гоплитами афинян. Немедленно прекратив сражение с мессенцами, они присоединились к своим товарищам по бегству; при этом, чтобы сохранить себе жизнь, им пришлось отказаться от уже захваченной добычи. Афинянам же в награду достались восемь из девяти безнадежно, казалось, утраченных кораблей.
Наконец Формион скомандовал отбой. Большинству пелопоннесцев все же удалось бежать и даже прихватить с собой одну афинскую триеру с экипажем. Но все равно Формион со своим небольшим воинством одержал грандиозную победу. Теперь уже афиняне исполнили победный пеан, а затем направились в Навпакт. Кто-то обнаружил на берегу выброшенное волнами тело Тимократа. Этот трофей афиняне перенесли к храму Аполлона, расположенному прямо напротив того места, где они переломили ход сражения в свою сторону. Впоследствии стало известно, что спартанцы считают, что на самом деле в тот день разыгралось два сражения и что сухопутную битву выиграли пелопоннесцы. Это позволило им тоже поднять знамя победы — на своем берегу, в Панорме, удаленной на безопасное расстояние от мстительных афинян.
На следующее утро южный берег залива, обычно столь оживленный — и людей полно, и кораблей, — совершенно опустел. Опасаясь прибытия подкреплений из Афин, пелопоннесцы под покровом ночи убрались восвояси: дух их был слишком надломлен для нового столкновения с Формионом, несмотря на то что спартанский флот все еще более, чем втрое, превосходил афинский. За несколько дней до конца осени подошли наконец-то двадцать афинских триер. Столь большую задержку триерархи объяснили сильными встречными ветрами и волнениями на Крите. Впрочем, неучастие их в сражении при Навпакте лишь подчеркнуло блестящее превосходство афинского флота и тактический дар его командующего.
С приходом весны Формион распрощался со своими союзниками-мессенцами и повел свой флот вместе с добычей назад в Пирей. Ему сравнялось шестьдесят, он дал свое последнее сражение, придав одновременно новый импульс слабеющей активности Афин на море и возродив боевой дух соотечественников. После побед при Навпакте и Патрах разговоры о мире со спартанцами замолкли. В честь их афиняне принесли жертву Аполлону в его Дельфийском храме. В портике, примыкающем к месту поклонения, были разложены щиты и оснастка вражеских кораблей — трофеи, захваченные Формионом, — а также установлена стела с высеченными на ней именами восьми участников Пелопоннесского союза, которым Формион нанес поражение. Самого же его отныне окружала аура чуть ли не божественного поклонения. При очередной просьбе о помощи акарняне специально оговаривали, что возглавить афинское соединение должен сын либо другой близкий родич Формиона.
И уж настоящий спектакль начался, когда Формион посвятил Дионису свинцовый треножник. Действо, в ходе которого он достиг подлинного своего апофеоза, разыгралось на сцене тетра Диониса. В честь победителя при Патрах и Навпакте молодой афинский драматург Эвпол написал комедию «Таксиархи» — по имени хора, состоящего из вое-начальников. По сюжету ее Дионис спускается с Олимпа, чтобы поучиться военному ремеслу у Формиона, который и впрямь преподает добродушному, мягкосердечному богу виноделия суровые уроки гребли и рукопашного боя. В одном из эпизодов актер, исполняющий роль Диониса, на самом деле проводит небольшую лодку через сцену, а другой актер, исполнитель роли Формиона, наблюдает за ним с кормы, дает указания и ругает, когда тот, неправильно погрузив весло в воду, обдает его брызгами. Помимо того, Формион приглашает Диониса переночевать на своем прославленном походном камышовом тюфяке. Эвпол со своей быстро завоевавшей широкую популярность комедией стал первым, кто юмористически изобразил превращение зеленого новичка в видавшего виды воина. Наряду с историческими исследованиями и справочниками по тактике морского боя его пьеса сохранила имя Формиона в памяти поколений.
Он был совсем еще мальчиком, когда Фемистокл провозгласил, что Деревянная стена из пророчества Дельфийского оракула — это на самом деле афинский флот, богоданная опора, которая всегда защитит Афины в грозный час. Служение флоту и на флоте стало для Формиона смыслом всей его жизни, и под конец этого служения он принес на алтарь любимой своей Деревянной стены две выдающиеся победы. Долго еще его стратегические замыслы будут жить в памяти и служить примером для подражания морским военачальникам разных поколений. Все те высокие качества ума и духа, что выделяют афинян в кругу иных народов, самое яркое свое воплощение нашли в личности именно этого человека — оптимизм, энергия, изобретательность; и еще — решимость использовать любой шанс, пусть самый призрачный; и еще — железная воля продолжать сражение, даже когда оно кажется безнадежно проигранным и враг уже торжествует победу. Для Формиона победить было никогда не поздно.
По смерти Формиону поставили в Акрополе памятник у западного крыла Пантеона, там, где и Афина, и Посейдон сверху, с фронтона, могут взирать на любимейшего из своих сыновей. Народ предал останки Формиона земле у обочины Священного пути. Ранее честь упокоиться сразу же за пределами городских ворот была предоставлена Периклу, и вот теперь, следом за ним, афиняне поставили памятник Формиону, величайшему своему герою морей.
Глава 12
Маски комедии, маски рулевого (428–421 годы до н. э.)
Когда моряк натянет корабельный
Канат и не захочет отпустить, —
Не миновать ладье перевернуться.
Софокл. «Антигона», пер. Ф.Зелинского
Перикл умер, и некому оказалось в Афинах занять его место. Даже если бы сам Зевс удалился с Олимпа, не осталось бы за ним такой пустоты. Более сорока лет пребывал Перикл на передовой афинской политики, морских дел, театра, полемики между религией и наукой, дипломатии, градостроительства и возведения храмов. Но краеугольным камнем его деятельности как вождя неизменно оставался флот. В глазах демократов из народного собрания флот — это основа силы и престижа государства; флот — это источник средств для осуществления строительных программ; флот, наконец, это несокрушимое, судя по всему, препятствие на пути врагов города. Перикл составил план победоносной войны с пелопоннесцами, но умер, не успев полностью осуществить его. В тени его мощной фигуры пропадали и противники, и наследники. Сыновей Перикла унесла эпидемия чумы, а его блестящий, но непредсказуемый воспитанник Алкивиад был еще слишком молод, чтобы сделаться стратегом или занять иную выборную должность. Кажется, впервые за последнее столетие Афины начали испытывать острую нужду в лидере.
В годы процветания морской империи обычный афинский ремесленник, не имеющий связей со старыми аристократическими родами, мог сделать огромное состояние благодаря одному лишь трудолюбию. Люди эти, производившие все, от бронзовых щитов до музыкальных инструментов, составили новую афинскую элиту и с уходом Перикла сразу же вышли на авансцену городской жизни. Наиболее видной в этом кругу фигурой стал поначалу преуспевающий торговец шерстью Лизикл, муж подруги Перикла Аспазии. Но вскоре он погиб, отправившись для сбора налогов в Малую Азию во главе морской экспедиции. За Лизиклом последовал баснословно богатый магнат — владелец серебряных копий Никий, возмещавший недостаток аристократической родословной демонстративной набожностью, благовоспитанным поведением, щедрой поддержкой разного рода празднеств и успешными действиями на море, например, при Мегарах и Кифере. Ничуть не вредило репутации Никия в глазах людей и то, что имя его означает «Победитель».
Главным соперником Никия был кожевенник Клеон, тоже человек не бедный. Этот энергичный гражданин сумел к сорока годам завоевать в народном собрании очень большое влияние благодаря не столько подвигам на поле брани, сколько ораторскому искусству и навыкам опытного политикана. Подобно Периклу, он был демагогом, иначе говоря — «вождем», но при этом более далекую от Перикла фигуру трудно себе представить. Клеон отличался необыкновенно живым нравом, умением сколачивать вокруг себя разные группы, велеречивостью. Презирая статуарную сдержанность, он взлетал на трибуну, словно это была театральная сцена, и начинал яростно жестикулировать, внедряя таким образом свою мысль в сознание слушателей. Как цепной пес империи, Клеон вполне разделял убежденность Перикла в том, что имперская власть означает железный кулак. Умел он также выбить из союзников долги, а заодно изрядно увеличить сумму взноса. Для продолжения войны Афинам были нужны деньги, и жестокое обращение Клеона привело к тому, что жители одного стратегически важного города Митилена на острове Лесбос восстали. На подавление бунта собранию пришлось ввести военный налог на личную собственность граждан — это был первый подобного рода налог во всей истории афинской демократии, но благодаря ему удалось собрать необходимые двести талантов.
Если Перикл и Никий были людьми слишком честными, а может быть, просто слишком состоятельными, чтобы брать взятки, то Клеон вернулся к опыту первого демагога Фемистокла. Вполне беззастенчиво он использовал влияние, чтобы набить собственный карман. Простонародье стояло на его стороне, но большинство преуспевающих граждан — триерархи, всадники — откровенно презирали этого человека. Клеон и из этой ненависти извлекал выгоду. Когда какое-либо из его предложений на собрании не проходило, он, как прожженный законник, тягал своих оппонентов по судам.
Стратегия Перикла, направленная на достижение победы в войне, стала для всех, кто пришел к нему на смену, настоящим камнем преткновения. Логика в ней была железная, но никто бы не мог утверждать, что она с неизбежностью ведет к успеху. Война с Пелопоннесом тянулась уже долгие годы, а не видно было не только перспектив окончательной победы, но даже приемлемого мира. Спартанцы оказались на удивление неуступчивым противником. Вместо того чтобы признать, по здравом размышлении, безнадежность продолжения войны, они упрямо, из года в год, вторгались на территорию Афин или их союзников. Перикл утверждал, что спартанцам понадобится много времени, чтобы овладеть искусством морского боя, но, судя по всему, они оказались вполне готовы к обучению. Если спартанцы, как никто, все время придумывали что-то новое, то афиняне упорно держались плана Перикла, утрачивая, таким образом, инициативу в ведении военных действий.
Тем не менее они с готовностью встречали многочисленные вызовы, связанные с ведением войны и следованием политике Перикла. Чума выкосила город, количество граждан заметно уменьшилось, так что, когда возникла нужда направить гоплитов в Митилену, им пришлось самим сесть за весла, как, впрочем, и всадникам, посланным в Коринф. На четвертый год войны собрание оснастило и готово было задействовать 250 кораблей — больше, чем когда-либо в истории города. Афины по-прежнему казались непотопляемыми.
По мере того как конфликт между спартанцами и союзниками Афин только разгорался, он все более приобретал в различных своих проявлениях несколько театральный характер, свойственный народным празднествам. Через несколько дней после поражения от Формиона экипажи пелопоннесских кораблей тайно прошли через Истм, каждый неся с собой собственное весло, и уключину, и гребную подушку. Остановившись в Нисее, они дождались темноты и поспешно погрузились на мегарские триеры, дабы совершить стремительный бросок на сам Пирей. Но суда слишком долго простояли в сухом доке, и швы на бортах разошлись. Чем сильнее была течь, тем медленнее становилось продвижение. В конце концов пелопоннесцам пришлось отказаться от своего грандиозного плана и ограничиться ночным налетом на Саламин. Тревожные сигналы маяка вызвали в Афинах настоящую панику, хотя легкомысленный противник даже близко к порту не подошел.
Еще большее волнение поднялось два года спустя, когда Клеон настолько застращал собрание, что оно вынесло смертный приговор всем гражданам Митилены — в наказание за бунт, поднятый несколькими местными олигархами. В тот же день была снаряжена триера с распоряжением о массовой казни. Но уже на следующее утро афиняне опомнились, и следом за первым отправился второй корабль — с указом, отменяющим вчерашнее решение. Не ясно было только, успеет ли он догнать предшественника.
Экипаж второй триеры поспешно спустил ее на воду, загрузил всем необходимым и бросился вдогонку. До Митилены предстояло пройти 185 миль. Гребцы работали без устали и отдыха, весь день и всю ночь, и даже перекусывали ячменем с оливковым маслом и вино пили, не выпуская весел из рук. Спали по очереди. Вдали показался берег, и впередсмотрящий увидел, что первое судно уже бросило якорь в бухте Митилены. Стратег Пахес зачитал первоначальный указ. Вот-вот должны были начаться казни, но героическими усилиями второго экипажа несколько тысяч жизней были спасены. И все же закончилась вся эта история трагически. Вернувшись в Афины, Пахес предстал перед судом по обвинению в небрежении своими обязанностями стратега. Не выдержав суровых упреков, он выхватил меч и заколол себя прямо на глазах у судей.
Все же на четвертый год войны зона боевых действий начала стремительно расширяться. При этом где бы ни оказывался флот, его появление сопровождалось стихийными бедствиями. На Сицилии афиняне стали свидетелями того, как из кратера вулкана Этны, бездействующего уже многие годы, потоками извергается лава. На Черном море, собирая дань с союзников, афинский стратег Ламах распорядился втащить на берег в устье реки десять триер, и все их унесло в море поднявшимся ураганом. А в Эвбейском заливе гигантская волна налетела на сторожевую заставу афинян на островке Аталанта и перебросила через стену триеру, обломки которой рассыпались посреди многочисленных внутренних строений. Удар стихии был настолько сильным, что сам островок раскололо надвое, и образовавшаяся расселина оказалась настолько широка, что через нее свободно могла пройти триера.
На седьмой год войны чаша весов наконец-то качнулась в сторону Афин. Поворотным пунктом стала смелая операция, задуманная настойчивым и искушенным в сражениях военачальником по имени Демосфен (не путать со знаменитым оратором следующего поколения). Этот стратег подхватил в свое время эстафету побед Формиона, заслужив уважение со стороны мессенцев и других союзников Афин на западе. Ареной, на которой ему предстояло испытать свой новаторский замысел, оказался просторный и уединенный залив Пилос на юго-западной оконечности Пелопоннеса. Обнародовать свой план перед всем собранием Демосфен не решился. Залог успеха — скрытность и внезапность. В начале лета, в сезон дождей, Демосфен высадился на Пилосе во главе небольшого экспедиционного отряда и взялся за возведение укреплений, выходящих на северную сторону залива. Сильно нагибаясь вперед, сцепив за спиной руки и образовав тем самым цепочку импровизированных носилок, его люди тащили на себе камни для строительства стены и глину для строительного раствора. Укрепили должным образом афиняне и полоску берега, которая будет служить гаванью для подвоза продовольствия и подкреплений. Личный состав новой базы сложился из экипажей пяти афинских триер и мессенцев из Навпакта, знающих толк в морском деле. Демосфен намеревался использовать их в бою как мятежников, которые в содружестве с илотами равнинной местности должны были посеять панику среди спартанцев.
Слух о происходящем быстро донесся до Спарты, благо расположена она была всего в пятидесяти милях от базы. Спартанцы немедленно отозвали сухопутные силы из Аттики и военно-морские из Керкиры. Те и другие должны были объединиться у Пилоса, чтобы дать отпор налетчикам, пробирающимся на их землю с черного входа. Разбив лагерь на побережье залива, спартанцы переправили 420 лучших своих воинов на скалистый островок, вытянувшийся на три мили в длину и прикрывающий выход в открытое море. Имя у островка было устрашающее — Сфактерия («Жертвенник»). Преисполненные решимости не оставить ни пяди земли, где мог бы высадиться противник, спартанцы принялись обустраиваться в колючих зарослях и скалах. Точно так же Ксеркс в свое время расположил лучшие свои силы на острове Пситталея перед сражением при Саламине. Демосфен послал в Афины гонцов, призывая направить сюда главные силы афинского флота. Не успели они дойти до Пилоса, как враг перешел в наступление.
Вместе с шестьюдесятью моряками Демосфен расположился на северной оконечности Пилосского залива, остальные заняли оборонительные позиции в заново отстроенной цитадели. Если бы всем сорока трем пелопоннесским судам удалось разом подойти к берегу вплотную и высадить экипажи на землю, положение афинян было бы безнадежно, но этому мешали подводные камни. Столкнувшись с этой естественной преградой, спартанцы были вынуждены разбить эскадру на несколько небольших отрядов. Вытянувшись в цепочку сразу за линией прибоя, основной караван судов криками подбадривал экипажи триер, пытающиеся продраться сквозь рифы и высадиться на сушу. Трудно представить себе маневр более рискованный, нежели эта попытка провести суда по мелководью к вражескому берегу.
Среди самых нетерпеливых спартанцев выделялся некий Брасид. Служивший триером, он никак не мог смириться с горечью поражения от Формиона четырехлетней давности. Прогремев, что это позор — больше думать о сохранности корабельных тимберсов, нежели о победе над афинянами, он отдал рулевому команду полным ходом идти к берегу. Едва киль коснулся дна, он вскочил на скамейку рулевого и приготовился уже выпрыгнуть за борт, как его поразила пущенная с берега стрела. Раненый, он рухнул на палубу, а его большой круглый щит гоплита упал в воду. Пелопоннесцы стремительно подались назад, подальше от берега, и заняли место в общем строю. Брасид быстро оправился, и настолько, что даже сумел назавтра принять участие в бою, но атака спартанцев выдохлась.
Весь день Демосфен со своим небольшим отрядом сдерживал натиск врага: несколько десятков воинов успешно противостояли восьмитысячной армии. Мир перевернулся с ног на голову. Спартанский флот сражался с сухопутными силами афинян, и, что еще более парадоксально, последние одерживали верх. К вечеру пелопоннесцы оставили попытки высадить десант. Щит Брасида волной вынесло на берег, и афиняне поставили его на возвышение как военный трофей и символ победы. Пелопоннесцы еще два дня безуспешно пытались пробиться к берегу, и тут наконец подошли основные афинские силы — пятьдесят триер. Принять бой в открытом море спартанцы не решались, афиняне вошли в залив через каналы с обеих сторон острова и, обрушившись на врага, захватили пять судов, а остальные погнали в сторону материка.
Теперь афиняне полностью господствовали в заливе, а главное, четыре сотни отборных спартанских воинов оказались заперты на острове, практически лишенные пресной воды и продовольствия. Афиняне быстро воспользовались плодами достигнутого успеха. Целый день вокруг острова курсировали две патрульные триеры, предотвращая любые попытки противника вырваться из островного плена. А к ночи, когда такое занятие стало опасным, весь афинский флот широким кругом выстроился вокруг Сфактерии. Наметилась тенденция уменьшения количества этнических спартанцев, их все больше окружало илотов. Потеря даже одного гражданина Спарты воспринималась как угроза национальной целостности, так что известие о том, что в ловушке у афинян оказалось четыре сотни человек, поразило Спарту, словно удар грома. На Пилос были немедленно направлены посланники для переговоров о перемирии. Оттуда их переправили на триере в Афины.
Там представители Спарты предложили собранию немедленное прекращение войны и даже договор о дружбе взамен на освобождение своих людей. Однако же Клеон, этот воинственный демагог, потребовал более ощутимого выкупа — четырех стратегически важных городов, где афинских гарнизонов не осталось еще в конце Малой Пелопоннесской войны, двадцать два года назад, когда Афины вынуждены были отдать вновь завоеванные территории в обмен на возвращение своих граждан-заложников. Теперь в таком же положении оказался враг, и предложение Клеона можно было бы рассматривать всего лишь как торжество справедливости.
Спартанцы предпочли не ввязываться в спор о выкупах, предложив афинянам сформировать небольшую комиссию по урегулированию конфликта, которая обсудила бы условия мира в спокойной и конфиденциальной обстановке. В ответ на это Клеон упрекнул спартанцев в том, что они предпочитают тайные договоренности открытому разговору в присутствии всего собрания. В результате спартанцы вернулись на Пилос, так ничего не добившись.
Афиняне продолжали блокаду острова, а спартанцы послали за подкреплением, выискивая одновременно возможности доставки продовольствия своим попавшим в западню согражданам. В конце концов им пришлось нанять ныряльщиков, и те поплыли через залив с мехами меда, мака и льняного семени. Помимо того, в штормовую погоду илоты-мореходы, рискуя жизнью и в надежде получить свободу, перевозили на лодках пшеницу, сыр и вино. Таким образом, запертые на острове спартанцы продержались более месяца, как раз до тех пор, когда в самих Афинах появились сомнения относительно успеха всего этого предприятия. Недовольство выплеснулось на очередном собрании граждан, принявших решение послать на Пилос Никия с лучниками и копьеносцами. Этим легковооруженным соединениям действовать на грубой каменистой почве острова сподручнее, чем фалангам гоплитов.
Клеон не сумел удержаться от нескольких колких замечаний по этому поводу, что и неудивительно: ведь он ненавидел Никия почти так же сильно, как спартанцев. В своем выступлении Клеон упрекал стратегов за то, что они никак не могут справиться с запертыми на острове спартанцами, и попутно набросился на слишком обходительного в манерах Никия, выразил сомнение в его мужестве и заявил, что, если бы представился случай, он бы куда лучше справился с заданием. В ответ с необычной для себя твердостью Никий заявил, что готов передать свои полномочия стратега Клеону. Тот поначалу, решив, что его разыгрывают, изъявил полную готовность принять предложение. Но когда стало ясно, что Никий вовсе не шутит, Клеон растерялся и принялся неловко искать выход из положения.
Однако было уже поздно: идея собранию понравилась, оно с энтузиазмом приняло замену одного на другого. И тут у загнанного в угол Клеона взыграла гордость. Он согласился возглавить экспедицию на Пилос, хвастливо заявив при этом, что уже через двадцать дней либо вернется в Афины со спартанцами в качестве заложников, либо пришлет сообщение, что все они до единого уничтожены. Проводить Клеона пришло множество афинян, и почти все были убеждены, что вернуться-то он вернется, но либо мертвым, либо опозоренным. Но к изумлению и друзей и недругов, выяснилось, что слов на ветер Клеон не бросает. Еще до истечения указанного срока он действительно вернулся в Афины, доставив, как и обещал, 292 пленных спартанцев. Остальные погибли в ходе яростной схватки, когда легковооруженные отряды Клеона вместе с гоплитами Демосфена предприняли стремительную атаку на соперника.
В Афинах царил полный восторг. Вскоре прибыла новая делегация из Спарты, поверженный враг жаждал мира и возвращения военнопленных. Афиняне действовали в согласии с указаниями Клеона. Спартанцам было заявлено, что заложники будут немедленно казнены, если пелопоннесская армия вновь вторгнется в пределы Аттики. Связав руки противнику, город продолжал праздновать победу. Самыми ценными трофеями, доставленными с Пилоса, были сотни круглых бронзовых щитов, принадлежавших ранее спартанцам, погибшим или плененным. Добычу посвятили богам, установив щиты в храмах и других общественных местах и горделиво начертав на каждом: АФИНАМ — С ПИЛОСА.
Впервые с самого начала войны горожане возобновили строительные работы в Акрополе. Пилос — это победа, затмевающая военные успехи самого Перикла, и в знак ее афиняне возвели новый храм богини победы Ники. Этот храм Ники Аптерос (Бескрылой) был воздвигнут на специально созданной башне-фундаменте — пиргосе — рядом с главным входом на Акрополь по соседству с величественными пропилеями Перикла. Таким образом, строителям удалось воплотить в камне отвагу Клеона и гордость афинян своей выдающейся победой. Клеон, можно сказать, сделался в одночасье первым гражданином Афин.
Другим памятником победе, столь же долговечным, как мраморный храм богини Ники, стала комедия молодого Аристофана «Всадники». До того как стать драматургом, он успел накопить некоторый, весьма разнообразный опыт театрального подмастерья, уподобив его постепенному овладению искусством рулевого триеры.
(Пер. А.Станкевича)
Не достигнув и двадцати лет, Аристофан стал жесточайшим критиком Клеона. В «Акарнянах», самой ранней из дошедших до нас пьес, он воссоздал атмосферу паранойи, которую насаждал Клеон своими паническими выступлениями и нападками на безобидных иноземцев.
Никарх (доносчик). Я отвечаю только ради публики:
Ты от врагов привез сюда светильник.
Дикеополь. Ты, значит, загорелся от светильника?
Никарх. Ведь он поджечь сумеет доки в гавани.
Дикеополь. Светильник — доки?
Никарх. Да.
Дикеополь. Каким же образом?
Никарх. Привяжет к водяной блохе беотянин
Светильничек, и прямо к нашей гавани
При ветре пустит сточными канавами.
А кораблям одной довольно искорки —
И вспыхнут в тот же миг.
Дикеополь. Подлец негоднейший!
От блошки вспыхнут?
Вспыхнут от светильника?
(Пер. С.Апта)
Триерархами в Афинах были те же самые состоятельные граждане, что финансировали театральные представления. Добропорядочные патриоты, они в большинстве своем искренне любили родной город, но при этом многим совершенно не нравилась нынешняя война. В собрании голос их тонул в гуле голосов большинства, а аргументы подавлялись демагогами. Зато в театре они чувствовали себя в своей тарелке, здесь никто не мешал внимать близким им речам. Аристофан сочинял пьесы, распространявшие идеи своих заказчиков-триерархов. За сальными шутками насчет секса и телесного низа в его комедиях скрывалась сатира на демагогов вроде Клеона и содержался призыв положить конец войне.
Через несколько месяцев после своей триумфальной победы Клеон пошел в театр. Поводом были Ленеи — зимнее празднество в честь бога виноделия Диониса. Символом его и главным объектом поклонения был восставший деревянный фаллос в человеческий рост. Тон всему празднеству задавала именно комедия, а не трагедия. Артисты демонстрировали свои клоунские бочкоподобные животы, а хор помахивал гигантскими фаллосами, называя их порой «веслами». Благодаря своему недавно обретенному званию стратега Клеон впервые в жизни занял почетное место в первом ряду. Слева и справа от него длинной дугой расположились жрецы, филантропы и другие стратеги, в том числе недруги Клеона — Никий и Демосфен. А позади толпились тысячи афинян, пришедших в театр в качестве зрителей и судей конкурса.
Уже несколько месяцев по городу ходили слухи, что Аристофан покажет новую комедию. Два года назад, после бунта в Митилене и знаменитой гонки триер в сторону Лесбоса, драматург безжалостно высмеял Клеона в «Вавилонянах». Тогда Клеон обвинил автора в клевете. Суд признал его правоту и приговорил Аристофана к уплате штрафа. Теперь, защищенный героической аурой победителя спартанцев, Клеон явно рассчитывал, что Аристофан и ему подобные оставят его в покое. Но у драматурга было на этот счет свое мнение.
Распорядители празднества давали за кулисами последние наставления артистам, участникам хора, музыкантам, костюмерам, рабочим сцены — словом, всем, кто был занят в премьере трех новых пьес: «Сатиров» Кратина, «Оруженосцев» Аристомена и «Всадников» Аристофана. Три состоятельных афинянина, спонсоры представления, заняли свои места среди зрителей. Вовсю шла торговля орешками и изюмом. В какой-то момент внесли статую Диониса, чтобы и бог стал свидетелем конкурса. Далее в театр вошел факелоносец и воззвал к присутствующим: «Приветствуйте бога!»
— Сын Семелы! Вакх! Даритель благ! — в едином порыве откликнулась публика, и соревнование началось.
Едва прозвучали первые реплики «Всадников», как всем стало ясно, что пьеса эта — месть драматурга Клеону. Персонажи постоянно упоминают Пилос, а в диалогах то и дело возникает афинский флот. В первом эпизоде на сцене появляются, подвывая, один бегом, другой прихрамывая, два актера в одежде кухонных рабов. Первый поворачивается лицом к зрителям — сначала изумление, затем аплодисменты, и те узнают в нем стратега Демосфена. Второй продолжает всхлипывать. Новый взрыв смеха — этот раб загримирован под Никия. Судя по всему, оба только что подверглись бичеванию.
«Демосфен» поясняет, что вместе с другом находится в услужении у некоего злого, раздражительного и тугого на ухо хозяина по имени Демос (то есть афинский народ). Живет этот человек на Пниксе. Недавно он купил нового раба — дубильщика. Указание на профессию вызывает оживление в публике, ибо кожа, как всем известно, это источник благосостояния Клеона. Новобранец пытается выставить «Демосфена» и «Никия» в дурном свете, отсюда постоянные побои и шрамы. Если у кого и возникли сомнения относительно личности этого третьего раба, то они должны были мгновенно рассеяться при следующей реплике «Демосфена»: «На днях, когда я на Пилосе испек спартанский пирог, он проскользнул мимо, схватил блюдо и понес его хозяину так, будто сам приготовил».
Увидев направляющегося со своим лотком уличного торговца мясом — типичного «простого афинянина», «Демосфен» и «Никий» решают использовать его в борьбе с соперником. Тот упирается, и тогда «Демосфен» сулит колбаснику, что не далее как завтра он станет царем над всем этим народом (жест в сторону зрителей). И само собой, над агорой, гаванями, собранием, советом, а также стратегами.
Пройдясь по биографии колбасника (жалкая профессия, низкое происхождение, безграмотность), «Демосфен» объявляет его безупречным демагогом и наставляет, каким образом справиться с ненавистным дубильщиком. Если зрители рассчитывали увидеть знакомое лицо — маску Клеона, они были разочарованы. Не дожидаясь появления третьего раба на сцене, «Демосфен» бросает очередную реплику в сторону, в которой говорится, что изготовители масок слишком напуганы, чтобы передать близкое сходство, но просвещенная театральная публика наверняка сама угадает, кто есть кто. В этот самый момент «Клеон», рыча от ярости, влетает на сцену. По слухам, его маску надел сам Аристофан, не желавший подвергать актеров опасности, связанной с исполнением роли героя Пилоса.
Клеон предстает в комедии как жулик, лгун и растратчик. А также вор, укравший лавры триумфатора у Демосфена — истинного архитектора победы. В ответ на шпильки своих недоброжелателей дубильщик (Клеон) разражается гневными тирадами и угрожает поквитаться с ними, сделав так, что, когда им придется послужить триерархами, их поставят во главе старых судов со сгнившими парусами.
Раздраженный возникшим шумом, из дома выходит старик Демос и, поняв, что вызван шум ссорой между дубильщиком и колбасником, сам вызывается быть судьей в их споре. У него все еще саднят ягодицы (хотя прошло, однако, пятьдесят шесть лет!) от тяжких трудов гребца при Саламине, и он испытывает истинную признательность, когда колбасник предлагает ему подложить подушку. В самом начале агона (словесной дуэли) Клеон заявляет, что сделал для города больше, чем сам Фемистокл, и даже вспоминает слова знаменитого оракула насчет Деревянной стены и афинского флота. Колбасник парирует: единственная деревянная стена, на которую только и может претендовать Клеон, это колодки. Далее оба стараются перещеголять друг друга в том, кто поднесет Демосу блюдо повкуснее.
По ходу действия хор, состоящий из всадников-аристократов, также всячески поносит Клеона, да и физическое насилие готов применить — точь-в-точь как в действительности, когда на него во время собрания нападала — правда, безуспешно — афинская знать. Между нападками аристофанов хор всадников уже иным и примирительным тоном прямо обращается к зрителям, призывая к согласию между массой и элитой, демократическим флотом и аристократической конницей. Участники его напоминают, что и сами недавно выходили в море (имеется в виду флотилия под командой Никия, которая включала новые суда для перевозки боевых коней). Давая волю фантазии, хор расписывает, как эти кони сами садились за весла и вели триеры к Коринфу. При этом, естественно, меняется военный жаргон, и команды, которые подают морякам, уступают место приказам, понятным всадникам.
Лирической кульминацией пьесы является призыв хора, обращенный к богу коневодства и морей, покровителю всадников и мореходов Посейдону: его умоляют как можно скорее предстать перед афинянами.
В конце концов Демос показывает себя правильным человеком. Он избавляется от Клеона и сулит в будущем тратить больше денег на строительство триер, чем на судебные тяжбы. Далее он приходит к решению полностью расплатиться с моряками, как только они вернутся домой. После чего удаляется к себе на ферму рука об руку с красавицей по прозвищу «Тридцатилетнее замирение». Что касается Клеона, то ему придется разделить участь ничтожного колбасника. В финале пьесы хор утаскивает дубильщика со сцены в сторону городских ворот, где он будет торговать своим тряпьем в банях и борделях.
После завершения всех трех спектаклей соперничающие друг с другом хоры по очереди маршируют перед орхестрой, предоставляя десяти арбитрам решить, кому достались самые громкие аплодисменты. Раньше Аристофан редко оказывался фаворитом. Сколь же горькое унижение должен был пережить Клеон, когда в присутствии десяти тысяч граждан глашатай объявил, что первый приз достается «Всадникам».
Но этот позор не поколебал политического влияния Клеона в городе. Еще три года продолжались атаки афинян на пелопоннесское побережье, еще три года предпринимали они попытки восстановить свои сухопутные владения в прежних границах, еще три года вмешивались в сицилийские дела. Успеха не было ни в чем и нигде, но очередная военная кампания положила начало литературной судьбе еще одного блестяще одаренного афинянина — историка Фукидида. Произошло это так. Брасид совершил бросок на север и, воспользовавшись бураном, захватил богатую афинскую колонию Амфиполь. В стремлении выбить его оттуда Фукидид, бывший тогда стратегом, снарядил семь триер и направился вверх по течению реки Стримон. Он потерпел поражение, и разгневанное собрание отправило его в изгнание. В результате город лишился человека, который мог бы стать государственным деятелем масштаба Перикла. Удалившись во Фракию, где у его семьи были золотые прииски (он был родичем Мильтиада и Кимона), Фукидид посвятил себя изображению текущей войны в мельчайших ее подробностях. Если не получается делать историю, то надо ее описать.
В конечном итоге кровожадный Клеон погиб в сражении при Амфиполе, и там же расстался с жизнью спартанский герой Брасид. С кончиной этих двух ястребов Никий быстро провел успешные переговоры и заключил мирное соглашение, получившее впоследствии его имя. По условиям мира спартанцы формально признавали владычество афинян над всей морской империей и даже отдавали Нисею, главный портовый город Мегар. Во всем остальном стороны принимали на себя обязательство вернуть друг другу захваченные во время войны территории и открыть доступ всем грекам в эллинские святыни, такие как Олимпия и Дельфы. Равным образом Афины и Спарта торжественно клялись не нарушать мир в течение как минимум пятидесяти лет. Мирное соглашение стало триумфом Афин и наверняка порадовало бы Перикла, доживи он до этого славного мига.
Война продолжалась почти десять лет. Ведущие участники Пелопоннесского союза — Коринф, Фивы и Мегары — были крайне недовольны и винили спартанцев за согласие принять столь невыгодные условия мира. Чтобы застраховать себя от возможных поползновений столь раздражительных союзников, спартанцы заключили, помимо общего, сепаратное соглашение с Афинами, сроком тоже на пятьдесят лет. Кажется, готова была осуществиться мечта Кимона: Афины и Спарта дружно взваливают на себя бремя руководства всем греческим миром. Но кое-кому Никиев мир с самого начала представлялся не подлинным миром, но всего лишь вынужденным и недолгим прекращением вражды.
На очередном театральном фестивале Аристофан показал свою новую комедию — «Мир». Главный герой пьесы, афинский виноградарь, садится на жука-скарабея и летит на Олимп, чтобы спросить у Зевса, отчего тот позволяет грекам истреблять друг друга. Разве боги не понимают, что междоусобица только на руку персам, которые вполне способны вновь вторгнуться в аттические пределы? Тем временем на земле хор, состоящий из греческих крестьян, освобождает богиню Мира из подземелья, куда бросил ее бог войны Арес. А пока те вытаскивают ее при помощи веревок на поверхность, Гермес корит тех афинян, которые все еще мечтают о сухопутной империи: «Хотите мира — держитесь моря!»
Перикл начал войну, Клеон продолжил ее, Никий завершил. Но последнее слово осталось за Аристофаном и комедией.
Глава 13
Сицилийская экспедиция (415–413 годы до н. э.)
А где преграды нет бесчинству граждан
И своеволью — община такая,
Хотя б счастливые ей ветры дули,
Пучины не избегнет роковой.
Софокл. «Аякс», пер. Ф.Зелинского
В глазах одного молодого честолюбивого афинянина мир наступил слишком быстро. Алкивиаду только что минуло тридцать — возраст, достаточный для того, чтобы занять наконец достойное место среди афинских стратегов и гражданских руководителей. Мирное соглашение лишило его возможности блеснуть в сражении, использовать в своих интересах общенародный кризис или выступить в роли спасителя Афин. Но к счастью для него, спартанцы то ли не хотели, то ли не могли соблюдать условия Никиева мира. Это позволяло Алкивиаду волновать народ — так мальчишка-шалун ворошит длинной палкой осиное гнездо.
Впрочем, даже если оставить в стороне воинственные поползновения, необычайная живость поведения и порывистые манеры Алкивиада неизменно привлекали к нему внимание горожан. Афинские поэты-юмористы безжалостно пародировали его своеобразную, с постоянными заминками шепелявую речь. Он ревниво переживал успехи своих колесниц, запряженных четверкой лошадей, они занимали первое, второе и четвертое места на Олимпийских играх. А еще больше спортивных побед афинян занимали эротические приключения Алкивиада. Далекий от мысли скрывать их, он даже заменил на щите традиционный семейный гребень изображением бога Эроса, упирающегося обеими ногами в золотистое поле и извергающего гром небесный. Женитьба на самой богатой в Афинах наследнице ничуть не изменила его привычек. А когда жена подала на развод, он во время судебного заседания схватил ее в охапку и на глазах у зевак, собравшихся на агоре, отнес домой.
Подобно всем афинским богачам, Алкивиад послужил городу в качестве триерарха, вполне сохраняя свои замашки и на палубах триер. Так, он велел плотникам выдолбить в корме нечто вроде дупла, где можно повесить на канатах койку. Соломенный тюфяк — это не для Алкивиада. Он почивал, словно в покачивающейся колыбели, в гамаке — ничего подобного в истории афинского флота зафиксировано прежде не было. Рулевым у него был гражданин по имени Антиох, обязанный своим местом одному эпизоду, случившемуся в ходе заседания народного собрания. Алкивиад зааплодировал кому-то, и из рукава его плаща выпорхнул ручной перепел. Антиох стоял рядом с ним и, расталкивая хохочущих сограждан, бросился за птичкой. Ему удалось поймать ее, чем он и заслужил вечную признательность Алкивиада.
Хрупкий мир со Спартой, чтобы он сохранялся, требовал постоянного внимания, однако же афиняне, напротив, предоставили Алкивиаду в его заграничных эскападах полную свободу действий. И коль скоро он не нарушал букву мирного соглашения прямым вторжением на территорию Спарты, они его полностью поддерживали. Что ни лето, этот честолюбивый и харизматичный стратег выходил в море, оказывая помощь всем, кто выступал против спартанцев.
Алкивиад был хорош — быстр, стремителен — в начале любой операции, но в финале все его усилия чаще всего сходили на нет. Ему не хватало терпения и последовательности, чтобы довести дело до конца. Но в любом случае поднимаемый им шум вызывал горячее одобрение знаменитого мизантропа Тимона Афинского. Этот парадоксалист, ненавистник собственных сограждан, как-то, после очередного заседания на агоре, схватил его за руку и воскликнул: «Отлично! Продолжай в том же духе, и ты всех их в прах сотрешь!»
Через пять лет после подписания мирного договора в Афинах появились посланники из сицилийского города Сегесты. В Сицилии вспыхнула междоусобица, в которую оказались втянуты мощные Сиракузы, и просьба заключалась в том, чтобы Афины помогли своими морскими силами в ее разрешении. У афинян был на руках сильный козырь в виде только что полученного призыва о помощи со стороны старого союзника Афин — города Леонтины, население которого было изгнано из своих домов Сиракузами. Ранее афиняне уже предпринимали попытку оказать помощь леонтинцам. Она оказалась неудачной, и по меньшей мере один ветеран той давней экспедиции, стратег Эвримедонт, мог подтвердить бессмысленность новых усилий. Тем не менее собрание направило делегацию в Сегесту для прояснения обстановки. Делегация вернулась с наилучшими впечатлениями от процветающего города и вдобавок с шестьюдесятью серебряными талантами в дар Афинам. Этих денег хватало на месячное жалованье командам шестидесяти триер.
Ветераны Пелопоннесской войны были против новых походов, но афинская молодежь придерживалась иной позиции. Город и флот за десять лет боевых действий ничуть не пострадали. Казна вновь начала полниться. Молодые люди рвались в бой, их манили великие приключения, достойные силы и славы Афин. Даже далеко не блестящий поворот событий в Греции только подогревал эти настроения. Если удастся победить в Сицилии, почему бы наконец не поставить на колени пелопоннесцев и не сделаться властителями всего греческого мира.
Откликаясь на просьбу Сегесты, собрание решило направить в Сицилию эскадру из шестидесяти[8] триер, ведомую целой группой стратегов, в число которых входил и Алкивиад. Никий решительно выступил против этого решения и призвал сограждан, пока еще не поздно, отменить его. Дискуссия возобновилась. Алкивиад пылко настаивал на выполнении первоначальной резолюции, Никий указывал на опасности, с нею связанные. При этом он сознательно преувеличивал расходы и количество людей, которые потребуются для успеха в новой войне. Но уловка не сработала и даже ударила бумерангом по нему самому. Афиняне подтвердили первоначальное решение и, более того, значительно расширили масштаб будущей операции. Никию же, который, как и в споре с Клеоном по поводу Пилоса, уже не мог оказывать воздействие на ход собрания, пришлось уточнять им же приведенные цифры.
Афиняне принялись деятельно готовиться к походу. Все, кто не был связан с флотом, собирались на борцовских площадках либо оживленно переговаривались на улицах города. Знавшие Сицилию чертили на песке карту острова, просвещая тех, кто там не бывал. Сицилия представляет собою треугольник, так что определить местоположение Сиракуз нетрудно — город находится на ближайшей к Афинам стороне. Там — Италия! А дальше — Африка! На песке все выглядит таким близким, таким маленьким, таким доступным.
Атмосфера пылкого патриотизма подогревалась охватившим горожан религиозным благочестием. В Афинах торговали вразнос предсказаниями оракула, сулившими Афинам победу над Сицилией. В эти дни подготовки к походу в Пирей из Африки вернулась священная триера «Аммонит» с благоприятным предсказанием оракула Сивы из египетской пустыни. Амон, то есть тот же Зевс, заверяет Алкивиада, что афиняне пленят всех жителей Сиракуз. Таким образом, сами боги гонят людей вперед.
В качестве одного из стратегов Никий был занят вместе с Алкивиадом организацией церемонии отплытия, которую трудно описать словами. Не уступая, когда нужно, самому Алкивиаду в умении покрасоваться перед публикой, Никий однажды уже оплатил сооружение необычного понтонного моста для прохода участвующих в очередном празднестве позолоченных и убранных гобеленами кораблей. Это было большое музыкальное состязание хоров, на которое в храм Аполлона на Делосе собралось множество афинян и других ионийцев со всего побережья. Обычно хористы, музыканты и начальники хора плывут на остров в самых простых суденышках. Но на сей раз их появление произвело среди зрителей настоящую сенсацию — они шли через понтоны в торжественном порядке, с песнями. Любовь Никия к яркому зрелищу сказалась и в разработке планов прощального церемониала отплытия великой эскадры.
Задуманное военное предприятие нравилось не всем. Зная, что, если открыто проголосовать против, большинство сочтет их поведение непатриотичным, во время собрания скептики помалкивали. Но скажем, астроном Метон, прославившийся тем, что он рассчитал девятнадцатилетний цикл официального афинского календаря, тайно устроил поджог собственного дома. Таким образом он рассчитывал освободить своего сына от службы триерархом.
Когда до отплытия эскадры оставалось всего несколько дней, город был потрясен самым жестоким актом святотатства в своей истории. Проснувшись однажды утром, афиняне обнаружили, что какие-то неизвестные разрушили стоящие перед каждым домом и каждым храмом гермы — каменные статуи бога Гермеса, покровителя не только пастухов, но и путников, а также бога торговли. Судя по всему, ночью по городу прошла хорошо организованная банда вандалов, отбивающих у скульптур носы и гениталии. Осквернители, кто бы то ни был, не изменили планов афинян, хотя совершенное святотатство бросило тень на все предприятие.
Негодовал весь город. Было назначено расследование для раскрытия имен безбожников. Эскапады Алкивиада обернулись теперь против него самого, ибо в глазах многих афинян, вопреки всяческой логике, именно он оказался главным объектом подозрений. Стремясь как можно быстрее отправиться в путь, Алкивиад заявил о своей невиновности, но собрание оговорило право отозвать его в Афины, если будут найдены доказательства вины. Это бремя подозрений ставило Алкивиада в неловкое положение перед двумя другими стратегами — Никием и Ламахом. Последний прославился двумя походами на Черное море. Народ отправил его на Сицилию в надежде, что он сумеет сдерживать необузданные порывы Алкивиада, а также станет необходимой опорой Никию.
Наконец летним утром великая эскадра двинулась в путь. Еще до восхода тысячи афинян хлынули в Пирей, чтобы стать свидетелями торжественного момента отплытия. Мужей и сыновей, уходящих в неизвестность, окружали жены и малые дети. Скапливаясь в доках и эллингах, афиняне смотрели на плавучий город — целое поселение на корабельных палубах. Триерархи соперничали в расцветке и позолоте своих триер. Теперь они сверкали на уже поднимающемся солнце, готовые, казалось, больше к параду, нежели к бою. Блестящий внешний вид еще отчетливее оттенял внутреннюю слабость кораблей. Экипажи и гоплиты военного опыта не имели. Морское господство Афин было настолько подавляющим, что флот их бороздил моря совершенно беспрепятственно. В ходе последней войны с пелопоннесцами ему для победы понадобились лишь небольшие отряды. А как говаривали видные люди, от Фемистокла до Софокла, сила флота заключается не в судах, а в экипажах.
Дождавшись, пока все, кому нужно, поднимутся на борт, корабли разошлись по заранее определенным стоянкам в овале бухты. Трубач подал сигнал. Все погрузились в молчание. Глашатай запел гимн, затем прозвучала молитва перед выходом в море. Зрители хором откликались на каждую строку. Стратеги и триерархи принялись выплескивать содержимое своих серебряных и золотых кубков в море. Передовая триера двинулась к выходу из бухты, за ней, выстроившись в ряд, величественно последовали остальные. Выйдя в открытое море, гребцы налегли на весла. Курс лежал на Эгину, словно экспедиция была всего лишь спортивной регатой. Дождавшись, пока последний борт не исчезнет за горизонтом, люди разошлись по домам. Теперь надо ждать вестей о победе.
В ближайшие несколько дней флот без приключений обогнул Пелопоннес, но, объединившись у Керкиры с передовым отрядом, афиняне поняли, что огромная сила способна стать собственным опаснейшим врагом. Их могучий флот столкнулся с теми же организационными трудностями, с какими в свое время не смог справиться Ксеркс. Кораблей было столько, что они способны были, как некогда персы, «осушить реки». Нигде не найдется для афинян порта, достаточно просторного и благоустроенного, чтобы вместить их корабли и прокормить сотни и тысячи людей. Пришлось дробить эскадру на отряды, каждый во главе со своим стратегом.
Так, волнами, афиняне и пошли в Италию. Видя эту громаду, города западной Греции один за другим отказывали им в причалах. И даже в местах, настроенных, казалось бы, дружественно, ворота в город, как и рынки, оставались закрытыми: можно было только подойти к берегу и набрать пресной воды. Афиняне слишком поздно осознали, что их экспедиции будут предшествовать серьезные усилия по созданию союза, готового противостоять нападению на Сиракузы.
Особенно сильно их поразил отказ в помощи даже со стороны старинного союзника — Регия, в Мессинском проливе. Тут афиняне встретились с собственными гонцами, отправленными на трех триерах загодя, чтобы получить в Сегесте обещанные деньги, необходимые для покрытия огромных расходов экспедиции. Гонцы поведали печальную новость: у сегестинцев оказалось только тридцать талантов серебром — этих денег едва хватало, чтобы заплатить экипажам за семь-восемь дней работы. Как их могли так обмануть?
Все прояснилось довольно быстро. Оказавшиеся в тяжелом положении сегестинцы, понимая, что Афины придут на выручку, только если убедятся, что имеют дело с людьми небедными, завалили участников первой миссии подарками, закормили обильными яствами, продемонстрировали впечатляющее количество шикарных серебряных и золотых блюд, чаш, бокалов. На самом деле сервиз был у них только один, а многое-многое было просто позаимствовано из соседних греческих и финикийских городов, естественно, принимавших участие в розыгрыше. Накрытый стол тайно кочевал из дома в дом, появляясь у кухонной двери еще до того, как афиняне прибудут на свой очередной дипломатический обед. Так у них создалось впечатление, что даже рядовые сегестинцы — люди весьма преуспевающие.
Сногсшибательная новость привела к конфликту между тремя афинскими стратегами. Никий настаивал на выполнении первоначального плана: надо, как и договаривались, оставить в Сегесте шестьдесят триер, а остальные перед возвращением домой пусть пройдут вдоль берегов Сицилии, демонстрируя таким образом мощь афинского флота. Алкивиад назвал это предложение позорным и высказался в пользу проведения серии дипломатических миссий — по городам. Так, мол, появятся новые союзники, после чего можно будет подавить сопротивление Сиракуз. Ламах, третий и наименее уважаемый среди них стратег, обладал, однако, отменным чутьем. Он настаивал на немедленном нападении на Сиракузы — пока город еще не успел организовать оборону. Этот много чего повидавший на своем веку ветеран знал, что не только в баснях Эзопа «чем ближе знаешь, тем меньше почитаешь».
Убедившись, что его не хотят слушать, Ламах в конце концов не стал спорить и согласился на предложение Алкивиада. Но, предваряя дипломатические усилия, афиняне решили сначала сами нанести визит в Сиракузы. Там, зайдя в Большую бухту, они предупредят город о том, что его ожидает. Помимо всего прочего, это оправдает действия Афин в глазах всего мира.
Разумеется, Сиракузы никогда не выступали против Афин. Совсем наоборот, они взяли их за пример демократического правления, свободы мысли, масштабных общественных работ и изобретательности. Их город походил на Афины времен, предшествующих греко-персидским войнам: место больших, хотя и не реализованных пока возможностей. У Сиракуз даже был собственный Фемистокл в лице визионера и патриота по имени Гермократ.
Покуда основные силы афинского флота оставались в Регии, Алкивиад повел шестьдесят триер вдоль побережья — на фоне горизонта эта вытянутая в цепочку армада триер вошла в Большую бухту и остановилась в пределах слышимости от городских стен. «Мы здесь для того, — прокричал глашатай, — чтобы вернуть свободу своим сицилийским союзникам, и всем тем жителям Сиракуз, кому близка эта цель, следует покинуть город и присоединиться к афинянам».
Никто на этот призыв не откликнулся. Повисло зловещее молчание. Судя по всему, флота у сиракузцев не было, так что осаду им не выдержать. С другой стороны, сама местность казалась совершенно неприступной. Большая бухта представляла собой неправильной формы овал, вытянутый на две мили в длину и одну в ширину, — в ее акватории поместились бы три пирейские бухты. Западный берег сильно заболочен и порос камышом; в остальном глубоко уходящая в море каменистая отмель. Единственное место, куда могли бы причалить корабли, это хорошо укрепленные доки, один из которых выходит на саму бухту, другой — в открытое море. Изучив местность, Алкивиад повел эскадру на север и остановился в Катане, откуда был хорошо виден взмывающий вверх конус Этны. На зиму к ним присоединились остальные, а пока позволяла погода, Алкивиад с небольшими отрядами совершал рейды по побережью для пополнения запасов продовольствия и обретения новых друзей. Вернувшись в Катану после одного из таких рейдов, Алкивиад обнаружил там священную триеру «Саламин», прибывшую с посланием: его отзывают в Афины. Расследование варварского разрушения герм породило массу связанных и не связанных с ним дел, и собрание сочло необходимым допросить Алкивиада.
Он без возражений тронулся в путь, оставив флот под командой Никия и Ламаха. Однако во время одной из остановок, еще на итальянском побережье, он тайно покинул «Саламин» и исчез. Дома, в Афинах, это было сочтено за признание вины, и стратег-преступник был приговорен к смертной казни. Узнав об этом, Алкивиад сказал только одно: «Я покажу им, что еще жив». Вскоре он обрел убежище в Спарте — единственном безопасном для афинского беженца месте и объяснил спартанцам, как можно победить Афины — его родной город.
Избавившись от опеки Алкивиада, Ламах быстро вывел из апатии Никия. Заманив ложными сведениями сиракузцев в Катану, оба стратега погрузили своих людей на триеры и стремительно двинулись на юг, к Большой бухте, где и высадились благополучно на берег, не встретив никакого сопротивления. До того как сиракузцы обнаружили обман, афинские плотники и корабелы уже успели нарубить деревья и надежно прикрыть суда. На следующий день, в страшную грозу, под проливным дождем, при сверкающих молниях афиняне нанесли поражение отряду сиракузцев непосредственно у городских стен. Но решающую победу гоплитам помешало одержать появление вражеской конницы. Им не оставалось ничего, как вернуться в Катану. Никий же и Ламах, ободренные достигнутым успехом, направили в Афины послание с отчетом о завершении первого этапа экспедиции и просьбой о подкреплении.
Зима в Катане прошла в изготовлении кирпичей и железных крюков. Афиняне готовились блокировать Сиракузы и с суши и с моря. Одновременно Никий вел тайные переговоры с проафински настроенными сиракузцами, склоняющимися вроде к тому, чтобы открыть городские ворота; правда, для начала им надо было убедить остальных, что сопротивление бесполезно. В предвидении помощи изнутри, а также сражений, подобных только что выигранному, афинские стратеги рассчитывали на быстрое завершение своей миссии.
Но прошел год, а никакой победы добиться все еще не удавалось. Никий направил в Афины еще один отчет уже из нового лагеря, разбитого на сей раз на берегу самой бухты. Противостояние продолжалось, а надежды на успех не прибавлялось. Теперь Никий остался в одиночестве — Ламах погиб в бою, когда афиняне переместили флот под Сиракузы и устроили там постоянную базу. Как это будет еще не раз случаться в ходе сицилийской экспедиции, победа обернулась для афинян скорее убытком, чем прибылью. Безвременная смерть ветерана, этого простого и прямодушного человека, отрицательно сказалась на моральном духе афинского воинства. Что же касается Никия, то он никогда особенной энергией не отличался, а тут еще его сильно донимала прогрессирующая болезнь почек. Оправдывая свои неудачи, он писал в Афины о трудностях, с которыми сталкиваются экспедиционные силы:
«Сначала наш флот находился в превосходном состоянии: крепкие тимберсы, экипажи в отличной форме. Но теперь, после продолжительного плавания, тимберсы прогнили, а люди устали. На берег для просушки и уборки суда мы вытащить не можем, потому что у врага их столько же или даже больше, чем у нас, и в каждый момент надо быть готовым к нападению. Мы видим, как противник маневрирует, инициатива на его стороне. Более того, сушить палубы спартанцам проще, чем нам, ведь блокаду-то мы поставили, а не они».
Пришлось Никию признаваться и в полном провале дипломатических усилий. Появление афинской армады сплотило Сицилию как ничто другое, ведь точно так же объединило некогда греческие города-государства вторжение Ксеркса в Аттику. Столкнувшись со все умножающимися силами противной стороны, Никий умолял собрание отозвать флот или хотя бы его лично в связи с болезнью. В попытке как следует встряхнуть сограждан и заставить их отказаться от иллюзий легкого завоевания Сицилии он писал, что победа при Сиракузах может быть одержана лишь в том случае, если собрание снарядит новую экспедицию, не менее мощную, чем первая, и в смысле количества кораблей, и в денежном выражении.
Но подобно выступлениям против Алкивиада на тех давних дебатах, когда собрание решало, ввязываться Афинам в новый конфликт со Спартой или нет, и на этот раз послание возымело эффект, противоположный ожидаемому. Из Афин Никию поступило распоряжение оставаться во главе экспедиции. Одновременно было обещано прислать весной подкрепление. Не мог город отказаться от предприятия, в которое вложил уже столько средств и от которого в немалой степени зависел его престиж в мире. Во главе новой эскадры собрание поставило Демосфена, одного из героев Пилоса, и Эвримедонта, ветерана первой, десятилетней давности, афинской экспедиции в Сицилию.
Под конец второго года войны, когда Никий переписывался с собранием, сиракузцы снарядили посольство в Спарту. В поддержку их просьбы о помощи выступил Алкивиад. Дабы у спартанцев не оставалось сомнений относительно размаха имперских замыслов Афин, он раскрыл стратегический план, по которому нападение на Сиракузы является лишь составной частью. После завоевания Сицилии и Италии афиняне, по его мнению, намереваются высадиться на африканском побережье и взять Карфаген. Италийский лес пойдет на строительство нового, еще более мощного флота, а экипажи составятся из представителей воинственных иберийских племен. Обладая такими силами, Афины предполагают блокировать Пелопоннес, нанести поражение Спарте и распространить свое владычество на все Средиземноморье. Для противостояния этим захватническим планам, убеждал спартанцев Алкивиад, необходимо направить в Сиракузы своего военачальника.
На эту роль был выбран некто Гилипп, человек жесткий и не лишенный дарований стратега. Сразу по прибытии в Сиракузы он одержал несколько убедительных побед на суше, чем завоевал уважение и доверие горожан. Узнав, что Афины снаряжают новую эскадру, Гилипп решил, опережая прибытие подкреплений, нанести предупредительный удар. На протяжении минувших двух лет войны Сиракузы не решались бросить вызов афинянам на море. Никий расположил свои суда на противоположной от главной военной базы Афин стороне Большой бухты, на глубоко вдающемся в море участке каменистой земли под названием Племмирий («Морское течение»). Находясь здесь, афиняне блокировали вход в бухту, который с суши прикрывали три крепостных укрепления. Гилипп был преисполнен решимости потеснить противника с этой благоприятной позиции. Для этого он намеревался использовать сиракузский флот в качестве приманки, отвлечь таким образом силы афинян, а тем временем нанести удар с суши.
Однажды ранним утром афиняне с удивлением увидели, что к Племмирию стремительно приближаются восемьдесят сиракузских кораблей. Впервые за последние два года вновь сформированной великой армаде предстояло наконец принять морской бой. Афиняне немедленно разделились на две части — двадцать пять быстроходных триер пошли навстречу сиракузцам, оставшиеся тридцать пять блокировали вход в Малую бухту со стороны открытого моря. Началось сражение на два фронта с превосходящими силами противника. Гоплиты, остававшиеся в наземных укреплениях, двинулись к побережью, готовые вступить в бой в том случае, если экипажи судов противника высадятся на сушу.
Завязался бой, в котором обе стороны стояли до последнего. Мало-помалу афиняне подавались назад, но тут-то и начала сказываться неискушенность сиракузцев в морском деле. Оказавшись перед открытыми водами, их корабли рассеялись, боевой порядок утратил стройность; воспользовавшись этим, афиняне перешли в контрнаступление и погнали противника обратно к городским стенам. В ходе преследования они потопили одиннадцать сиракузских судов, сами же потеряли всего три. Водрузив на островке памятный знак в честь победы, афиняне засобирались назад, в Племмирий. Но было уже поздно. Пока они вели бой на море, Гилипп со своими воинами подошел из глубины и занял все три форта.
Растерянным и безрадостным победителям не оставалось ничего, как вернуться на западный берег, где стояла лагерем афинская армия. Она понесла тяжелые потери, ведь наряду с фортами Гилипп захватил мачты и паруса быстроходных триер, а также большинство военно-морских складов. Достались противнику и деньги на продовольствие, хранившиеся в деревянных сундуках. Сиракузцы немедленно разослали в разные стороны военные отряды в поисках поддержки со стороны других городов. Обнаружив в южной Италии корабли с провизией для афинян, а на берегу запасы древесины, на которые рассчитывал Никий для ремонта своих триер, они суда потопили, а дерево сожгли. Водным путем Никий теперь ничего не получит для своего флота.
Тем временем Большая бухта, что ни день, становилась ареной морских сражений. Вынужденные в условиях беспрерывных стычек придумывать все новые ходы, обе стороны демонстрировали недюжинную изобретательность и инженерное искусство. По распоряжению Никия афинские инженеры, вогнав в податливую землю длинные деревянные колы, превратили открытый берег, на котором лагерем стояли войска, в искусственный затон. А когда выяснилось, что береговые укрепления не обладают достаточной прочностью, на том же месте установили пустые корпуса грузовых судов с их швартовыми палами из железа или свинца. Если сиракузская триера попытается пробиться через эту преграду, тяжелая металлическая тумба опустится и пробьет дыры в ее корпусе, и та потонет.
Помимо того, афиняне превратили один из самых вместительных своих транспортных кораблей в плавучую крепость с деревянными башнями и щитовым прикрытием. Этот левиафан, на котором столпились лучники и метатели дротиков, протащили к самому городу. Далее афиняне осуществили рискованную операцию, поставив заградительный обстрел метательными снарядами, позволивший прикрыть нанятых за деньги ныряльщиков, прыгающих в воду с маленьких лодок. Их задачей под водой было либо вытаскивание из грунта, либо подпиливание деревянных кольев, с помощью которых сиракузцы рассчитывали укрепить стоянку собственных кораблей.
Жители Сиракуз, впрочем, тоже не дремали. Убедившись, что на море противник имеет преимущество, они позаимствовали у коринфян позднейшие новшества и изменили конструкцию своих триер. Дабы противопоставить нечто маневренности афинских кораблей, они укрепили носовую часть длинными деревянными балками. Помимо того, сиракузские корабелы срезали узкие бивни своих таранов, превратив их в некое подобие свиных рыл, только из прочного дерева. Теперь у сиракузцев появилась возможность атаковать противника с носа, сметая непрочные гребные рамы и выводя из строя верхние ряды гребцов. А тут уж, лишив афинян подвижности, можно атаковать их на маленьких лодках, забрасывая беззащитных гребцов дротиками.
В ходе этих столкновений чаша весов начала постепенно клониться в сторону спартанцев. В конце концов из Афин прибыло долгожданное подкрепление — семьдесят три полностью укомплектованные триеры под командованием Демосфена и Эвримедонта. И все равно афинянам никак не удавалось перехватить инициативу. Через несколько дней после прибытия Демосфен умудрился проиграть ночной бой на высотах к северо-западу от города. После этой неудачи он категорически заявил, что, пока не поздно, от этой долгой и дорогостоящей военной экспедиции нужно отказаться. Эвримедонт поддержал его. Вдобавок к сухопутным и морским поражениям в многолюдном лагере пошла лихорадка — рядом были болота, а жара стояла немыслимая.
В донесениях собранию Никий продолжал смутно намекать на то, что проафинская партия внутри Сиракуз скоро откроет ворота в город. Но и он в конце концов согласился снять осаду, правда, при том условии, что на него не ляжет никакой ответственности. С максимально возможной скрытностью экипажи начали готовить суда к отплытию; гоплиты тем временем грузили утварь и продовольствие. Выходить решили ночью, в середине месяца, когда полнолуние позволит рулевым безопасно вывести суда из Большой бухты.
Дождавшись в назначенный день заката, афиняне смотрели, как над выходом из бухты из-за горизонта постепенно поднимается луна. За два часа до полуночи, однако, наступило полное лунное затмение. Над Большой бухтой сомкнулась непроглядная тьма, и афиняне сочли это дурным предзнаменованием. Охваченные ужасом, они отказались от своих планов, по крайней мере сегодня. Увы, среди афинских военачальников не было своего Перикла, который мог бы растолковать небесную механику затмений. Никий, человек в высшей степени суеверный, обратился к своим предсказателям. Те объявили, что до следующего полнолуния, отделенного от нынешнего момента девятью днями по три раза, никаких действий предпринимать нельзя. Охваченный религиозным ознобом, Никий скомандовал отбой.
Задолго до конца месяца сиракузская эскадра нанесла новый удар. В жестокой схватке афиняне потеряли множество судов, погиб стратег Эвримедонт. Сиракузцы задумали вообще покончить со всем афинским флотом, для чего спустили на воду старый транспортный корабль, набили его хворостом и просмоленной древесиной и подожгли. Ветер понес корабль-костер в сторону скопления триер, но каким-то невероятным усилием афинянам удалось уйти от огня.
Теперь, впервые после начала войны, сиракузцы могли свободно курсировать по Большой бухте. Вскоре афиняне отметили появление у противника признаков необычной активности. У входа в бухту скапливалось множество старых грузовых кораблей и небольших суденышек. Иные становились на якорь, другие жались один к другому, связываясь цепями или канатами. Постепенно формировался целый барьер из кораблей. Афинский флот оказался в ловушке. В соответствии с указаниями, полученными еще до лунного затмения — а их и до сих пор никто не отменял, союзники перестали снабжать афинский лагерь в Сиракузах провизией. В такой ситуации даже здоровые скоро начнут падать от голода. Никий и Демосфен думали теперь только об одном — как вырваться из мышеловки, как преодолеть барьер.
В конце концов было решено объединить все оставшиеся силы и дать последний бой. В случае удачи афиняне прорвутся в открытое море — к свободе. Проиграют — сожгут уцелевшие триеры и уйдут сушей. У них еще оставалось достаточно здоровых гребцов и воинов, чтобы полностью укомплектовать 110 триер. Теперь мастерам оставалось выковать когтеобразные крюки, с помощью которых можно зацепить вражеский корабль и не дать ему отойти после удара тараном. Потом за дело возьмутся лучники и копьеносцы, гоплиты же вступят в рукопашную. Лишь в такой примитивной тактике стратеги усматривали единственный шанс на спасение.
По плану Никий должен был остаться на берегу, возглавляя оборону лагеря. Что касается больных и раненых, а счет их пошел на тысячи, то им надеяться было не на что. Морем ли уйдут товарищи, сушей ли, их в любом случае бросят на произвол судьбы. Прозвучали речи и молитвы, были принесены жертвы богам, и Демосфен двинулся с остатками армады в сторону барьера. Не успели афиняне приблизиться к нему, как со всех сторон Большой бухты на них обрушились суда противника, числом около сотни. Носовая часть их была защищена растянутыми поперек шкурами. Оказывается, лазутчики донесли сиракузским военачальникам о приготовленном афинянами сюрпризе, и они таким образом рассчитывали защитить деревянные борта своих судов. «Железным пальцам» никак не ухватиться за шкуру, они просто скользят по поверхности.
Передовым афинским триерам удалось уйти от удара и прорваться к барьеру. Экипажи отчаянно пытались перерезать канаты, удерживающие корабли противника на месте. Но не успели — сзади всей тяжестью навалились основные силы сиракузцев. Выбора не оставалось — пришлось принять бой. Засыпав афинян градом стрел и копий, противник оттеснил их от барьера. Потеряв тридцать триер, остатки афинской эскадры оторвались-таки от сиракузцев и направились к берегу. Поражение оказалось таким тяжелым, что афиняне даже не выслали вперед гонца с просьбой о дозволении подобрать мертвых и умирающих.
И лишь двое стратегов не расставались с мыслью о победе на море. Исходя из того, что даже изрядно потрепанная афинская эскадра численно превосходит противника, Демосфен и Никий велели своим измученным и деморализованным людям подняться на борт и приготовиться к новому бою. И тут экипажи взбунтовались. Бессильные что либо противопоставить этому массовому протесту, стратеги пошли на попятную. Отход сушей начнется в предрассветные часы, еще в темноте.
Но тут, в этот критический момент, вдруг возник проблеск надежды. Из города доносились звуки шумного веселья. Это сиракузцы, почти все до единого, праздновали одержанную победу. Ну а если воины противника перепились или думают о чем-то другом, выходит, уйти можно незаметно. Увы, как минимум один сиракузец оставался трезвым. Это был Гермократ, неукротимый патриот, с самого начала возглавивший сопротивление афинянам. Отлично понимая, что ночью они могут ускользнуть, он пытался, без всякого, впрочем, успеха положить конец попойке и танцам. Человек осторожный и изобретательный, Гермократ выработал план, который не позволит афинянам уйти. Некогда Фемистокл ложным сообщением заманил персидский флот в пролив Саламин. Почему бы теперь не попробовать таким же образом ввести в заблуждение самих афинян?
Гермократ вытащил из беснующейся толпы несколько всадников и, велев им прикинуться тайными сторонниками Никия, отправил ему сообщение. Добравшись до часовых, охраняющих афинский лагерь, на расстояние слышимости, они подали сигнал и сообщили следующее. Торжества по случаю победы в Сиракузах — это всего лишь приманка. Главные же силы тайно покинули город и поджидают афинян в засаде у дороги. Как только те оставят лагерь, их ждет побоище. Передав это сообщение, всадники повернулись и исчезли в ночи.
Слишком измученные, чтобы рассуждать здраво, Демосфен и Никий совершили роковую ошибку — вновь отложили отступление и, таким образом, сделались жертвой собственной доверчивости. Когда два дня спустя афиняне наконец покинули лагерь, сиракузцы успели прийти в себя и на самом деле должным образом подготовиться к встрече с противником. У каждого перевала, у каждого брода афинян ожидал удар. У них почти не осталось воды и продовольствия, а у тысяч гребцов не было никакого оружия. Сиракузцы — пешие либо конные — гнали их, как стая волков гонит овечью отару. Много афинян было убито, прежде чем наконец стратеги, спасая жизнь уцелевших, капитулировали.
Кое-кому из афинян удалось оторваться от погони, и они стали разбойничать на дорогах. Большинство же вернулось в город в качестве военнопленных. В Сиракузах была демократия, и судьбу их решало народное собрание. Вопреки возражениям Гермократа, Гилиппа и других деятелей мстительные сиракузцы потребовали крови двух афинских стратегов. Никий и Демосфен были казнены, тела их выбросили за городские ворота. Семь тысяч пленников погнали на работы в знаменитые городские карьеры, на добычу известняка. Находились эти карьеры на склоне холма, рядом с сиракузским театром, который пятьдесят лет назад открыл представлением «Персов» сам Эсхил. Печальная ирония судьбы — место, где некогда звучали гимны афинской свободе и победам афинского флота, соседствовало теперь с тюрьмой, где томились поверженные моряки того же самого флота.
Рацион пленных состоял из тарелки еды и полпинты воды. С каждым месяцем число узников убывало в результате голода и болезней. Незахороненные, валяющиеся повсюду трупы были источником разнообразных инфекций. С наступлением зимы некоторых пленников сиракузцы от работ освободили. Это были те, кто знал наизусть строки Эврипида, — им повезло, местная молодежь заставляла их петь на всякого рода вечеринках. Большинство же афинян проработало в карьерах восемь месяцев, после чего уцелевших клеймили и продавали в рабство.
Бежать не удалось никому, и некому было сообщить соотечественникам о том, что произошло. В Афинах узнали о беде, только когда в одну пирейскую парикмахерскую зашел иноземец. Едва устроившись в кресле и затеяв, как водится, разговор, путник высказался о сицилийской катастрофе так, словно все должны были о ней знать. Остолбеневший было от ужаса парикмахер оставил посетителя, выскочил на улицу, бегом бросился в Афины и тут же, на агоре, пересказал архонтам то, что только что услышал.
Должностные лица города яростно отрицали саму возможность таких событий, но достоверность их подтверждалась все большим количеством свидетелей. Невероятно! Невообразимо! Великолепный флот, которому в Пирее были устроены такие торжественные проводы, этот самый флот вместе с подкреплениями погиб, погиб весь, вплоть до последнего суденышка. Афиняне, одновременно разгневанные и опечаленные, искали козлов отпущения. Поначалу они склонялись к тому, чтобы обвинить во всем Алкивиада, или Никия, или оракулов, напророчивших победу. Но в конечном счете винить они могли только самих себя. Те, кого собрание отправило покорять Сиракузы, жизнью своей заплатили за глупость и тщеславие Афин.
Часть 4 Катастрофа
Чего хотелось, так это чтобы вы каждый день взирали на величие Афин, каковы они есть, и влюбились в них. И, осознав это величие, задумайтесь о том, что возможным оно стало благодаря людям, одержимым духом приключений, людям, понимающим, в чем состоит их долг, людям, которым стыдно опуститься ниже определенной планки. И если они в чем-то потерпели поражение, то за ними всегда остается право сказать, что городу не следует винить их в недостатке мужества, что они заплатили ему тем, чем только могли. Они отдали свои жизни.
Перикл. Из послания афинянам.
Глава 14
Возвращение изгоя (412–407 годы до н. э.)
Вернись же к нам, вернись скорей, желанный!
В путь торопи свой струг многовесельный,
Без отдыха его гони,
Пока до нас не доплывет он…
Софокл. «Трахинянки», пер. Ф.Зелинского
После катастрофы при Сиракузах большинство греков ожидало бунтов в городах-союзниках и не исключало, что рано или поздно падут и сами Афины. Сердца спартанцев зимой согревало приятное предвкушение начала новой кампании. Но все пошло не так, как они ожидали. С таким трудом добытая афинская демократия не желала принимать исхода, который всем остальным казался неизбежным. И по удивительному повороту судьбы ключевую роль в возрождении Афин предстояло сыграть неверному и злому гению сицилийской экспедиции Алкивиаду.
Два года он прожил в Спарте, лелея мечту о мести афинянам. Алкивиад хорошо знал свой родной город и использовал это знание куда основательнее любого чужака. Ну а спартанцы были всего лишь инструментом в готовящемся акте мести. Хорошие советы высоко подняли его в глазах спартанцев, но истинное уважение принесло ему то, что он полностью усвоил местный образ жизни: скудная пища, каждодневные физические упражнения, четкий распорядок дня. Алкивиад настолько сжился с образом сурового и непритязательного спартанского воина, что современники называли его хамелеоном. Алкивиад терпеливо выжидал часа, когда он повергнет политических противников и с триумфом вернется в Афины. Это о таких, как он, написал Эсхил в одной из своих трагедий: «Изгнанники живут мечтой».
Плачевные результаты сицилийской экспедиции, конечно, поколебали авторитет афинской демократии, и все же Алкивиад и другие греки преувеличивали значение этой неудачи. В кризисных условиях собрание действовало решительно и быстро. В древесине недостатка не было, появились новые корабли. В целях экономии афиняне отозвали триеры и отряды гоплитов с отдаленных аванпостов. По союзническим городам, где стояли афинские гарнизоны, разъехались гонцы с сообщением, что спартанцы могут спровоцировать олигархические перевороты. Все эти шаги были предприняты на протяжении зимы. Описывая их, Фукидид отмечает, что именно в худшие времена демократия оказывается на самой большой высоте.
Еще до завершения сицилийской экспедиции Афины начали устанавливать более справедливые отношения со своими морскими союзниками. По собственной инициативе город положил конец взиманию ежегодной дани, представляющей собой наиболее ненавистное проявление имперской власти. Взамен нее ввели пятипроцентный налог на все морские коммерческие операции. При этом выяснилось, что новая система позволяет наилучшим образом воспользоваться преимуществами, которые дает владычество на море, так что город не только ничего не потерял с отказом от получения дани, но даже выиграл в деньгах. А главное, собрание по-тихому отринуло каннибальскую практику утверждения своей имперской власти путем массового истребления населения в покоренных городах. В награду Афинам досталась верность большинства городов империи.
Тревоги и экспедиция приходят и уходят, а театр в Афинах пребывает неизменно. Восьмидесятилетний Софокл получил назначение в новом составе советников, и на авансцену выдвинулся его более молодой собрат по перу Эврипид. Удалившись в уединение на острове Саламин, он начал писать трагедии, читателями и зрителями которых предстояло стать людям, пережившим трагедии подлинные. Тысячи и тысячи потеряли в Сицилии своих родных и близких. Да и весь город еще не оправился от моральной травмы, нанесенной недавней катастрофой. В подобные времена скорби любое произведение о кровопролитии или о возмездии свыше могло показаться испытанием слишком тяжелым. В прошлом Эврипид писал пьесы вроде «Троянок», в которых яростно клеймил афинскую спесь и бесчеловечность, но теперь это был совсем другой человек. Его сочинения были предназначены не для того, чтобы жалить, а для того, чтобы исцелять.
Не погружаясь долее в атмосферу смерти, печали и возмездия, Эврипид создал новый тип трагедии — романтический. Он писал об избавлении, искуплении, единении. В новых пьесах сохранялась мифология, мифологические характеры и ситуации аттической классики, но у них был счастливый конец. Боги и герои избавляют невинных от жутких страданий, а близкие сохраняют веру в то, что мертвые вернутся к жизни. Своими романтическими трагедиями Эврипид сформировал театр ухода, но ухода на более высоком уровне, нежели капитуляция либо физическое бегство. Его пьесы этого периода представляют собой метафоры обновления, очищения и новых начал.
На переднем плане здесь море — и как место действия и как природная стихия. Герои сталкиваются на море с бедами и опасностями, но испытания их неизменно кончаются благополучным и радостным избавлением. В «Ифигении в Тавриде» юный Орест, сын царя Агамемнона, пересекает Черное море и вырывает из рук местных дикарей свою давно исчезнувшую сестру Ифигению. В финале актер, исполнявший роль Афины, возносится над сценой и словно плывет над нею как deus ex machina. Богиня заверяет аудиторию, что Посейдон усмирит воды, а попутный ветер погонит путников к берегам Аттики. О более оптимистическом исходе даже мечтать не приходится. Самые обнадеживающие, самые утешительные слова Эврипид вкладывает в уста Ифигении — женщины, которая так много времени провела в иноземном плену, что должна была утратить всякую надежду на избавление: «Лишь море исцеляет все недуги».
Вскоре после дионисийских торжеств море превратилось в арену грандиозного конфликта, который большинство античных историков называет Ионийской войной, хотя, по Фукидиду, это была лишь заключительная, продолжительностью в восемь лет, фаза Пелопоннесской войны. Беспрерывные морские схватки и сухопутные сражения то и дело возникали на всем пространстве Малой Азии, от Галикарнаса до Византия, захватывая в свою орбиту острова Родос, Самос, Хиос и Лесбос. Участь Афин в этой войне зависела от контроля над Ионией и Геллеспонтом. Для спартанцев те же самые восточные морские пути были ключом к победе над городом, который благодаря Длинной стене в собственных пределах оставался неуязвим. Афиняне устроили свою главную морскую базу на верном им острове Самос, спартанцы — в Эфесе, на азиатском материке.
Среди первых военачальников, отправившихся из Греции в Ионию, был Алкивиад. Помимо всего прочего, у него были веские личные причины как можно скорее удалиться из Спарты. Эрос в очередной раз поразил его своей стрелой. Неутомимый, как и прежде, любовник, Алкивиад воспользовался отсутствием царя Агиса, находившегося с армией в Аттике, и соблазнил его жену Тимонассу. Та забеременела, и теперь у него были все основания полагать, что это его ребенок. И лучше всего скрыться, пока правда не станет общим достоянием. Подняв бунт против Афин на Хиосе, Алкивиад проследовал далее на восток, в Азию.
Поскольку ни у спартанцев, ни у афинян не хватало денег, чтобы заплатить морякам, важными игроками в греческих делах вновь сделались Царь царей персов и его сатрапы. В обмен на золото, с помощью которого можно взять верх над афинским флотом, спартанцы готовы были даже вернуть под владычество Персии греческие города в Азии — поразительная щедрость со стороны тех, кто всегда уверял, будто борется за греческую свободу. Алкивиад воспользовался переговорами между спартанцами и персами для того, чтобы войти в доверие к Тиссаферну, сатрапу Сард. Оба были изгоями, оба лукавцами одной выделки. Нежась на подушках и вкушая яства при дворе сатрапа, Алкивиад всячески старался предстать перед ним любителем роскоши и сотоварищем по охоте и пирушкам.
Алкивиад дал Тиссаферну два совета. Один: платить гребцам как можно меньше, пусть бедняки почувствуют свою зависимость от спартанского флота. Второй: не становиться целиком на сторону Спарты, кое-что оставить и для Афин, пусть обе стороны обессилят друг друга. Вообще говоря, Алкивиад перестал оказывать поддержку делу Спарты с тех самых пор, как афиняне одержали победу на равнине близ Милета (еще один город — союзник Афин, где Алкивиад взбунтовал народ). Конечно, для него стало настоящим шоком столкновение с соотечественниками на поле брани, когда они оказали столь мужественное и упорное сопротивление спартанцам. Теперь Алкивиаду было около сорока лет, и жизнью своей он был недоволен. Неудержимо тянуло назад, на родину, в круг сограждан. Он побывал спартанцем, затем персом. Пора снова становиться афинянином.
Идя к этой цели, Алкивиад решил развязать восстание олигархов среди афинян. Себя он видел вождем революционной партии. Обернулись эти сложные замыслы сначала кровавым олигархическим переворотом в Афинах, затем свержением демократии и, наконец, установлением новой системы правления во главе с группой олигархов, так называемым советом 400. Команда корабля «Парал» донесла весть о перевороте на Самос. Граждане Афин — моряки флота в едином порыве выступили против тирании, сформировали на острове демократическое собрание и объявили себя новыми, подлинными и единственно легитимными Афинами. Демократия переместилась с агоры и Пникса на палубы триер. Так весьма неожиданным образом воплотилось Фемистоклово видение города-корабля.
Провозгласив независимость, новые афиняне вскоре убедились, однако, что хорошо обученные экипажи и добрые намерения не способны принести победу в войне со Спартой. Для этого нужен крупный военачальник-стратег. Вот и пришлось предложить взять на себя командование флотом как раз тому человеку, который нанес самый значительный ущерб и демократии, и флоту, — Алкивиаду. Сейчас он вновь находился у Тиссаферна в Сардах, ибо афинские олигархи, столь чутко уловившие его намеки касательно восстания, решили, что теперь Алкивиад им больше не нужен. И вот случилось то, что по всем признакам случиться было не должно. Аристофан, пораженный загадочной привязанностью сограждан к Алкивиаду, высказался так: «Любим он ими, равно ненавидим, и жить они не могут с ним, и без него им трудно».
Послали в Сарды некоего Фрасибула, бывшего триерарха, а в этот момент самого, может быть, популярного стратега «демократии в изгнании». Вернулся он в сопровождении Алкивиада — легендарной фигуры, наделенной огромными недостатками и столь же весомыми способностями, демона, который еще может обернуться спасителем. Во всеоружии своей харизмы, Алкивиад обратился к людям, рассуждая о звездах, под которыми родился, и опасностях, которым все еще смотрит в лицо. А больше всего — о том, что ему наверняка удастся переманить персов на свою сторону. Надо только каким-то образом не дать спартанцам получить персидское золото, и тогда вскоре флот их увянет. Это была трогательная и оптимистическая речь. Алкивиада немедленно избрали стратегом, и почти сразу же он доказал свои достоинства лидера, поломав самоубийственный замысел развязать в Афинах гражданскую войну. Стоит только «изгнанникам» отправить туда флот, говорил он, как спартанцы легко захватят беззащитные города Ионии и Геллеспонта.
А в конце концов выяснилось, что никаких действий, направленных на свержение олигархического режима в Афинах, от флота и не требуется. Судьбу совета 400 решило поражение на море. Вражеский флот угрожал афинским укреплениям на острове Эвбея. На помощь вышла поспешно сколоченная эскадра; у входа в бухту Эретрии она потерпела позорное поражение (необъяснимое промедление спартанцев сразу после этого успеха перейти в наступление против Афин позволило Фукидиду назвать их «самым удобным противником, о каком афинянам можно только мечтать»). Этот провал вполне обнаружил беспомощность олигархов в военно-морском деле. А тот, кто не может владычествовать на море, не способен и руководить Афинами. Граждане стихийно собрались на Пниксе и единодушно проголосовали за прекращение полномочий совета 400. Революция закончилась.
Алкивиад переключил свое внимание на персов. Царь царей собирал крупную эскадру финикийских триер, которая должна была выйти на помощь спартанцам. Тиссаферну было поручено проследить за соединением спартанских и персидских сил на реке Эвримедонт. Намереваясь расстроить этот план, Алкивиад стремительно бросился туда же. Никто не знает и никогда не узнает, каким образом ему удалось заморочить голову своему закадычному дружку, но, так или иначе, все у него получилось. На глазах у разъяренных спартанцев Тиссаферн остановил только что прибывшую эскадру и отправил обратно в порты ее приписки Тир и Сидон.
Своим спасением Афины обязаны Алкивиаду, и только ему, однако, вернувшись на Самос, пышного приема он не встретил. В его отсутствие театр войны резко переместился в сторону Геллеспонта. Возмущенный поведением Тиссаферна вновь назначенный спартанский адмирал Миндар последовал призыву более надежного персидского сатрапа Фарнабаза развернуть военные действия в северных водах. Объединив усилия, спартанцы и персы рассчитывали взять под контроль торговый морской путь, которым доставляется зерно, и заставить Афины сдаться под угрозой голода. Следом за спартанцами на север двинулся весь афинский флот. Закрепившись на сей раз в Сесте, афиняне рассчитывали перехватить спартанцев близ Абидоса, на южном берегу Геллеспонта. Фрасибул со товарищи уже успел одержать побе-ду у мыса Киноссема («Собачья могила»). Теперь, предвидя новое морское сражение, стратеги с обеих сторон, афинской и спартанской, рассылали повсюду гонцов с просьбами о подкреплении. Алкивиад быстро снарядил восемнадцать триер и отплыл на север.
Морские пути необычно опустели: все суда, вплоть до последней галеры, отправились в Геллеспонт. Во время ночных остановок афиняне выяснили, что следуют по пятам за спартанской эскадрой с Родоса, направляющейся на соединение с основными силами флота спартанцев. Эскадра эта опережала их на один день пути. Солнце уже клонилось к закату, когда передовой отряд афинян приблизился к входу в Геллеспонт. Никаких кораблей вокруг не наблюдалось, но повсюду были видны следы большого сражения: щепки, весла, человеческие тела. При повороте в канал все открылось как на ладони: бой был в полном разгаре, суда на полном ходу врезались друг в друга, и трудно сказать, на чью сторону клонится победа. Алкивиад подошел вовремя.
Увидев вновь прибывших, и спартанцы, и афиняне заметно приободрились. И те и другие верили, что это их корабли и их люди. И лишь когда Алкивиад развернул свой пурпурный флаг, все стало на свои места. Афиняне, которым приходилось туго, взорвались радостными криками, спартанцы и их союзники стали готовиться к атаке с фланга. Миндар разместил сиракузский контингент слева от себя в самом конце линии своих судов. Алкивиад с кровожадным удовлетворением набросился на них, рассеивая ряды противника и гоня его к берегу. Остальных ждала та же участь. Не имея возможности пробиться к своей базе в Абидосе, они образовали из кораблей нечто вроде барьера, прикрывающего путь к побережью, где сухопутные силы смогут отразить нападение афинян.
Подошли на подмогу и персидские всадники во главе с сатрапом Фарнабазом, бросающимся в глаза своей большой диадемой персидского вельможи. Теперь он собственными глазами наблюдал сомнительные результаты своего участия в морском предприятии спартанцев. Но Фарнабаз был не из тех, кто отступает и сдается даже в самые критические моменты. В героическом порыве он вырвался на своем жеребце вперед, призывая спартанцев и персов последовать за ним и отогнать афинян подальше от берега. Этот маневр — наряду с поднявшимся ветром — отвлек афинян, вовсю крушивших корабли Миндара. Тем не менее им удалось отвести к Сесту не только тридцать триер противника, но и собственные корабли, захваченные спартанцами в начале сражения. Алкивиад вместе с другими стратегами отпраздновал свою вторую победу, на сей раз при Абидосе.
Зиму Алкивиад вместе со спутниками провел, прочесывая Эгейское море на предмет сбора денег и кораблей. К началу весны удалось собрать эскадру из восьмидесяти шести триер, расположив ее у входа в Геллеспонт. Наконец-то благодаря ветрам, рассеявшим спартанские подкрепления, и победе в сражении афиняне стали численно превосходить противника. Вместе с Алкивиадом их силами командовали Фрасибул и Ферамен, молодой стратег, недавно направленный сюда из Афин. Пока все трое составляли план дальнейших действий, пришло сообщение: Миндар и спартанцы захватили город Кизик на южном берегу Мраморного моря.
Афинянам был хорошо известен этот преуспевающий город, издавна находящийся в союзе с Афинами. Расположен он был на узком перешейке, соединяющем побережье Малой Азии с большой каменистой косой, глубоко вдающейся в море. Спартанский флот расположился в Кизикской бухте, замкнутом водном пространстве, ограниченном с суши песчаными склонами перешейка. Алкивиад решил начать с захвата города, а уж потом, лишив спартанцев базы, дать в удобное для афинян время и удобном для них месте морской бой. И далее, когда спартанцы потеряют флот, вернуть себе Византий и Босфор, восстановив, таким образом, контроль над торговыми путями, ведущими из Черного моря в Эгейское.
Главное теперь — скрытность. Узнай Миндар об истинной численности афинской эскадры, его бы ни за что не выманить в открытое море. Вот и стал афинской флот ночным существом, которое днем спит, а передвигается только под покровом темноты. В первую ночь афиняне пошли вверх по Геллеспонту, не видимые для засевших на стенах Абидоса спартанских наблюдателей. На вторую вышли из пролива и двинулись Мраморным морем в сторону острова Проконнес, лежащего к северу от Кизикской бухты. Об этих маневрах противник так ничего и не узнал — афиняне приняли на вооружение действенную тактику Алкивиада, который брал под арест любого незадачливого путника, оказавшегося на свою беду на его пути, — так что, добравшись до цели, они задержали все местные суда в порту Проконнеса. Алкивиад даже велел глашатаю объявить, что всякий, кто попытается перебраться на азиатский материк, будет подвергнут смертной казни.
На третью ночь Алкивиад собрал своих людей и накануне завтрашних испытаний обратился к ним с пылкой речью. Столкнуться предстоит с тем же, что выпало на долю сограждан, остановивших некогда персов в заливе Саламин: бессонная ночь, подготовка, а утром наступление хорошо отдохнувшего противника. Не умолчал Алкивиад и о том, что у афинян нет ни драхмы денег, в то время как спартанцы пользуются безмерной щедростью персидского царя. «И если вы хотите переломить ситуацию, — продолжал Алкивиад, — надо быть готовым справиться с любыми препятствиями: вражеским флотом, воинами, укрепленными городами, военными базами. Вам предстоит биться на море, на суше, на стенах». Другой стратег взывал бы к патриотическим чувствам и благородным побуждениям. Но Алкивиад интуитивно нашел единственно верный тон. Такую речь мог бы произнести вожак пиратов.
Во тьме тысячи людей поднялись на борт и отплыли от берега. Им предстояло миновать суровый мыс и гряду одиноких холмов, окаймляющих северные подходы к Кизику. Ночью пошел дождь, сначала легкий, весенний, потом ливень, прижимающий моряков и гоплитов к палубе. Они-то, должно быть, ругались про себя, но для стратегов такая погода была просто везением. Дождь и туман набросят на их корабли маску-невидимку, а часовые на берегу попрячутся в убежище. Не говоря уж о том, что шум дождя заглушает удары весел по воде, которые в спокойную ночь слышны на много сотен метров вокруг.
Повинуясь командам впередсмотрящих, рулевые держали курс вдоль берега до крутого изгиба у Артаки. Здесь стратеги высадили большинство гоплитов во главе с Хереем, которым было предписано перейти через сбегающие в этом месте к морю холмы и двинуться на север. Их задача — отвлекающий маневр, когда главные силы флота начнут бой в гавани. При слабом свете занимающегося дня гоплиты стали карабкаться по влажному лесистому склону.
Триеры снова двинулись в путь, на сей раз не так резво. Вскоре впереди показались очертания скалистого, треугольной формы островка Полидор, широкого в основании и сужающегося к вершине. Здесь афиняне разделились. Фрасибул и Ферамен остались позади, укрыв свои корабли за основанием островка — в точности как у Гомера, где укрытием греческим судам послужил остров Тенедос близ Трои. Алкивиад же с остатками эскадры пошел вперед — этим двадцати судам авангарда предстоит сыграть роль «троянского коня». Его задача состоит в том, чтобы увести ничего не подозревающих спартанцев как можно дальше от Кизика. Тем временем Фрасибул и Ферамен атакуют бухту, а Херей со своими гоплитами пойдет на штурм городских ворот. Туда, быть может, даже удастся подоспеть Алкивиаду, чтобы таким образом лишить превосходящий силами, но приведенный в замешательство спартанский флот его базы. Таков был достаточно скромный и, судя по всему, действенный план на ближайшие сутки. Но поскольку в осуществлении его участвовал Алкивиад, что-нибудь да должно было пойти не так, как задумано.
Пока он вел свой передовой отряд по узкому проливу, отделяющему остров от ближайшего берега, дождь прекратился и небо посветлело. И при первых лучах поднимающегося солнца Алкивиаду стало ясно, что, на удачу, Миндар уже сам сделал для него полдела. Не подозревая о появлении афинян, спартанцы вышли из бухты. Это было очередное занятие, что ни день их флот отрабатывал различные маневры. Во главе его стояли люди известные: сиракузцами командовал адмирал Гермократ, злой гений Никия и всех афинских экспедиционных сил в Сицилии; уроженцами города Фурии в южной Италии — спортсмен-олимпионик по имени Дорий. Фарнабаз со своими всадниками все еще стоял на зимних квартирах, по ту сторону гряды холмов, однако наемники сатрапа занимали позиции на высотах, господствующих над заливом. Слева от Алкивиада оставался сам Кизик — цель, ради которой и было затеяно все это предприятие.
Алкивиад в своих действиях, направленных на то, чтобы выманить спартанцев из Кизика, следовал заветам своего старого наставника Формиона: «Прикинься слабым, пусть противник будет уверен, что без труда справится с тобой. Нападай беспорядочно, пусть противник считает, что силы твои невелики». Алкивиад медленно продвигался вперед, пока его не заметили вражеские наблюдатели, и суда спартанцев, оставив тренировочные занятия, пошли наперерез. Тогда он приказал рулевым развернуться носом на север, в сторону открытого моря. Противник бросился вдогонку, и вскоре весь флот Миндара вытянулся следом за афинянами, утрачивая постепенно правильный порядок построения, ведь триеры шли с разной скоростью, и самые быстроходные отрывались от остальных. Стоило погоне повернуть у острова Полидор на запад, как на арене показались корабли Фрасибула и Ферамена. Короткий рывок к середине залива, и они отрезали Миндару пути отхода. Увидев, что в дело вступили его товарищи, Алкивиад подал сигнал к атаке. Все двадцать триер совершили крутой поворот, и их тараны оказались нацелены прямо на противника. Каждая триера выбрала собственную мишень, и вся афинская эскадра ринулась вперед.
Неожиданный маневр Алкивиада и появление основных сил афинского флота застали незадачливых спартанцев врасплох. С потерей Кизика Миндар мог бы примириться уже сейчас, но у него еще оставалась возможность сохранить флот. Путь в гавань был отрезан, но была небольшая береговая полоса, где расположились наемники. Если удастся добраться туда, ситуация зайдет в тупик: спартанцы укрепятся на берегу, а афиняне не рискнут оставить свои корабли. Их стихия не суша, а море. В осенних боях на Киноссеме и Абидосе спартанцы потерпели поражение на воде, но легко справились с противником на берегу.
Афиняне по пятам преследовали уходивших на юго-восточную сторону залива спартанцев, их передовые суда вот-вот готовы были настичь и протаранить арьергард противника. И все же большинству спартанских кораблей удалось достичь берега. Тут бы Алкивиаду прекратить продвижение и вернуться назад, где посреди залива его поджидали готовые к наступлению на Кизик Фрасибул и Ферамен.
Но перспектива еще одной неокончательной победы вдруг показалась Алкивиаду не особенно привлекательной, более того, отталкивающей. Его люди уже готовы были забросить абордажные крюки на вражеские корабли и захватить их как военную добычу. Спартанцы и их союзники во главе с Миндаром отчаянно отбивались. По правую руку от Алкивиада, в стороне от месива триер, едва не садящихся на мель, лежала ровная береговая полоса. Забыв обо всем, Алкивиад бросил самые быстроходные из своих судов на берег, западнее того места, где базировался спартанский флот. При всех своих недостатках, он отличался необыкновенной храбростью, которая не изменила ему и сейчас. Едва триера, на которой он шел, приблизилась к берегу, как Алкивиад в полном военном облачении перемахнул через борт и спрыгнул на землю — в точности как Ахилл под Троей.
За ним последовали моряки и лучники. С двадцати триер их было менее трехсот, и стоит людям Миндара сойти на берег, они окажутся в тройном меньшинстве. Зато афинян возглавляет стратег, маниакально одержимый жаждой сражения, и это чувство быстро передалось всем окружающим. Занятая ими позиция слева ограничивалась корпусами вытащенных на берег кораблей, справа — склонами холмов. Вновь пораженный действиями противника, Миндар стянул своих людей воедино и приготовился отбить эту безумную атаку на свой фланг.
Остающийся на своем флагманском судне Фрасибул понял, что морской бой переходит в сухопутный. Увидел он и наемников Фарнабаза — те выходили из-за крепостных стен и стремительно направлялись к месту сражения. Стоит заколебаться, промедлить — и Алкивиад вместе со своими людьми будет разбит просто потому, что их гораздо меньше. Что ж, план планом, а нападение на Кизик придется отложить. Фрасибула всегда и везде узнавали по его громоподобному рыку. Вот и теперь, хоть и не близко от него располагался Ферамен, он прокричал, чтобы тот шел за Хереем и его гоплитами, расположившимися в северной части города. А потом придется переправить их через залив.
Сам же Фрасибул тем временем с оставшейся половиной экипажей направился к берегу. В сложившейся ситуации у него оставались считанные минуты на то, чтобы составить план спасения Алкивиада. Решив, что лучше всего будет попытаться расчленить противника, Фрасибул стремительно двинулся к востоку от того места, где остановились и свои, и вражеские суда, напротив той площадки, где сошлись в рукопашной люди Алкивиада и Миндара. Последние были слишком поглощены боем, чтобы воспрепятствовать высадке экипажей Фрасибула, и когда Миндару стало об этом известно, он направил против них отдельные части из числа союзнических отрядов, а также персидских наемников. Завязалась еще одна схватка. Поначалу бой складывался в пользу Фрасибула, но затем ему пришлось перейти к обороне. Все же дрались его люди упорно, и потери с обеих сторон были тяжелыми.
Афиняне уже начали выдыхаться, когда наконец подошли суда с гоплитами Херея на борту. Стоило им высадиться на узкую полоску берега, которую все еще удерживали люди Фрасибула, как чаша весов начала клониться в сторону афинян. Первыми дрогнули наемники, за ними пелопоннесцы. Охваченные боевым пылом люди Ферамена двинулись под его началом вдоль побережья на выручку изрядно потрепанному отряду Алкивиада. Столкнувшись с этой новой угрозой с тыла, Миндар оказался вынужден во второй раз разделить свои силы. Вскоре после прибытия Ферамена спартанский флотоводец погиб, после чего зашатались и пустились в бегство даже спартанцы. Афиняне преследовали их до тех пор, пока со стороны холмов не донесся цокот копыт, свидетельствующий о приближении персидской конницы Фарнабаза.
Поворачивая назад, в сторону моря, афиняне увидели, что над триерами, оставленными сиракузцами, поднимаются языки пламени. Некогда эти сицилийцы пересекли всю греческую территорию, чтобы приложить руку к уничтожению афинского флота. Теперь они жгут собственные суда, лишь бы они не достались афинянам. День, начавшийся дождем, кончился пожаром. Остальные же корабли Миндара были захвачены целыми. Так свойственное Алкивиаду легкомысленное отношение к любым планам, его безрассудная отвага превратили чаемое скромное достижение — захват всего-то одного города — в величайшую морскую победу Афин с самого начала Пелопоннесской войны.
Афиняне с торжеством выставили свои трофеи: один на островке Полидор в честь победы Алкивиада на море; другой на материке — в честь победы на суше. В ту же ночь пелопоннесский гарнизон оставил Кизик, а на следующий день в город беспрепятственно вошли афиняне. Вскоре они перехватили тайное послание, адресованное в Спарту преемником Миндара. Отличающийся характерным для спартанцев лаконизмом, текст его был краток, но сладок для афинского уха: «Суда захвачены, Миндар мертв, люди голодают, не знаю, что делать».
Среди погибших во время морских сражений в Геллеспонте оказался драматург Эвпол. Он в полной мере воспользовался привилегиями, даруемыми афинским комедиографам, — высмеивать то, как стратеги ведут войну. «Людей, которым раньше не доверили бы быть торговыми инспекторами, — говорится в одной из его пьес, — вы же теперь выбираете стратегами. О Афины! Афины! Удача заменяет вам мудрость».
В пьесе «Красильщики» Эвпол высмеял самого Алкивиада. По несчастному стечению обстоятельств драматург оказался в составе команды одного из кораблей своего героя, и выяснилось, что стратег не забыл и не простил ему желчных выпадов. Алкивиад несколько раз окунул его головой в соленую воду, приговаривая, что это в отместку за купание в краске, которое Эвпол устроил ему на театральной сцене. Когда блестящий комедиограф погиб в бою, афиняне были в таком трауре, что приняли специальный закон, освобождающий поэтов от военной службы.
Что же касается самого Алкивиада, то его подвиги в Кизике обессмертили историки, биографы и авторы наставлений по тактике боя. Это и впрямь было то самое сражение, которого он жаждал всю жизнь и которое укрепило его репутацию в городе больше, чем что-либо иное. С того самого момента, как в минувшем году в Афинах было восстановлено демократическое правление, наиболее активные горожане предпринимали энергичные усилия, направленные к тому, чтобы возвратить Алкивиада из изгнания. Ведь теперь он представлялся всем талисманом победы. До его осуждения и ссылки Афины процветали. Пока Алкивиад оставался на службе у Спарты, ее звезда неуклонно восходила. Наконец богиня Ника начала милостиво улыбаться афинскому флоту, как только демократическое собрание на Самосе избрало его стратегом.
Даже высокочтимый Софокл выступил в поддержку движения за возвращение Алкивиада из ссылки. В пьесе «Филоктет», впервые сыгранной на театральной сцене в рамках состязания, непосредственно последовавшего за победой при Кизике, драматург изобразил избавление главного героя, отбывающего ссылку на необитаемом острове. У пьесы, представляющей собой вклад Софокла в новый жанр романтической трагедии, счастливый конец: герой воссоединяется со своими давними товарищами (теми самыми, кто изгнал его) и оказывает помощь в достижении победы. Оставались, правда, иные несогласные, кто по-прежнему возлагал вину за все беды Афин на Алкивиада, а честь победы при Кизике отдавал Фрасибулу, но их становилось все меньше.
В кампаниях, последовавших за Кизиком, Алкивиад и его соратники продолжали громить противника. Иногда они действовали совместно, часто — в одиночку. Фрасибул вернул Афинам Фракию и места, богатые серебром, Ферамен сражался с Фарнабазом на азиатской части Босфора, сам же Алкивиад перехитрил врага, осуществив ночной налет, принесший ему самый крупный приз — Византий. С форта, поименованного Хрисополем («Золотой город»), Афины стали брать десятипроцентный налог на любые торговые грузы, идущие через Босфор из Черного моря. Получив изрядную дань в Кизике и иных местах, Алкивиад и другие афинские стратеги перенесли военные действия в Ионию. Спартанцы, лишившиеся военно-морского флота, были бессильны противостоять им. Пришлось уступить немало из того, что было добыто после возобновления войны.
Часть денег, полученных на Босфоре, была переведена в Афины, в результате чего город начал возвращать себе былое финансовое благополучие. В Акрополе архитекторы и строители возобновили работы по возведению нового великолепного храма, названного Эрехтейоном. Победы на море, как и приток заморских товаров, также способствовали расширению масштаба общественных работ и благодарственных подношений богам. Теперь казна имела возможность платить ремесленникам за украшающие Эрехтейон мраморные статуи и колонны. Вход в новый храм, невесомый и загадочный, в отличие от массивного, отличающегося четкими пропорциями Парфенона, шел через высокое крыльцо, где шесть мраморных дев поддерживали, наподобие колонн, крышу. Взгляд этих молодых сильных женщин был устремлен через развалины разрушенного Ксерксом старого храма на Парфенон; они словно стали молчаливыми наблюдательницами проходивших каждое лето панафинских процессий. Лучшего места, чем Эрехтейон, для священного древа Афины — оливы — не придумаешь, но новый храм символизировал собой поклонение и другому богу — Посейдону. Здесь возвышался алтарь в его честь, здесь имелась веха, указывающая на место, где Посейдон ударом трезубца повелел возвести Акрополь, наконец, здесь был прорыт глубокий колодец Посейдона с соленой водой, то есть «Море». Афиняне верили, что если склониться над колодцем, при порыве ветра с моря тут можно услышать шум прибоя.
После трех лет сражений во имя Афин Алкивиад решил, что может без опаски вернуться домой. Последним знаком дарованного прошения стало избрание на пост стратега in absentia (заочно), да и не флотом на сей раз, но собранием, проголосовавшим на Пниксе за кандидатуру Алкивиада. В это время он находился на Самосе — острове, который и стал свидетелем поворота судьбы Алкивиада и откуда он двинулся в долгий путь домой.
Большинство экипажей, как и самих судов, не были в Афинах уже много лет, и Алкивиаду хотелось превратить возвращение на родину в настоящий триумф. Трюмы всех своих двадцати триер он наполнил носовыми украшениями спартанских боевых кораблей, а к бортам велел прикрепить спартанские щиты и другие трофеи. На мачте флагманской триеры трепетал пурпурный парус. Знаменитый виртуоз играл на флейте, а не менее знаменитый исполнитель пел гимны. Сам Алкивиад, как и его боевые товарищи, надел на себя гирлянды из листьев и цветов. По дороге он зашел на остров Парос и даже, сделав крюк, в спартанскую бухту Гитиум. Тут Алкивиад тревожно выискивал признаки судостроительства, что его очень беспокоило. Он даже демонстративно выставил добытые у Спарты трофеи на спартанских же берегах. Алкивиад словно напоминал им, как напомнил в свое время афинянам: я жив еще.
Но в Пирее триумфатора охватило некоторое смятение. Толпа на молу собралась огромная, крик стоял оглушительный, и, не будучи уверен, то ли его приветствуют, то ли проклинают, Алкивиад не сходил на берег, пока не разглядел среди других своего кузена Эвриптолема и других родичей. Они радостно размахивали руками. Только тут он решился сделать шаг на сушу. Доброжелатели окружили Алкивиада. Одни смеялись, другие плакали, старались прикоснуться к нему. Кто-то увенчал его короной, словно спортсмена-победителя, божественного героя — или царя. Окруженный друзьями, Алкивиад медленно двинулся вдоль Длинной стены.
При первой же возможности он предстал перед советом, а затем обратился к собранию. Народ отменил смертный приговор, вернул ему гражданство и собственность, более того — провозгласил стратегом-автократом, то есть верховным главнокомандующим морскими и сухопутными силами. Жрецы и жрицы сняли с него проклятия. Мраморные плиты, на которых был высечен текст приговора Алкивиаду, были подняты с места, спущены вниз и брошены в море, откуда они уже больше не вернулись на землю. Чудесные слова, вложенные Эврипидом в уста Ифигении, оказались пророческими: «Любое море исцеляет раны».
Глава 15
О героях и цикуте (407–406 годы до н. э.)
Этот берег —
Моя постель. Здесь, пеною морской
Лелеемый, я насыпи и слез
Лишен, увы!
Эврипид. «Гекуба», пер. И.Анненского
Теперь, когда источник постоянного поступления дани иссяк, собрание постоянно испытывало острую нужду в наличных. Вместо того чтобы, снабдив своих стратегов вместительными денежными сундуками, посылать их в море, афиняне усвоили дурную привычку требовать от них повышения жалованья экипажам, коль скоро те делают свое дело. Так войны не ведут и уж тем более их не выигрывают. Все это вело к многочисленным злоупотреблениям, начиная с вымогательства денег у нейтральных прибрежных городов и кончая обыкновенным пиратством и использованием услуг наемников в местных конфликтах, не имеющих прямого отношения к Афинам. Иные стратеги от безысходности даже использовали членов своих экипажей в качестве простой рабочей силы. Гребцы бросали весла и в страду собирали урожай фруктов.
Проведя в Афинах безмятежное лето, увенчавшееся роскошным празднеством Элевсинских мистерий (религиозных таинств, в оскорблении которых он некогда обвинялся), Алкивиад вновь вышел в море в качестве командующего флотом. Собрание рассчитывало, что он сумеет в кратчайшие сроки довести до победного конца войну в Ионии. Как и у других в те годы, денежный сундук его был пуст. Алкивиаду надо было бы, используя свое влияние и популярность, сразу же потребовать от собрания тряхнуть мошной, но, к сожалению, он уже успел приучить народ относиться к себе с обожанием, как к супермену, полубогу. И теперь слишком поздно было признаваться, что никакой он не полубог, а обыкновенный смертный, как и все остальные.
Мечты Алкивиада стать вождем афинского народа пошли прахом в Нотии, близ Эфеса. Не имея возможности платить людям, он отправился с шапкой по кругу, а корабли оставил на попечение своего рулевого Антиоха, который поставил триеры на якорь в уединенном затоне. Этот Антиох был тот самый человек, который уже давно привлек внимание Алкивиада тем, что поймал на Пниксе улетавшего перепела. Перспектива выполнять указания подручного и собутыльника стратега явно не могла прийтись по душе состоятельным афинским триерархам. Между тем Алкивиад, страхуясь от всяческих неожиданностей, которые могли случиться в его отсутствие, строго-настрого велел Антиоху не ввязываться ни в какие стычки с вражеским флотом, расположенным в нескольких милях от Нотия, в Эфесе.
Увы, Антиох, видимо, перенял от своего принципала склонность к непослушанию и порывистым телодвижениям. Вскоре после отъезда Алкивиада он бездумно ввязался в бой, в котором погиб и сам, и потерял двадцать две афинские триеры. Вернувшись, Алкивиад повел оставшиеся суда в Эфес, где бросил вызов противнику, приглашая его к честному сражению, но спартанский адмирал Лисандр предпочел уклониться. В таких обстоятельствах, когда вина его состояла в общем-то лишь в неверной оценке одного человека, а также и удача отвернулась от него, Алкивиад не решился возвращаться в Афины, где его наверняка ожидал гнев собрания. Вместо этого он сел на триеру и поплыл в свою персональную крепость на северном берегу Мраморного моря. Этот дом представлял собой нечто вроде убежища, сооруженного Алкивиадом как раз на такой случай. Здесь он мог играть роль местного военного посредника в конфликтах между греческими поселенцами и фракийскими племенами, то есть заниматься примерно тем же, чем занимался более ста лет назад великий Мильтиад. Похоже, злая судьба все еще преследовала его.
После фиаско в Нотии афинянам срочно потребовался надежный стратег в Ионии. Выбор их пал на Конона, флотоводца и ветерана Навпакта. Прибыв на Самос, Конон нашел людей в самом подавленном состоянии. Он укомплектовал семьдесят триер лучшими экипажами, какие только смог собрать, и смело двинулся на север, наперерез пелопоннесскому флоту. Достигнув широкого пролива между Лесбосом и азиатским берегом, Конон получил сообщение, что противник захватил город Митилену, расположенный тут же, на Лесбосе. Все находившиеся в городе афиняне проданы в рабство. Помимо того, Конону стало известно, что спартанский флотоводец направил ему вызывающее послание: «Я не позволю тебе разбойничать на море. Оно мое».
Это наглое высказывание принадлежало новому спартанскому наварху, молодому Калликратиду, сменившему Лисандра на посту командующего флотом и имеющему в своем распоряжении 140 триер, то есть вдвое больше, чем у Конона. Неравные силами противники столкнулись уже на следующий день. Калликратиду удалось захватить 30 афинских триер, а остальные запереть в митиленской бухте. Здесь, на волноломе, завязался еще один бой. Афиняне заняли позиции с внутренней стороны и использовали нок-реи как катапульты, забрасывающие противника большими камнями. Однако, безнадежно уступая спартанцам в количественном отношении, Конон был вынужден дать команду отойти ближе к берегу. Здесь он на какое-то время оказался в безопасности. Но Калликратид не успокоился. В руках его уже находилась почти половина судов Конона, лучшая часть афинского флота, и он твердо вознамерился не отходить от Лесбоса, пока не захватит все остальное. Спартанцы блокировали выход из бухты. Две афинские триеры пошли на прорыв через заслон. Одну спартанцы перехватили, но другая достигла Афин, принеся весть о сокрушительном поражении и блокаде.
Эта новость потрясла Афины. Под угрозой оказались все успехи Афин со времени сицилийской экспедиции. Если спартанцы пленят Конона и его людей, афиняне окажутся в том же положении, что и спартанцы после Пилоса. Необходимо было как-то избежать такой участи и что-то делать. Афиняне предпринимали все меры, на какие только были способны. На переплавку пошли святыни и другие драгоценности Акрополя. Богатые граждане-триерархи, сами испытывавшие дефицит наличных, готовы были разделить финансовое бремя между собой. К счастью, собрание уже когда-то давно поддержало предложение Алкивиада о строительстве новых триер в Македонии, и теперь Перикл-младший, сын Перикла и Аспазии, привел их в целости и сохранности в Пирей. Кроме того, чтобы как-то поддержать афинян, македонский царь передал в дар городу строительный лес. Распорядиться им, как и всеми имеющимися финансами, было поручено вновь избранному стратегу — Периклу-младшему.
Храмовые драгоценности и македонский лес — необходимые инструменты для ведения войны, но они не могли заменить десятков тысяч людей у весел и на палубе. Даже если в Афинах для защиты городских стен оставить только самых старых и самых молодых, а остальных — всадников, гоплитов, фетов и даже иностранцев — жителей города — призвать на службу, все равно этого будет недостаточно. К счастью, Афины располагали своеобразной валютой, ценившейся даже выше серебра. Называлась она — гражданство. Быть гражданином Афин означало причастность к самому либеральному на тот момент мироустройству. Право на гражданство блюлось самым тщательным образом, и лишь в крайне редких случаях собрание предоставляло его людям со стороны. По закону на афинское гражданство мог претендовать только ребенок, у которого и мать, и отец афиняне. Сам Перикл-младший стал гражданином по особому решению народа, ибо мать его Аспазия была уроженкой Милета. И вот теперь собрание проголосовало за то, чтобы предоставлять право афинского гражданства взамен на военно-морскую службу.
А когда выяснилось, что и так проблема не решается, состоятельные афиняне изъявили согласие освободить своих рабов, чтобы те сели за весла. В Древней Греции клеймо раба человек носил просто по несчастному стечению обстоятельств, принадлежность к той или иной расе или классу к этому никакого отношения не имела. И любой раб всегда имел возможность купить себе свободу. Либеральные нравы, свойственные морской демократии Афин, оказывали на рабов самое положительное воздействие: один олигарх жаловался, что в Афинах нельзя ударить раба, принадлежащего не тебе, а кому-то еще, нельзя даже требовать, чтобы раб уступил тебе дорогу на улице. Он же отмечал, что, сопровождая своих хозяев-гоплитов на транспортных судах, некоторые рабы становились сезонными гребцами.
При известии об этой инициативе богатых сограждан афинян охватил соревновательный дух. Вопрос был быстро поставлен на голосование, и собрание объявило, что любой раб, готовый рискнуть жизнью в морском сражении, получает не только свободу, но и гражданство. Последовала немедленная реакция: тысячи рабов изъявили готовность отказаться от освобождения от военной службы, что было одним из немногих преимуществ рабского положения. В Пирей хлынул поток людей, только что обретших свободу. Времени обучать их морскому ремеслу не было. Уже под конец июля остающиеся на берегу афиняне наблюдали за отплытием спасательной экспедиции, понимая, что присутствуют при рождении чуда, ведь триера из Митилены, откуда Конон взывал к согражданам о помощи, прибыла в Афины всего тридцать дней назад.
На Самосе афинянам удалось сконцентрировать более 150 кораблей, во главе которых стояли восемь стратегов. Были здесь и бывшие стратеги Фрасибул и Ферамен, покрывшие себя славой в Кизике, но на сей раз в качестве всего лишь триерархов собственных судов. Количество триер производило впечатление, но не хватало ни скорости, ни мастерства в действиях. Недолгий поход на север к Лесбосу убедил в том, что необученные экипажи, при всем своем старании, никак не могут добиться согласованности в действиях и вряд ли могут рассчитывать на то, что называется synkrotoi — умением одновременно наносить и принимать удары.
Избегая риска, связанного с высадкой вблизи спартанских сил, осадивших Митилену, афиняне обогнули Лесбос и остановились на противоположной стороне пролива, у Аргинусских островов («Белых островов»). Это было некоторое подобие архипелага, и два самых больших острова разделяла закрытая лагуна, по сторонам которой и расположились лагерем афиняне. Зажглись сигнальные огни, запылали бивуачные костры. Постоянно на Аргинусских островах жили эолийские греки, но сейчас здешнее население увеличилось до тридцати тысяч человек, в основном афинских граждан. Лагерь расположился на склоне холма, поднимаясь от подножия к гребню, выходящему на пролив. Поднявшись сюда, Фрасибул, Перикл и другие стратеги осмотрели позицию. Слева расстилалось открытое море. Справа, в северном направлении, в полумиле от того места, где стояли на якоре их триеры, находился самый маленький из островов архипелага, своего рода необитаемый аванпост. Внизу в море вдавались белые как мел скалы, кое-где окаймляемые предательски скрытыми под водой рифами. С наступлением темноты афиняне заметили, что на противоположном берегу мелькают огоньки. Это спартанцы, узнав об их появлении и готовясь к столкновению, двинулись на север, вдоль побережья Лесбоса. Убежденные, что произойдет оно не далее как завтра утром, стратеги приказали убрать с триер мачты и паруса. Для большинства из их людей это будет первый в жизни бой. Для кого-то и последний. Около полуночи задул сильный ветер, пошел дождь.
Главенствующее положение среди восьми стратегов занимал Фрасилл. Он уже пять лет, как играл видную роль в афинских делах, начиная с того исторического дня на Самосе, когда, защищая дело демократии, возглавил строй гоплитов. В эту ночь на Аргинусских островах Фрасиллу приснился сон, какой может присниться только афинянину. Ему снилось, что он дома, в театре Диониса, играет в спектакле. А в хоре — шесть других стратегов, поют и танцуют вместе с ним. Пьеса — «Финикиянки» Эврипида, а их соперники разыгрывают «Просительниц» того же автора. В обеих пьесах один и тот же трагический сюжет Эсхила — «Семеро против Фив», судьба не преданных земле, подвергшихся надругательству тел. Фрасилл и его труппа побеждают. Но это пиррова победа, ибо все они гибнут. Очнувшись, Фрасилл немедленно пересказал свой сон предсказателям.
Ближе к рассвету небо прояснилось, ветер утих. Предсказатели объявили, что во время утренних жертвоприношений появились предзнаменования победы в грядущем сражении, которое пройдет под эгидой Зевса, Аполлона и эриний. Об этих предзнаменованиях было рассказано всем, хотя, по просьбе Фрасилла, сон его сохранился в тайне. Знамения знамениями, но по плану Фрасилла его неопытные экипажи будут держаться ближе к островам, чтобы при случае найти тут укрытие. Собственно, и самим этим островам предстоит сделаться частью боевого порядка афинян. Это было нечто вроде озарения: пока афиняне будут держаться места своей стоянки, они неуязвимы. Много времени на размышления у Фрасилла не было, идея пришла ему в голову только накануне вечером, когда он стоял на вершине, изучая местность: пролив, острова, рифы.
Фрасилл разделил свои силы на три части — два мощных крыла прикрывают справа и слева не столь внушительный центр. Правое крыло растянется на полмили водной поверхности от северной оконечности большого острова, где афиняне стали лагерем, до одинокого островка, замыкающего с севера весь архипелаг. Крыло это составится из шестидесяти ставших в два ряда триер во главе с самим Фрасиллом и еще четырьмя стратегами. Островок прикроет наиболее удаленные от центра суда и позволит предотвратить атаку с фланга.
Шестьдесят триер левого крыла, также выстроившиеся в два ряда, расположатся таким образом, что одна сторона упрется в южный берег острова, другая уйдет в открытое море. Здесь будут находиться другие четверо стратегов, в том числе Перикл. Слабый же центр составят десять священных триер афинских фил, где на веслах традиционно сидят новички; три во главе с навархами; десять с Самоса и еще несколько судов, снаряженных союзниками. Все они вытянулись вдоль скалистого берега, защищенные от нападения противника подводными рифами и утесами.
Выстроившись в указанном порядке, афинский флот стал походить на стену длиной около двух миль, ощетинившуюся бронзовыми клювами и деревянными веслами. Сражение у Аргинусских островов станет поединком лучших гребцов, которых только можно было нанять на персидские деньги, и не искушенных в морском деле афинских всадников, ремесленников, горожан иностранного происхождения и бывших рабов. Калликратид дошел со своими кораблями почти до середины пролива, когда его впередсмотрящие увидели застывший в спокойном утреннем море удивительный строй афинских триер. Эскадра его насчитывала всего 120 судов, ибо 50 он оставил в Митилене, не позволяя Конону вырваться в открытое море. В любом случае Калликратид никак не предполагал, что у афинян будет так много кораблей. Его армада вытянулась по фронту в одну линию.
Рулевой спартанского флагмана сразу понял, чем грозит столкновение, и посоветовал флотоводцу отказаться от атаки. Попытка сбить афинян с их отлично укрепленных позиций была бы, по его мнению, чистым безумием, да и нужды в том нет. Чтобы выручить Конона, им ведь, так или иначе, придется выбираться из засады. И вот тогда-то, убеждал рулевой, мы окружим их в открытом море и легко одержим верх. Но Калликратид был спартанцем старого закала. Сражения выигрывает не осмотрительность, побеждает мужество. Об отступлении не может быть и речи.
Не обращая внимания на слабый центр афинян, Калликратид разделил свои силы надвое так, чтобы было чем ударить по флангам противника. Сигнальщик протрубил начало атаки, и спартанцы ринулись вперед. Калликратид во главе десяти триер из Спарты находился справа, стало быть, лицом к лицу с Периклом и его соратниками. Местный люд, а также те из афинян, что не участвовали в сражении, облепили прибрежные скалы. У зрителей появилась уникальная возможность наблюдать, как в морском бою сходятся четыре отдельных соединения.
Поскольку афиняне стояли на месте, не двигаясь ни вперед ни назад, сражение приняло характер сухопутной схватки, когда фаланги гоплитов накатываются друг на друга и тут же отходят, чтобы изготовиться к новой атаке. Поворотный момент всей долгой битвы наступил с гибелью спартанского флотоводца. Его флагманское судно прорвалось сквозь строй афинян и ударило по триере Перикла с такой силой, что нос застрял в борту. Перикл и его люди завязали бой на палубе вражеского корабля. То ли от шока, вызванного столкновением, то ли от удара афинского воина, но Калликратид потерял равновесие, упал в воду и под тяжестью собственных доспехов пошел ко дну. Со смертью предводителя распался весь строй пелопоннесских кораблей. Они обратились в беспорядочное бегство, но афиняне не отпускали их, потопив либо захватив девять из десяти триер противника. Союзники спартанцев на другом фланге продержались дольше, но в конце концов и им пришлось спасаться бегством. Последовал настоящий разгром: спартанцы потеряли общим счетом семьдесят семь кораблей. Новые граждане Афин одержали победу.
Фрасилл собрал на берегу военный совет. Устроившись с подветренной стороны, в лазурном покое затихшего острова стратеги обсуждали свой следующий шаг. Один предложил подобрать убитых и вытащить на берег поврежденные суда. Другой настаивал на немедленном отплытии в Митилену, на выручку к Конону. Фрасилл нашел компромисс. Все восемь стратегов, собрав силы в кулак, немедленно атакуют спартанский флот в Митилене. Бывшие стратеги Фрасибул и Ферамен, вместе с начальниками рангом пониже, так называемыми таксиархами, останутся у Аргинусских островов с сорока семью триерами и прочешут пролив, вылавливая тела убитых и подбирая раненых, которые могли уцепиться за обломки кораблей.
Пока они спорили, поднялся штормовой северный ветер, но поскольку из лагеря моря не видно, стратеги не заметили, сколь круто изменилась погода, и когда наконец они одобрили голосованием предложение Фрасилла, ветер уже вовсю гнал обломки разбитых в бою судов вместе с теплящейся кое-где человеческой жизнью. Вся эта масса неожиданно пришла в движение, ее сносило на юг. Море к этому времени разбушевалось настолько, что план Фрасилла оказался невыполнимым ни в одной из своих частей. Любовь к демократической процедуре, весьма похвальная сама по себе, на сей раз лишила стратегов их шанса. По своей конструкции триеры не годились для штормовой погоды, даже опытные афинские моряки не хотели рисковать жизнью в спасательной операции. Стратегам не оставалось ничего, кроме как отступить. Они выставили на берегу символы победы и стали ждать окончания шторма.
К утру ветер стих, но и море опустело. Следы сражения, тела убитых, раненые — все это исчезло, все было снесено волной и выброшено на берег где-то на юге. Оплакав погибших, афиняне направились в Митилену. Едва отойдя от берега, они увидели идущие навстречу корабли. Это были сорок триер Конона. Оказалось, что накануне вечером, узнав о гибели Калликратида и поражении своих товарищей, спартанцы сняли блокаду, подожгли лагерь и исчезли в ночи. Преследовать остатки пелопоннесского флота у афинян возможности не было, и они вернулись на Самос.
Народное собрание в Афинах с большим энтузиазмом встретило весть о победе, но осталось недовольно тем, что тела погибших остались непогребенными. Стремясь как-то оправдать себя, Ферамен и Фрасибул (триерархи, которым было поручено выловить трупы) присоединились к тем, кто винил во всем стратегов. После бурного обсуждения собрание решило предать суду всех их, за исключением Конона. Это означало, что в военных действиях наступает перерыв, притом в тот момент, когда афиняне перехватили стратегическую инициативу. Обвиненные стратеги привели с собой в Пирей почти все свои триеры — в трудный момент им нужна была поддержка экипажей.
Прибыли, правда, не все: двое, избегая суда собрания, удалились в добровольное изгнание. Это бегство могло быть сочтено косвенным подтверждением вины остальных. По мере того как дело обрастало материалами и продвигалось от допросов в комиссии по расследованию к заседаниям совета и далее к страстным дебатам на собрании, обвинения и контробвинения только множились. В конце концов народ проголосовал за то, чтобы вплоть до начала слушаний шестеро вернувшихся в город стратегов — Фрасилл, Перикл, Диомедон, Лисий, Аристократ и Эрасинид содержались в заключении. Представ перед собранием, все они единодушно настаивали, что при таком шторме выйти в море было невозможно. Это подтвердили и рулевые триер, участвовавших в событиях у Аргинусских островов. Общее мнение начало клониться в сторону обвиняемых, но наступивший закат положил дебатам преждевременный конец. До наступления темноты участники собрания проголосовали за то, чтобы поручить совету пятисот выработать формулу обвинения (если, конечно, есть в чем обвинять), а также процедуру судебного заседания.
На очередном заседании председательствовал представитель антиохийской филы философ Сократ. Избирались председательствующие жребием, и полномочия их ограничивались однодневным сроком. То, что им оказался в тот день столь видный гражданин, было чистой гримасой слепого жребия. Проведя положенный ритуал жертвоприношений и молитв, Сократ открыл заседание и попросил секретаря огласить мнение совета. Оно сводилось к тому, что судить стратегов следует не поодиночке, а всех шестерых разом и не судом присяжных, а на собрании, уже сегодня. Всем десяти филам будет предложено две урны: одна с надписью «виновны», другая — «невиновны». После чего граждане, проходя мимо урн, будут бросать в них свои бюллетени.
Афинянам случалось уже заключать в тюрьму, судить, штрафовать, высылать стратегов, но никогда еще не приговаривали они их к смертной казни за решения, принятые во время боевых действий. Беспрецедентным было также предложение о коллективном суде. Не давая собранию даже задаться вопросом о возможных военных последствиях этого суда, да и о самой судебной процедуре, на трибуну вышел и поведал душераздирающую историю один из тех, кто уцелел в сражении у Аргинусских островов. Когда его триера стала жертвой тарана и разлетелась на куски, он спасся, ухватившись за кадку с мукой. Вокруг раздавались стоны и крики тонущих моряков. Шансов спастись у них не оставалось, и, погибая, они умоляли его передать согражданам в Афинах, что стратеги бросили их на произвол судьбы. В глазах собравшихся на Пниксе трагедия приобрела физически ощутимый характер: кадку с мукой забыть трудно.
Прозвучавшее свидетельство вызвало бурю эмоций, в которой могло потонуть любое слово в пользу стратегов. Раздавались громкие выкрики в том смысле, что ничто не должно мешать свершиться воле народа, а председательствующему следует немедленно поставить предложение совета на голосование. Для Сократа все это дело имело не только юридическое, но и личное значение. Один из обвиняемых, Перикл, был его близким другом и учеником. Сократ часто говорил с ним о делах города, и именно по его настоянию Перикл выдвинул свою кандидатуру в стратеги. Сейчас Сократ напомнил разъяренной толпе, что по афинскому законодательству граждане, обвиненные в совершении того или иного преступления, имеют право на индивидуальное рассмотрение своего дела. Поэтому предложение совета противоречит закону и на голосование поставлено быть не может. Самые непримиримые обвинители попытались было заглушить слова Сократа, но полемист он был искушенный и продолжал твердо держаться своей позиции.
В этот критический момент к трибуне подошел родич Перикла и Алкивиада. Это был тот самый Эвриптолем, что год назад приветствовал Алкивиада по его возвращении в Афины. Он указал на то, что по меньшей мере один из шести стратегов ни в чем не виноват, ибо в то время, когда заседал злополучный военный совет, он плыл к берегу со своего затонувшего корабля. В чем же его можно винить, кроме, быть может, невезения? «Афиняне, — продолжал Эвриптолем, — вы одержали великую, славную победу. Так не ведите же себя так, будто вы стонете под бременем позорного поражения. Сохраняйте здравый смысл, признайте, что иными вещами лишь небеса распоряжаются. Эти люди были бессильны что-либо предпринять, так не вините же их в предательстве. Шторм не позволил им сделать то, что они должны были сделать. Право, справедливость требует, чтобы мы не наказывали их смертной казнью по наущению некоторых недостойных людей, но увенчали лав-рами».
Эвриптолем предложил, чтобы всех шестерых стратегов судили по отдельности судом присяжных. Сократ с готовностью поставил это предложение на голосование, и люди уже собирались поднять руки, когда вдруг послышался голос протеста. Возможно, принадлежал он кому-то из врагов стратегов, а может, ревнителю строгих правил. Изначальное предложение совета о суде над всеми шестью стратегами все еще стоит на повестке дня, и по нему надо вынести решение, прежде чем рассматривать что-либо иное. Уверенный в благоприятном исходе, Сократ поставил на голосование предложение совета. Но он просчитался. Легко поддающееся настроениям собрание большинством голосов решило немедленно приступить к судебному разбирательству. Все еще надеясь, что голосов в пользу оправдательного приговора окажется больше, Сократ распорядился поставить урны. Один за другим мимо них проходили филами граждане и бросали заранее приготовленные камешки. При подсчете выяснилось, что большинство — за смертную казнь.
Должностные лица, известные под наименованием Одиннадцать, препроводили осужденных с Пникса назад в тюрьму. Обычно смертные приговоры приводились в Афинах в исполнение немедленно, хотя друзья и родственники имели право перед этим попрощаться с близкими в тюрьме. Способ казни зависел от характера преступления и социального статуса осужденного. Пиратов распинали на деревянных крестах, установленных на обочине дороги, ведущей в Пирей. Врагов государства и насильников бросали в расщелину под названием «Барафон». Ну а уважаемым гражданам, таким как стратеги, дозволялось выпить цикуту.
Этот яд извлекается из сорняков того же названия, которые в Аттике растут буквально повсюду. Цикута распускает свой белый зонтик, высоко поднимаясь над полями и кустарником. Ее собирают, приносят аптекарю, тот толчет растение в ступе, и при этом его листья, похожие на листья папоротника, и небольшие плоды выделяют горький сок, прозрачный и маслянистый. Для того чтобы умертвить человека, достаточно чашки такого сока. Смертнику рекомендуется прогуливаться, в этом случае яд быстрее распространяется по телу. Сонливость постепенно переходит в паралич членов, затем утрачивается речь. Сознание остается ясным до самого конца. Стоит яду проникнуть в легкие, как жертва перестает дышать и умирает, словно рыба, выброшенная на берег. Один за другим герои битвы Аргинусских островов выпивали свои фиалы с цикутой и расставались с жизнью.
Вскоре афиняне отошли, и их охватило раскаяние. Правда, винили они не себя, а политиков, сбивших их с пути истинного. Но никакое покаяние не могло вернуть к жизни стратегов, как и устранить трещину, возникшую между народом и его военными избранниками. Демократия, не укрощенная разумом, так же свирепа и неправедна, как и тирания. В тесной тюремной камере Фрасибул убедился в реальности своего страшного сна, а карьера Перикла-младшего оборвалась, так толком и не начавшись.
Глава 16
Нисхождение в Аид(405–399 годы до н. э.)
Знать, могуча вовек рока над нами власть.
Над ней ни злато, ни булат,
Ни крепкий вал, ни легкий струг,
Забава волн, нам не даст победы.
Софокл. «Антигона», пер. Ф.Зелинского
Через три месяца после суда над стратегами афиняне отмечали Линеи, или праздник виноделия. За пиршественными столами и на сцене восславляли Диониса, а виноградный сок меж тем булькал и сгущался под крышками чанов, чудесным образом превращаясь в вино. В то же время город оплакивал уход двух гениев театра. Смерть настигла Эврипида в Македонии, где он был гостем царского двора. Умер в возрасте 90 лет и Софокл — не осталось, наверное, ни одного афинянина, кто бы помнил этот мир, не будь его.
В эту пору утрат Аристофан написал новую комедию — «Лягушки». Говорится в ней о примирении, единстве, верности флоту. Содержится и привет рабам, полностью оплатившим у Аргинусских островов свою свободу и право гражданства. Многие из этих новых афинян, сбросивших бремя рабства благодаря собственному героизму, впервые оказались в театре.
Действие «Лягушек» начинается появлением Диониса — бога театра, отправляющегося в Аид, чтобы вернуть к жизни Эврипида. Дионис находит угрюмого лодочника Харона и пересекает вместе с ним Стикс под пение хора лягушек, исполняющего песню моряков: «Бреке-ке-кекс! Бреке-ке-кекс!» На противоположном берегу Дионис различает Эврипида и с ним его отдаленного предшественника Эсхила, автора «Персов». Оба пребывают в уголке поэтов Аида. Дионис немедленно объявляет начало конкурса и арбитром назначает себя. Победителя ждет возвращение в Афины. На основании одних лишь поэтических достоинств выявить его не удается, и Дионис задает последний вопрос: «Как спасти Афины?» И тут на высоте оказывается Эсхил, повторяющий вслед за Фемистоклом: посвятите себя войне на море и не забывайте о флоте. В финале пьесы Эврипид остается в Аиде, Эсхил же возвращается в мир живых, где ему предстоит поделиться своей мудростью с нынешним поколением афинян.
«Лягушки» выиграли первый приз. Публика даже потребовала повторного представления — редкая честь. Оно состоялось, и афиняне увенчали Аристофана не виноградными лозами Диониса, но священными оливковыми листьями Афины — дар, предназначенный лишь величайшим благодетелям города.
Начинался двадцать седьмой год Пелопоннесской войны. Вернись Эсхил и впрямь той весной в Афины, ему не в чем было бы упрекнуть своих земляков, по крайней мере в том, что касается флота. После сицилийской катастрофы афиняне упорно наращивали свои силы, и теперь в их распоряжении имелось двести боевых кораблей. Благодаря освобождению рабов и предоставлению статуса гражданина иноземцам, проживающим в городе — шаг поистине революционный, — все они были укомплектованы исключительно жителями Афин. В свете того, что спартанцев по-прежнему финансировали персы, это имело чрезвычайное значение, афинский флот должен был быть самодостаточен.
Судов и людей хватало с избытком, а вот флотоводцы были наперечет. Стратеги, выигравшие недавние сражения, либо ушли в мир иной, либо не были переизбраны на свои должности, либо не желали (что можно понять) продолжать службу на море. Алкивиад пребывал в изгнании — в своей крепости на Мраморном море. Конон был попеременно то стратегом, то навархом, в свой актив он мог записать, конечно, отсутствие поражений, а также одну полупобеду на море — к сожалению, неполную (ведь в конечном итоге Калликратид запер его минувшим летом в митиленской бухте Лесбоса).
Семь лет прошло после тяжелого поражения в Большой бухте Сиракуз — поражения, после которого, казалось, владычеству Афин на море пришел конец. В условиях, когда, укрепившись на своей базе в Аттике, спартанцы постоянно досаждали городу своими набегами и одновременно проводили морские операции в Ионии и Геллеспонте, в мире воцарились жестокость и насилие. Один из новых афинских стратегов, личность на редкость воинственная, некто Филокл, захватил, по свидетельству очевидцев, в открытом море две вражеские триеры и побросал оба экипажа за борт на верную гибель. Он также стал печально известным своим предложением отсекать военнопленным правую руку (или, как утверждают некоторые, большой палец правой руки), дабы после выкупа или освобождения этот человек не мог больше взять весло или оружие и направить его против Афин. А если говорить о спартанцах, то об их популярном военачальнике Лисандре говорили, что он безо всякой жалости и причины истребляет в прибрежных городах мирное население.
Такого одаренного стратега и тактика, как Лисандр, у Спарты еще не было. Помимо того, это был человек необыкновенно осмотрительный и хитроумный. Это он ушел под Эфесом от прямого столкновения с Алкивиадом и, дождавшись, пока недалекий рулевой Антиох выйдет в открытое море, нанес ему там сокрушительный удар. Более, чем любой из самих афинских стратегов, Лисандр стал подлинным наследником Фемистокла, Формиона и Кимона. Подобно им, он отчетливо понимал, что успешный стратег не мучит себя угрызениями совести. «Детей обманывай, играя в бабки, — наставлял он, — а взрослых, клянясь в чем-то». Лисандр пользовался колоссальной популярностью и у своих греческих союзников, и у персидских владык. Именно по настоянию последних Лисандра назначили в этом году «советником» с прерогативами управления всеми военными действиями на море, потому что по спартанскому закону одно и то же лицо не могло занимать пост адмирала дважды.
С началом лета крупная эскадра под командой Лисандра, казалось, одновременно появлялась во всех частях Эгейского моря. Афинскому флоту, вновь избравшему главной своей базой Самос, никак не удавалось ни заставить его принять бой, ни предотвратить ударов по союзникам, которых осталось не так уж много. По сообщениям, доходящим до совсем растерявшихся афинян, Лисандр атаковал Родос, побережье Малой Азии, даже саму Аттику. Наконец, примерно в середине лета Конон и его соратники пришли к выводу, что Лисандр идет на север, к Геллеспонту. Туда же направились и афиняне, объединив предварительно все свои силы — 180 триер, государственный корабль «Парал» и более тридцати пяти тысяч гребцов и гоплитов. Командовали всем этим воинством шесть стратегов, в чью задачу входило любой ценой не позволить Лисандру перерезать торговые маршруты. Через месяц тяжело груженные зерном транспортные суда отправятся в свой обычный путь через Босфор и Геллеспонт. Совершенно очевидно, что спартанцы намереваются их захватить или как минимум не дать дойти до Пирея, как это уже однажды сделал Миндар в бытность свою флотоводцем. Афинские стратеги четко отдавали себе отчет в том, что сколь угодно мощный, пусть даже непобедимый флот не стоит ничего, если город лишится хлеба.
Пока афиняне добирались до Геллеспонта, Лисандр успел нанести свой первый удар. После недолгой осады он захватил Лампсак, дав находящимся там афинским гоплитам возможность эвакуировать жителей в обмен на быструю капитуляцию. Лампсак прикрывал северный вход в Геллеспонт, достигавший в это время года трех миль в ширину. Потеря этого города удар, конечно, чувствительный, но афиняне все же надеялись удержать там Лисандра, а еще было бы лучше выманить его в открытое море и навязать настоящее сражение, чтобы транспортные суда с зерном благополучно проследовали в Аттику. Запасшись провизией в Сесте, афинские триеры направились к Лампсаку. Корабли Лисандра спокойно покачивались внутри залива неровной формы, служившего городу чем-то вроде бухты, а крупный сухопутный отряд спартанцев патрулировал азиатский берег, не давая тут и мыши проскользнуть. Так что афинским стратегам пришлось искать место высадки на противоположном, европейском, берегу.
В те времена городов там не было. Пройдет еще немало лет, прежде чем греки построят Каллиполь («Прекрасный город») прямо напротив Лампсака. По прошествии веков Каллиполь переименуют в Галлиполи, или, на современный манер, Гелиболу, городок, расположенный на берегу красивой замкнутой бухты. Но в ту пору, когда афиняне собирались бросить вызов Лисандру, ничего подобного не было.
В отсутствие портового города афинянам требовались для их кораблей свободный берег и для сухопутных сил ровная площадка. Из-за сильных течений песчаные берега внутри самого Геллеспонта ровную линию образовать не могли, но сразу за выходом из пролива более чем на полторы мили в длину тянулась прекрасная песчаная коса. Омываемая водами Мраморного моря, она выходила на восток, в сторону Византия. Отсюда хорошо просматривался маршрут, которым пойдут торговые суда с зерном, да и корабли Лисандра можно перехватить, если он попытается продвинуться к Босфору. До Лампсака отсюда около шести миль, и высокий мыс на южной оконечности косы прикрывает позицию от наблюдателей Лисандра. Глубже расстилается просторная равнина, где могут разместиться тысячи гоплитов, а ручьи, сбегающие с гор, вполне удовлетворяют потребность в пресной воде. Собственно, они-то и дали имя этому месту — Эгоспотамы («Козья река»). Остановка в Сесте оказалась отнюдь не лишней, ибо еды здесь взять негде.
Недавние победы при Кизике и у Аргинусских островов укрепляли уверенность в своих силах, и афиняне принялись за дело уже на рассвете следующего дня: построили корабли в боевой порядок и двинулись к Лампсаку. Но морское сражение явно не входило в планы Лисандра. Впередсмотрящие не могли даже с уверенностью сказать, поднялись ли его люди на борт или нет. После многочасовой утомительной, против течения, гребли афиняне вынуждены были отказаться от надежды на сражение и поплыли назад. На следующий день повторилась точно та же картина. А затем и на третий, и на четвертый, и никаких признаков того, что Лисандр собирается выйти в открытое море и принять вызов могучего противника из Афин, все не было. Перед лицом столь явного, казалось бы, малодушия боевой дух афинян только поднимался, пусть даже запасы еды иссякали.
Случайным свидетелем этих повторяющихся изо дня в день маневров оказался один афинянин. Из хорошо укрепленного дома-крепости, расположенного в самом узком месте галлиполийского полуострова, открывалась отличная панорама всего морского пространства, от Эгоспотам до Лампсака. Алкивиад, пробыв в должности strategos autokrator — верховного главнокомандующего морских и сухопутных сил чуть более года, стал теперь заметной фигурой в здешних краях. Утешение, конечно, слабое, замена неравноценная, но, с другой стороны, Алкивиад все же полагал, что его здешний авторитет может сыграть немаловажную роль. Используя его, он рассчитывал возглавить флот, столь неожиданно приблизившийся к порогу его дома.
Оседлав коня, он отправился берегом к Эгоспотамам. Конон и другие стратеги дали ему возможность высказать свое мнение. Здесь, на открытой местности, говорил Алкивиад, афиняне подвергают себя опасности и уж точно не возьмут верх над противником без мощной поддержки с суши. Между тем два местных царька пообещали Алкивиаду отряд вооруженных фракийцев. Если переправить их на афинских триерах через Геллеспонт, они могут ударить по Лампсаку с тыла, в результате чего удастся либо победить спартанцев на суше, либо вынудить Лисандра принять сражение на море. Взамен он, Алкивиад, просит только одного — участия в руководстве военными действиями.
Предложение это стратегов не заинтересовало. Они слишком хорошо знали Алкивиада. Если его план провалится, собрание все равно возложит ответственность на них, как на лиц официальных. В случае же удачи вся слава достанется ему. Стратеги решительно попросили незваного гостя удалиться и более их не беспокоить. Уходя, Алкивиад дал им последний совет: лучше переместиться отсюда в Сест с его хорошо укрепленной бухтой, стенами и запасами пищи. На стратегов и это не произвело впечатления. «Командуем здесь мы» — таков был их ответ.
Алкивиаду заткнули рот. Афиняне явно вступают на самоубийственный путь. Он сел на лошадь и медленно поехал через лагерь, минуя палатки триерархов, длинный ряд повернутых к нему кормой триер, воинские бивуаки. Теперь Алкивиад был бесконечно далек от всей этой столь знакомой ему, столь родной атмосферы моря и моряков. Оставалось лишь возвращаться в свое убежище и наблюдать издали за предстоящей драмой.
В согласии с истинно демократическими нормами стратеги каждодневно сменяли друг друга на командном посту. Решив с самого начала, что нужен бой на море, они теперь не решались, судя по всему, изменить или скорректировать этот замысел. По-прежнему каждое утро они выводили корабли в море, и по-прежнему Лисандр никак не реагировал на этот вызов. Дисциплина тем временем начала ослабевать. По возвращении на берег экипажи погружались в дрему на полуденном солнце, или просто засыпали на песке, или, в поисках пищи, удалялись все дальше и дальше от судов. Да и сами чрезмерно самоуверенные стратеги в какой-то момент даже перестали выставлять часовых.
А ведь, к несчастью для афинян, наблюдал за ними не только Алкивиад. Каждый день два-три сторожевых корабля противника незаметно следовали за афинянами из Лампсака к Эгоспотамам, и покуда те сходили с кораблей, принимаясь за полдневную трапезу, издали пристально следили за ними. Лисандр же терпеливо ожидал сигнала, означающего, что афиняне удалились в глубь материка на слишком далекое расстояние, чтобы в случае атаки вовремя вернуться к берегу.
Разведчики носили отполированные до блеска бронзовые щиты, с помощью которых передавали сигналы друг другу и далее, в ставку Лисандра. Увидев на пятый день блеснувший на солнце щит, он понял, что час пробил: афинский лагерь опустел, триеры остались без присмотра. Лисандр немедленно снялся с места и направился к невысокому мысу Абарнис, расположенному, как и Лампсак, на азиатском берегу Геллеспонта. Тут пелопоннесцы сняли и перенесли на берег большие мачты и паруса — на тот случай, если удача в бою повернется к ним спиной и придется отступать. Лисандр понимал, что в случае поражения путь назад в Лампсак ему отрезан.
Дождавшись, пока экипажи, свободные от лишнего груза и готовые к бою, вернутся на борт, Лисандр подал знак сигнальщику. Над водной гладью прокатился грозный звук труб, и от берега отвалила целая армада кораблей. Матросы гребли ровно и мощно. Такого момента юные спартанцы ждали давно, можно сказать, с самого рождения. Надежда была на то, что они дойдут до Эгоспотам еще до того, как афиняне поймут, что происходит, и соберутся с силами. Главное теперь — скорость.
По указанию Лисандра рулевые повели триеры к никем не охраняемой южной стороне афинского лагеря. Там, за высоким мысом, экипажи незаметно сойдут на землю. Так и произошло. Спартанцы попрыгали с бортов и бросились к мысу. Заняв позицию на берегу, они либо атакуют афинский лагерь, либо (в случае если афинянам удастся отбить нападение) хотя бы закрепятся на европейском берегу. Дождавшись окончания высадки, Лисандр велел триерам возвращаться в море.
Появление передовых кораблей спартанцев стало полной неожиданностью для курсировавшего вдоль берега небольшого отряда афинян под командой молодого неукротимого стратега Филокла. Его триерахи и рулевые сразу поняли, что перед ними весь флот противника, и пустились в стремительное бегство. Между ними и берегом растянулась длинная вереница афинских кораблей, на борту которых не было сейчас ни одного человека.
Триеры Лисандра преследовали их по пятам. Обрушившись на кормовую часть ближайших к ним кораблей Филокла, они далее, подобно всепожирающему пламени, хлынули на берег в надежде покончить с противником одним ударом. Лисандр расположил людей, вооруженных абордажными крюками, на носу так, чтобы, дождавшись, пока рулевые, разворачивая триеры тарана в сторону берега, подойдут к мелководью, уцепить афинские суда и увести добычу в открытое море.
В афинском лагере возникла паника. Одни пытались удержать триеры, другие хотели перелезть через борт и там уже ввязаться в бой. Тем временем пелопоннесцы, не обращая внимания на своих же товарищей, взбиравшихся на корму, таранили носовые части афинских кораблей. Те, почти обезумев, пытались отвалить от берега, усилиями буквально двух-трех гребцов, которые, естественно, тут же становились легкой добычей противника. Тем временем Лисандр и его моряки сошли на берег и через разрывы в Деревянной стене кораблей проникли в афинский лагерь. Тут они соединились со спартанскими пехотинцами, что высадились на берег у мыса, и, подавляя слабые очаги сопротивления, окружали тысячи бегущих афинян. Действовали они решительно и четко, уйти удавалось единицам. В плену оказались десятки тысяч афинян; три тысячи, начиная с Филокла и других стратегов, будут казнены уже завтра. Стараниями осторожного и предусмотрительного Лисандра так называемое сражение при Эгоспотамах практически с самого начала превратилось в разгром. Война, тянувшаяся на протяжении жизни целого поколения, закончилась за какой-то час, фактически без всяких потерь со стороны спартанцев.
Уцелели лишь один афинский стратег да несколько экипажей. В тот день Конон находился на одном из своих флагманских кораблей и одним из первых заметил приближение вражеского флота. Вместе с еще восемью триерами ему удалось выйти в открытое море еще до того, как пелопоннесцы достигли того участка берега, что он прикрывал. В море к нему присоединился «Парал», которому тоже удалось вовремя собрать людей и избежать нападения. Выручить тысячи своих сограждан, запертых на берегу, где Лисандр завершал расправу над афинским флотом, он был бессилен. Оставалось надеяться только на спасение собственное и своих людей.
Держась как можно дальше от берега, Конон прошел мимо мыса Абарнис, где Лисандр оставил корабельную оснастку. И это была большая удача, дар небес, можно сказать. Афиняне бежали столь поспешно, что поставить мачты и развернуть паруса у них просто не оставалось времени, а долго в море без них не продержишься. Путь же предстоял не близкий. Высадившись на ровный берег, люди Конона быстро похватали то, что столь щедро оставили им спартанцы.
Здесь же Конон пересел на «Парал». Пиратский корабль с Милета — почтовое судно Лисандра, несущее весть об одержанной триумфальной победе в Спарту, скоро окажется у афинян за кормой. А когда о катастрофе у Козьей реки станет известно всем, для Конона и его спутников не останется ни одного безопасного порта. Выйдя из Геллеспонта, Конон в поисках убежища от спартанцев, да и гнева соотечественников повел свой маленький отряд в южные воды. Ему совершенно не хотелось кончать свои дни с чашей цикуты в руках. Но у командира «Парала» был свой священный долг сообщить о случившемся собранию. Расставшись с Кононом невдалеке от Трои, он продолжил свой путь в Афины через Эгейское море в одиночестве.
Годы спустя молодой Ксенофонт, ученик Сократа, вспоминал, как была воспринята в городе весть о поражении:
«“Парал” подошел к Афинам ночью. Новость передавали из уст в уста, слышался всеобщий стон, он зародился в Пирее, затем отозвался эхом в Длинной стене, наконец достиг города. В ту ночь не спал никто. Люди оплакивали павших, но еще больше — собственную судьбу. Они ожидали, что теперь с ними обойдутся так же, как раньше они сами обходились с другими».
Флота не осталось, и вместе с флотом ушла надежда.
Наутро на ногах был весь город. На экстренном собрании было решено заблокировать вход в две бухты — Зея и Мунихий (ныне опустевшие и никому не нужные) и открытой оставить только бухту Канфар — для приема грузов с зерном. Капитуляции афиняне предпочли осаду. Город готовился к появлению победителя — триумфатора Лисандра.
Но вместо него показались те, кто уцелел при Эгоспотамах, за ними — суда с афинскими гоплитами из Византия и Халкедона. По их словам, они сдались превосходящим силам спартанцев, но, к собственному удивлению, были отпущены с условием, что вернутся домой. Корабли прибывали один за другим, на улицах Афин толпились гоплиты, простые обыватели, торговцы — словом, все те, кто тоже был изгнан победителем из городов — бывших союзников Афин. Это входило в план Лисандра — пусть в Афинах будет как можно больше голодных ртов, тогда легче заставить город стать на колени. Он приказал казнить всех, кто попытается доставить в Афины продовольствие.
В кругу афинских союзников лишь жители острова Самоса, эти убежденные демократы, держались против Спарты еще какое-то время. В знак благодарности собрание предоставило им афинское гражданство. Догадайся оно поступить таким же образом по отношению к другим союзникам в годы расцвета Афин, судьба империи могла бы быть совершенно иной. Теперь же Лисандр поставил во все «освобожденные» греческие города, от Ионии до Босфора, своих сторонников, разместил там воинские части. Старая Афинская империя превратилась в новый, гигантский по своим размерам, спартанский домен. После чего победитель при Эгоспотамах повел свой флот на Эгину и приступил к осаде Афин.
Город продержался зиму, но в конце концов голод и отчаяние заставили людей сдаться. Весной афиняне открыли вход в Большую бухту, и Лисандр мог теперь пожинать плоды победы. Долгая борьба закончилась. Афиняне находились в состоянии войны со Спартой с перерывами пятьдесят пять лет, из них двадцать семь, едва ли не день в день, прошло с того момента, когда произошел конфликт, который Фукидид, а следом за ним и все остальные и назовут собственно Пелопоннесской войной.
Среди союзников Спарты коринфяне и фиванцы были первыми, кто потребовал, чтобы Афины были разрушены, а афиняне проданы в рабство. Но в ходе одного застолья, случившегося во время общего собрания городов-победителей, кто-то поднялся с места и пропел фрагмент известной песни хора из трагедии Эврипида «Электра». Великие завоевания Золотого века Афин стали теперь общим достоянием всех греков. Исполнение довело собравшихся до слез, и кровожадные планы сровнять город с землей были забыты. Богатыми и могучими Афины сделал их флот, но спасли их поэты.
В конечном итоге спартанцы пощадили город и горожан, но смели с лица земли все и вся, имеющее отношение к владычеству Афин на море. Демократии пришел конец. Отныне Афины будут управляться олигархией, состоящей из тридцати состоятельных граждан, которых будет отбирать лично Лисандр. Длинная стена вместе со всеми укреплениями Пирея должна быть разрушена. Сам флот, это ядро силы и славы Афин, усохнет до двадцати триер — наверное, в это число войдут священные суда «Парал» и «Саламиния», а также те, что носят имена десяти аттических фил. Отныне Афины не будут проводить независимую внешнюю политику, им предстоит следовать в фарватере Спарты — и на море и на суше.
День разрушения Большой стены Лисандр решил отметить празднованием в честь этого исторического события. Из города доставили музыкантов, не мужчин, развлекающих гребцов, но женщин, выступающих на пирах. В общем, спартанцы сносили под музыку и пьяные песни афинский оплот. С падением этого символа демократии и морской державы оказалась перерезанной пуповина, более полувека связывавшая Афины с морем.
Новые олигархи были не менее беспощадны, чем Лисандр. Эти Тридцать тиранов, как их скоро станут называть, почти сразу начали уничтожать все следы существования афинского флота. Пирейские эллинги, это чудо греческой архитектуры, строительство которых обошлось в тысячу талантов, были проданы за три таланта утилизаторам, которые их благополучно и уничтожили. А трибуну ораторов на Пниксе, которая всегда выходила на море, эта Тридцатка велела повернуть в противоположную сторону, подальше от опасной стихии, издавна питавшей своими соками афинскую морскую державу.
В весьма непродолжительное время тирания Тридцати сделалась настолько жестокой и беззаконной, что нашелся деятель, открыто выступивший против нее. Фрасибул был ветераном победоносных морских сражений при Киноссеме, Кизике, Абидосе и у Аргинусских островов. Убежденный противник тирании, этот бывший триерарх еще семь лет назад бросил вызов олигархам на Самосе. И вот теперь он вновь встал во главе оппонентов, избравших своей штаб-квартирой Пирей, этот давний оплот афинской демократии. Пусть береговые укрепления разорены, все равно тысячи афинян сплотились вокруг Фрасибула, чтобы дать отпор олигархической власти Тридцати. В результате даже сами спартанцы вынуждены были, после года с небольшим правления своих марионеток, прислушаться к голосу народа. Демократическое правление было восстановлено. А сумеет ли афинская демократия выстоять без кораблей и стен, это должно показать будущее.
Упадок старого порядка символизировали и две большие потери — ушли Сократ и Фукидид. Через пять лет после капитуляции Афин Сократу было предъявлено обвинение в ереси и совращении молодежи. На суде он эти обвинения отверг и, между прочим, напомнил присяжным о своем послужном списке, когда он воевал под началом Формиона и Ламаха. «Когда избранные вами стратеги, — говорил Сократ, — отдавали мне приказы в Потидее, Амфиполе и Делии, я всегда оставался на боевом посту и вместе с другими смотрел в лицо смерти. Потом, когда боги, как мне казалось, назначили мне вести жизнь философа, вопрошающего себя и других, разве было бы с моей стороны последовательно бросить этот новый пост из страха смерти или чего-то еще!» Говорил также Сократ и о роли, которую сыграл в суде над стратегами после событий у Аргинусских островов, когда он, бросив вызов позиции большинства, сохранил верность закону.
Суд, состоящий из 501 присяжного, приговорил Сократа к смертной казни, однако приведение приговора в исполнение было, вопреки обыкновению, отложено. За день до начала суда священная галера «Делия» отплыла в Делос для участия в ежегодном весеннем празднике Аполлона, а по закону до ее возвращения город не имеет права предать человека смерти. Так что Сократ оставался в тюрьме, проводя время в сочинении поэтических версий басен Эзопа, утешительных разговорах с семьей, долгих беседах с тюремщиком и философских диалогах с верными учениками. Жизненные сроки его растянулись благодаря тому, что из-за сильных ветров возвращение священной галеры задерживалось.
В самые последние дни Сократ подводил итоги своей жизни философа. В какой-то момент его ранние естественно-научные занятия уступили место страстному интересу к сути человеческой природы и добродетели. Заимствуя у афинских мореходов их знаменитую фразу, он назвал перемену курса deuteros plous — вторым путешествием. Попадая в штиль, моряки спускают паруса и берутся за весла. Точно так же и Сократ от мира природы перешел к миру человеческой души. Когда пришло сообщение, что «Делия» бросила якорь у мыса Сунион, отсрочке пришел конец. Вслед за многими иными, навлекшими на себя гнев афинян, Сократ выпил чашу с цикутой, походил немного и лег в ожидании смерти. Своих философских мыслей он не записывал, утверждая, что единственное, что он знает, что ничего не знает.
Историк Фукидид вернулся в Афины после двадцатилетней ссылки во Фракии. Здесь он продолжал описывать события Пелопоннесской войны, но умер (или, по некоторым предположениям, был убит), так и не закончив работы. Фукидид считал, что решающую роль в этой войне и ее итоге сыграли суда, деньги и морская мощь. Именно море неизменно оставалось истинным полем битвы, все поворотные моменты войны, по его утверждению, так или иначе связаны с морскими сражениями. Афиняне в основном следовали политике Перикла, а она заключалась в том, чтобы, как только возможно, избегать сражений на суше. Однако же спартанцы удивили всех, освоив со временем и вопреки предсказаниям того же Перикла искусство навигации.
Фукидид умер в убеждении, что война между Афинами и Спартой закончилась капитуляцией Афин и что длилась она двадцать семь лет. Он заблуждался. Противостояние не закончилось, Афины еще не были побеждены. Снести стены и покончить с любимыми триерами — этого, как выяснилось, недостаточно. Фукидид не принял в расчет неукротимый дух афинского народа. Афины были готовы пуститься в deuteros plous. В скором времени потрепанный государственный корабль еще раз — в последний раз — покинет стоянку и пустится в плавание.
Часть 5 Возрождение
Надо со смирением покоряться воле богов и мужественно встречать врага. Именно так всегда поступал народ Афин. И пусть ничто не воспрепятствует тому, чтобы так же было и впредь. Следует помнить и то, что Афины заслужили свою всемирную славу тем, что никогда не уступали насилию и положили на войны больше времени и трудов, нежели любое иное государство. Оттого и стал наш город величайшей силой в истории, силой, которая навсегда останется в памяти потомства, пусть даже сейчас (ведь все рожденное на свет подвластно тлению) приближается время, когда нам придется уступить.
Перикл. Из обращения к афинянам.
Глава 17
Передавая эстафету(397–371 годы до н. э.)
…Кто доблестен, дерзай,
Бездействуют лишь слабые и трусы.
Избороздить соленый путь веслом
И от меты ворочать… Нет, товарищ!
Эврипид. «Ифигения в Тавриде», пер. И.Анненского
После капитуляции города со всем его флотом восемь афинских триер под командой Конона еще оставались на свободе. Беглецы нашли убежище на Кипре, далеко за пределами досягаемости спартанцев. Высадились они у стен старинного города, само название которого порождало благоприятные ассоциации — Саламин. Его властитель-грек, царь Эвагор, был подданным царя Артаксеркса, однако тайно лелеял надежду освободить от персидского владычества весь Кипр. Эвагор гостеприимно встретил нежданных пришельцев и предложил кров всем полутора с лишним тысячам людей Конона. Это было все, что осталось от афинского флота. Но пусть мала была эта часть, пусть рухнул дом — свобода оставалась. А там, где теплится жизнь, сохраняется надежда.
Перевалив к этому времени за сорок, Конон мог подводить итоги своей десятилетней карьеры морского военачальника. Послужной список его был неоднозначен. При Эгоспотамах, и не только там, ему удалось уйти от участия в сражениях, в которых другие стратеги потеряли свой престиж, а кое-кто и жизнь. В ходе сицилийской экспедиции Конон повел свой отряд прикрывать Навпакт, избежав тем самым поражения и гибели при Сиракузах. Два года спустя он оказался в стороне от бунта моряков на Самосе — воевал тогда на Керкире. После того как рулевой Алкивиада столь бездарно проиграл бой у Нотия, именно Конон возглавил деморализованных моряков, но сам он не разделил с ними горечи поражения. Точно так же лишь издали, со стен Митилены, где его запер спартанский флот, наблюдал Конон бой у Аргинусских островов. Слава от него бежала, но способность вывернуться из любой ситуации за ним должен был признать всякий. И вот сейчас стремительное развитие событий на далеком Эгейском море перемещало Конона в самый эпицентр драмы.
Если бы среди спартанских лидеров царило согласие и если бы они с должным уважением относились к другим грекам, афинская демократия и морская мощь Афин рисковали уйти под воду, не оставив и следа. «Свободу грекам!» — таков всегда был боевой клич Спарты в ее войне с Афинами. Но не прошло и нескольких месяцев после окончания войны, как спартанцы отвернулись от тех самых союзников, благодаря которым и одержали в немалой степени победу. В обмен на персидское золото, которым щедро поддерживались ее морские операции, Спарта вернула Царю царей азиатские города. На островах хозяйничали свирепые наместники, поставленные Лисандром. Разлетевшиеся во все стороны осколки афинской морской империи были быстро перекованы в еще более суровый режим морской империи Спарты.
Покрывая расходы на содержание своего вновь построенного флота, спартанцы взимали дань, более чем вдвое превышающую установленную Аристидом Справедливым. При афинской власти союзники жаловались на то, что искать справедливости против злоупотреблений местного начальства всякий раз приходится в Афинах. Но при новом режиме, как выяснилось, апеллировать вообще некуда и не к кому. Спартанские власти, даже рядовые граждане Спарты с законом не считались, и ничто не могло обуздать их корысть, страсть к обогащению, природную склонность командовать.
Спартанская спесь была чревата тяжелыми последствиями для самой Спарты. Повторяющиеся набеги на сатрапов Малой Азии восстанавливали против нее старых союзников-персов. Более всего страдал от этих набегов Фарнабаз, чьи владения располагались вдоль побережья Геллеспонта. Этот пылкий вождь прославился тем, что однажды, не слезая с лошади, поплыл на помощь спартанцам, пытающимся не дать афинским триерам приблизиться к берегу. Так что над Спартой сгустились тучи, когда разъяренный Фарнабаз отправил гонца в Сузы с требованием положить конец творящемуся безобразию. Сделать это можно, полагал он, с помощью морской операции — она отвлечет спартанцев от действий на суше.
Царь Артаксеркс II, правнук Ксеркса, согласился и поставил во главе операции единственного опытного морского военачальника, находившегося в пределах досягаемости, — Конона, в чье распоряжение по его приказу поступают триеры с Кипра, а также из Киликии и Финикии. Лишь семь лет прошло с тех пор, как один персидский владыка взял на свое обеспечение моряков Лисандра, сражавшихся при Эгоспотамах. Теперь афинянин Конон в одночасье вынырнул из тьмы изгнанничества на авансцену новой военной кампании.
Города персидской империи исполняли распоряжение Царя царей довольно лениво — корабли снаряжались черепашьими темпами. Однако же когда весть о назначении Конона дошла до Афин, это прозвучало как удар грома. Под знамена Конона потянулись тысячи афинян. В сторону Кипра из Пирея двинулись все оставшиеся от былого величия триеры. Даже собрание решило послать несколько кораблей, которые, правда, были тут же (по совету Фрасибула) без особого шума отозваны, чтобы не раздражать воспротивившихся спартанцев. Некоторые граждане снаряжали триеры на собственные деньги и сажали за весла своих людей. Так в бухте Саламин на Кипре начал сосредоточиваться афинский «флот в изгнании».
А Конон все ждал прибытия персидских триер. Отсрочки и переносы растягивались на годы, и в конце концов Конон был вынужден обратиться непосредственно к персидскому царю, пребывавшему тогда в Вавилоне. Переговоры шли трудно. Гонцы носились от Конона к Артаксерксу и обратно. Дело упиралось в то, что афинянин отказывался преклонить колени перед Царем царей, без чего встреча не могла состояться. Тем не менее последний со вниманием отнесся к его претензиям. Больше того, Артаксеркс предложил Конону самому выбрать перса, который разделил бы с ним бремя командования. Выбор пал на Фарнабаза.
Лето уже клонилось к закату, когда Конон и Фарнабаз повели свой флот, состоящий почти из сотни триер, в западную часть Эгейского моря. Лагерь они разбили возле Книда, в северо-западном углу Малой Азии. Город прославился своим храмом Афродиты, богини, чье рождение из пены морской сделало ее покровительницей моряков. В прежние, лучшие времена Книд состоял в союзе с Афинами, но теперь стал основной базой спартанского флота. Конону противостоял спартанский наварх Пейсандр, обязанный своим положением не столько опыту, сколько родственным связям (он был зятем царя Спарты Агесила). Имея в своем распоряжении 85 триер, Пейсандр в количественном отношении немного уступал афинянам. Конон, чтобы заставить его принять сражение до прибытия подкреплений, решил прибегнуть к той же уловке, которая помогла Алкивиаду одержать победу при Кизике.
Конон начал с того, что на виду у спартанцев повел небольшой передовой отряд афинских триер через залив. Как он и рассчитывал, Пейсандр, повинуясь мгновенному побуждению, велел своим людям занять места на палубе и вышел ему наперерез. Завязалась схватка, и поначалу чаша весов вроде клонилась в сторону спартанцев. Но тут слева показался Фарнабаз с основными силами персидского флота, и над спартанцами нависла реальная угроза окружения. Бросив своего незадачливого флотоводца на произвол судьбы, корабли левого фланга развернулись и поплыли назад, к берегу. Фланг обнажился, афинские триеры окружили флагманский корабль Пейсандра, оттеснили его к берегу и уничтожили ударами таранов. Пейсандр погиб. Конон пустился в погоню за союзниками спартанцев и захватил пятьдесят триер вместе с пятьюстами матросами, большинство из которых позорно попрыгали в воду и пустились вплавь к берегу.
На самом-то деле честь победы при Книде принадлежит персидскому царю, но афиняне отпраздновали ее, как если бы это был их собственный триумф. Что касается Конона, то он одним-единственным удачным маневром заставил забыть о полупоражениях, преследовавших его всю жизнь. Через несколько дней наступило затмение солнца, показавшееся символом конца спартанской талассократии. Морская империя, созданная Лисандром, просуществовала всего одиннадцать лет.
Конон и Фарнабаз без промедления направились в восточную часть Эгейского моря, освобождая по дороге греков от ненавистного владычества Спарты. К движению сопротивления примкнули множество городов и островов, вплоть до Лесбоса. На Самосе и в Эфесе граждане воздвигли бронзовые статуи Конону и его сыну Тимофею, славя таким образом своих спасителей как божественных героев. По совету Конона Фарнабаз заверил греков в том, что, если они по собственной воле выйдут из союза со Спартой, он будет уважать их традиционные формы правления и воздержится от устройства военных гарнизонов. Этот благородный шаг стимулировал отпадение еще большего количества городов от Спарты.
Персидско-афинский флот теперь свободно бороздил моря. Пользуясь теперешней дружбой, Конон и Фарнабаз повели свои корабли к Истму в Коринфе. Там, в храме Посейдона, навархи-победители застали держащих совет бывших союзников Спарты. Менее ста лет назад Спарта собрала тут своих приверженцев для совместной выработки плана сопротивления Ксерксу. За это время мир полностью перевернулся. Сатрап Фарнабаз убедил коринфян и фиванцев объявить войну Спарте, подкрепив свои аргументы изрядным количеством персидского золота. После чего засобирался назад в Азию, уверенный в том, что доставил Спарте немало неприятностей.
У Конона были на этот счет свои соображения. Он планировал продолжить военные действия в греческих водах, используя не только афинские, но и персидские суда. Денег не надо — поборы и контрибуции с покоренных городов покроют все расходы. И еще, Конон предложил переместить флот в Афины, ведь Пирей, если его, конечно, как следует укрепить, — надежная морская база. Фарнабазу предложение понравилось, и он передал Конону не только корабли, но и пятьдесят талантов — дар поистине царский — на строительство укреплений в Пирее. Не то чтобы сатрап испытывал особенно дружеские чувства к Афинам — ему просто хотелось примерно наказать Спарту. «Это для спартанцев настоящий удар, — сказал ему Конон. — Ты не просто делаешь для Афин то, за что они вечно будут тебе благодарны, ты еще и в самое сердце Спарты вгоняешь кол. Они теряют все, что стоило им таких жертв и трудов». Флагманский корабль Фарнабаза отошел от коринфского мола, а Конон, оставшись полновластным командующим объединенного флота, направился домой.
Еще до его возвращения афиняне приступили к восстановлению Длинной стены. Но работа эта, возможно, так и не была бы закончена, если бы не Конон с его персидскими деньгами на закупку материалов и оплату труда каменщиков и плотников. К тому же самое деятельное участие в возведении этих мощных укреплений приняли экипажи его кораблей — тысячи афинских граждан, проведших вдали от дома более десяти лет. А на собственные деньги Конон построил в Пирее храм Афродиты. Покровительница Книда, эта богиня была особенно близка его сердцу, и недаром он вместе с другими афинянами поклонялся ей как Афродите Эвплойе (Благополучное плавание).
Сто лет миновало с тех пор, как Фемистокл был избран архонтом и как начались работы по новым укреплениям Пирея. И вот при реставрации портовых сооружений обнажился фундамент, заложенный еще в те давние годы. Благодарные потомки давно уже перенесли в Афины прах великого человека из Азии, где он умер в изгнании. Отмечая восстановление Пирея, собрание почтило память героя Саламина: в его честь прямо на берегу бухты Канфар были поставлены мавзолей, алтарь и колонна. Один афинский поэт написал по этому случаю следующие строки:
Воздвигнув этот памятник основателю флота и герою Саламина, афиняне тем самым словно взяли на себя торжественное обязательство вернуть себе господство на море.
Правда, радовались возрождению морской мощи Афин отнюдь не все. Так, философ Платон убеждал своих учеников, что стенам «лучше бы и далее крошиться в недрах матери-земли». А в новой комедии Аристофана «Женщины в народном собрании» хор сетует на то, как трудно иметь дело с расколотым надвое общественным мнением. Множество граждан, скандирует хор, поддерживают идею строительства новых кораблей, но крестьяне и горожане-богачи против. Да и в реальной жизни сам Конон всячески призывал граждан удовлетвориться вновь обретенной свободой и стенами. А захватнические планы, остерегал он собрание, вынашивает человек, само имя которого — Фрасибул — означает «опасный советчик».
Тем временем этот самый советчик одержал в водах Геллеспонта еще одну победу над Спартой и вернул под крыло Афин Византий и некоторые другие города. И все же сроки старого поколения подходили к концу. «Женщины в народном собрании» — последняя пьеса Аристофана. Конон и Фрасибул, эти архитекторы афинского возрождения, ушли из жизни с разницей в четыре года: первый умер в ходе переговоров с персами, второй — в бою на реке Эвримедонт. Их прах был перенесен в Афины и захоронен на городском кладбище, рядом со Священной дорогой.
Бремя возрождения морской мощи Афин легло на плечи нового поколения стратегов. И они настолько успешно подтвердили претензии города на господство в Геллеспонте, Эгейском море и восточных территориях, что спартанцам пришлось обратиться за помощью к своему давнему покровителю — царю Персии. Раздраженный постоянными сварами на своих западных границах, Артаксеркс составил проект мирного договора и потребовал от всех греков принять его условия.
«Я, царь Артаксеркс, — говорилось в нем, — считаю справедливыми следующие установления. Города Азии, а если говорить об островах, Клазомены и Кипр, должны принадлежать мне. Другим греческим городам, большим и малым, дается право на самоуправление. Исключение составляют Лемнос, Имброс и Скирос, они, как и прежде, остаются за Афинами. Если одна из противоборствующих сторон откажется подписать мир на данных условиях, то я, вместе с другой, согласной на мир, объявляю ей войну на суше и на море, участвуя в ней кораблями и деньгами».
Не успели афиняне и другие греки клятвенно заверить спартанцев в своей лояльности, как те стали нарушать условия царского мира, осуществляя набеги на маленькие города и устанавливая там проспартанские режимы и даже оставляя свои военные гарнизоны. В конце концов один спартанский военачальник даже осуществил во главе десятитысячного отряда ночной налет на Пирей. Успеха он не достиг (рассвет застал медлительных спартанцев еще на марше, в нескольких милях от порта), но заставил афинян во всеуслышание заявить о подрывных действиях Спарты. Массивные ворота в Пирей, остававшиеся открытыми с тех пор, как в Сардах была принесена клятва мира, замкнулись, и Афины начали готовиться к войне.
В одиночестве они не остались. Двадцать шесть лет прошло с тех пор, как Спарта подчинила себе бывших союзников Афин. И вот теперь страх и ненависть к ней заставили их вновь искать дружбы с Афинами. Через год после неудачного нападения на Пирей образовалась конфедерация. По сути, это был Второй афинский союз, созданный по образу и подобию такого же, столетней давности, союза — Делосского (и также, подобно предшественнику, именуемый в свое время просто «Афины и их союзники»). Правда, на сей раз никаких поборов, никакой дани не предполагалось. Афиняне делали все возможное, чтобы избежать повторения старых ошибок, оказавших столь разрушительное воздействие на Делосский союз.
Тогда его участников объединило противостояние угрозе со стороны Персии. Новый же союз во всеуслышание объявил своим общим врагом Спарту. Хартия его гласила, что союз образуется для того, чтобы «заставить Спарту уважать свободу и независимость греков ради мира и безопасности своих территорий». Задачи показались столь привлекательными, что под знаменами союза объединились в конечном итоге порядка семидесяти городов. Это выглядело как жест доброй воли, как отпущение Афинам старых грехов. Город медленно поднимался с колен.
Гарантируя своим участникам защиту от спартанцев, хартия в то же время предохраняла их изнутри — от гегемонии Афин. Любой афинянин, имеющий землю на территории союзного города или претендующий на владение ею, отказывается от всех своих прав. Существовавшая прежде и вызывавшая столько нареканий практика колонизации чужедальних земель (так называемая «клерухия») при сохранении колонизатором афинского гражданства отныне объявляется незаконной. Для финансирования тех или иных начинаний союза Афины отныне взимают не дань, а налог, в размере одной сороковой стоимости грузов, проходящих через Пирей. Буквально каждая статья хартии пронизана новым духом либерализма. Да, афиняне явно не хотели во второй раз наступать на старые грабли и вновь становиться на путь притеснений и имперской политики, что один раз уже завел их в тупик. Теперь это был и впрямь во многом другой, более разумный народ, учитывающий опыт и собственных, и чужих бед — тех, что они навлекли на другие народы.
По хартии, флот должен состоять из 200 триер. На данный момент Афины имели в своем распоряжении 106 — разношерстная смесь из кораблей, приведенных домой Кононом, трофеев морских сражений со спартанцами, и судов, только что построенных в Пирее. Таким образом, Афины столкнулись с задачей построения нового флота. Им предстояло не только выйти на уровень Перикла, но и превзойти его, привлекая афинян более чем когда-либо к финансированию, организации и управлению флотом. Собрание исходило из того, что он обеспечит безопасность союзникам, возьмет под контроль торговые маршруты, пополнит казну, а помимо того предоставит новые рабочие места немалому количеству горожан. Итак, морская мощь и демократия вновь выступили в единстве.
Акватория бухты Зея была невелика, а замыслы собрания грандиозны. Ответственность за судостроение лежала теперь на совете, которому предстояло ежегодно назначать десять trieropoioi, то есть строителей триер. Совет работал в контакте с казначеем, распоряжающимся морскими фондами, и пятью флотскими инженерами, под руководством которых работали городские корабелы. Работы было так много, что члены совета обычно увенчивались золотыми коронами за успешное выполнение годового плана.
Строительные работы требовали древесины. Между тем в Аттике практически все леса были вырублены. Платон, озирая оголившиеся склоны холмов, окружающих город, отмечает, что таких деревьев, которые в годы его отцов использовались для строительства прочной кровли, давно уж нет. На смену лесам пришел вереск, дровосекам — пчеловоды. И как и предвидел Платон, перемены эти необратимы. В отсутствие деревьев дождь размывает почву, и грязь потоками устремляется в море. Безлесные скалистые холмы — а только такие и остались и сохранились поныне — «напоминают иссохшего до костей человека». Сведение лесов в древних Афинах — первый сигнал того, что природные ресурсы не неисчерпаемы.
Новый флот придется полностью строить из импортной древесины. Для размещения строящихся судов понадобится много места, и в бухте Зея начали перестраивать эллинги, увеличивая их площадь в ширину почти вдвое. Теперь в них способны поместиться, разделенные столбами, две триеры. Крыши новых эллингов настилаются из кафеля, блестящего на солнце словно мрамор.
Мощи возрожденного флота вскоре предстояло пройти первое испытание. Победа Конона при Книде — только начало, войну со спартанцами на море еще предстояло выиграть. Тяготы последней четверти столетия воспитали новое поколение исключительно одаренных военачальников во главе с Хабрием, Фокионом, сыном Конона Тимофеем и Ификратом. В Афинах был популярен эстафетный бег, только вместо палочки, как ныне, участники передавали друг другу горящий факел. Так вот, никогда еще не было у афинского флота столь сильной команды, готовой перехватить эстафету-факел во имя интересов нового Афинского союза. Их действия раз и навсегда разрешат долгий спор между двумя воюющими в Греции сторонами.
Хабрий, сын преуспевающего афинского триерарха и коннозаводчика, проявил особенный интерес к технической стороне флотского дела. Он изобрел приспособления, позволяющие триерам удерживаться на плаву в штормовых условиях, добавил лишнюю пару весел и поставил дополнительные щиты, полностью прикрывающие гребные рамы. Помимо того, Хабрий установил такие же рамы на берегу — здесь осваивали технику начинающие, не имеющие опыта гребцы. Как-то раз он плотно связал триеры по две — получилось нечто вроде катамарана, и это обмануло спартанских разведчиков, решивших, что у афинян вдвое меньше судов, чем они предполагали.
Через год после основания Второго морского союза приморских городов афиняне направили Хабрия прикрывать подходивший отряд кораблей с грузом зерна от спартанской эскадры, рыскавшей, на пиратский манер, у мыса Сунион. Заметив приближение Хабрия, спартанцы растворились в туманной дымке, и груз благополучно достиг Пирея. Пытаясь заставить спартанцев ввязаться в открытый бой, Хабрий двинулся на юг, в сторону покрытого холмами и зеленью, богатого виноградниками, миндалем и превосходным белым мрамором острова Наксос. Местные олигархи сохраняли верность Спарте, и Хабрий резонно предположил, что нападение на их стены заставит вражеский флот поспешить на выручку. И действительно, вскоре после того, как он спустил на берег осадные орудия, на горизонте показались спартанские корабли.
Помимо официальных заданий, у Хабрия был личный счет к спартанскому наварху Поллису. Хабрий тесно дружил с Платоном. Лет десять назад, когда философ отправился на Сицилию полюбоваться Этной, Поллис захватил его в плен и отправил на невольничий рынок в Эгину, где Платона должны были продать в рабство. Правда, друзьям удалось его выкупить, но нанесенное оскорбление все равно требовало отмщения.
Сражение при Наксосе должно было стать первым морским столкновением афинян и спартанцев после тридцатилетней давности схватки у Аргинусских островов. В отличие от эскадры Хабрия спартанский флот представлял собой смесь различных соединений, каждое со своей геральдикой. Прежде чем дать сигнал к выступлению, Хабрий велел триерархам снять с судов позолоченные изображения Афины, чтобы скрыть таким образом, пусть совсем ненадолго, государственную принадлежность флота. Экипажи у него были в бою не испытанные, и хотелось воспользоваться любым, самым малым шансом, чтобы уменьшить грозящую им опасность.
Противники сошлись на рассвете в широком проливе, отделяющем Наксос от близлежащего острова Парос. Поллис, словно косой, рассек левый фланг афинян. При этом погиб командовавший им стратег Кедон. Занятый отражением атаки противника в центре и справа, Хабрий приказал молодому триерарху Фокиону взять с собой с десяток кораблей и попытаться спасти что можно там, где управление было потеряно.
Изначальная четкость построения у противника утратилась, корабли беспорядочно сталкивались, как дуэлянты, один с другим, и спартанские впередсмотрящие и рулевые потеряли ориентир — непонятно, куда направлять удары своих таранов. Не видя знакомой символики — изображения Афины на носу корабля, — они с трудом отличали афинские суда от судов собственных союзников. Таким образом, Хабрий выиграл несколько драгоценных мгновений, и в результате, потеряв восемнадцать своих триер, ему удалось потопить двадцать четыре корабля противника — более трети спартанского флота.
Бросок молодого Фокиона на левый фланг окончательно склонил чашу весов в сторону афинян. Избегая разгрома, Поллис дал сигнал к отступлению. В такой ситуации Хабрию нетрудно было бы захватить трофеи, он, однако же, сделал другое — послал суда на выручку товарищам, цепляющимся за обломки кораблей и пытающимся вплавь добраться до берега. Три десятилетия миновало, а тень от Аргинусских островов все еще не рассеялась.
Таким образом, понеся определенные утраты, да и престиж подмочив, Поллис все же сохранил флот Спарты. А развить победу при Наксосе у Афин не хватало сил и средств. И тогда Хабрий вновь вспомнил о Фокионе, передав под начало двадцатишестилетнего героя двадцать триер и поставив перед ним тяжелую задачу собрать взносы с афинских союзников в Эгейском море. Фокион, человек разумный и прямой, заявил стратегу, что двадцать — это ни то ни се: для визита дружбы слишком много, для боевых действий слишком мало. Хабрий был вынужден согласиться, и от двадцати триер осталась одна. На ней Фокион и отправился в путь.
Произвел он на всех впечатление столь приятное, что участники союза не только дали денег, но и сформировали совместными усилиями военную эскадру, которую Фокиону предстояло отвести в Афины. Так началась его блестящая карьера. Благодарные афиняне будут из года в год выбирать его стратегом, и в конечном итоге количество таких избраний достигнет сорока пяти — больше, чем у Перикла.
Хабрий одержал свою выдающуюся победу шестнадцатого числа месяца боэдромиона, на второй день Элевсинских мистерий. Пока флот вел сражение близ Наксоса, горожане, откликаясь на зов глашатая: «Посвященные, в море», — бросались в воду, чтобы очиститься. Отныне и до конца жизни Хабрий будет в этот день торжественно обносить дома афинян чашей, полной вина. Точно так же ежегодные торжества в честь побед афинского флота при Наксосе и Саламине (эта последняя была одержана девятнадцатого боэдромиона) будут неотделимы от ежегодного ритуала мистического возрождения.
Эгейское море было очищено, но в западных водах все еще господствовала Спарта. Следующей весной собрание направило в Пелопоннес шестьдесят триер. Эстафетный факел командования принял Тимофей. Его экспедиция должна была предотвратить удары Спарты по членам союза и привлечь на сторону Афин новых союзников. Юность Тимофей провел на Кипре, вместе с отцом, Кононом, в изгнании. Тут, вдали от родного дома, он с ранних лет выработал и через всю жизнь пронес привычку легче сходиться с чужеземцами, чем с афинянами. Земляки видели в Тимофее невзрачного человечка, очевидно, не могущего похвастать физической силой, подобающей герою войны. Но недостаток мышечной массы у него с лихвой компенсировался умом, энергией и чувством собственного достоинства. Несравненное достижение Тимофея — двадцать четыре города, привлеченных в Афинский союз, притом без всяких видимых усилий, сделали его персонажем первой в мире политической карикатуры. Безымянный художник изобразил Тимофея в виде рыбака, задремавшего над своей сеткой для ловли раков, в то время как к ней подползают и падают один за другим города. А осеняет эту картину богиня удачи Тихе. Это она направляет раков в нужном направлении, пока Тимофей предается дреме.
Западный поход был первой самостоятельной морской операцией Тимофея. Ему быстро удалось склонить к союзу с Афинами Закинф, Кефаллению, Керкиру и даже несколько городов, удаленных от моря. Эта серия дипломатических побед представляла угрозу для Спарты даже большую, нежели любое количество побед афинян на море. Узнав, что спартанский флот подошел к острову Лефкада, Тимофей разбил лагерь на материке, напротив уединенного местечка под названием Алисия. Неровная береговая полоса невдалеке от храма Геракла была ему знакома по семейным преданиям. Тридцать восемь лет назад, во время сицилийской экспедиции, отец Тимофея Конон курсировал западными маршрутами, защищая союзников Афин от атак пелопоннесцев. Здесь, в Алисии, Конон распрощался с Демосфеном и Эвримедонтом, отправлявшимися на запад навстречу своей злой судьбе.
От спартанских лазутчиков Тимофея укрывал высокий гребень горы, а вот ему оттуда легко было разглядеть противника. Имея в своем распоряжении пятьдесят пять триер, спартанский флот количественно чуть уступал афинскому, но Тимофей знал, что на подходе подкрепления — десять триер, сопровождающих караван италийских торговых судов с зерном, и еще полдюжины идут из Амбракии, города на берегу Артского залива. Западные греки были непримиримыми врагами Афин еще со времен ранних кампаний Формиона. Тимофей решил нанести удар, упреждая появление этих сил.
День сражения совпал с афинским религиозным праздником Скира, отмечаемым ранним летом, в месяц скирофорион. Гирлянды для Скиры традиционно плетутся из мирта. Придавая большое значение моральному состоянию моряков, Тимофей отпустил их нарвать миртовых веток в окрестностях, чтобы потом украсить триеры зелеными венками. Таким образом, они оказываются посвящены богам, которых сегодня чествуют в далеких Афинах, — самой Афине Палладе, Посейдону и богу солнца Гелиосу.
Когда команда флагманского судна поднималась по веревочной лестнице на борт, кто-то чихнул. Сочтя это дурным предзнаменованием, рулевой велел остальным остановиться. Но Тимофей — не Никий, знамение — это одно, а план военной операции — совершенно другое. «Тебе что же, чудом кажется, — обратился он к чрезмерно суеверному рулевому, — что один из многих тысяч наших людей простудился?» Тот смущенно рассмеялся, и подъем продолжился.
Сначала Тимофей спустил на воду всего двадцать триер, другие оставались на берегу. Стоило этому крошечному отряду — курам на смех, сказали бы — обогнуть южную оконечность мыса и выйти в открытое море, как на него, словно ястреб на добычу, бросился весь спартанский флот. Пространства для маневра этому афинскому авангарду вполне хватало, но в планы Тимофея не входили классические diekplous или periplous. Напротив, он велел триерархам и рулевым сломать строй, а дальше действовать по своему усмотрению, лишь бы отвлечь спартанцев, однако не подставляясь под их тараны. Таким образом, разрозненные афинские суда заставили спартанцев броситься в погоню. Они ловко уклонялись от удара, рыскали из стороны в сторону, ускоряли ход, делая вид, что бегут, а потом его замедляли. Морская гладь к западу от Алисии превратилась в настоящий танцевальный зал.
Солнце уже стояло высоко. Противник явно выбивался из сил, весла поднимались и опускались все медленнее. Видя это, Тимофей велел трубить сигнал к отступлению. Афиняне ринулись к Алисии, спартанцы — за ними: разгоряченные, усталые и донельзя злые. И вот в этот момент сорок триер Тимофея, остававшихся в резерве, свежие и готовые к бою, появились из-за мыса.
Предвидеть результат было нетрудно. Афиняне в полной мере воспользовались преимуществами своей нерастраченной энергии и продуманной тактики стратегов, и их атака продолжалась до появления спартанского подкрепления. Столкнувшись с этой новой угрозой, Тимофей приказал некоторым из триерархов взять на буксир выведенные из строя суда и отвести их в сторону. Остальных он расположил вокруг них в виде гигантского полумесяца, прикрывающего своей дугой трофеи победителя, а рогами направленного на фланги, откуда могла последовать атака спартанцев. Сразу после того, как буксиры двинулись в путь, стали подаваться назад и остальные корабли, не отводя, однако, своих таранов, нацеленных на опешивших спартанцев. И хотя теперь у последних образовалось количественное превосходство, тактика отхода, придуманная Тимофеем, не позволила им продолжать бой и рассчитывать на трофеи.
Окончательно сокрушить морскую мощь Спарты предстояло другому афинскому стратегу. В отличие от своих товарищей Ификрат родился и вырос в бедной семье башмачника. В возрасте всего лишь двадцати лет незаурядные способности бойца позволили ему занять видное положение в ближайшем окружении Конона, когда тот сражался у Книда. Подобно Хабрию, Ификрат внес немало нового в тактику боевых действий. В частности, гоплитам, которые с переменным успехом сражались за Афины со времен Марафона, то есть целое столетие, он предпочитал легко вооруженные подвижные отряды — пелтасты, получившие свое название благодаря небольшим, без оправы, щитам — пелтам.
Равным образом он сыграл пионерскую роль в координации совместных наступательных действий морских и сухопутных сил. В ходе первой своей экспедиции в Геллеспонт Ификрат поставил ловушку «Троянский конь». Выглядело это так. Триеры Ификрата скрытно отошли от берега, заманивая таким образом чрезмерно уверенных в своих силах спартанских гоплитов на незащищенную позицию, где их в засаде поджидали пелтасты (вот он — Троянский конь), которые и нанесли противнику сокрушительный удар.
В другой раз примером Ификрату послужил не Гомер, а Эзоп с его басней про волка в овечьей шкуре. Когда выяснилось, что на Хиосе не так просто отличить друга от врага, он тайно переправил на берег небольшой отряд афинян. Затем украсил свои триеры спартанской символикой, велел триерархам надеть спартанские одежды и направил их в бухту. При виде предполагаемых союзников на берег хлынула толпа приверженцев Спарты. Тайное стало явным, и, воспользовавшись тем, что все эти люди не были вооружены, Ификрат без труда окружил их и пленил.
Пожалуй, такому блестящему и изобретательному военачальнику в Афинах было тесновато. Порой он перемещался с палубы своей флагманской триеры в Азию или северные воды Эгейского моря, где в общем-то пиратствовал. В благодарность за личные услуги, оказанные царю Македонии, тот официально усыновил его. А победы, одержанные во Фракии, и вовсе вознесли Ификрата на головокружительные высоты: он женился на сестре фракийского царя, последовав, таким образом, по стопам легендарного Мильтиада.
Своего сына Ификрат назвал Менесфеем — по имени царя древних Афин, изображенного в «Илиаде» доблестным монархом, приведшим пятьдесят кораблей к стенам Трои. У Гомера он отличается выдающимся умением верно расположить и вовремя направить куда нужно воинов в сражении — а такое мастерство Ификрат ценил особенно высоко. Прирожденный лидер, он полагал, что стратег — это ключевое звено любого военного соединения. «С потерей той или другой позиции, — рассуждал он, — армия слабеет и начинает хромать на одну ногу. Но с потерей стратега она перестает существовать». Любой бедняк-афинянин вполне мог усматривать в личности Ификрата воплощение афинской демократической мечты: благодаря собственным трудам сын сапожника поднялся к вершинам славы и богатства. Ификрат и сам не забывал, и другим не давал забыть о его более чем скромном происхождении. «Подумайте, кем я был, — говорил он, — и кем стал».
Один из наиболее почитаемых ныне стратегов города, Ификрат решил, что для успеха предстоящего западного похода имеющихся в его распоряжении военно-морских сил недостаточно, и потребовал новых кораблей так, как если бы это он командовал собранием, а не наоборот. Собрание кротко повиновалось. Тимофей, оказавшийся некогда в том же положении, был то ли слишком горд, то ли слишком принципиален, чтобы обращаться с подобными просьбами. Ификрат же в конце концов сформировал эскадру из семидесяти триер, включив в нее государственные корабли «Парал» и «Саламинию» и даже суда из отряда береговой охраны. Помимо того, он надавил на своих триерархов, чтобы те сами позаботились о подборе экипажей.
Целью Ификрата была Керкира, где спартанские флот и сухопутные силы осаждали демократически настроенных островитян. Он был преисполнен решимости достичь Керкиры в рекордно короткие сроки, а по дороге повысить дисциплину в его команде, добиться максимальной согласованности в действиях моряков. Грот-мачты он оставил в Пирее, словно намеревался столкнуться с противником в первый же день похода и далее сражаться изо дня в день. В таких условиях двенадцать тысяч гребцов вынуждены были трудиться без устали, и лишь изредка, когда задует попутный ветер, триеры подгоняли вперед еще и маленькие лодочные паруса.
И столь же упорно Ификрат муштровал рулевых и команды, обучая их распознавать сигналы и осуществлять боевые маневры на ходу, упрямо и твердо продвигаясь вперед. Ежедневные высадки на обед он превратил в подобие гонок, начинающихся еще в море и заканчивающихся на берегу, когда победители получают еду и напитки первыми. Во время таких остановок на триерах устанавливались короткие мачты, чтобы впередсмотрящие могли взбираться на них до верха и оттуда наблюдать за приближающимся противником. Иногда, в хорошую погоду, Ификрат выходил в море и после обеда. Тогда команды работали посменно: пока одни гребли, другие отдыхали прямо у себя на банках.
Об этой стремительно начавшейся военно-морской операции стало известно Ксенофонту, афинскому изгнаннику, проживавшему на ферме близ Олимпии, где он собирал материалы для исторического исследования — продолжения незаконченной работы Фукидида. Ксенофонт высоко оценил действия Ификрата на его пути в зону боевых действий. «Конечно, в таких маневрах и такой муштре, — пишет он, — нет ничего нового: обычная подготовка к морскому сражению. Но что выделяет Ификрата на общем фоне, так это то, что, столкнувшись с необходимостью как можно быстрей достичь места будущего сражения, он сумел сделать так, что ни скорость не мешала тактической выучке, ни занятия не замедлили продвижения вперед».
Слухи о приближении Ификрата не могли не достичь Керкиры, и, как только об этом стало известно, находившиеся на острове спартанцы поспешно сняли осаду и отошли в укромную бухту. Туда же проследовали и все шестьдесят спартанских триер. Так афиняне одержали победу без боя, одной лишь демонстрацией силы и решимости. Один тогдашний афинский политический деятель назвал государственный корабль «Парал» «большой народной дубиной». Благодаря Ификрату эта метафора с полным основанием может быть отнесена ко всему афинскому флоту.
Оставалось лишь провести некоторую зачистку. В сторону Керкиры из Сицилии направлялись десять сиракузских триер. Ификрату стало известно, что припозднившиеся корабли должны завершить свой долгий переход ночью. На островке, относительно недалеко от берега, сиракузцы зажгут сигнальный огонь, и если такой же огонь вспыхнет на мысе у северной оконечности Керкиры, то, стало быть, ситуацию на острове все еще контролируют спартанцы и утром сиракузцы поторопятся стать в ряды своих давних союзников.
Ификрат подвел к мысу двадцать своих триер и стал ждать. В какой-то момент темноту прорезала яркая вспышка. Ификрат немедленно откликнулся на сигнал и повел свой отряд к ничего не подозревающему противнику. К островку он подошел, когда небо на горизонте уже розовело, и всей силой обрушился на сиракузцев, сметая на своем пути и корабли, и экипажи. Униженный и опозоренный, их командующий покончил с собой. Этот небольшой и, в общем, малозначительный эпизод оказался — тогда этого никто еще не мог знать — последним морским боем в продолжительной войне Афин и Спарты. Правда, спартанскому флоту предстояло пережить еще одну катастрофу.
Через год после похода Ификрата на Керкиру, в Гелику, город на южном побережье Коринфского залива, прибыли десять триер из Спарты. Командовал ими тот самый Поллис, победу над которым три года назад одержали у Наксоса Хабрий и Фокион. И вот, пока спартанские корабли спокойно покачивались в водах залива, произошло странное явление: из города, в сторону близлежащей возвышенности, ринулись тучи змей, мышей и иных живых существ, в том числе и жуков.
Исход продолжался несколько дней, а на пятую ночь округу потрясло мощное землетрясение. Несколько часов спустя, когда уцелевшие в бедствии люди лихорадочно пытались спастись сами и спасти свои семьи, воды залива вздыбились, и гигантская волна, разрушая все на своем пути, смыла город с лица земли. К утру ни от него, ни от десяти спартанских триер во главе с Поллисом не осталось и следа. Лишь мелководная лагуна сохранилась, и местные паромщики уверяли, что еще в течение долгих лет они вынуждены были обходить полузатонувшую бронзовую статую Посейдона. Этот Потрясатель тверди земной упрямо не покидал своего старинного святилища, угрожая всему, что плавает по поверхности вод, своим трезубцем и словно напоминая, что именно здесь он нанес последний удар по спартанскому флоту.
Череда поражений на море и гигантский вал, поглотивший триеры в Гелике, совершенно деморализовали спартанцев. Следующим летом в Спарте появились гонцы из Афин с предложением мира. Посольство сопровождал популярный у афинян деятель по имени Каллистрат. До этого он командовал «Лампрой» («Лучезарная») и настолько устал от трудов на море, что предложил стратегу — командующему флотом невиданную сделку: если Ификрат просто отпустит его домой, то он, Каллистрат, обязуется либо собрать дополнительные средства на нужды флота, либо добиться мира со Спартой. И он сдержал данное слово.
«Все греческие города делятся на две части: одни на нашей стороне, другие на вашей, и в каждом городе, своим чередом, имеются проспартанская и проафинская партии. — Так, не обинуясь, говорил спартанцам Каллистрат, и прямота эта вызывала у спартанцев уважение. — Теперь представьте себе, если мы сделаемся друзьями, останется ли хоть малый уголок, откуда нам будет грозить беда? Подумайте, если вы примете нашу сторону, ни у кого не хватит силы и решимости грозить нам с суши; а если мы примем вашу сторону, никто не осмелится потревожить вас с моря».
Аргументы показались спартанцам разумными, они приняли условия, но, по сути, это было не чем иным, как подтверждением царского мирного договора пятнадцатилетней давности, за вычетом содержавшихся в нем угроз Артаксеркса. Однако логика событий последующих дней крепко связала этот договор с одним из важнейших поворотных моментов греческой истории. Спартанское превосходство на суше могло вот-вот рухнуть. И в своих рассуждениях Каллистрат упустил важный фактор: Фивы были готовы бросить вызов фаланге спартанских гоплитов. И мирный договор с Афинами на деле не мог помочь Спарте в противостоянии с новым противником. Когда две могучие армии сошлись близ города Левктры, фиванский стратег Эпаминоид нанес спартанцам, по словам Ксенофонта, удар, не уступающий силой таранному удару триеры.
Это сражение развеяло миф о непобедимости Спарты. Лишившись непродолжительного господства на море после событий под Левктрами, Спарта не могла больше претендовать на военное и моральное лидерство среди греческих городов. Дабы предотвратить ее будущие поползновения в этом смысле, Фивы предоставили свободу Мессении, плодородной местности на юго-западном побережье Пелопоннеса, издавна находившейся в ленной зависимости от Спарты. Впервые за долгие столетия Мессения вновь стала независимым государством, а изгнаннической судьбе многих поколений мессенцев, вынужденных жить в Навпакте, пришел конец.
Пелопоннесская война длилась двадцать семь лет и не решила ничего. Коринфская война, которую вели стратеги от Конона до Ификрата, продолжалась на протяжении жизни не одного поколения и навсегда изменила облик Греции. В исторической перспективе афиняне могли поздравить себя с окончательным триумфом над спартанцами в состязании, начавшемся сражением при Танагре еще во времена Делосского союза и окончившемся более восьмидесяти пяти лет спустя. Война ослабила оба города, и все же в конечном итоге афинская демократия, моральный дух и флотские традиции взяли верх.
Вновь обретенная морская мощь Афин стала свежей струей крови и для Золотого века города. Хабрий и Фокион были завсегдатаями лекций Платона в Академии. В то же самое время на другой стороне Афин, в Ликее, Тимофей брал уроки риторики у Исократа. Зять Фокиона скульптор Кефисодот изваял на агоре памятник богине мира Эйрене: она предстает счастливой матерью, держащей на руках своего сына (или, может, воспитанника) Плутоса — бога богатства. Другой скульптор, Пракситель, стал ярчайшей звездой афинского художественного ренессанса. Своей обнаженной Афродитой он поднял скульптуру на недосягаемые прежде высоты. Изваянная в мраморе, богиня смотрит из своего храма в Книде на залив, где Конон впервые пошатнул спартанскую гегемонию на море.
В самый разгар возрождения Афин, через восемь лет после заключения мира со Спартой, однажды ночью в городе зазвучала музыка лир и флейт и тьму разрезал ослепительный свет факелов. Это Тимофей выдавал свою дочь замуж за Менесфея, сына Ификрата. Пышно убранная свадебная колесница везла молодых от дверей дома невесты, которые Тимофей украсил лавровыми и оливковыми листьями. Ификрат, увенчанный короной из мирта, встречал процессию у своего дома. Рядом с ним стояла жена, царевна из северной части Греции, которая сама выходила замуж в одном из царских дворцов Фракии. Сейчас, приветствуя невесту, она держала в руках полыхающий факел. Осыпаемая орехами и сушеными фруктами, дочь Тимофея сошла с колесницы на землю, отведала по обычаю айвы и ступила в дом своей новой семьи. В крови ее детей сольются потоки крови трех величайших героев афинского флота — Конона, Тимофея и Ификрата. Одержанные ими победы позволили обрести, казалось бы, невозможное: Афины вновь восстали в сиянии античной славы.
Глава 18
Триеры Атлантиды (370–354 годы до н. э.)
Настанет день, и всех ваших воинов поглотит земля, как некогда поглотило навеки море остров Атлантиду.
Платон
Оглядываясь издали на возрожденный Золотой век Афин, неизменно упираешься взглядом в фигуру Платона. Этот философ, несомненно, обладал самым мощным интеллектом, когда-либо рожденным в этом городе, а возможно, вообще в мире. Подобно своему предшественнику Фукидиду, Платон полагал господство на море ключевым фактором афинской политики и истории. Со временем он стал самым красноречивым и яростным противником флота, правда, только в своих писаниях, но не в собрании.
Платон любил прослеживать все явления до самых истоков, однако его взгляд в прошлое Афин радикально отличался от идеологии патриотов-демагогов. Подвиг Тесея, убившего Минотавра и избавившего афинян от необходимости платить страшную дань этому мифическому существу, Платон комментирует следующим образом: «Лучше бы они и впредь из года в год посылали на съедение семь юношей, чем заниматься никому не нужным делом — строительством флота». Точно так же отвергал он распространенный взгляд на Фемистокла, Кимона и Перикла как на благодетелей народа. «Говорят, эти люди обеспечили величие нашему городу, — пишет Платон. — Но почему-то никто не хочет замечать, до чего прогнил он, и именно благодаря политике этих деятелей былых времен, оставлявших в забвении дисциплину и справедливость. Важнее для них были бухты, стапели, стены, взимание дани и прочая ерунда».
Враждебное отношение к флоту было у Платона отчасти наследственным, отчасти благоприобретенным. Его дядя Критий, этот богач-олигарх, возглавлял правительство Тридцати тиранов, так что Платон рос в среде, не приемлющей демократию и «морскую чернь». В отрочестве он стал одним из учеников Сократа — по преимуществу выходцев из аристократических и олигархических семей. Неприязнь к большинству была естественной для молодого человека, дядя которого погиб в ходе восстановления демократических порядков в Афинах, а учитель был приговорен к смерти судом, состоящим из его сограждан. Пережив эти две трагедии, Платон уехал из Афин на Сицилию, потом в Египет и занялся изучением исторического наследия и нравов отдаленных городов. Во время одной из поездок он как раз и стал жертвой оскорбительной выходки спартанского военачальника, местью за которую стала выигранная его другом Хабрием битва при Наксосе. По возвращении в Афины Платон основал в рощице аттического героя Академа, которую пересекает Священный путь, первую в мире академию.
При всей ненависти Платона к флоту, его знаменитые диалоги с Сократом изобилуют кораблями и морской символикой. В глазах Платона человеческая воля — это рулевое весло души; жизнь же человека подобна скольжению лодки, отваливающей от берега. Даже взгляд на космос выражен в морских терминах: «Этот свет — пояс небес, подобно канатам триеры, он удерживает весь движущийся свод».
А вот как, по Платону, боги управляли первыми людьми:
«Они не прибегали к ударам или физической силе, как пастухи, они действовали, как рулевые на корме судна, управляя нами и направляя наши души посредством весел убеждения».
Миссия же философа, как он говорит, заключается в том, чтобы «привести формы жизни в согласие с формами души. Так, фигурально выражаясь, приступая к строительству судна, я, естественно, прикидываю, как наилучшим образом провести корабль по морским просторам существования».
Почему философ никогда не станет во главе демократического государства?
«Истинный рулевой всегда должен учитывать время года, следить за звездным небом, исчислять скорость ветра, вообще заниматься всем, что относится к его ремеслу, — иначе настоящим водителем корабля ему не стать. Никакого искусства или знания, научающего, как правильно держать рулевое весло, с его точки зрения, не существует, и не важно, что об этом думают другие».
Подчеркивая ничтожество системы демократического правления, Платон прибегал к высокой образности государственного корабля. Разве же правильно будет, вопрошал он, даже с точки зрения простой безопасности, если неопытные пассажиры будут иметь равное право голоса с капитаном? И это отнюдь не просто академический вопрос. Когда Платону перевалило за семьдесят, Афины столкнулись с морским штормом, который грозил пробудить самые опасные имперские инстинкты города-государства.
Упадок спартанской мощи одним ударом подорвал сами основы, на которых стоял Второй морской союз. В положении о союзе провозглашалась его цель: защищать города-участники от агрессии Спарты. Теперь Спарта пала. От кого же защищаться? Периклу в свое время удалось сохранить Делосский союз даже после заключения мира с персидским царем. Афиняне нынешнего поколения также решили не искать оправданий: гегемония на море должна быть сохранена, независимо от того, покушается на нее Спарта или нет. К тому же на Эгейском море вовсю пиратствовали фессалийцы и фиванцы, и эти набеги, наносившие немалый ущерб торговле и особенно доставке зерна, служили для Афин лишним аргументом в пользу укрепления союза. При строительстве империи так случается нередко: заклятый враг оборачивается добрым другом.
Союзников по-прежнему преследовал призрак старых имперских Афин — безжалостного, кровожадного грабителя, ведь, несмотря на клятвенное обещание укреплять основы свободы и справедливости, Афины вновь принялись дрейфовать в сторону империи. Презирая устав союза, афиняне, как и в прежние недобрые времена, посылали в некоторые города и на островные территории своих наместников, а иногда и целые военные гарнизоны. Помимо того, испытывая недостаток средств для оплаты морских экспедиций, собрание вынуждало своих стратегов обирать нейтралов и даже союзников. Афины бесцеремонно вмешивались во внутренние дела других государств и все чаще использовали флот для решения задач, не имеющих ничего общего с интересами союза.
Нарастающая волна насилия грозила свести на нет те блага, которые союз все еще приносил своим членам и грекам в целом. Афинский флот был на море чем-то вроде жандарма, он не давал разгуляться пиратам и защищал маленькие города от агрессии со стороны сильных соседей. Афинский морской суд обеспечивал быстрое и справедливое рассмотрение дел всем и каждому. Следует отметить, что осуществлялось все это безвозмездно, оплаты, как в имперские времена, афиняне за свои услуги не требовали.
Для того чтобы Афины имели возможность содержать флот, не прибегая к взиманию дани, один гражданин по имени Периандр предложил осуществить крупную финансовую и административную реформу института триерархов. Он по собственному опыту знал, сколь нелегкое это дело набрать команду и оснастить корабль, он сам командовал на пару с другим гражданином триерой с красноречивым именем «Эгесо» («Руководство»). Согласно этой реформе, образуется группа из не менее чем тысячи двухсот афинян — потенциальных вкладчиков фонда триерархов. Большинство из них и в море никогда не выйдут. Список, составленный Периандром, состоял исключительно из преуспевающих людей и включал даже богатых наследниц. Эти тысяча двести делились на шестьдесят симморий (совкладчиков). Городу идея понравилась, предложение стало законом, и отныне в море выходило шестьдесят судов, по одной триере из каждой симмории.
При всех последующих просчетах афинян немалому научили те беды, которые они навлекли на других, как, впрочем, и собственные несчастья. Нельзя, скажем, даже представить себе, чтобы во времена Платона собрание могло обречь на смерть или на продажу в рабство население целого города, как это случалось при жизни Сократа. Афины проделали большой путь, чтобы избавиться от имперской спеси. По иронии судьбы, этот новый либеральный дух поощрял и бунты, и налеты противников. Союзники не любили афинян, но теперь они и не боялись их.
Буря разразилась через четырнадцать лет после заключения мира со Спартой, когда вместе с Хиосом, Родосом и Косом из союза вышел и Византий. Это бунт вынудил Афины отправить на его подавление шестьдесят триер во главе с Хабрием. Почти двадцать лет миновало с тех пор, как он столкнулся со спартанским флотом близ Наксоса, но боевой дух все еще горел в груди ветерана. Встретив нежелание повстанческого флота выйти из бухты Хиоса и принять сражение в открытом море, он приказал рулевому идти во внутренние воды. Триерархи других судов, однако же, заколебались, не последовали за ним, и, окруженный судами противника, Хабрий оказался отрезан от основных сил своей эскадры. Его флагманскую триеру протаранили, сквозь пролом хлынула вода, гребцы попрыгали за борт, за ними лучники и гоплиты. Все поплыли назад, где у входа в бухту бездействовали десятки афинских триер. Хабрий, облаченный в доспехи, оставался на фордеке, явно не отдавая себе отчета в том, что вперед вырвался только его корабль, да и на нем остается едва ли не он один. Он дрался до тех пор, пока триера медленно не пошла ко дну: старый воин — но афинянин! — против целого флота. Стоило нападавшим добраться до фордека, как Хабрий свалился замертво. Афиняне признали поражение, потеряв ровно одно судно и одного человека.
После столь обескураживающего начала дела в Союзнической войне шли все хуже и хуже. Унизительное поражение Афин на Хиосе только подстегнуло бунтарские настроения вчерашних союзников. Их корабли рыскали по Эгейскому морю, нападая, сокрушая и угрожая островам, мимо которых проходят суда, груженные зерном. Афины послали еще шестьдесят триер во главе с группой стратегов, в том числе Тимофеем, Ификратом, Менесфеем и бывшим наемником Харесом. Столкновение произошло неподалеку от местечка под названием Эмбата. Харес атаковал повстанцев, в то время как другие стратеги оставались на берегу. Дул сильный ветер, по морю гуляли высокие волны, суда разметало, как щепки. По возвращении в Афины Харес обвинил соратников в том, что они не выполнили свой долг. Тимофею собрание назначило выплатить колоссальный штраф — сто талантов — случай в афинской истории беспрецедентный. После суда и обвинительного приговора стратеги ушли в отставку, а кое-кто навсегда покинул город.
Так, оказавшись на грани национальной катастрофы, афиняне потеряли лучших военачальников столетия, словно выплеснули воду из стакана. И это в то время, когда Византий готов был запереть Босфор, а персидский царь грозился послать в Эгейское море на помощь повстанцам триста триер. Приближался кризис. Из Хиоса и других, охваченных восстанием городов и островов, в Афины прибыли послы — следовало обсудить ближайшее будущее. Перед Афинами была альтернатива — заключить мир и отказаться от имперских амбиций либо, следом за многими поколениями предшественников, вернуться на поле боя. На этом, кстати, настаивали иные демагоги. Но крупнейшие мыслители Академии и Ликея[9] были едины во мнении, что дальнейшая борьба за владычество на море чревата для Афин смертельной опасностью.
Собрание примирилось с неизбежным. Впрочем, имея в виду масштаб противостоящих им в Союзнической войне сил, а равно недостаток средств и кадровый голод, у Афин и выбора-то, по существу, не было. Город официально признал независимость и автономию Хиоса, Византия, Родоса и Коса. Это означало, что дверь на выход из Второго морского союза открыта и для других союзников Афин. Эта война продолжалась всего два года, человеческих жертв она принесла немного, но итог был горек. Афинам случалось проигрывать, и они всегда брали реванш; но к позору не привыкли.
В эту беспокойную пору Платон и его современники, выражая свои опасения и предлагая различные способы решения проблем, часто тянулись к перу. Движение за мир нашло своего приверженца в лице учителя риторики Исократа. Достигнув двадцати одного года, он впервые принял участие в собрании, где слушал выступления Алкивиада и Никия, призывавших к началу сицилийской экспедиции. В год сражения у Аргинусских островов и суда над стратегами ему исполнилось тридцать. Сейчас, в возрасте восьмидесяти одного года, Исократ выразил свои мысли в речи «О мире».
«Я утверждаю, что нам следует заключить мир, — возглашал он, — не только с гражданами Хиоса, Родоса, Византия и Коса, но со всем человечеством». Владычество на море — заразная болезнь. Аргументируя этот тезис, Исократ ссылался на печальный опыт некогда могучей Спарты. Ее древняя конституция, выдержавшая в своей монолитной твердости бури семи столетий, распалась на куски за какие-то три десятка лет господства на море. Талассократия — это гетера , шлюха, ублажающая высшее сословие, — сколь неотразимая внешне, столь и смертельно опасная для любого из своих клиентов.
Ксенофонт, еще одна звезда афинского ренессанса, направил письмо согражданам из Коринфа, куда удалился в добровольное изгнание. Оно было обнародовано под названием «Порой» («Доходы»). На протяжении полувека пребывания вдали от Афин Ксенофонт завершил историческое исследование, начатое Фукидидом, а также описал свой поход в Персию в составе греческой армии в книге под названием «Анабасис». Озвученный им клич воинов: Таласса! Таласса! («Море! Море!») — звучал в ушах каждого читателя. Ксенофонт любил порядок и практическую мудрость. Афиняне, считал он, могут набить сундуки серебром и не грабить при этом союзников, создав новый тип флота — торговый. Потратившись на строительство торговых судов, можно будет потом сдавать их внаем, как сдают рудники и иные объекты общественной собственности. Судовладельцев же, приносящих доход городу, следует поощрять строительством новых гостиниц — тогда они охотнее будут ездить в Афины — и предоставлением мест в первых рядах театрального зрительного зала. В конце концов афиняне согласились с Ксенофонтом в том, что следует вновь начать разработки в серебряных рудниках Лавриона, однако что касается торгового флота, он так и остался голубой мечтой старого ветерана.
Примерно в то же самое время, когда Исократ и Ксенофонт призывали покончить с морской империей, Платон начал цикл диалогов, в которых ненасытная жажда господства на море будет переведена в космический контекст. В диалогах «Тимей» и «Критий» он воспроизвел историю войны между империей — владычицей морей и небольшим, но населенным доблестными людьми государством, которое полагается исключительно на свои сухопутные силы. Столица морской державы построена на вершине и склонах холма, располагающегося в пяти милях от моря. Суда ее швартуются в трех закругленной формы бухтах последовательно уменьшающегося размера. В тех, что поменьше, теснятся многочисленные триеры, а в самой большой стоят торговые суда, доставляющие в порт товары со всего света. Бухты и крепость огибает длинная стена с башнями и воротами.
Люди, правящие этой морской империей, обладали плодородными землями, но, одержимые жадностью и тщеславием, покушались и на чужое богатство, в том числе на соседние острова и простирающиеся за ними материковые пространства. В какой-то момент они добились господства над водами и побережьем половины Средиземноморья. Однако в итоге утратили честь и достоинство. Как изъясняется Платон, «лишь тем, кто не понимает, в чем состоит истинное счастье, они казались благословенной и процветающей расой. А на деле отличались лишь скаредностью и неправедной силой».
Спесивый и преуспевающий город на море настигло возмездие, осуществленное народом сухопутной державы, что всегда жил в скромности, простоте и праведности. Люди этого города были далеки от мореплавания и торговых интересов. Их государством управляла элита — воины, среди которых женщин было не меньше, чем мужчин. Они жили отдельно от низших слоев общества, ручным трудом не занимались и все свое время отдавали заботам о безопасности государства. Личной собственности у этих воинов не было, все принадлежало всем, и даже трапезные у них были общими. Мужество и достоинство поставили их во главе всех остальных греков, охотно признававших первенство этих людей.
Вопреки видимости Платон отнюдь не занимался ревизией истории Пелопоннесской войны. Свою морскую державу Афинами он не называет, как не называет спартанцами противостоящих им доблестных воинов. Напротив, из его рассказов можно умозаключить, что континентальная страна — это на самом деле первобытные Афины, такие, какими они были «до потопа», а морская держава — это исчезнувший материк или остров по имени Атлантида. В рассказе Платона о войне между Атлантидой и Афинами амальгама мифа и исторической реальности становится космической аллегорией на тему зла морских сил.
Развернул эту аллегорию Платон в одном из своих сократовских диалогов.
В день Панафиней Сократ встречается с тремя друзьями, и у них завязывается разговор. Среди собеседников Сократа — дядя Платона Критий и, уж чего меньше всего можно было ожидать, Гермократ, отчаянный патриот Сиракуз, тот самый, что организовал в городе сопротивление афинской эскадре. Объединяло эти две исторические фигуры только одно — нелюбовь к афинскому флоту. Предметом их беседы с Сократом стал идеальный город — сюжет еще одного, более раннего диалога Платона — «Республики». Сократ утверждает, что простого определения мало: покажите мне ваш идеальный город в действии, в борьбе за выживание. Тут его прерывает Гермократ, предлагая, чтобы Критий пересказал историю, которой поделился вчера, когда Сократа не было: давнюю историю из времен, когда Афины, в ту пору истинно идеальное государство, отважно бросили вызов могучей Атлантиде.
Критий поясняет, что эту историю, остальным грекам неведомую, поведал ему дед, услышавший ее от законодателя Солона, которому, в свою очередь, ее рассказали в одном из храмов дельты Нила египетские жрецы. Оказалось, что о происхождении Афин они знают больше, чем сам Солон.
«Множество великих и чудесных деяний, касающихся вашего города, — по словам жрецов, — запечатлено в наших папирусах. Но одна и славой, и величием превосходит все остальное. Ибо повествуется в ней о том, как одна могучая держава самовластно пошла против всей Европы и Азии, а ваш город остановил ее».
Десять тысяч лет назад за Геркулесовыми столпами находился огромный остров, превосходящий своими размерами Азию и Африку, вместе взятые. Звался этот остров Атлантидой. Отсюда, если идти на запад, можно добраться до других островов, а в конце концов до материка на противоположной стороне океана. Когда боги делили между собой мир земной, Посейдон выбрал Атлантиду. В южной части острова раскинулась просторная, на триста миль вдоль берега и на двести в глубину, равнина прямоугольной формы — поистине рай земной, ибо от пронзительных северных ветров ее со всех сторон защищала высокая горная гряда. Посейдон женился на местной девушке Клейто и ради ее безопасности окружил находившийся невдалеке от побережья холм тремя кольцами водных каналов. Первого из своих десяти сыновей родители назвали Атлантом, по имени которого и остров именуется Землей Атланта, или Атлантидой, и океан — Атлантическим. Посейдон разделил остров между сыновьями, но владыкой над ним поставил первенца. Атланты были рождены работать на земле, они усердно вгрызались в землю, производили глину, добывали руду, трудились в каменоломнях.
И еще эти люди были мореходами. Посейдоновы кольца-каналы стали бухтами. При всем своем природном богатстве, Атлантида ввозила из других стран товары и драгоценности. Атлантический флот насчитывал тысячу двести триер, располагавшихся попарно в тоннелях, высеченных в скале. Поблизости хранилось все необходимое флотское хозяйство. Центральная равнина представляла собой нечто вроде решетки, разрезанной каналами на шестьдесят частей. Каждый район был обязан поставлять флоту по четыре гребца, два гоплита, два стропальщика, два пращника и три копьеметателя. Атлантида, как государство, была прежде всего и в первую очередь нацелена на ведение войны.
Поначалу атланты были людьми благородными, жившими долго и добродетельно, но затем погрязли в алчности, роскоши, гордыне и пришли к вырождению. Зевс решил покарать их за спесь. Имея в своем распоряжении мощный флот, атланты и без того уже захватили близлежащие острова, но этого им показалось мало, и вот, побуждаемые Зевсом, они направили свои корабли против народов Средиземноморья. Ничто не могло их остановить. В Африке атлантические флот и армия дошли до Египта, а в Европе до центральной Италии. В конечном итоге они столкнулись с афинянами — вожаками греческого союза.
Если Посейдон высказал претензии на Атлантиду, Афина и ее брат Гефест потребовали в свое распоряжение Аттику. По сравнению с Атлантидой страна эта была невеликая, но с превосходным климатом, плодородной почвой и богатыми природными ресурсами. Убоявшись атлантической армады, союзники бросили афинян, и тем пришлось сражаться с врагом в одиночку. Благодаря силе, доблести, военной выучке сражение они выиграли, а затем и освободили все порабощенные Атлантидой страны. Так закатилась звезда первой в мире морской империи. Но история, поведанная египетскими жрецами, на том не заканчивается. Мощные землетрясения и потопы накрыли воинов первобытных Афин; они же поглотили Атлантиду.
Следов ее существования у других античных авторов, греческих либо египетских, не обнаруживается. У Платона есть множество подробностей и деталей, связывающих эту мифологическую морскую державу с талассократиями, известными современным ему грекам. У Миноса, царя Крита, этого первого повелителя морей, Платон позаимствовал тотемический культ принесения в жертву быка. Число 1200 — столько было триер в Атлантиде — приводит на память не только ровно такое же количество кораблей, построенных относительно недавно по инициативе Периандра, но и перечень судов Агамемнона (1184), и великую армаду Ксеркса (1207). Кругообразные гавани, окаймляющие круглый остров, воссоздают образ Карфагена, а ненасытная страсть атлантов к роскоши — Коринф. Далее, в Афинах и Сиракузах, триеры, как и в Атлантиде, располагались в эллингах попарно. Ну а землетрясение и гигантский водяной вал, поглотивший Атлантиду, напоминают о недавней катастрофе в Гелике, где большая волна накрыла спартанские триеры во главе с адмиралом Поллисом, положив тем самым конец господству Спарты на море.
Быть может, и само имя, что Платон дал своему острову-материку, навеяно еще одним сходным историческим катаклизмом. Он родился примерно тогда же, когда ураган, пронесшийся над Эвбейским заливом, расколол надвое островок Аталанта; вызванная им огромная волна подняла на воздух пришвартованную у берега афинскую триеру и зашвырнула ее в самый центр городка. От «Аталанты» только один шаг до североафриканского племени «атлантов», о котором говорится у Геродота, а также до Атласских гор и Атлантического океана (все эти названия возникли задолго до того, как Платон придумал свою Атлантиду). Таким образом, перемешав миф, историю, географию, а заодно дав волю своей богатой фантазии, Платон создал образ древней талассократии как предтечи всех последующих морских держав и представил ее трагическую судьбу как назидание грядущим поколениям. Морская мощь порождает высокомерие, а боги карают высокомерие гибелью.
И все-таки прежде всего Атлантида — это аллегория Афин. Выдавая воображаемое за действительное, Платон расчленил на части город своего времени и скрепил их деталями царства Посейдона и триерами, принадлежащими «истинным Афинам», где господствуют богиня Афина, Гефест и традиционные добродетели. Противопоставляя свои истинные Афины Атлантиде, философ воплощал мечту — видение, в котором лучшее в Афинах превозмогает соблазны морского богатства и морской мощи. Атлантида же — образ всего худшего, что есть в Афинах, и гибель острова — это предупреждение афинянам — современникам философа.
Греки последующих поколений предали забвению нравственные заповеди Платона и принялись отыскивать следы Атлантиды на географических картах и в античной истории. Быть может, Атлантида — это на самом деле Троя? Или остров Схерия — домашнее гнездо мореходов-феакийцев, о которых рассказывается в «Одиссее»? Со временем миф об Атлантиде оторвался от имени Платона и зажил собственной насыщенной жизнью. Местоположение Атлантиды стало предметом интереса и жарких споров людей, которые и слова из «Тимея» или «Крития» не прочитали. Затонувший континент чему только не уподобляли — острову вулканического происхождения Фера в Эгейском море, Криту, Гельголанду в Северном море, даже Бимини на Багамах. Но вот ученик Платона Аристотель, судя по всему, видел в Атлантиде не историческую реальность, а плод поэтического воображения. То, что он говорил о таких порождениях художественной фантазии автора, может быть с особенным основанием отнесено к Атлантиде: «Тот, кто воздвиг ее, ее же и разрушил».
Но Аристотель заблуждался. Атлантида существовала в действительности, ее можно было ясно различить из Акрополя. Чтобы оказаться в ней, достаточно спуститься вдоль Длинной стены к морю, в Пирей, этот шумный перекресток морских путей и морской торговли. Затем, обойдя склон холма Мунихия и спустившись по лабиринту улиц, проложенных Гипподамом, попадаешь на берег бухты Зея, где стоят двойные эллинги — пристанище афинского флота. Пройдут века, бухта сольется с открытым морем, и берег оно поглотит, а развалины старинного порта будут смутно отражаться в морской воде. Здесь бьется сердце темных видений Платона.
И это — Атлантида.
Глава 19
Голос флота (354–339 годы до н. э.)
Когда пловцов несут порывы ветра, —
Два рулевых и два ума рулю
Не придадут движенья, даже если
Их больше двух искусных, их толпа,
Но одного ум самовластный,
Будь даже слабее, в чертогах и градах
Сила людей. В воле единой спасенье.
Эврипид. «Андромаха», пер. И.Анненского
В то же самое время, как Платон, не жалея сил, старался отвратить сограждан от моря, один незаметный гражданин начинал кампанию по возрождению гордости Афин своим морским могуществом. Демосфен из Пайании обладал только одним даром, позволявшим ему выступать в качестве певца афинского флота: это был гений риторики. При этом он всю жизнь пылал патриотическим жаром, а ведь на его время Афинам выпало противостояние самому могущественному из врагов, каких только знало человечество. Угроза пришла из северной Греции, где македонский царь Филипп быстрыми темпами строил свою империю. Само собой, его завоевания на суше задевали интересы Афин с их господством на море. Неустанно, раз за разом, в каждой очередной речи Демосфен напоминал согражданам о нависшей над ними угрозе. Страсть к реформированию флота, как и ненависть к Филиппу порождали речи такой силы, что они сделались классикой еще при жизни оратора — даже недруги Демосфена признавали это.
Тернистый путь привел его на трибуну оратора. Детство ему досталось одинокое. Худосочный мальчик, да к тому же еще и заика, он так ни с кем и не сблизился на борцовских состязаниях или на охоте. Отец Демосфена умер, когда ему было всего семь лет, и с тех пор он жил дома с матерью и сестрой. Со стороны могло показаться, что мальчику очень не хватает товарищей-сверстников, но на самом деле у него был один постоянный спутник, человек из прошлого, близкий ему по духу, — Фукидид. Историк умер три десятка лет назад, но его взволнованный голос все еще звучал эхом в Афинах. Рассказы Фукидида о событиях Пелопоннесской войны, об опасных приключениях и эпических по своим масштабам битвах воспламеняли воображение Демосфена. Жадно листая страницы книги Фукидида, Демосфен погружался во времена, когда Афины пребывали в блеске славы, их флот был непобедим, а его предводители выглядели настоящими гигантами. Демосфен восемь раз, с первой строки до последней, перечитал «Историю Пелопоннесской войны». Некоторые части книги он знал наизусть.
Отец оставил ему в наследство имущество на четырнадцать талантов, часть которого составляла мастерская по производству ножей и мечей. Таким образом, по достижении совершеннолетия — восемнадцать Демосфену исполнилось через пять лет после окончательного заключения мира между Афинами и Спартой — он должен был стать финансово независимым человеком. Но все оказалось далеко не так просто. Как выяснилось, трое опекунов, упомянутых в завещании отца, либо украли, либо промотали большую часть наследства. Из четырнадцати завещанных Демосфену талантов, в деньгах или недвижимости, осталось чуть больше одного. При этом растратчики скрыли свои махинации, включив подопечного в категорию граждан, выплачивающих самые высокие налоги, — в возрасте семнадцати лет он уже числился триерархом и частично оплатил снаряжение триеры. Двое из этих опекунов были кузенами Демосфена, но невзирая на родство он все равно подал на них в суд.
Дело тянулось в течение двух лет, и все это время Демосфен неустанно готовился к судебному заседанию. По традиции граждане выступали в свою защиту сами, хотя речи для них сочиняли профессиональные ораторы. Демосфен, человек в высшей степени самокритичный, отдавал себе отчет в том, что впечатление он производит неважное. С физической хилостью или привычной замкнутостью он ничего поделать не мог, зато, слушая речь актеров и выступления ораторов, понял, что поставить себе голос и произношение в состоянии. Демосфен выходил на берег моря и долгими часами расхаживал, заставляя себя говорить так, чтобы голос на заглушали ни свист ветра, ни шум волны. В борьбе с природным заиканием он клал в рот гальку и, катая камешки под языком, говорил и говорил, стремясь достичь максимально ясного звучания слов. Вдали же от берега, поднимаясь то пешком, то бегом по склону холма, Демосфен произносил речи. Жилистые ноги работают, узкая грудь ходуном ходит, а он не умолкает — и в конце концов, пусть и задыхаясь, изъясняется четко и ясно. Демосфен унаследовал характерный для истинных афинян соревновательный дух, но обратил его не на спортивные состязания, а на публичные выступления.
Демосфен решил сам написать свое выступление на суде. Лучшие мастера этого дела заламывают такие деньги, каких у него просто нет. К тому же долгие годы учителем красноречия был у него поистине выдающийся ритор. Прилежное чтение Фукидида стало для Демосфена началом великой школы ораторского искусства: Перикл, произносящий надгробную речь; Формион, обращающийся к своим взбунтовавшимся воинам; Алкивиад, призывающий афинян: вперед, на Сицилию! Никий, увещевающий несчастных заложников Сиракуз перед решающим сражением. У Фукидида Демосфен перенял стиль сосредоточенный, аналитический, но вместе с тем живой и страстный: сочетание четких мыслей и ярко изложенных фактов.
Надо полагать, для опекунов — людей не бедных и влиятельных, с устоявшейся репутацией — стало настоящим шоком, когда суд вынес решение в пользу зеленого, всего-то двадцати лет от роду, неоперившегося истца. Это была его первая победа, которая, к сожалению, подобно многим последующим, ничего ему не дала. Опекуны стали маневрировать, прибегая к различным средствам, как законным, так и незаконным. В конце концов Демосфен остался ни с чем.
Нет, все же не совсем ни с чем. В ходе судебного расследования он набрался опыта и мастерства, которые в будущем могли принести постоянный доход. И действительно, карьера его началась с профессионального сочинения речей на заказ. Афины есть Афины, и это занятие неизбежно самым тесным образом связало его с миром моря. По поводу исполнения своего долга и снаряжения триер в судебные дрязги постоянно ввязывались триерархи. В специальные суды Пирея, в чью юрисдикцию входило разрешение споров, касающихся транспортных перевозок, грузов, инвестиций, закладных и так далее, то и дело обращались негоцианты и судовладельцы. Демосфену приходилось копаться в сводах законов, указов и исторических прецедентов, а также погружаться в такие таинственные сферы, как цены на весла и изменение процентной ставки после появления на небе звезды Арктур. Он засиживался за работой за полночь, и у молодого человека денег на масло для лампы уходило больше, чем на вино.
По мере того как росли доходы Демосфена, увеличивались и амбиции. Он мечтал о том, что его дар аргументации и убеждения будет востребован всем городом. В то время Тимофей устанавливал аванпосты по всему побережью Эгейского моря и Геллеспонта: афинская страсть к авантюре и захватничеству являла себя во всей красе. Достигнув тридцатилетия, Демосфен получит право выступать с трибуны собрания. Но кто его будет слушать? Выдающиеся деятели прошлого сначала зарабатывали себе имя каким-либо делом или конкретным действием, а уж затем становились признанными лидерами общества.
В возрасте двадцати четырех лет, человек уже состоятельный и сам себя сделавший, Демосфен выставил свою кандидатуру на пост триерарха. Но он не хотел никакого формального назначения вроде того, что имело место семь лет назад, когда ему, помимо его собственной воли, навязали статус триерарха. Сейчас он намерен снарядить триеру за собственный счет и вывести ее в море. Старинный приятель его отца, некто Кефисодот, недавно был избран стратегом. Собрание поставило его во главе отряда из десяти триер с заданием осуществить операцию, по всем признакам и трудную, и опасную. Демосфен вызвался принять в ней участие.
Триерархам повседневно приходилось иметь дело с самыми различными афинскими гражданами и институтами: стратегами, казначеями, банкирами; с собранием, советом, комитетами по финансам и инспекции; торговцами, носильщиками, писцами; наконец, с людьми моря, от мастера-рулевого, задающего курс триере, до последнего сигнальщика, трубящего побудку. Город поставлял триерарху только пустой корпус с веслами и оборудованием — состояние судна зависело от добросовестности его предшественника — и еще немного денег на то, чтобы нанять людей. Все остальное зависело от самого триерарха-получателя.
Демосфен отдался делу со страстью неофита. В то время как другие триерархи перекладывали непростое дело подготовки к походу на подрядчиков, он сам заходил в темный эллинг, где покоилась «его» триера, и сам занимался приведением ее в порядок. Посулив премиальные, ему удалось привлечь к себе в команду лучших пирейских гребцов. Энтузиазм его оказался заразительным, и раньше остальных девяти триер его корабль, оснащенный всем, чем положено, уже был спущен на воду. После этого он немедленно направился к молу в бухте Канфар, где инспекторы самым тщательным образом проверили состояние парусов, обшивки, весел и якорей.
Все оказалось в полном порядке, и Демосфен с законным торжеством принял золотую корону, или венец, полагающийся тому, кто первым подойдет к молу. Затем последовало захватывающее испытание: полностью оснащенная триера выходит в открытое море, устремляясь в неведомое. По традиции на эту церемонию собралось поглазеть множество жителей Афин и Пирея. Рулевой и команда выполнили все необходимые маневры. На корме горделиво возвышалась фигура молодого триерарха — самого неопытного человека на борту. Действия его людей произвели на Кефисодота такое приятное впечатление, что он избрал триеру Демосфена своим флагманским судном. Так что новобранцу выпала честь стоять рядом со стратегом во время предшествующих выходу в море жертвоприношений и возлияний.
Отряду предстояло пройти историческим морским путем, ведущим через Геллеспонт, Мраморное море и Босфор в Черное море. Стараниями Тимофея, одержавшего в самое последнее время несколько важных побед, Афины получили в свое распоряжение вход в Геллеспонт и сейчас стремились восстановить контроль над другими участками маршрута. Этому могло поспособствовать заключение договора с царем Фракии. По расчетам Демосфена, решение этой задачи принесло бы Афинам примерно двести талантов пошлины в год. Однако, отправляясь на Черное море, он преследовал и семейные интересы — на излете Пелопоннесской войны его дед по материнской линии командовал афинским гарнизоном в Крыму.
Демосфен стал триерархом в надежде набраться опыта. И не пожалел. За время, проведенное на море, он увидел могучий Геллеспонт с его островами и изломанной линией легендарных берегов, большие, обнесенные стенами города, отряды наемников, стал свидетелем морских столкновений, внезапных нападений на мирно завтракающих людей, например, и всяких пиратских вылазок. Одновременно у юного идеалиста открылись глаза на истинное состояние военно-морских сил Афин: слабая подготовка экипажей, чрезмерная самоуверенность, и при этом афиняне уступают неприятелю и в военном сражении, и за столом переговоров.
После целого ряда злоключений Кефисодот вернулся в Афины с договором, подписанным фракийским царем. Однако собрание сочло этот документ столь неудовлетворительным, что даже оштрафовало стратега на пять талантов. Призвали к суду и самого Демосфена; сделали это некоторые завистливые триерархи, оспаривавшие его право на золотой венец. Таким образом, поход завершился обвинениями и контробвинениями, при этом начальники от своих сограждан дома претерпели больше, чем от неприятелей за морями.
Демосфен был в достаточной степени реалистом, он проглотил эту горькую пилюлю, но надежды на исправление афинян не оставил. Он считал, что ему ведомы пути нового возвеличения города, и, как некогда Фемистокл, рассчитывал сам обрести величие в ходе этого подъема. Еще шесть лет должно пройти, прежде чем у него появится возможность поделиться своими идеями с трибуны собрания. Пока же Демосфен продолжал писать речи и время от времени выходил в море добровольцем-триерархом. Участвовал, например, в эбвейской экспедиции Тимофея и вскоре по завершении этой головокружительной кампании включил свое имя в список тех, кто хочет выступить на собрании, когда будут обсуждаться дела флота.
Демосфен хорошо видел, что в течение шести лет, прошедших после его первой экспедиции, дела города только ухудшались. Афины потерпели поражение на море от своих взбунтовавшихся союзников. Триеры гнили на стапелях, и речи о боевых действиях идти не могло. Казначей судостроительного фонда сбежал с деньгами, предназначенными на постройку новых триер. А когда македонский царь Филипп нападал на прибрежные города в северной части Эгейского моря, афинский флот неизменно опаздывал к месту событий.
В одной из басен Эзопа пассажиры тонущего корабля неожиданно оказываются в море. Один из уцелевших афинян взывает о помощи к богам. Другой, плывущий к берегу, слышит мольбу и, не останавливаясь, бросает: «Молись, непременно молись! Но не забывай при этом работать руками». Вот таким мудрым советчиком, напоминающим афинянам, что боги помогают тем, кто сам себе помогает, и хотел бы стать Демосфен.
Настало утро, когда он поднялся на Пникс, чтобы произнести свою дебютную речь. Как положено, герольд вызвал на трибуну Демосфена из Пайании, филы Пандион. Еще поднимаясь на бему (трехступенчатое подножие для оратора), он беззвучно проговаривал свою речь. В нее он вложил себя целиком. Демосфен был намерен призвать ни больше ни меньше, как к тому, чтобы полностью реконструировать афинский флот. Вообще в ту пору весь город продувал ветер перемен. Исократ только что написал свой трактат «О мире», Ксенофонт сформулировал свою позицию в эссе «Доходы», а Платон, рисуя в своем воображении исчезнувшие материки, обдумывал в Академии архитектуру идеального государства. Однако же никто из опытных мужей не отваживался подняться на Пникс и выступить перед собранием, которое Платон назвал однажды «огромным зверем». Стоя впервые на том месте, где некогда Фемистокл, Кимон и Перикл делали историю, Демосфен начал: «Те, кто чтит своих предтечей, о народ Афин, не кажется ли вам…»
Как это войдет у него далее в привычку, Демосфен сразу взял быка за рога: как Афинам подготовиться к войне наилучшим образом? С его точки зрения, самая очевидная угроза исходит от Персии. Тем не менее он призывает сограждан не к началу новой войны, а к тому, чтобы предотвратить будущие войны; а сделать это можно лишь путем укрепления флота: «С моей точки зрения, для ведения любой войны прежде всего потребны корабли, деньги и прочные позиции в мире, а в этом смысле персидский царь подготовлен лучше, чем мы». Для того чтобы изменить это положение, Демосфен выдвигает на рассмотрение собрания развернутый план перестройки симморий — групп состоятельных граждан, обеспечивающих своими средствами нужды флота (речь впоследствии стала известна именно под таким названием — «О симмориях»). Он предлагает увеличить число граждан, непосредственно финансирующих флот, с тысячи двухсот, на чем некогда настаивал Периандр, до двух тысяч. Все это — будущие триерархи. Так возникнет народный флот с подлинно неограниченными возможностями.
Увеличенный до трехсот триер, он будет поделен на двадцать отрядов по пятнадцать триер в каждом, приписанных к одному из вновь создаваемых комитетов. Далее оратор сказал об экипировке и командах и предложил расписать флот по филам, так чтобы в случае необходимости любой гражданин знал, к какому из эллингов направляться. Заключая речь, Демосфен вновь обратил внимание на персов: «Царю царей известно, что наши предки, имея в своем распоряжении двести триер, разбили его флот, состоящий из тысячи кораблей. Представьте теперь, что он почувствует, услышав, что теперь у нас триста судов, готовых в любой момент выйти в море. В такой ситуации даже безумец вряд ли рискнет вызвать недовольство Афин». В самом конце Демосфен призвал афинян быть достойными своих отцов не на словах, а на деле.
Бури аплодисментов не последовало, как не последовало и немедленного голосования по плану, над которым он так усердно трудился. Пока Демосфен возвращался на свое место, машина собрания продолжала работать, и внимание людей переключилось на другие предметы. Пожалуй, подражая Фукидиду, он чрезмерно увлекся статистикой и анализом фактуры; пожалуй, хладнокровно призывая сограждан сохранять спокойствие и заняться строительством флота, он слишком доверился Периклу. И уж точно можно было найти более действенный раздражитель, нежели отдаленная угроза, исходящая от царя Артаксеркса III. Так или иначе, Демосфен был вынужден с горечью признать, что первая попытка не удалась.
Через три года Демосфен вернулся на бему. На сей раз, презирая порядок, он оттеснил других ораторов и выступил первым. Такая настойчивость была продиктована новыми угрозами афинским кораблям и даже всему побережью Аттики, исходящими из одного и того же источника: Македония; царь Филипп. Это именно он стоял за похищением афинских граждан с островов Лемнос и Имброс, и за пиратскими нападениями на афинские морские грузы, и за перехватами транспортных судов, направляющихся в Пирей с южной оконечности Эвбеи. Более того, какой-то из его летучих отрядов высадился на берегу Марафона и нагло взял на буксир один из афинских священных кораблей. Так у Демосфена появился столь желанный козырь.
Эта речь, направленная против македонского царя, стала первой в ряду язвительных и жестких выступлений, которые впоследствии стали именоваться «филиппиками». В ту пору царю был только тридцать один год, на два меньше, чем оратору. И детство им обоим досталось одинаково трудное и туманное. Отец Филиппа царь Аминта III был настолько не уверен в прочности своего положения, что усыновил афинского стратега Ификрата в надежде, что этот сильный человек подставит плечо молодому Филиппу, да и другим членам царской семьи. Юношей Филипп оказался в заложниках у фиванцев, которые недавно одержали победу над фалангой Спарты в сражении при Левктрах. И опять-таки подобно Демосфену, Филипп обернул несчастье себе на пользу. Находясь в Фивах, он исчерпывающе изучил тактику ведения боя спартанцами, а когда вернулся к себе на родину, в горы, и взошел на престол, создал наводящую на всех ужас фалангу, вооруженную пиками длиной в восемнадцать футов. В результате постоянных тренировок неорганизованная толпа вооруженных людей превратилась в хорошо обученную профессиональную армию, которая, невзирая ни на расстояния, ни на время года, преданно служила своему господину — царю Филиппу.
Физически с ним не мог сравниться никто из македонцев. В сражении царь всегда оказывался в самом пекле, в результате чего повредил плечо, получил несколько ранений и потерял глаз. Человек воинственный и решительный, он тем не менее при случае, когда ему было выгодно, мог прибегнуть и к дипломатии, и к интриге, и к обману. Он поставил себе цель — править Македонской империей, простирающейся от Дуная на юг до самого сердца Греции. И единственным серьезным препятствием в осуществлении этой цели оставался афинский флот.
Подъему Македонии отчасти способствовали сами Афины, ибо флот постоянно испытывал потребность в древесине. Еще Платон писал о том, как скудеет Аттика лесами и какое разрушительное воздействие это оказывает на сельскую местность. Со сведением растительности на склонах холмов почва подвергается эрозии, и в море устремляются потоки грязи. Утраты Афин работают на руку македонянам. Годами афинское серебро увеличивало благосостояние северного государства, которое поставляло Афинам нужные им для строительства флота дуб, сосну и ель. И теперь Филипп мог в любой момент остановить эти поставки. Доныне Афины почти не обращали внимания на растущую мощь Македонии и исключительные способности царя Филиппа. В первой же своей филиппике Демосфен попытался заставить сограждан открыть глаза.
Македонский царь столь значительно окреп, взывал Демосфен к собранию, не потому, что он так уж силен сам по себе, но потому, что мы сами ленивы и слабы. На празднества и религиозные обряды афиняне никогда не жалели и не жалеют денег и тщательно к ним готовятся, а вот все, что касается боеготовности, пришло в полное расстройство. Чтобы остановить Филиппа, настаивал Демосфен, необходимо срочно снарядить и направить в море два флота.
Один — небольшой отряд амфибий с гоплитами и всадниками на борту в сопровождении десяти быстроходных триер. Он будет находиться в северных водах круглый год, на постоянном дежурстве: «Если нам не хочется воевать с Филиппом там, придется воевать здесь, рядом с домом». Надо установить очередность, граждане будут работать на веслах посменно. В летнее время этот северный флот будет избегать открытых столкновений с македонской фалангой, вместо этого будет нечто вроде непрерывной партизанской войны, а зимой он расположится на трех островах: со Скитоса хорошо просматриваются подходы к Аттике, с Лемноса — происходящее в Геллеспонте, с Фасоса — богатые рудниками районы севера. Согласно подсчетам Демосфена, содержание такого флота обойдется в девяносто талантов, они пойдут на скромное жалованье, которое всякий будет рад увеличить за счет морской добычи. «А если выяснится, что это не так, — продолжал Демосфен, — я сам готов пойти добровольцем на море и претерпеть самые тяжкие страдания».
Второй флот, состоящий из пятидесяти триер, расположится в Пирее, готовый выйти в море в любой момент. «Надо зарубить себе на носу, что в случае необходимости мы, граждане, сами поднимемся на борт и возьмемся за весла». Триеры будут оборудованы для транспортировки конников и гоплитов, так что сухопутный отряд всегда можно будет в кратчайшие сроки перебросить в нужное место, как при Фермопилах. «Предложение мое дерзкое, — признавал Демосфен, — но в самое ближайшее время его можно испытать на практике, а судьями будете вы сами». Всю жизнь он истово и трогательно верил в то, что зло можно победить, бросив ему вызов действием.
Получилось, однако, иначе. Ведь всего несколько лет прошло с тех пор, как поднявший было вновь голову афинский империализм был осужден после войны с Византием, Хиосом, Косом и Родосом. Исократ, этот убежденный сторонник мира, заклеймил Демосфена как поджигателя войны и паникера. Множеству влиятельных граждан совсем не по душе была идея далеких походов и полицейских операций в Эгейском море, тем более в одиночку, без поддержки или почти без поддержки союзников. А кое-кто просто находился на содержании у Филиппа и охотно готов был плеснуть маслом на воды, возмущенные речами Демосфена. Среди этих последних лидирующее положение занимал симпатичный на вид актер по имени Эсхин. Остальные же афиняне точь-в-точь отвечали характеристике Демосфена — эгоцентрики. Лекарство, предлагаемое Демосфеном, было для них хуже, чем сама болезнь, которую он хотел бы исцелить.
Словом, никаких решительных мер, направленных против царя Македонии, афиняне не приняли. Как-то Демосфен сравнил их с не очень умелым участником кулачных боев, который всегда отстает от противника — в данном случае Филиппа — на одно движение. Вместо того чтобы уйти от очередного выпада, они защищают то место, куда уже пришелся последний удар. На протяжении ближайших десяти лет Афины продолжали беспорядочно противостоять действиям Филиппа как на военном, так и на дипломатическом фронтах. Собрание оказалось настолько сбито ими с толку, что даже не сумело подготовиться должным образом, когда стало известно, что Филипп задумал предать огню пирейский порт. Поджигателя успели перехватить лишь в самый последний момент, и все равно речи Демосфена никак не могли сплотить горожан для отражения общей угрозы.
Вместе с еще девятью афинскими посланниками Демосфен направился на север, ко двору царя Филиппа, где наконец-то лицом к лицу встретился со своим давним заклятым противником. Обоим тогда было под сорок, и оба прославились своим красноречием. Но во всем остальном общительный, сильно пьющий, покрытый полученными в боях шрамами и на удивление обаятельный монарх был полной противоположностью тощему нервному афинянину. Как младший в делегации Демосфен говорил последним. Наверное, это был единственный, по крайней мере из тех, что сохранились в анналах, случай, когда речь его звучала сбивчиво. На территории Филиппа, остро ощущая исходящую от царя энергетику, он чувствовал себя неуверенно.
Демосфен с самого начала говорил о том, что главная угроза существованию Афин исходит не от Филиппа, но от самих жителей города. Девяностолетний Исократ направил Филиппу послание, в котором призывал его объединить под своей дланью все греческие города. А потом ему следует собрать в единый кулак военные силы Афин и других греков и пойти большой войной на восток, где есть все основания рассчитывать на победу в борьбе с персами, а также на освобождение ионийских греков. Собственно, это была та же самая мечта, что Исократ лелеял издавна и предлагал осуществить совместными усилиями афинского флота и спартанской армии. Только в отличие от прежних адресатов Филипп внимательно прочитал послание и отнесся к нему всерьез.
В непродолжительном времени его армия уже направлялась на восток через Фракию. Для начала он подчинил себе все поселения на северном берегу Эгейского моря, что сразу же поставило под угрозу такие же афинские поселения на полуострове Галлиполи, в непосредственной близости от Геллеспонта. К тому времени Филипп уже заручился поддержкой городов Перинфа и Византия. Пройдет еще какое-то время, и он наверняка перережет торговые пути, ведущие с востока к Афинам.
В какой уже раз за последнее десятилетие Демосфен обратился к собранию! Ввиду надвигающейся угрозы потери всего морского маршрута от Геллеспонта до Босфора он говорил с пафосом и почти теми же словами, что некогда Фемистокл: «Не надо впадать в иллюзии, наивно утешаясь успехами давней войны со спартанцами. Напротив, сейчас военная и политическая стратегия должны состоять в том, чтобы линия обороны проходила как можно дальше от Афин. Не дайте возможности Филиппу сняться с места, не подпускайте его к себе». Афины все еще сильны, и надо воспользоваться этим, чтобы ударить по Филиппу, ударить «пока корабль прочен и остойчив, то есть пока гребец и рулевой и все остальные готовы выказать свою страстную к нему привязанность, которой не страшен ни саботаж, ни несчастный случай. Потому что когда море пересилит корабль, будет уже поздно, его никак не удержать на плаву». В этой третьей по счету филиппике Демосфен предложил собранию приступить к переговорам с возможными союзниками. Но независимо от этого надо готовиться к войне.
Годами и в своих филиппиках, и в олинфиках[10], и в других публичных выступлениях Демосфен призывал именно к такому способу действий, но безрезультатно. И вот наступил момент, когда его услышали. Можно представить себе, какие чувства он испытывал, когда его предложение поставили на голосование и при подсчете голосов выяснилось, что оно прошло. Собрание постановило направить посланников во все концы Греции, прибрежные города Эгейского моря и даже к персам. Наконец Афины проснулись.
Что касается самого Демосфена, то ему выпал труднейший жребий: он направился в Византий. Этот город уже вступил в союз с Филиппом, что можно понять: македонская армия под боком, Афины далеко. Предоставив в распоряжение Аристофана триеру, собрание поручило ему убедить Византий выйти из союза с Филиппом и объединиться с Афинами. Трудность состояла в том, что Византий всегда выказывал глубокое недовольство той пошлиной, которой Афины облагают все коммерческие грузы, идущие через Босфор. И все же в конечном итоге Демосфен праздновал одну из крупнейших побед в своей политической карьере: Византий вступил в союз с Афинами.
Филипп счел это враждебным по отношению к нему актом и потребовал, чтобы и Перинф, и Византий вступили вместе с ним в войну с Афинами. Последовал отказ. Тогда, погрузив на суда осадные орудия, Филипп двинулся через проливы на укрощение строптивых. Но, даже имея в своем распоряжении столь мощные средства — осадные башни достигали ста футов в высоту, Филиппу никак не удавалось справиться с Перинфом. Дома в нем были построены ярусами, на склоне, формой своей несколько напоминающем театральную коробку, и получилось, что каждый ряд домов представляет собой защитную стену. При виде византийских судов, идущих в Перинфский залив на выручку осажденным, Филипп стремительно повел свою армию на восток и атаковал сам Византий. Оттуда немедленно помчались гонцы в Афины: на помощь!
Лето подходило к концу. Ежегодный караван из двухсот примерно судов, доставляющих в Афины зерно с берегов Черного моря, формировался в заливе на азиатской стороне Босфора. На якорной стоянке корабли ожидали прибытия конвоя — сорока афинских триер под командой стратега Хареса. Естественно, Филипп не мог упустить столь лакомый кусок, а когда его флоту не удалось захватить транспорт своими силами, направил туда часть своих сухопутных отрядов. На сей раз ему сопутствовал успех, принесший в денежном выражении семьсот талантов серебром.
Тем временем слухи об агрессивных действиях Филиппа разнеслись по всему Эгейскому морю. И первым в Афинах, кто призывал к войне и снаряжению флота, оказался, естественно, Демосфен. Правда, на сей раз собрание не уступало ему в решимости. Оно единодушно проголосовало за то, чтобы убрать со своего места и разнести на куски мраморную плиту, на которой высечены условия мирного договора с Македонией. И что еще важнее — было принято решение о немедленной подготовке к выходу в море флота под командой ветерана-стратега, героя сражения при Наксосе Фокиона. А тот, направляясь к месту будущих боевых действий, обнаружил, что он не одинок. Дипломатические маневры Афин, а равно агрессия македонян немало напугали островитян. И вот корабли с Хиоса, Родоса и Коса, присоединившись к афинскому флоту, поспешили в Геллеспонт, под стены Византия. Вчерашние враги стали союзниками.
Их появление сильно смутило Филиппа. Он-то рассчитывал, что с потерей зерна афиняне пойдут на соглашение. Ведь всему миру известно, они сдались Лисандру и пелопоннесцам, как только были перерезаны морские пути, по которым в Афины доставлялось зерно, а еще через несколько лет, ввиду той же угрозы, согласились на мир с Артаксерксом II. Сейчас все было иначе, афиняне готовы к сражению, да еще, как в старые времена, при поддержке союзников.
Они-то готовы, но сам Филипп не собирался рисковать, вступая в бой с целой армадой. Незаурядный полководец, он считал, что бить надо не по сильному, а по слабому месту противника. Поэтому, сняв осаду с Византия, решил вернуться домой. Но к несчастью для него, приближающийся афинский флот перерезал путь в Македонию. Биться с Фокионом на море Филипп по-прежнему не хотел и в поисках выхода прибег к тому же обманному маневру, что в свое время использовал Формион. Он направил лично послание одному из своих военачальников, некоему Антипатру, в котором велел ему ждать себя вместе со всем флотом там-то и тогда-то. Далее все было сделано так, чтобы письмо оказалось перехваченным и попало в руки афинян. Фокион, человек прямодушный и легковерный, не догадался, что его, возможно, вводят в заблуждение. Афинские и союзнические суда двинулись к месту воображаемого свидания Филиппа со своим стратегом, а царь тем временем пошел своим путем.
И все равно, пусть даже обманутые, афиняне радостно переживали успех своей морской экспедиции. Демосфену теперь верили безоговорочно. Десять лет он твердил согражданам, что остановить противника можно только решительными действиями. Византийские события подтвердили его правоту. Стоило афинянам направить свой флот в море, как македонская угроза растаяла, подобно снежному кому на летнем солнце. Византий был спасен. Впервые в жизни Демосфен сделался популярен.
Но почивать на лаврах не приходилось. Полученный в собрании кредит доверия он использовал на то, чтобы начать давно назревшую перестройку самой системы финансирования и оснастки кораблей. Меры, предложенные им, снимали непосильное денежное бремя с плеч горожан со средним доходом, перекладывая его на богатых. Несмотря на открытые возражения и подковерные интриги последних, собрание во всем пошло Демосфену навстречу. Политические противники подавали на него в суд, но он триумфально выигрывал все процессы. Реформы Демосфена раскалывали в чем-то общество, однако злоупотребления, связанные с триерархами и угрожающие самому существованию Афин, остались в прошлом.
Борьба была тяжелой, и Демосфен прямо говорил о тех трудностях, с которыми сталкивается лидер демократического государства по сравнению с деспотом наподобие царя Филиппа: «Во-первых, он обладает абсолютной властью над своими людьми, что в войне является огромным преимуществом. Во-вторых, эти люди всегда, в любой момент вооружены и готовы вступить в бой. В-третьих, у него полно денег, и он действует по собственному усмотрению; его не таскают по судам злокозненные обвинители, ему нет нужды защищаться от упреков в беззаконии или перед кем-либо отчитываться, это просто властитель, руководитель-хозяин. А я, выступая против него, чем я — ведь так поставить вопрос справедливо — чем я властвовал? Ничем. Ведь даже возможность рассуждать о политике, эту единственную мою — да и далеко не только мою — привилегию, вы поровну разделили между мною и прихвостнями Филиппа».
Демосфен, к чьим призывам собрание оставалось столь долгие годы глухо, сделался теперь первым гражданином Афин, определяющим их политику не в меньшей степени, нежели в свое время Перикл. Молодой человек, бродивший когда-то с камешками во рту по берегу моря, поднялся на высоты славы и влияния, с которых можно бросить вызов самому Филиппу Македонскому. Своими бессмертными речами Демосфен пробудил в согражданах веру в предназначение Афин и жизненно важную значимость их морской мощи. На какой-то миг, когда Филипп отступал от Византия, а Афины оказались в окружении восторженных союзников, Демосфен словно бы поднялся на борт государственного корабля, символизируя приход нового века мира и возрождение престижа города. Но опытный рулевой мог бы остеречь его: под гладкой, сверкающей на солнце поверхностью вод порой скрываются смертельно опасные рифы.
Глава 20
В тени Македонии (339–324 годы до н. э.)
Фортуна переменчива, ибо суверенная власть никогда не остается в одних и тех же руках сколько-нибудь продолжительное время.
Исократ
Радость афинян по поводу успеха византийского похода продолжалась меньше года. Да, Филипп на время отказался от замыслов перерезать пути афинской морской торговле, но война отнюдь не окончилась. Царь примирился с тем, что его флоту с афинским не сравняться. Стало быть, военные действия надо перенести на сушу. Благодаря усилиям Демосфена афинский флот вновь превратился в могучую силу, но для перестройки армии еще одного Демосфена у города не нашлось. Самое печальное заключалось в катастрофическом дефиците одаренных военачальников. Лучшие уехали за моря в качестве наемников.
Час Филиппа пробил, когда возникла совершенно ничтожная усобица вокруг обработки священной земли недалеко от Дельф. Призванный на защиту Дельфийского оракула, Филипп проследовал со своим отрядом на юг, через перешеек у Фермопил. Для него эта свара была только предлогом. Раз проникнув на греческие земли, уходить отсюда он не был намерен. Его хорошо обученная армия подавит любое сопротивление либо расправится с противником на его собственной территории. От границ Аттики Филиппа отделяли только Фивы, а Фивы были традиционно враждебны Афинам. Так что, убедив фиванцев объединиться с Афинами против македонского царя, Демосфен осуществил миссию еще более сложную, чем в Византии.
На подготовку к решающему наземному сражению у обеих сторон ушел не один месяц. В конце лета две армии сошлись на равнине близ городка Херонея. Филипп разбил фиванские отряды и нанес тяжелый урон фаланге афинских гоплитов. В качестве командующего македонской конницы в сражении принял участие его молодой сын Александр. Слухи о сражении при Херонее быстро достигли Афин — словно ветром принесло; более того, поговаривали, будто Филипп стремительным маршем идет на Афины. Как всегда, в минуты крайней опасности неизменно решительные и энергичные афиняне немедленно приступили к подготовке обороны. Демосфена послали охранять торговые пути и попутно заручиться поддержкой других городов. Люди постарше спустились в Пирей, на защиту бухт; другие, готовясь дать отпор противнику, остались наверху. На смену убитым и взятым в плен при Херонее пришли рабы и метеки, которым собрание, следуя примеру предков, предоставило права гражданства.
В самый разгар этих приготовлений прибыли гонцы из штаб-квартиры Македонии в Беотии. Как ни странно, Филипп был настроен мирно. Он предлагал безвозмездно вернуть две тысячи афинских пленников. Помимо того, македоняне готовы сжечь тела убитых и в сопровождении почетного караула доставить прах в Афины. Чем бы объяснить такую щедрость по отношению к поверженному противнику?
Спасли Афины их корабли, хотя никаких морских сражений не было. После событий под Византием Филипп вновь проникся уважением к афинскому флоту. В своей стихии он был по-прежнему непобедим, а Пирей оставался практически неприступной крепостью. Все, воевать с Афинами на море Филипп отныне не будет. Другое дело, что, даже протягивая им руку мира, он разрабатывал планы, чтобы заставить афинский флот, как и иные военные силы Греции, служить его собственным целям.
Итак, одержав победу в сражении при Херонее, Филипп воздержался от наступления на Афины, но, напротив, предложил провести мирные переговоры в Коринфе, где в присутствии сильно обеспокоенных посланцев, прибывших из Афин и других городов, объявил о создании нового Коринфского союза, преследующего давнюю цель: священную войну с Персидским царством. Необходимость ее Филипп мотивировал религиозными соображениями: пришла наконец пора отомстить Ксерксу, сжигавшему аттические храмы. Дело общее, и он, царь Македонии, ожидает поддержки со стороны греческих городов. Исократ, наверное, был бы счастлив, видя, как готова сбыться его мечта, но до этого момента он не дожил — умер девяносто восьми лет от роду, буквально на следующий день после того, как до Афин дошла весть о победе Филиппа при Херонее.
На алтарь нового союза, направленного против Персии, пришлось принести жертву — Второй морской союз, основанный Афинами почти сорок лет назад. Филипп не собирается ни с кем делить свое верховенство, и Афинам не остается ничего другого, как освободить все еще примыкающие к союзу города от взятых на себя обязательств. Впрочем, и тут он готов пойти на некоторые уступки. Имея в виду ключевую роль, которуе играют Афины на море, Филипп признает право города на сохранение своих важнейших заморских территорий: острова Самос, Делос, Скирос, Лемнос и Имброс. Приняв эти условия, афинские посланники, как и посланники других городов, торжественно поклялись присоединиться к Филиппу в его войне с Персией и всеми, кто выступит против мирового порядка, установленного царем Македонии. Усмирив таким образом Грецию, Филипп вернулся на север. Прежде чем вторгнуться во владения Царя царей, ему предстояло выдать замуж дочь.
В Афинах ожидали царского рескрипта о направлении судов вместе с экипажами на войну в Азию. Ожидали, мягко говоря, с неудовольствием, ведь за долгие годы афиняне привыкли к тому, чтобы повелевать, а не повиноваться. Хотя, формально говоря, нынешнее подчинение Филиппу ничем не хуже, чем подчинение их предшественников Спарте в общем противостоянии Ксерксу, и намного лучше, чем подчинение той же Спарте после Пелопоннесской войны. Оглядываясь на годы борьбы с Филиппом, Демосфен размышлял, верен ли был избранный им курс:
«Если удар молнии оказался слишком силен не только для нас, но и для всей Греции, что оставалось делать? Можно, конечно, возложить вину за кораблекрушение на капитана, пусть даже он принял все меры предосторожности и наилучшим, с его точки зрения, образом подготовил свое судно к встрече с любой неожиданностью. Но вот корабль попадает в шторм, его швыряет из стороны в сторону, оснастка скрипит, а то и разваливается на куски. Но я не был капитаном корабля, и стратегом не был, и уж тем более не мог повелевать судьбой. Вот-вот, это сама судьба так распорядилась».
Но из Македонии пришло не предписание о мобилизации, а сногсшибательная новость: Филипп умер, став жертвой убийцы-одиночки — это был один из приближенных придворных, заколовший его во время свадебных торжеств. Узнав о случившемся, афиняне решили публично вознести благодарность богам. Торжествующий Демосфен почти убедил собрание в том, что смерть Филиппа знаменует конец македонской власти. Но он оказался плохим пророком.
Не прошло и нескольких месяцев, как македонская армия вновь вторглась в Грецию. Во главе ее на своем жеребце Буцефале, которому суждено было войти в легенду, двигался Александр, сын Филиппа. Несмотря на молодость, двадцатилетний новый царь успел устранить тех, кто сомневался в его праве на престолонаследие. И теперь вот стремительно продвигался вперед, исполненный решимости восстановить свою власть над Грецией. Не вторым Филиппом хотел он стать — скорее вторым Ахиллом. В надежде воспламениться духом своего героя он даже спал с экземпляром «Илиады» под подушкой. И в подражание вечно юному Ахиллу не отращивал бороды, всегда служившей грекам символом мужества. И темпераментом молодой царь походил на гомеровского героя, внезапно, как и тот, переходя от самого добросердечного настроения к неистовому гневу.
Афинам в этом смысле повезло — они всегда были у Александра в фаворе. В глазах нового царя это был главный очаг эллинской культуры. Особенно высоко он ставил афинскую трагедию и брал с собой в походы свитки с текстами Эсхила, Софокла и Эврипида. Александр не только уважал Афины, он всячески старался заручиться их дружбой и расположением. Сами-то афиняне довольно долго тянули с признанием его своим сувереном, что не помешало царю оказать посланникам, прибывшим в Македонию с извинениями от имени собрания, самый теплый прием. Во главе посольства встал не Демосфен, благоразумно оставшийся дома, но грубовато-добродушный Демад, корабел и паромщик, увлекшийся в какой-то момент ораторским искусством.
При всей своей мальчишеской внешности и повадках, Александр с самого начала дал понять, что железной хватки отца не ослабит. Он вновь призвал греков в Коринф, где те повторно принесли клятву верности Коринфскому союзу и лично Александру как гегемону и верховному главнокомандующему на суше и на море. Македонский царь, в свою очередь, подтвердил свою приверженность целям союза — мир в Греции, война в Азии. Наряду с армией он унаследовал отцовскую мечту: покорение востока. Александру потребовалось два года беспрерывных боевых действий, чтобы закрепить свои границы в Европе на территории вплоть до истоков Дуная. Теперь можно было двигаться в сторону Персидского государства.
Чтобы пересечь Геллеспонт, требовался транспорт, и Александр потребовал от своих греческих союзников обеспечить ему паромы. На плечи Афин легло нетяжелое бремя — всего двадцать триер, главные же силы флота остаются в Пирее. Афины нужны были Александру прежде всего как сильный и самодостаточный союзник на море. Знаменитый флот будет содействовать осуществлению его имперских замыслов, сохраняя порядок на водах и противодействуя пиратству, за свой, разумеется, счет. А приглядывать за Грецией в отсутствие Александра будет старый отцовский военачальник Антипатр, оставленный в Македонии в качестве регента.
На третий год царствования Александра в Геллеспонт проследовали 20 афинских триер; там они влились в объединенный греческий флот, насчитывающий 160 кораблей. На греческой стороне пролива скопилась многотысячная армия: пехотинцы, конники, инженеры, оружейники, пекари, медики, жрецы, глашатаи, гонцы, слуги, обозники, рабы. На противоположном, азиатском, берегу было, напротив, пустынно. И пролив свободен от персидских судов — можно спокойно переправляться.
Принеся жертвы богам, Александр символически вышел в море на первой триере, откуда было выпущено копье, вонзившееся в азиатскую почву. Затем он соскочил на берег — воплощенный Ахилл. Теперь, когда театральная часть закончилась, за ним могла последовать вся армия. Переправлялась она из Сеста в Абидос в самом узком месте Геллеспонта, где два материка разделяет всего одна миля; именно тут, только в обратном направлении, с использованием понтонных мостов много лет назад шел Ксеркс. Преодолевая быстрое течение в хорошо знакомых местах, афиняне, отряд за отрядом, перебрасывали армию Александра туда, где начнется его грандиозный поход в самое сердце империи Царя царей. Задействованы были и транспортные суда с воинами и провизией. Паруса в этом месте Геллеспонта не поставишь, слишком узко, так что триерам приходилось вести их на буксире.
По окончании операции Александр направил флот под командой македонского флотоводца Никанора на юг. Молодой царь, на сей раз в отличие от Ксеркса, не собирался каким-то образом координировать действия военно-морских и сухопутных сил. Основная тяжесть осуществления миссии ляжет на последние. Флот же тем временем проследует вдоль побережья Малой Азии в Эфес. По дороге туда Александр разбил персидских конников на берегах реки Граник, принял капитуляцию Сард и присоединил к Коринфскому союзу вновь освобожденные греческие города. С характерной для себя пышностью, в качестве трофея, он послал добытые на Гранике персидские щиты в Афины, где они длинными рядами были вывешены на восточном фронтоне Парфенона.
Менее радостным итогом той же победы оказалось пленение сотен афинян, служивших в персидской армии наемниками. Взбешенный предательством, Александр отправил их на тяжелые работы в рудники Фракии. Царь и далее, на протяжении всего персидского похода, будет сталкиваться с афинскими наемниками, среди которых окажется, между прочим, младший сын великого Ификрата.
Будь у афинян достаточно средств, чтобы удержать их дома, эти люди могли бы участвовать в возрождении славы афинского флота. Но ручеек, побежавший на восток во времена Фемистокла, после Пелопоннесской войны превратился в бурный поток, и невосполнимая утрата столь большого количества потенциальных флотских командиров стала для города настоящей трагедией. Впрочем, за моря молодых честолюбивых афинян манило не только персидское золото. Учитывая безжалостное обращение Афин со своими же, демократическим путем избранными стратегами, а также обвинительный уклон афинских судов, служба у персидского царя представлялась просто менее опасной, чем служба дома. Опыт походов Александра Македонского показал, что в афинских семьях по-прежнему рождаются гении военной тактики и отважные воины. И если в трудные времена они оказываются далеко от дома, вина лежит на самом городе.
После того как свои ворота открыл Эфес, Александр переключился на следующую мишень: старинный город Милет. Разведка донесла, что в море вышла крупная персидская армада — примерно четыреста кораблей из Финикии и с Кипра. Их следовало любой ценой удержать подальше от милетской бухты и не дать прийти на помощь соединению греческих наемников, находящихся на службе у персидского царя. Ветеран многих сражений стратег Парменон убедил царя решиться на морской бой. По его словам, он видел, как на берег острова Лада, сразу на выходе из милетской бухты и в виду греческих судов, садится орел — предвестник победы. Парменон был отцом юного флотоводца Никанора и, возможно, рассчитывал, что победа в бою возвеличит сына. Но Александр с ходу отверг это предложение. Подобно Филиппу, он предпочитал бить противника на суше, именно таким способом достигая превосходства и на море. Да, он назначил Никанора навархом, но ставку делал прежде всего на фалангу, конницу и строителей.
Все, что Александр сделал, так это распорядился, чтобы афинские суда, объединившись с судами других городов, заперли вход в милетскую бухту. Сам же он тем временем успел нейтрализовать вражеский флот простым маневром — занял все места на суше близ Милета, где в принципе могли бы пришвартоваться персидские корабли. Оказавшись в тупике, персы ушли на поиски пресной воды, провизии и удобных стоянок. И вот тут-то Александр нанес удар.
Македонские осадные орудия обрушились на городские стены и башни, за ними хлынула лавина македонской пехоты. Защита была подавлена, и несчастные греческие воины искали спасения в воде, используя свои полые щиты как лодки, а ладони как весла. Большинство было убито. Уцелевшие добрались до скалистого островка — своей последней опоры и сдались в плен. Персидская армада, выведенная из строя умелым маневром противника, удалилась на юг, где, как вскоре стало известно Александру, стала на якорь в кругообразной бухте Галикарнаса. Здесь, в историческом месте Артемисия и Геродота, военно-морские силы царя Дария предпримут еще одну попытку остановить неудержимое продвижение Александра Македонского.
Теперь, когда с Милетом было покончено, а персидская армада ушла, Александр не видел более причин платить столь тяжело дающиеся деньги греческим экипажам. А числом они едва ли не превосходили пехоту — по двести моряков на триеру. Таким образом, Александр снял с довольствия Коринфского союза весь флот, за исключением афинских кораблей. Им еще предстоит сослужить свою службу — в последний раз. Пока Александр во главе армии шел через Карию с ее каменистой, изрезанной оврагами поверхностью в сторону Галикарнаса, очередной своей мишени, македонцы поднимали на борт двадцати афинских триер деревянные осадные сооружения. Чтобы прибыть к месту свидания с главными силами, назначенного невдалеке от Галикарнаса, флотилии понадобилось не более суток. Здесь произошла разгрузка.
На персидский флот, сосредоточившийся в Галикарнасской бухте, Александр не обращал решительно никакого внимания, атакуя противника исключительно с суши. Военным гарнизоном города командовал афинский наемник по имени Эфиальт, возможно, выходец из рода известного демократа-реформатора. Сражался он доблестно, но Александр взял верх. Когда стало ясно, что Галикарнас вот-вот падет, персидский флот тайно, под покровом ночной темноты, снялся с места и ушел в отдаленные гавани. Уже на следующее утро Александр вошел в город. Ввиду приближающейся зимы он отослал афинские триеры с осадным оборудованием на север, в городок Траллы на берегу реки Меандр. Там афиняне отряхнули с ног пыль героического македонского приключения, в котором роль их была ныне отыграна, и направились домой.
На протяжении последующих трех лет афиняне узнавали о все новых победах царя Александра. Завоеватель разрубил знаменитый гордиев узел, в Сирии при Иссе он победил сухопутные войска царя Дария, взял осадой финикийские города Тир и Газу. Египет встретил Александра как освободителя и нового фараона; оракул Зевса Амон, пребывающий в пустыне, — как сына бога. Наряду с этими триумфами Александр начал выказывать новый и весьма опасный интерес к морю. Он собрал эскадру финикийских, и не только финикийских, кораблей для того лишь, чтобы македонские моряки набрались столь нужного им опыта ведения морского боя. На западе дельты Нила Александр заложил новый город — Александрию, будущий мегаполис, морской порт, центр просвещенности, который в один прекрасный день превзойдет величием и мощью и Афины, и Пирей.
Когда стало известно, что Александр вернулся из Египта в Тир и приступил к подготовке похода в самое сердце Персидского царства, афиняне снарядили «Парал» и отправили посольство на предмет освобождения пленных, взятых в сражении при Гранике. Однажды царь уже отверг подобную просьбу: для него это были заложники, своего рода гарантия лояльности Афин. Однако наслышанное о комплексах Александра собрание на сей раз поручило передать петицию гражданину по имени Ахилл. «Парал» прибыл на место буквально накануне того дня, когда македонская армия отправлялась в свой долгий путь в Сузы. Царь пребывал в благодушном настроении и даровал пленникам чаемую свободу.
Покуда афинские посланники, счастливые достигнутым успехом, возвращались домой, Александр успел оставить позади акваторию Средиземноморья, встретиться с войском Дария III при Гавгамелах, недалеко от Тигра, и нанести ему сокрушительное поражение, что, по существу, сделало его новым Царем царей. В Сузах македоняне обнаружили давно утраченные, вывезенные из Акрополя еще Ксерксом афинские мраморные статуи. В Персеполисе на пире в честь победы знаменитая афинская гетера красавица Таис убедила Александра предать огню величественный дворец персидских царей. Таким образом, Афины, а вернее сказать, афинянка, расплатились с Ксерксом за поджог родного города.
Но завоевателю завоеваний всегда мало. Оставив Персию далеко позади, Александр пошел дорогами и тропами, ведущими в Афганистан и Гиндукуш. А далее, подобно буре, сметающей на своем пути все и вся, его войско хлынуло в Индию. И вот тогда-то наконец в Эгейском море установился мир. Тени рассеялись, на небе засияло солнце, и Афины вновь начинали сеять и собирать урожаи.
Стремясь в полной мере использовать эту передышку, город шаг за шагом принялся восстанавливать флот. Разумеется, пока Александр купался в лучах побед, афинянам трудно было рассчитывать на серьезные изменения в балансе сил. Но люди эти были сколь энергичные, столь и терпеливые. И когда пробьет их час, они будут готовы. Новые корабли, новое оборудование, новые программы подготовки моряков — все это позволит Афинам вернуть себе традиционное положение властелина морей.
В эти годы наиболее влиятельной личностью в городе сделался не оратор, не стратег, а финансист Ликург. Его твердый характер и неподкупность, как и доставшееся по наследству положение жреца бога Посейдона, снискали ему всеобщее уважение в городе. Бережно распоряжаясь доходами, поступавшими главным образом за счет морской торговли, Ликург сначала наполнил изрядно отощавшую казну, а затем приступил к осуществлению поистине Перикловой по своим масштабам программы обновления Афин. Боги получили свое, богово: Афина — новый Панафинейский стадион; Аполлон — храм на агоре; Дионис — театр, выложенный из блестящего мрамора; элевсинские богини — огромный зал с колоннадой. При этом, уделяя столь значительное внимание духовному здоровью сограждан, Ликург не забывал и о делах флота.
Его программа включала в себя выделение средств на подготовку эфебов — будущих гоплитов. При Ликурге первый год своего обучения они проводили в Пирее, охраняя военно-морскую базу и осваивая навыки гребли. Второй год был отдан гарнизонной службе в пограничных крепостях. Военный церемониал и парады этих молодых людей весьма нравились афинянам. Как и ежегодные регаты. Команды эфебов от каждой филы участвовали в соревнованиях триер, стартовавших в бухте Канфар и устремляющихся вокруг пирейского мыса, мимо усыпальницы Фемистокла, к финишу в небольшой бухте Мунихия. Зрители, наблюдающие за стартом, могли бегом пересечь весь город, стать свидетелями финиша и приветствовать победителей.
В те годы афиняне также устроили настоящий и очень скрупулезный смотр своим судам. С тех самых пор, когда более шестидесяти лет назад окончилась Пелопоннесская война, Афины постепенно утрачивали лидирующее положение среди других морских стран в том, что касается обновления корабельной формы. Первенствующее положение на флоте, как и во времена Фемистокла, занимала быстроходная триера. Но если афинские кораблестроители упрямо цеплялись за традиционные формы, в Карфагене, Сиракузах, Финикии и на Родосе появлялись новые типы боевых кораблей.
Наконец и собрание поручило соответствующему комитету заняться разработкой новой модели корабля, более крупного по водоизмещению и более тяжелого, нежели триера. В результате на свет в кратчайшие сроки появились квадриремы и квинкеремы, по-гречески тетреры («четырехвесельные») и пентеры («пятивесельные»). Обновляется, таким образом, сама система гребли. В триере у каждого свое весло, и все гребцы разбиты на тройки. В квадриреме звенья сокращаются до двух гребцов, но увеличивается длина весла, и берутся за него по двое. А в квинкереме экипаж состоит из пятерок, располагающихся по системе 2:2:1. Всего весел 180, по 90 с каждой стороны. При этом скорость передвижения новых кораблей, сравнительно с триерой, не снижается. Более того, опыт и мастерство требуются не более чем от половины экипажа. В то время как один гребец как бы управляет ручкой весла, его напарник лишь применяет грубую силу, чтобы протащить лопасть в воде. Располагаются весла тоже по-новому — на смену открытым и незащищенным рамам триеры пришли закрытые весельные помещения. Экипажи увеличиваются численно: 170 гребцов в триере, 300 — в квинкереме. Их строительство указывало на решимость Афин восстановить свое владычество на море. Благодаря усилиям Ликурга город в конечном итоге довел численность флота до 360 триер, 50 квадрирем, 2 квинкерем, не говоря уже о транспортных судах для перевозки гоплитов и лошадей и триаконторах, тридцативесельных галерах.
Энергичное строительство вдохнуло в Пирей новую жизнь. Финансовая политика Ликурга привела к возникновению новых рабочих мест: тысячи граждан стали администраторами, инспекторами, писцами, ремесленниками, моряками. Лучше стали жить и иностранцы, занимающиеся в Пирее торговлей и мануфактурой. Некоторые из них ежегодно щедро пополняли казну города, сделавшегося им родным. Другие украшали Пирей храмами своих богов.
Разрастающийся флот нуждался в новых помещениях, и Ликург, а затем его преемники в городском казначействе выделили специальную статью расходов на строительство дополнительных эллингов. Параллельно осуществлялся ремонт Длинной стены и других укреплений. Но самым впечатляющим свершением Ликурга было завершение длившегося семнадцать лет строительства гигантского хранилища парусов и такелажа военных судов, названного впоследствии «арсеналом Филона». В истории мирового флотского хозяйства это было нечто невиданное. Выдержанный, подобно Парфенону, в дорическом стиле, арсенал, однако, превосходил размерами любой, даже самый крупный греческий храм. Он занимал все пространство между западным углом агоры Гипподама и эллингами, расположенными на берегу бухты Зеа. Помимо арсенала, Филон построил новый ритуальный зал для Элевсинских мистерий, но новым своим проектом он гордился настолько, что даже написал о нем целую книгу. Даже Парфенон, при всем своем значении, не удостоился таких знаков внимания и общественного интереса, как арсенал.
При этом никакими особенными архитектурными красотами, тем более изысками он не отличался: в стенах из мягкого желтоватого пирейского песчаника были вырезаны всего-навсего мраморные рамы для окон и дверей, а по углам к стенам, придавая всему сооружению некую дополнительную тяжесть, прилегали тесаные плиты. По всему периметру арсенала тянулись ряды из тридцати четырех окошек-бойниц, расположенных прямо под карнизом невысокой крыши. Сама же она была покрыта десятками тысяч коринфских плиток.
Входя через двойные с бронзовыми косяками двери с залитой яркими лучами солнца и шумной агоры Гипподама, сразу попадаешь в огромное пустынное пространство, прохладное и весьма тускло освещенное. На тридцатифутовой высоте над головой едва угадываются, растворяясь в полумраке, деревянные балки. Слева и справа — ниши, они похожи на полати в сарае, обнесены деревянными перилами и забиты разнообразным оборудованием. Внутри также есть деревянные полки, лари и шкафы, где хранятся паруса и такелаж для 134 кораблей. Несмотря на свои гигантские размеры, арсенал вмещал оборудование лишь для половины судов, составляющих афинский флот. Двери в шкафах держатся открытыми для быстрейшей просушки материалов. Есть в нишах и место для хранения всяческой оснастки — тут якоря, цепи, тонкие, овальной формы пластины из мрамора с цветными прожилками — это своеобразные корабельные глазницы. Весь день, не считая полуденного часа, когда солнце стоит в зените, через бойницы проникают лучи света, и вместе со сквозняками они предохраняют содержимое склада от плесени и гнили.
И наконец, из конца в конец навеса тянется самая протяженная в Греции дорожка — двадцать футов в ширину и четыреста в длину. По этому проходу афиняне могли прогуливаться как по променаду, болтая о том о сем, глазея по сторонам и дивясь многообразию флотского оборудования. Их гордость арсеналом, как и само сооружение, — родовой знак общества, ценящего свое прошлое, но устремленного мыслями в будущее.
Среди других строительных проектов Ликурга следует отметить новый гимнасий в Ликее. Через год после воцарения Александра в Афинах появился философ Аристотель, сделавший Ликей своим рабочим местом. Его школа науки, политики и этики сделалась поистине жемчужиной в короне различных афинских начинаний. Аристотель происходил из северной Греции, где его отец был врачом при дворе Филиппа Македонского. Впервые он очутился в Афинах в семнадцатилетнем возрасте и оказался под крылом Платона, как раз тогда, когда в Академию частенько захаживали Хабрий и Тимофей. Правда, во многом учитель и ученик сильно расходились. Платон называл Аристотеля «Жеребенком», ему не нравился скепсис молодого человека, его манера говорить без умолку, а также вызывающая, как он считал, прическа. Через какое-то время Аристотель покинул Афины и перебрался на остров Лесбос, где несколько лет посвятил изучению морской фауны, закладывая тем самым фундамент своих новаторских работ по описанию и классификации органической жизни. Со временем он был оторван от своих осьминогов и рачков и призван на самый престижный в ту пору в академическом мире пост — наставника будущего царя Македонии Александра.
Когда же венценосный подопечный вырос и вылетел из гнезда, Аристотель, свободный от своих прежних обязанностей, вернулся в Афины. Утром и вечером, окруженный юными учениками, он расхаживал по аллеям и колоннадам Ликея. Время от времени ему доставляли заморскую зоологическую экзотику — дары Александра своему старому учителю. В отличие от платоновской Академии Ликей отдавал предпочтение практическому и прикладному знанию. Вот так и получилось, что в последние годы существования афинского флота корабли и все, что с ними связано, стали (наряду со множеством иных явлений подлунного мира) предметом, как никогда прежде, пристального изучения.
Один из последователей Аристотеля составил книгу под названием «Проблемы». И выяснилось, что едва ли не самая загадочная проблема — это море.
«Почему кажется, что, находясь на якоре в бухте, корабли несут более тяжелый груз, чем в открытом море?»
«Почему если бросить что-нибудь (например, якорь) в волнующееся море, оно успокаивается?»
«Почему, если суда, плывущие по морю в хорошую погоду, вдруг засасывает вглубь, они исчезают, не оставляя на поверхности ни малейшего следа своего существования?»
В глазах Аристотеля наиболее выразительным примером того, как энергия превозмогает инерцию, а живое приводит в движение неодушевленное, всегда оставался образ корабельной команды, ведущей судно через моря. Один из его последователей ставит в своей книге «Механика» несколько вопросов, напрямую связанных с мореходством:
«Почему наибольшая нагрузка выпадает на гребцов, находящихся в средней части судна? Потому ли, что весло становится неким подобием рычага? Если так, то в точку опоры превращается уключина (ибо она пребывает в неподвижном положении); а в массу, сопротивление которой преодолевает весло, — морская поверхность; а в силу, приводящую в движение рычаг, — гребец». Эти наблюдения особенно относятся к квадриремам и квинкеремам, где на веслах сидят по двое и гребец, находящийся дальше от борта, на самом деле в большей степени использует силу рычага.
«Отчего руль, столь маленький и находящийся на самой корме, обладает такой мощью, что даже самые тяжеловесные суда повинуются малейшему, не требующему от рулевого никаких особенных усилий, движению весла? Не потому ли, что руль — это тоже рычаг, которым орудует рулевой?»
И еще:
«Почему чем выше поднята рея, тем быстрее идет корабль, при том, что тип паруса и сила ветра остаются одними и теми же? Не потому ли, что и мачта — это тоже рычаг, гнездо, в котором она укреплена, — точка опоры, масса, которую она приводит в движение, — сам корабль, а движущая сила — ветер, надувающий парус?»
Любимым учеником Аристотеля был Теофраст, верный его спутник еще с тех самых пор, когда он усердно занимался морскими штудиями на Лесбосе. В своей монументальной «Истории растений» Теофраст воспроизводит рассказы корабелов, связанные с древесиной, традиционно используемой при кораблестроении, и приводит образцы, наиболее подходящие для той или иной части триеры. В его разысканиях отражается даже народная мудрость лесничих, которым ведомо, в какое время года какое именно и на какой стороне склона — северной, тенистой, или южной, открытой солнцу, — надо валить дерево. В своем трактате Теофраст повествует об одном чуде. Кто-то воткнул лопасть весла из оливкового дерева в горшок с влажной землей. Через несколько дней оно внезапно ожило и на нем появились зеленые листья.
Еще один последователь Аристотеля, ученик, чье имя история не сохранила, писал в своей книге «Метеорология» о погодных и атмосферных явлениях. Автор отмечает, что радуга возникает, когда в брызги воды, поднятые ударом весла, вонзается луч солнца.
«Радуга, которую мы видим в момент, когда весла застывают над поверхностью, переливается так же, как и радуга на небе, только цвета ее — скорее багровые, нежели красные — более напоминают блики лампы».
С точки зрения научных изысканий можно утверждать, что афинский флот стимулировал их более, чем что-либо иное.
Ну а сам Аристотель в эти годы работал над «Политикой» и «Никомаховой этикой». В конце последней он пишет: «Из наблюдений за существующими явлениями (конституциями) следует извлечь урок, какие из них способствуют сохранению, а какие разрушению городов». С точки зрения Аристотеля, одной из таких разрушительных сил является море. Он выделяет четыре типа людей моря: те, кто, подобно афинянам, имеет дело с триерами; паромщики, как, например, жители острова Тенедос; торговцы, вроде тех, что живут в Эгине или на Хиосе; и рыбаки, как в Византии или Таренте.
По Аристотелю, даже морская торговля наносит городам некоторый ущерб, ибо она порождает нашествие иноземцев с их экзотическими товарами. И все же главный враг правильно организованного государства не торговля, а триеры. Аристотель редко в чем соглашался с Платоном, но в отношении к талассократии они были едины.
Среди одиннадцати ступеней, или революций, в жизни Афинского государства Аристотель выделяет седьмую, называя ее «конституцией, на которую указывал Аристид и которую довел до завершения Эфиальт, лишивший ареопаг большинства его традиционных прав. Тогда город, пойдя на поводу у демагогов, ратовавших за владычество на море, совершил одну из крупнейших своих ошибок».
В формировании национального характера играет свою роль география.
«В Афинах имеется различие между жителями собственно города и обитателями Пирея — последние более демократичны в своих воззрениях».
В конце «Политики» Аристотель рассматривает значение моря в правильно устроенном государстве. Город, взыскующий величия или хотя бы просто безопасности, может столкнуться с необходимостью строительства флота. В этом случае, рассуждает Аристотель, единственно надежный путь — отстранить гребцов и других моряков от участия в политике.
«Не должно большим группам людей, так или иначе связанных с морем, умножать количество граждан города, к делам которого они не должны иметь никакого отношения. Военные, поднимающиеся на борт корабля, — свободные люди, гоплиты. Они обладают суверенными правами и властью над экипажем. Везде, где имеется постоянное население и сельскохозяйственные рабочие, должно быть и достаточное число гребцов».
Осудив морскую державу как таковую — что, правда, в Афинах не новость, достаточно вспомнить таких патриотов, как Исократ и Демосфен, — Аристотель соскальзывает на еще более опасную тропу. Морская мощь совместима с верным управлением государством лишь в том случае, если в ней ограничен демократический элемент. Прогуливаясь по рощам Ликея с молодыми людьми, выходцами из богатых семейств, Аристотель внедрял в их сознание мысль, что «демократия триеры» — это зло. Зло как само по себе, так и по отношению к другим. Надо, впрочем, заметить, что подрывные идеи в таком роде быстро распространялись в высших слоях афинского общества и без участия Аристотеля.
В то время, как его ученики изучали опыт разных городов-государств, афиняне готовили поход, имеющий целью основание нового города — колонии на Адриатике. Относительно недавно Афины изрядно пострадали от плохих урожаев и связанного с этим недостатка продовольствия. Геллеспонт и Египет пребывали под пятой Македонии, которая могла в любой момент перерезать морские маршруты доставки зерна. И коль скоро на востоке начинали сгущаться тучи войны, взгляды афинян вновь повернулись в сторону благословенного запада. Только на сей раз они были устремлены не на Сицилию, а на великое Адриатическое море, простирающееся, широко и свободно, от каблучка италийского сапога на север, вплоть до тех мест, откуда видны Альпы. Этот дерзкий и неожиданный (для афинян) замысел основания заморской колонии знаменовал высшую точку в обновлении самого духа Афин.
Цель состояла в том, чтобы «раз и навсегда» обеспечить Афинам свободный доступ продовольствия. Гавань нового города-колонии сделается пристанищем для греков, да и иностранцев тоже, и одновременно — военной базой для борьбы с этрусскими пиратами. В распоряжении колонистов будет собственная небольшая флотилия из четырнадцати кораблей: восемь триер и квадрирем, два транспортных судна и четыре триаконтора.
Во главе экспедиции собрание поставило гражданина по имени Мильтиад. Это выбор символизировал возвращение к старым героическим временам. Семь поколений назад его предок, носивший то же имя, привел афинян к победе при Марафоне. А еще раньше предок предка основал знаменитую колонию во Фракии, на северной стороне Геллеспонота. О значении, которое придавалось адриатической миссии, свидетельствует тот факт, что собрание распорядилось проводить заседания совета в Пирее, прямо на молу, и не расходиться до тех самых пор, пока не будет дан сигнал к отплытию. А на всех, кто ему в той или иной форме воспрепятствует, будет наложен штраф в размере десяти тысяч драхм в пользу самой богини Афины.
Среди членов экспедиции был некто Исократ, триерарх «Стефанофории» («Венценосицы»). Недавно он отличился тем, что воздвиг красивейший в городе монумент — в честь победы на одном из ежегодных фестивалей хора мальчиков, который он сам же и опекал. Принесшая успех песнь сюжетом своим имела миф о победе юного бога Диониса над этрусскими пиратами. Памятник Исократ установил в тени Акрополя, а полукружье обступивших его колонн составляло некоторый контраст возвышающемуся на скале Парфенону с его мощным дорическим ордером. По верху колоннады тянулся круговой фриз с изображением фигур пиратов, похитивших Диониса и наказанных за то превращением в дельфинов. Символизировали эту удивительную метаморфозу чудные фигуры с ногами человека и головой дельфина. Отправляясь в свой колониальный поход, Исократ получит возможность реального соприкосновения с нынешними наследниками тех легендарных морских разбойников-этрусков.
На строительство заморских укреплений у афинян было совсем немного времени. Пока Мильтиад со своими спутниками продвигался на запад, на востоке происходили события, совершенно затмившие эту экспедицию. После шести лет беспрерывных войн и скитаний по почти незнакомым грекам чужестранным краям в Персии вдруг вновь появилась македонская армия. Александр вернулся. Вернулся, вполне убежденный теперь в собственном божественном происхождении и полный решимости заставить греков уступить всем его требованиям. Но чтобы противостоять ему, Афинам понадобятся все их вновь накопленные силы.
Глава 21
Последнее сражение (324–322 годы до н. э.)
Ведь крепостная башня иль корабль —
Ничто, когда защитники бежали.
Софокл. «Царь Эдип», пер. С.Шервинского
Александр быстро дал ощутить свое присутствие. Уже летом в Олимпии, когда там проходили Игры 114-й Олимпиады, собравшие массу народа, появился царский гонец с весьма обескураживающим посланием. Царь желает, чтобы все греческие города вернули изгнанным некогда землякам гражданство, а затем и конфискованные земли. Цель этого указа об изгнанниках состояла в том, чтобы рассеять толпы наемников по новым владениям Александра. Но такое установление лишало греков независимости. Македонский царь словно забыл, что номинально они являются его союзниками — из величественных дворцов Суз и Вавилона греки представлялись не более чем подданными, проживающими в дальних краях. Оправдывая указ юридически, новый Царь царей заявил также, что отныне греки могут поклоняться ему как богу.
Дурные вести из Олимпии привез в Афины Демосфен. Не говоря уже о потоках изменников, преступников, смутьянов и иных нежелательных элементов, указ угрожал лишить афинян Самоса. Этот процветающий остров сорок лет назад отнял у персов Тимофей (никогда еще в его прославленный походный котелок не попадал такой гигантский омар), и с тех пор Афины упрямо удерживали столь завидное достояние. Дорожили они им настолько, что даже перед лицом угрозы войны с божественным Александром направили в море «Парал» — этот оплот демократии. Флагманский корабль афинского флота достиг Самоса еще до того, как туда вернулись изгнанники. А как только торжествующие местные олигархи ступили на землю острова, чтобы, в согласии с указом, вернуть себе старые владения, командир «Парала» взял их в плен и отправил в Афины. Самос — это все, что осталось от некогда могучей морской державы, и афиняне готовы были опрокинуть небо на землю, лишь бы удержать остров.
Если бы Александр и далее гнул свою линию, афинский флот в ближайшей перспективе уступил бы флоту македонскому. С тех пор как царь тронулся из Индии в обратный путь, он только и думал что о кораблях. В начале своей военной карьеры он почти не уделял внимания морю. А теперь направлял корабли в Каспийское море и Аравийский залив, приступил к строительству большой гавани в Вавилоне, обдумывал перспективы плавания вокруг африканского континента. Больше того, Александр мечтал о строительстве тысячи новых военных судов, превосходящих водоизмещением триеры, — они понадобятся ему в войнах с Карфагеном и странами западного Средиземноморья. В конце концов, в мире много земель, а он еще и одну до конца не покорил.
В начале следующего лета, через год после обнародования указа об изгнанниках, Александр призвал к себе своего нового флотоводца Неарха на предмет обсуждения всех этих новых проектов, связанных с военно-морским флотом. Этой деловой встрече было суждено стать последней в его царствовании. Уже изнемогающий от последствий очередного буйного пиршества, а еще ослабленный липким зноем вавилонского лета, а возможно, и ядом, подсыпанным ему в чашу кем-то из приближенных, Александр смертельно заболел. Он умер тридцати шести лет[11] от роду, не успев назначить себе наследника.
Поначалу в Афинах не поверили известиям о кончине македонского царя. «Александр умер? — воскликнул Демад. — Быть того не может! Иначе вонь от его трупа по всему миру бы пошла!» Но когда слух подтвердился, собрание спешно проголосовало за то, чтобы начать освободительную войну с преемниками царя. Землевладельцы и другие богатые афиняне были против, но остались в меньшинстве. В близлежащие и отдаленные города Греции за поддержкой, были немедленно разосланы гонцы. Резолюция собрания была исполнена той же романтической страсти, что некогда двигала Фемистоклом накануне нашествия Ксеркса: «Народ Афин полагает своим долгом бросить на алтарь свободы Греции все — и корабли, и собственность, и самое жизнь». Города центральной Греции и Пелопоннеса с готовностью откликнулись на этот зов.
Поначалу все складывалось удачно. Наместник Македонии Антипатр попытался было подавить бунт, но ему было далеко не только до Александра, но даже и до Ксеркса. Греки во главе с Афинами успешно блокировали горный проход у Фермопил. Столкнувшись со столь упорным сопротивлением, Антипатр потребовал от македонских военачальников в Азии прислать ему подкрепление и флот. Теперь не далее как следующей весной вновь образованному союзу греческих городов, как и морской мощи Афин, предстояло пройти решающее испытание.
Готовясь к нему, афиняне решили снарядить вдобавок к имеющимся двести новых квадрирем и сорок триер. В ту зиму на службу были призваны все афинские граждане, кому еще не исполнилось и сорока. Границы Аттики предстояло защищать частям, сформированным тремя филами. Оставшиеся семь пошлют своих людей воевать за границей. С наступлением тепла из Азии в Европу, через Геллеспонт, на помощь к Антипатру потянулись македонские отряды. Афиняне бросили наперерез им свои корабли, устремившиеся через Эгейское море на северо-восток. Из всех стратегов, заступивших на службу в тот год, один Фокион мог похвастаться опытом участия в морских сражениях, да и то когда это было? Пятьдесят лет назад, при Наксосе. Сейчас ему вот-вот должно было исполниться восемьдесят, и выбор пал на более молодого человека. Им оказался Эветион из демы, то есть городка под названием Кефисия, аристократ, бывший начальник конницы.
Если афиняне рассчитывали на столь же успешный результат, какого добился в Византии Фокион восемнадцать лет назад, когда ему удалось принудить к согласию отца Александра царя Филиппа, то это была иллюзия. Годы морской слабости Македонии остались далеко позади. Дойдя до Геллеспонта, Эветион столкнулся с сильным отрядом кораблей под командой некоего Клита. Сражение развернулось в знакомых водах близ Абидоса, и македоняне взяли верх. Большую часть своих кораблей Эветиону удалось вывести из-под удара, но многие афиняне были захвачены в плен или, добравшись до берега, пустились в бега. Верные друзья-абидосцы, кому смогли, помогли, дали людям деньги и отправили домой в Афины.
Клит собрал в единый кулак 240 кораблей и во главе этой могучей армады пустился следом за остатками афинского флота. В то же время, несмотря на то что в эллингах Пирея стояли сотни готовых к бою кораблей и что в прошлом году было объявлено о начале нового грандиозного судостроительного проекта, в этот час грозного кризиса людей у афинян хватало для снаряжения лишь 170 судов. Предпочтение было отдано квадриремам, практически каждая из которых была полностью укомплектована и спущена на воду. В объединенную эскадру вошли также две квинкеремы, остальные — триеры.
Путь лежал в воды, омывающие Аморгос, скалистый островок на самом востоке Кикладского архипелага. Ни размерами, ни богатством, ни славой Аморгос не мог сравниться со своим западным соседом Наксосом. При этом на западном своем берегу он располагал лучшей, наверное, на всем архипелаге естественной гаванью, окруженной со всех сторон чудесными песчаными дюнами. На верхушке холма, откуда открывается вид на гавань, как птица на насесте, устроилось укрепленное поселение Миноя — память о морских царях Крита и созданной ими талассократии. Во времена расцвета Афин Аморгос был чем-то вроде их придатка, а в годы существования Второго морского союза сохранял союзническую верность, но в анналах морской истории Афин фактически не фигурировал.
Когда на горизонте замаячили корабли македонян, Эветион изготовился к сражению. Под его началом оказалось столько кораблей, сколько не было у Афин со времен разгрома при Эгоспотамах. И все равно подавляющее количественное преимущество было на стороне македонян. Да и на палубах собралась мощная, всесокрушающая, безжалостная сила — в лице опытных воинов, равных которым не было во всем мире. Произошла стремительная стычка, в ходе которой кораблям Клита удалось опрокинуть три-четыре афинские триеры. Не давая македонянам возможности прорвать фронт афинских судов и предотвращая неизбежный разгром, грозящий обернуться резней, Эветион просигналил с флагманского судна, что афиняне готовы капитулировать.
На протяжении последних полутора столетий афинским морякам случалось попадать в ловушку, как в Египте, терпеть сокрушительные поражения, как при Сиракузах, подвергаться преследованию, как при Нотии, попадать на берегу в плен целыми экипажами, как при Эгоспотамах. Но впервые в истории афинский стратег добровольно склонил голову перед вражеским флотом. Фемистокл, Формион, Хабрий — никто из них не признал бы поражения без боя, без отчаянной битвы во имя Афин. Что же изменилось за это время?
Как говорилось, афиняне из высших слоев общества с самого начала отвергали саму идею освободительной войны. А на борту каждого судна находился по меньшей мере один аристократ-триерарх. Отдаленные перспективы сражения при Аморгосе ни за что бы не остановили людей, занимавших командные позиции во времена греко-персидских и Пелопоннесской войн, но нынешние стратеги и триерархи мало того что не хотели побеждать, у них и в бой-то вступать не было никакого желания. Каким-то образом Эветиону удалось, капитулировав, убедить Клита в том, что афиняне не просто признают свое поражение в данном конкретном бою, но и вообще никогда отныне не выступят против Македонии на море. Только такой домысел может быть единственным объяснением последующему поведению македонского военачальника — отказавшись от трофеев, он позволил противнику взять свои потрепанные суда на буксир и увести их домой.
Не преследуемые и не конвоируемые македонянами, афиняне ушли с поля поражения во всеоружии и полном порядке. Впереди их ждало возвращение в Пирей. Для тех, кто голосовал на собрании за войну, это был тяжелый и долгий путь. Утешали ли они себя надеждами на то, что преемники Александра будут строить отношения с Афинами, как строил их сам Александр? Или что афинский флот в ближайшие месяцы или пусть годы восстанет из праха?
Их возвращению предшествовало ложное сообщение — будто бы одержана победа. Свидетели видели, что афинские триеры возвращаются после боя с поврежденными судами на буксире, а это обычно — знак победы. Первый же афинянин, до которого докатилась радостная весть, водрузил на голову венок, сел на коня и проехал через весь город, оповещая сограждан о триумфе. Торжествующее собрание распорядилось немедленно принести благодарственные жертвы богам. Эйфория продолжалась два или три дня, а потом в Пирей вернулся флот, и открылась печальная правда.
Столкновение с македонянами на суше принесло тот же результат, что и на море. Противники сошлись под Кранноном, в Фессалии, где трудная победа македонян стала прологом к полной капитуляции греков. Вскоре после этого Клит, воодушевленный своими победами в Геллеспонте и при Аморгосе, перехватил в западных водах отряд афинских боевых кораблей и нанес им сокрушительное поражение вблизи Эхинадских островов. Таким образом, даже без Филиппа и Александра македоняне доказали свою способность превосходить города-государства Древней Греции.
Собрание направило Фокиона, Демада и главу Академии Ксенократа в ставку Антипатра: герою войны, оратору и философу предстояло договариваться об условиях мира и судьбе некогда великого города. Антипатр потребовал контрибуции, покрывающей все расходы Македонии на войну, выдачи Демосфена и других врагов его страны, а также эвакуации населения Самоса. Феты, состояние которых оценивается ниже двух тысяч драхм, подлежат высылке из Афин. Те, что посостоятельнее, остаются в городе, но обязуются передать македонскому гарнизону один из пирейских фортов.
Это было не то, на что рассчитывали послы. С изгнанием фетов они согласились, но отчаянно цеплялись за Самос и яростно возражали против присутствия военных отрядов Македонии на земле Аттики. Антипатр немного уступил, согласившись передать судьбу Самоса на рассмотрение нового царя Македонии Филиппа III Арридея — единокровного брата Александра. Что же касается Пирея, протесты афинян вызвали лишь презрительный смех. Ставка легендарного афинского флота имела в глазах македонских завоевателей куда большее стратегическое значение, чем Акрополь или даже Афины в целом. Антипатру не было никакой нужды разрушать военно-морскую базу или сжигать корабли. Удаление смутьянов-фетов — уже само по себе надежная гарантия конца афинской морской мощи, а корабли, как материальное ее воплощение, достанутся преемникам Александра.
В общем, посланники вернулись домой с такими условиями мира, которые лишали Афины независимости и — что бы это ни означало в смысле практическом — национальной идентичности. Невозможное стало возможным. Почти три пятых граждан — двенадцать тысяч из двадцати одной — не смогли пройти имущественный тест Антипатра. Они превратились в мусор, в быдло, в радикал-демократов, сделались повсюду притчей во языцех — воплощением всех экспансионистских притязаний и тщеславных помыслов Афин. Теперь им предстояло навсегда покинуть не только родной город, но и пределы всей Греции.
И вот тогда-то афиняне наконец осознали, что же произошло при Аморгосе. Они выжили, они сохранили свои корабли, на их долю не выпало поражения, сопоставимого с ужасом Сиракуз и безысходностью Эгоспотам. Но при этом в водах Аморгоса они утратили нечто самое дорогое и самое главное в своей истории. Не зря македоняне видели в Клите бога, самого Посейдона, хоть и потопил он всего-навсего три или четыре вражеские триеры. Он осуществил то, чего не смогли достичь ни Ксеркс, ни Лисандр, ни Филипп, — он уничтожил афинский флот. Но по правде говоря, худшим врагом афинян были они сами. Справедлив оказался приговор, вынесенный землякам Фукидидом под конец Пелопоннесской войны: «сдаться их заставили внутренние распри».
Изгнанникам выделили земли во Фракии, суровой северной стране, в попытках освоения которой полегло столь много афинян былых поколений. Граждане понуро собирали свои пожитки и спускались в Пирей. Вокруг, в эллингах, стояли триеры и другие военные суда, но их время вышло. Теперь, когда распались связи, единящие афинян ради достижения общей цели, суда превратились в безжизненную просмоленную древесину. Высланные граждане и их семьи отправлялись во Фракию — свой новый дом. Многим уже не суждено было еще хоть раз увидеть Афины.
С приходом осени опустевший город праздновал Элевсинские мистерии, но торжества были омрачены ужасным предзнаменованием. На одного из посвящаемых, когда он ступил в море, чтобы принести жертву, напала акула и проглотила его. Девятнадцатого боэдромиона афиняне отмечали годовщину сражения при Саламине и дату, символизирующую начало господства Афин на море. То ли по неведению, то ли по совпадению, то ли чтобы унизить поверженного противника, триумфаторы-македоняне на следующий день разместили в Пирее свой военный гарнизон. Вооруженные длинными пиками воины, ходившие с Александром Великим в Персию, по-хозяйски располагались в форте на холме Мунихия.
Демосфена македоняне обнаружили в Калаврии, где он нашел убежище в храме Посейдона. При приближении воинов он вышел за ограду, чтобы не осквернять святой земли, и поспешно проглотил яд, который держал в писчем пере. Это самоубийство не позволило македонянам отомстить Демосфену за все его речи, направленные против Филиппа и Александра.
В том же году своей смертью умер Аристотель. Век подходил к концу.
В ту пору, когда Афины склонились перед Македонией, в их распоряжении имелся, как никогда, многочисленный флот и отлично оборудованная военно-морская база. Арсенал Филона все еще оставался совершенной новинкой. Только вот куда-то испарилась его таинственная духовная суть. Выступая однажды в собрании, Никий заметил, что команда любого корабля способна продержаться на вершинах мастерства совсем недолгое время. Если говорить об афинском государственном корабле, то благодаря неустанным трудам и жертвенности целого народа этот миг растянулся более чем на сто пятьдесят лет. Но теперь на море будут владычествовать другие города-государства и империи: Родос, Карфаген, Александрия, Рим. Что же до мощного выброса творческой энергии, именуемого Золотым веком, то он иссяк с исчезновением той морской мощи, которая всегда служила ему опорой. С рассеянием народа Афин и переходом Пирея в чужие руки пришел конец и царствованию флота, построенного Фемистоклом.
Сверкающий город мрамора и бронзы по-прежнему хранит память о героях, чей прах лежит в могилах на Священном пути. Фукидид записал надгробную речь, которую Перикл произнес в честь тех, кто пал на Пелопоннесской войне. В самом конце ее содержится такой призыв: «Памятник знаменитым людям — весь мир. И говорят о них не только надписи, высеченные на могилах, где они лежат дома, у себя на родине. Нет, память о них сохраняется и укрепляется и в иноземных странах, только не в материальной, видимой форме, а в сердцах людей. И вам предстоит попытаться стать похожими на них». Многие и пытались, преследуя те же высокие цели демократии, свободы и счастья, которыми вдохновлялись, выходя в море на своих кораблях, афиняне былых поколений. Но мало кто может утверждать, что сравнялся в своих достижениях с предшественниками; и еще меньше тех, кто их превзошел.
Приложения
Хронология (все даты приводятся по летоисчислению до новой эры)
524 (ок.). Рождение Фемистокла. Афинами правят тиран Гиппий и его брат Гиппарх, сыновья первого тирана Писистрата.
521 (ок.). Дарий становится Царем царей Персии.
510 (ок.). При поддержке Спарты афиняне свергают тирана Гиппия и его родичей, находящих убежище в персидских владениях. Афины вступают в союз греческих городов-государств во главе со Спартой.
508–507. Афинский законодатель Клисфен предлагает осуществление демократических реформ.
506 (ок.). Между Афинами и жителями острова Эгина возникают трения.
Греко-персидские войны (499–449)
499 (ок.). В стремлении освободить ионийские города от персидского владычества Аристагор из Милета обращается за поддержкой к грекам. Спартанцы просьбу отклоняют, афиняне выражают готовность прийти на помощь.
498 (ок.). Вместе с шестью триерами из Эретрии двадцать афинских боевых кораблей пересекают Эгейское море и поддерживают наступление восставших ионийцев на центр персидской провинции Сарды. Город они сжигают, но при возвращении на суда персидский боевой отряд наносит им тяжелое поражение. В согласии с греческой традицией царь Дарий клянется отомстить Афинам.
494 (ок.). Одержав победы на море при Ладе, за которой следует покорение Милета, персы подавляют восстание ионийцев.
493–492. Будучи архонтом Афин, Фемистокл убеждает сограждан обратить свои взгляды на море и укрепить Пирейский мыс на случай вторжения персов в Аттику. На первом этапе строительства высота стен достигает не более половины против того, что предлагал Фемистокл.
492 (ок.). Первый поход Дария против греков терпит фиаско — персидские корабли попадают в жестокий шторм и терпят бедствие недалеко от горы Афон в северной части Эгейского моря. При этом им удается присоединить к метрополии некоторые районы Фракии и Македонское царство.
490. Наученный горьким опытом, Дарий избегает северных маршрутов и вторую военную экспедицию, в которую входят и суда, перевозящие боевых коней, направляет прямиком через Эгейское море. Персы захватывают Эретрию, но надеждам наказать греков за сожжение Сарды сбыться не суждено: соединения афинских гоплитов во главе с Мильтиадом наносят персам поражение на марафонском поле.
486. Дарий готовит третий поход на Грецию, но умирает еще до его начала. Ему наследует его сын Ксеркс, которому приходится отложить выступления из-за бунтов, вспыхнувших на собственной территории.
483–482. В свете резкого увеличения добычи серебра в лаврийских рудниках Фемистокл убеждает собрание воспользоваться неожиданной удачей и обратить ее на нужды строительства флота. В результате на воду спускаются сто новых триер. За какие-то три года Афины доводят их численность до двухсот, получая, таким образом, в свое распоряжение крупнейший в Греции флот.
482. Афинский государственный деятель Аристид, возражавший против судостроительных планов Фемистокла, подвергается остракизму, удаляется в десятилетнее изгнание, но задолго до истечения срока, в 480 году, возвращается в город.
481. Во главе огромной армии Ксеркс выходит из своей столицы в Сузах и направляется на запад, в Сарды. Его инженеры устанавливают понтонный мост через Геллеспонт и роют канал, упирающийся в гору Афон. Спартанцы созывают на совет в Истме греков, готовых оказать сопротивление Ксерксу. Афины на этом совете представляет Фемистокл.
480. Ранней весной греки, по совету Фемистокла, перемещают свои военные отряды на север, в долину Темпы, в надежде остановить продвижение Ксеркса как можно дальше от своих пределов. Маневр не срабатывает, и тогда Фемистокл, напоминая согражданам пророчество Дельфийского оракула, убеждает афинян покинуть Аттику и полностью положиться на флот или Деревянную стену. Уже летом афинский флот становится костяком сопротивления персидскому вторжению и наносит Ксерксу поражения при Артемисии и Саламине.
479. В то время как греческая армия ведет бои с персидской армией, которую Киркс, отступая, оставил в Греции, союзный флот, форсировав Геллеспонт, переносит военные действия на персидскую территорию и топит триеры персов у Микале. Обретших свободу ионийцев приглашают вступить в Делосский союз. Во главе с греческим стратегом Ксантиппом они захватывают Сарды на Геллеспонте.
478. Уступая настояниям Фемистокла и вопреки возражениям Спарты, афиняне перестраивают городские стены. Вместе со спартанским наместником Павсанием афинский стратег Аристид во главе отряда афинян направляется на Кипр, а затем в Византий, где ионийцы обращаются к Афинам с просьбой стать их гегемоном.
477. Афиняне и их союзники основывают так называемый Делосский союз. Афины будут осуществлять карательные действия против Персидского царства, союзники — поставлять корабли либо переводить деньги. Аристид исчисляет объем этих взносов. Афинский стратег Кимон возглавляет первый из таких ежегодных походов и захватывает город Эйон во Фракии, на берегу реки Стримон.
476. Не давая согражданам забыть, какой вклад в победу над персами внес лично он, Фемистокл осуществляет на свои деньги постановку пьесы Фриниха «Финикиянки».
475 (ок.). Кимон направляется морем на Скирос, присоединяет остров к союзу и возвращается в Афины с прахом мифического героя Тесея.
472. Не достигнув еще и тридцати лет, сын Ксантиппа Перикл оплачивает постановку «Персов» Эсхила.
466 (ок.). Проведя ряд успешных кампаний, Кимон возглавляет флот, направляющийся на реку Эвримедонт, в южной части Малой Азии и одерживает победу над персами как на море, так и на суше.
465. Умирает Ксеркс. Ему наследует сын — Артаксеркс.
464 (ок.). Эфиальт и Перикл возглавляют морскую экспедицию в южную часть Средиземноморья.
462–461. Эфиальт становится во главе демократической революции в Афинах, в результате которой совет аристократов, ареопаг, утрачивает свою власть.
461. Кимон, не согласный с реформами Эфиальта, подвергается остракизму.
460 (ок.). Афиняне ведут союзный флот на Кипр, а затем в Египет, где оказывают поддержку местному властителю Инару, восставшему против персов.
Малая Пелопоннесская война (459–446)
459. Продолжая играть ведущую роль в непрекращающихся военных действиях Делосского союза против Персидского царства, афиняне постепенно втягиваются в новую войну — с Пелопоннесским союзом, а в конечном итоге и с самой Спартой. Начало этой внутригреческой войне кладет отпадение Мегар от Пелопоннесского союза и их союз с Афинами, который приносит последним новые порты в Сароникском и Коринфском заливах.
458. Афинский флот сталкивается с коринфянами и другими противниками в Сароникском заливе и захватывает остров Эгину, утрачивающий отныне свою независимость.
457. Афиняне строят Длинную стену, чтобы укрепить связь города с пирейским портом. Олигархи в тайном союзе со Спартой пытаются воспрепятствовать строительству, а отряд гоплитов-патриотов вступает в бой со спартанскими силами под Танагрой в Беотии, защищая родной город от любых покушений на его суверенное право самому решать собственные дела.
456. В качестве ответной меры, направленной против союза Спарты с изменниками-олигархами, Толмид во главе крупного отряда направляется на Пелопоннес, осуществляя по дороге целую серию военных морских и сухопутных акций.
455. Развивая его успех, Афины посылают в западном направлении флот под командой Перикла. Примерно в это же время Фидий воздвигает на Акрополе огромную бронзовую статую Афины.
454. Второй поход Перикла прерывает известие о поражении в Египте, нанесенном после шести лет весьма плодотворного сотрудничества с Инаром. Афиняне составляют «список данников», высекая его на стенах Акрополя; к этому времени казначейство союза уже было переведено с Делоса в Афины.
450 (ок.). Вернувшийся из изгнания Кимон возглавляет экспедицию на Кипр и одновременно направляет флотилию в Египет. Сам он во время похода умирает, но афиняне и без него одерживают ряд важных побед над персами.
449. По приглашению Артаксеркса в Сузы направляется афинский посланник Каллий и ведет с персидским царем переговоры о мире. Это знаменует конец греко-персидских войн.
447. Толмид осуществляет стремительный бросок в беотийский город Коронея, но терпит там болезненное поражение, которое кладет предел афинским мечтаниям об империи на суше. Начинается строительство Парфенона.
446. Афины заключают Тридцатилетний мирный договор со Спартой и ее союзниками.
443 (ок.). Для облегчения получения и учета дани Афины делят свою морскую империю на пять районов.
Самосская война (440)
440. Самос восстает против афинского владычества. Сменяя друг друга, Перикл, Софокл, Формион и другие стратеги возглавляют афинские морские соединения, ведущие борьбу за возвращение острова под власть Афин.
436. Афиняне основывают колонию в Амфиполе, на берегу реки Стримон, откуда можно отслеживать добычу серебра в рудниках Фракии.
435. Между Коринфом и Керкирой начинается война.
433. В сражении при Сиботе керкирцев поддерживают десять афинских кораблей. На протяжении всей зимы коринфяне, мегарцы и другие не оставляют попыток убедить Спарту объявить Афинам войну.
432. Афиняне направляют ряд военных экспедиций в Потидею, город-диссидент на северном побережье Эгейского моря. Одну из них возглавляет Формион, а участвуют как рядовые воины Сократ и восемнадцатилетний Алкивиад.
Пелопоннесская война (431–404)
431. По хронологии Фукидида — первый год Пелопоннесской войны. Афиняне эвакуируют сельское население и укрываются за Длинной стеной. Спартанцы во главе армии Пелопоннесского союза смерчем проносятся над Аттикой. Перикл отвечает морской операцией на Пелопоннесе.
430. Второй год войны. Пелопоннесцы вновь вторгаются в Аттику; афинский флот вновь направляется к Пелопоннесу. Впервые опробуются суда, способные перевозить лошадей. В Афинах распространяется эпидемия чумы, уносящая треть населения города.
429. Третий год войны. Формион во главе двадцати кораблей оказывает поддержку союзникам Афин на западе и одерживает победы над пелопоннесцами при Патрах и Нав-пакте. Пелопоннесский флот предпринимает попытку внезапной ночной атаки на порт в Пирее. Умирает Перикл.
428. Четвертый год войны. Восстает Митилена — город на острове Лесбос. Оправившись от последствий эпидемии чумы, Афины снаряжают флот из 250 судов, ведущих активные действия на всей акватории Эгейского моря.
427. Пятый год войны. Пелопоннесцы бросают вызов Афинам в северных водах и (впервые за последние десятилетия) на Эгейском море. Митилена капитулирует. Клеон настаивает на самом суровом наказании мятежников, но собрание проявляет милосердие. Афины направляют морской отряд на Сицилию и оказывают помощь союзникам в Регии, на юге Италии.
426. Шестой год войны. Очередному вторжению пелопоннесцев в Аттику препятствует землетрясение на Коринфском перешейке. Афинский флот продолжает вести военные действия на Эгейском море, близ западных берегов Греции, южной Италии и Сицилии.
425. Седьмой год войны. Афинский стратег Демосфен выдвигает план строительства афинского берегового плацдарма в Пилосе, в северо-западном районе Пелопоннесского полуострова. Дождавшись подкрепления во главе с Клеоном, он одерживает верх над отрядом спартанских гоплитов на острове Сфактерия. Спартанцы просят мира, но по настоянию Клеона собрание отклоняет мирные предложения.
424. Восьмой год войны. Аристофан пишет комедию «Всадники», в которой карикатурно изображает стратегов Клеона, Никия и Демосфена. Никий проводит успешные операции в Кифере и Мегарах. Афиняне отказываются от продолжения военных действий в Сицилии, так ничего там и не добившись.
423. Девятый год войны. Спартанский стратег Брасид захватывает стратегически важный город на севере — Амфиполь, и Афины и Спарта договариваются о перемирии на год. Афинскому стратегу Фукидиду отбить своими малыми морскими силами Амфиполь не удается, и он отправляется в изгнание, где, пользуясь насильственно предоставленной свободой и одиночеством, приступает к написанию истории Пелопоннесской войны.
422. Десятый год войны. Срок действия перемирия истекает. Клеон и Брасид погибают в бою за Амфиполь.
421. Одиннадцатый год войны, которая, как считает Фукидид, никак не окончится, хотя самые острые противоречия остались позади. Ранней весной по инициативе Никия начинаются мирные переговоры между Спартой и Афинами. Это событие находит отражение в комедии Аристофана «Мир». Попытки разрешить оставшиеся после десяти лет войны недоразумения приводят к новым вспышкам насилия.
420. Двенадцатый год войны. На авансцену политической и дипломатической жизни Афин выходит Алкивиад. Он переигрывает спартанских посланников и добивается заключения союза между Афинами и некоторыми городами Пелопоннеса.
419. Тринадцатый год войны. Алкивиад по-прежнему поднимает волнения на Пелопоннесе.
418. Четырнадцатый год войны. Спартанцы побеждают ослабленных пелопоннесцев под Мантинеей.
417. Пятнадцатый год войны. Под нажимом Алкивиада демократическая фракция Аргоса заключает союз с Афинами. Афинский флот блокирует македонские порты.
416. Шестнадцатый год войны. Афинский флот захватывает остров Мелос в южной части Эгейского моря. Жители подвергаются суровым карам за отказ присоединиться к союзу во главе с Афинами.
415. Семнадцатый год войны. Афины направляют в Сиракузы крупное военно-морское соединение во главе с Алкивиадом, Никием и Ламахом. По дороге Алкивиад отзывается домой для допроса по обвинению в святотатстве, но по дороге бежит и становится на сторону Спарты.
414. Восемнадцатый год войны. Афинский флот закрепляется в Большой бухте Сиракуз, но Ламах гибнет в бою. Никий направляет собранию прошение об отставке. Приводя в порядок финансы, Афины заменяют «имперскую» дань с союзников налогом на морскую торговлю.
413. Девятнадцатый год войны. Афины направляют в Сиракузы подкрепление под началом стратегов Демосфена и Эвримедонта, но в конечном итоге весь экспедиционный корпус терпит жестокое поражение как на море, так и на суше. Уцелевшие в боях разбегаются, находя убежище в местных карьерах.
412. Двадцатый год войны. Персидские сатрапы Фарнабаз и Тиссаферн предлагают Спарте финансовую поддержку в борьбе с союзниками Афин в Малой Азии. Алкивиаду удается спровоцировать восстание на Хиосе, после чего Афины с удвоенной энергией строят новые корабли и военно-морскую базу на Самосе. При всех неудачах в Сицилии флот твердо держится против спартанских сил, сосредоточенных в Эфесе.
411. Двадцать первый год войны. Власть в Афинах захватывают олигархи. Городом отныне правит Совет 400. Афинские моряки, оказавшиеся на Самосе, образуют собственное правительство, возглавить которое призывают пребывающего в Сардах Алкивиада. Особенную активность на Самосе проявляют Фрасибул и Фрасилл. Алкивиад удерживает флот от похода на Афины и тем самым предотвращает гражданскую войну. В его отсутствие, пока он предпринимает попытки в Аспенде удержать финикийцев от намерения направить на поддержку Спарты морскую эскадру, театр военных действий перемещается на Геллеспонт, где Фрасибул и Фрасилл (к которым впоследствии присоединяется и Алкивиад) одерживают победу в морских сражениях при Киноссеме и Абидосе.
410. Двадцать второй год войны. Афинский флот одерживает крупную победу над объединенными силами спартанского адмирала Миндара и персидского сатрапа Фарнабаза. В Афинах восстанавливается демократия, чему предшествует поражение, нанесенное силам олигархов спартанцами в морском сражении в Эретрии. Афины отклоняют мирные предложения Спарты.
409. Двадцать третий год войны. Афинский флот продолжает свои полупартизанские действия под руководством Алкивиада, Фрасибула и других, ввязываясь в отдельные сражения в районе Геллеспонта и Ионии. Софокл представляет свою новую трагедию «Филоктет», присоединяясь таким образом к призывам вернуть Алкивиада в Афины.
408. Двадцать четвертый год войны. Алкивиад и его соратники возвращают Византий под владычество Афин, получая контроль над Босфором, через который проходят морские торговые пути. Средства, перетекающие в Афины, позволяют завершить строительство Эрехтейона в Акрополе.
407. Двадцать пятый год войны. Алкивиад возвращается в Афины и избирается стратегом. Осенью он направляется в Ионию во главе крупной флотилии, экипажам которой, однако, нечем платить. Тем временем царевич Кир, потомок Кира Великого, преподносит щедрые дары адмиралу Лисандру, побуждая тем самым спартанский флот к активным действиям. Из-за опрометчивых шагов Антиоха, рулевого Алкивиада, афиняне терпят поражение под Эфесом. Алкивиад возвращается в свое бессрочное изгнание.
406. Двадцать шестой год войны. Спартанцы запирают лучшие силы афинского флота в митиленской гавани, и стратег Конон взывает к собранию о помощи. Для снаряжения спасательной экспедиции Афины предоставляют права гражданства метикам и рабам. Фрасилл, Перикл и еще несколько стратегов ведут крупное флотское соединение к Аргинусским островам близ Митилены, где одерживают победу над спартанцами. Впоследствии стратегов судят и приговаривают к смерти за то, что они бросили в беде раненных в бою и не подобрали в море тела погибших.
405. Двадцать седьмой год войны. Аристофан пишет комедию «Лягушки» — парафразу отчаянных усилий сограждан восстановить господство на море. Афинский флот следует за спартанцами во главе с Лисандром в Геллеспонт, где терпит поражение при Эгоспотамах — последнем морском сражении Пелопоннесской войны.
404. Ранней весной афинский флот капитулирует перед Лисандром, и это ставит точку в войне. Длинная стена сравнивается с землей, численность боевых кораблей сокращается до двенадцати триер, в Афинах устанавливается власть Тридцати тиранов. В Малой Азии умирает Алкивиад. Фрасибул поднимает бунт во имя торжества демо-кратии.
403. В Афинах восстанавливается демократический режим. Лисандр утрачивает свое влияние.
401. Ксенофонт Афинский возглавляет морской поход Десяти Тысяч — армии греческих наемников, собранной на деньги Кира-младшего. Она терпит поражение при Кунаксе близ Вавилона, что окончательно закрепляет положение Артаксеркса II как Царя царей Персии.
399. Суд выносит смертный приговор Сократу.
Коринфская и Беотийская войны (397–362)
397. Гражданина Афин Конона, живущего в ссылке на Кипре, назначают стратегом персидского флота и ставят перед ним задачу покончить со спартанским владычеством на море и спартанскими набегами на территорию Персии.
395. Афинские повстанцы объединяются в противостоянии Спарте с фиванцами и коринфянами и приступают к восстановлению Длинной стены. Тогда же на помощь Конону направляется отряд афинских боевых кораблей.
394. Конон возглавляет объединенные афинско-персидские силы и одерживает победу над спартанцами при Книде, в юго-западной части Малой Азии.
393. С согласия сатрапа Фрасибула, командующего вместе с Кононом объединенными силами, последний возвращается вместе с триерами и деньгами в Афины, где восстанавливает военно-морскую базу в Пирее и участвует в реставрации Длинной стены.
392. В Малой Азии умирает Конон.
389. Фрасибул предпринимает попытки восстановить афинское господство на Пелопоннесе. Ему сопутствует переменный успех.
388. Фрасибул гибнет в сражении на реке Эвримедонт. Решительные военные действия продолжает афинский стратег Ификрат.
386. Откликаясь на призыв Спарты, Артаксеркс II собирает представителей греческих городов в Сардах, где его посланцы предлагают собравшимся подписать составленный Царем царей договор о мире. По этому договору Афины сохраняют контроль над несколькими островами в Эгейском море, но отказываются от силовых попыток восстановить Афинский союз.
380. Афинянин Исократ пишет «Панегирик» — призыв к общеэллинскому походу против Персии во главе с Афинами и Спартой.
377. В ответ на повторяющиеся из года в год провокации афиняне учреждают Второй морской союз, в котором греческие города объединяются перед лицом угрозы со стороны Спарты.
376. Хабрий и Фокион наносят поражение спартанцам при Наксосе.
375. Тимофей одерживает победу в сражении при Алисии, ставя тем самым под вопрос господствующее положение Спарты в восточной Греции.
373. Ификрат возглавляет афинскую военную экспедицию вокруг Пелопоннеса и заманивает в ловушку спартанский флот у безымянного островка к северу от Керкиры.
372 (ок.). Спартанскую военную мощь символически сметает цунами в Коринфском заливе, превратившее в щепки целый отряд триер.
371. Афины и Спарта заключают мир. Не проходит и месяца, как некогда непобедимая спартанская армия терпит сокрушительное поражение от фиванцев в битве при Левктрах. Спарта приходит в упадок, и на этом фоне Афины переживают новый Золотой век в скульптуре (Пракситель), риторике (Исократ и Демосфен), прежде всего в философии (Платон и Аристотель).
360. Двадцатичетырехлетний Демосфен добровольно становится триерархом в военной экспедиции, направляющейся под командой Кефисодота на Геллеспонт и полуостров Галлиполи.
Союзническая война (357–355)
357. Демосфен вновь выступает добровольцем-триерархом, на сей раз под командой Тимофея, идущего во главе экспедиции отвоевывать у Фив Эвбею. Перед угрозой новой материализации призрака афинского империализма главные союзники Афин, прежде всего Хиос, Родос, Византий и Кос, уступают настояниям Мавсола из Галикарнаса (того самого, что по прошествии времени упокоится в первом в мире мавзолее) и поднимают восстания, начиная тем самым гражданскую войну, известную также как Союзническая война. Хабрий направляется во главе крупного соединения на Хиос, но гибнет во время боя в гавани.
355. Союзническая война завершается признанием Афин права государств на отделение от Второго морского союза. Целый ряд второстепенных союзных городов и островов сохраняют верность Афинам, но флот их переживает тяжелые времена, испытывая острый дефицит как в руководителях — стратегах и триерархах, так и особенно в деньгах. Пытаясь справиться с кризисом, афинский государственный деятель Периандр выдвигает план новой организации флота, в основе которого лежат так называемые симмории.
354. Демосфен произносит в собрании свою первую речь с призывом к реформе флота — «О симмориях».
351. В ответ на вмешательство македонского царя Филиппа II в сферу афинского влияния Демосфен произносит речь, получившую впоследствии название «Первой филиппики», в которой пытается безуспешно побудить сограждан к решительным военно-морским действиям.
349. Демосфен выступает с целым циклом речей, объединенных названием «олинфики», в которых призывает афинян встать на защиту завоеванного Филиппом города Олинф.
Македонские войны (340–322)
340. По прошествии десяти лет с начала македонских завоеваний Демосфену удается наконец убедить собрание объявить Филиппу войну.
339. Ввиду приближения афинского и союзного флотов, под командой стратега-ветерана Фокиона, Филипп отказывается от похода на Византий и Перинф, как и вообще от попыток взять над греками верх на море.
338. Филипп и его сын Александр идут на север Греции и разбивают отряды фиванцев и афинян при Херонее.
337. Объявив себя гегемоном всех греков, Филипп созывает на Истме совет, где обнародует план войны с Персидской империей.
336. В то время как в Афинах ожидают из Македонии объявления мобилизации, убийца-одиночка наносит Филиппу смертельный удар. Отцу наследует Александр («Великий»). Он продолжает готовить завоевательный поход в Персию.
335. Аристотель основывает Ликей.
334. Двадцать афинских триер переправляют армию Александра через Геллеспонт, а затем принимают участие в успешных боевых действиях при Милете и Галикарнасе.
331. Афины направляют к Александру государственный корабль «Парал» с петицией об освобождении афинских граждан, сражавшихся в качестве наемников на стороне персов. Александр удовлетворяет просьбу буквально накануне отправления в Персию.
330. Александр объявляет себя властителем Персидского царства. Афиняне завершают строительство арсенала Филона в Пирее.
327. Александр вторгается в Индию.
324. Афины направляют экспедицию во главе с Мильтиадом в воды Адриатики, где ей предстоит обеспечить безопасность торговых маршрутов от пиратских налетов этрусков. Демосфен доставляет в Афины из Олимпии текст изданного Александром указа об изгнанниках.
323. Афины направляют «Парал» на Самос для защиты своих интересов на острове. В Вавилоне умирает Александр. Ему наследует единокровный брат Филипп III Арридей. Афиняне призывают греков начать освободительную войну (впоследствии ее назовут Эллинской, или Ламийской) против македонского владычества.
322. Афинский флот терпит поражение от македонцев в Геллеспонте, затем — еще более тяжелое — при Аморгосе и, наконец, во время операции по зачистке в районе Эхинадских островов. По условиям капитуляции Македония получает контроль над Пиреем, а большая часть афинского демоса, или фетов, удаляется из города. В том же году умирают Аристотель и Демосфен и приходит конец морской мощи Афин.
Глоссарий
АГОРА. Рыночная площадь в Афинах и других греческих городах, являющаяся также административным центром и местом проведения ритуальных действ.
АРХОНТ. Один из девяти руководителей города. Изначально архонты избирались всеобщим голосованием граждан, но после того, как было решено заменить голосование жребием, значение архонтов заметно понизилось. Когда-то именем архонта-эпонима, в чье ведение входили религиозные дела, назывался год, в течение которого он исправлял свои обязанности.
АРЕОПАГ. Холм невдалеке от Акрополя, где совет бывших архонтов проводил свои собрания. Совет архонтов приобрел заметное влияние и авторитет после вторжения Ксеркса, но в ходе революции во главе с Эфиальтом (462–461) утратил большинство своих прерогатив.
АФИНСКАЯ ИМПЕРИЯ. Современное наименование территории, находившейся под влиянием Афин в эпоху их наивысшего взлета (V век до н. э.), когда более 150 островов и приморских городов выплачивали им ежегодную дань. Фукидид утверждает, что Перикл однажды заявил согражданам, что они управляют архой , то есть империей, однако же в свое время она именовалась не иначе как «Афинами и их союзниками».
ВСАДНИК. В Афинах — гражданин второй категории (в которую входило примерно тысяча двести людей), достаточно состоятельный для того, чтобы иметь коня и служить в коннице. Всадники традиционно были из аристократии и придерживались антидемократических взглядов. Иногда общеаттический термин гиппо переводят как «рыцарь», но афинские всадники никогда не носили тяжелых доспехов и не имели ничего общего с системой феодальных отношений (английский эквивалент слова рыцарь — knight восходит к старогерманскому Knecht, что означает «человек, который служит»). Точно так же не было у них никакого особого кодекса рыцарского поведения. Название пьесы Аристофана «Всадники» иногда переводят как «Рыцари».
ВТОРОЙ МОРСКОЙ СОЮЗ. Организация городов-государств во главе с Афинами, возникшая в середине IV века и официально именуемая (как в свое время Делосский союз) «Афинами и их союзниками». Создана для противодействия общей угрозе со стороны Спарты. Второй морской союз дал новый импульс развитию гражданских институтов и флота Афин, но сильно ограничил меру их воздействия на союзников и, в общем, не достиг высот своей предшественницы.
ГИПАРХ. Командир конного отряда в Афинах. Ежегодно на этот пост избирались двое граждан, возглавлявших конницу города.
ГИПОЗОМАТА. Туго натянутые при помощи кабестана или лебедки тросы, опоясывающие триеру с внешней стороны, что позволяет ей сохранять в своем облике легкость и стройные формы.
ГОЛКАС. Транспортное или грузовое судно большого водоизмещения.
ГОПЛИТ. Пехотинец, в чье вооружение входят большой круглый щит, шлем, панцирь, поножи, шпоры и меч. Гоплиты сражались обычно в тесном ряду, именуемом фалангой. Отряды их формировались примерно из десяти тысяч граждан третьей категории.
ГРЕБНАЯ РАМА (греч. Парексерезия). Открытая шлюпка с выносными уключинами, помещающаяся на верхней палубе триеры. Уключины располагаются вдоль нижней части борта, в то время как к верхним тимберсам крепятся матерчатые или кожаные полотна, прикрывающие гребцов от солнца и метательных снарядов противника. На квадриремах и квинкеремах место гребной рамы заняли полностью закрытые гребные, или весельные кабины.
ДЕЛОССКИЙ СОЮЗ. Современное наименование союза во главе с Афинами, созданного в 478 или 477 году до н. э. после вторжения Ксеркса. Союз имел в своем распоряжении военный флот для защиты свободы греческих островов и городов и для многолетнего противостояния Персидскому царству. Изначально союз проводил свои встречи и держал казну на священном острове Делос в Эгейском море.
ДЕМОКРАТИЯ («демос» — народ, «кратос» — власть). Форма правления, при которой правит большинство и теоретически власть принадлежит рядовым гражданам.
ДИКПЛОС. Военно-морской маневр, при котором корабль или строй кораблей прорывает порядок противника и затем атакует его суда с флангов или тыла. Дикплосу можно противостоять, выстраивая свои корабли в два ряда или прикрываясь береговой полосой.
ДЛИННАЯ СТЕНА. Фортификационное сооружение в Афинах протяженностью в несколько миль, связывающее город с морем. Построенная в середине V века до н. э., она изначально замыкала большой треугольник, стороны которого образовывали сами Афины, Пирей и поселение Фалерон. Впоследствии параллельно ей была пристроена Средняя стена, и, таким образом, между Афинами и их главным портом образовался узкий, но хорошо защищенный коридор.
ДРАХМА. Греческая мера веса и мелкая серебряная монета. В древних Афинах квалифицированный работник получал одну драхму в день. Сто драхм образуют мину (приблизительно фунт), а шесть тысяч — талант.
ЗИГИТ. Гребец среднего ряда триеры. По обе стороны корабля располагались по двадцать семь зигитов.
ИППАГОГОС. Транспортное судно, предназначенное для перевозки боевых коней.
КВИНКЕРЕМА. Крупное судно с пятью рядами весел. На вооружении афинского флота в последние годы его существования, предшествующие капитуляции перед Македонией, имелись две квинкеремы.
КВАДРИРЕМА. Судно с четырьмя рядами весел, более крупное, чем триера, принятое на вооружение афинского флота в конце IV века до н. э.
КЕЛЕЙСТ. Нечто вроде боцмана в команде триеры, в его обязанность входило отслеживать, между прочим, равномерность ударов весел по воде.
КИКЛОС. Тип построения кораблей, при котором они образуют устойчивый круг с направленными во все стороны таранами. Греческие триеры прибегли к такому построению при Артемисии, а пелопоннесцы при Патрах.
КЛЕРУХ. Афинянин, которому предоставлен участок земли где-то за границами Аттики и нередко там же и проживающий, при сохранении, однако, афинского гражданства. Поселение таких экспатриантов называлось «клерухией» и симпатиями местного населения не пользовалось.
МЕТА. Осмотрительность, хитроумие, качество, высоко ценимое у древнегреческих стратегов.
МЕТЕК. Иноземец, осевший в Афинах, пользующийся определенными гражданскими и религиозными правами, порой встающий в ряды его защитников.
МИНА. Мера веса (а при содержании в ней золота или серебра показатель благосостояния), равная ста драхмам.
НАВАРХ. Командир отряда военных кораблей в Афинах. Появились навархи в конце V века до н. э., и роль их в морских делах города была невелика. Они подчинялись стратегам. Иное дело — Спарта, где наварх являлся флотоводцем, командующим на протяжении одного года всеми военно-морскими силами и самой Спарты, и ее союзников.
НАВМАХИЯ. Морское сражение.
НАВПЕГОС. Корабел, корабельный плотник.
НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ (греч. Экклесия ). Высший законодательный орган афинской демократии, выносящий на основании открытых дебатов и голосования всех граждан решения, определяющие политику города и его текущие дела.
НЕОРИОН. Защищенное место — сухопутная стоянка кораблей, особенно военных.
НЕОЗОЙКОЙ. Буквально: «корабельное жилище» — вытянутое, обнесенное колоннами сооружение с наклонными каменными настилами-рельсами, служащее укрытием триерам от стихийных бедствий и жуков-древоточцев. К IV веку до н. э. в Афинах был такой большой флот, что пришлось строить новые, более просторные неозойкии , где триеры соединялись попарно, корма к корме.
ОЛИГАРХИЯ. Власть избранных.
ОСТРАКИЗМ. Афинское установление, согласно которому гражданин, не совершивший никакого преступления, однако же рассматриваемый как потенциально подрывной элемент, мог быть выслан из города на десять лет. Волеизъявление граждан выражалось путем написания имен на глиняных черепках — остраках (остраконах).
ПЕНТЕКОНТОР. Галера с пятью рядами весел. Ко времени вторжения Ксеркса в Аттику (480 г. до н. э.) пентеконторы все еще были на вооружении и у греков, и у персов, но быстро уступали дорогу триерам, а в классическом афинском флоте и вовсе перестали играть какую бы то ни было роль.
ПЕПЛОС. Одеяние Афины, обновлявшееся каждый год для статуи богини в Акрополе и игравшее роль паруса на церемониальной триере, плывущей по улицам города во время Панафиней.
ПЕРИПЛОС. Боевой маневр, в ходе которого корабль или несколько кораблей обходят противника и атакуют его с фланга или тыла. Парируется сдвоением строя, отходом к береговой полосе или перестроением в киклос.
ПНИКС. Скалистый холм в юго-западном районе Афин, где граждане проводили собрание.
САТРАП. В буквальном переводе с фарси «защитник царства». Наместник Царя царей в провинции (сатрапии ), отвечающий за сбор дани с местного населения и подготовку сухопутных и военно-морских сил, участвующих в войнах и походах. В глазах афинян самым важным среди персидских сатрапов был наместник Сард — в западной части Малой Азии.
СИММОРИЯ. Созданные по инициативе Периандра и реформированные Демосфеном ячейки граждан, каждая из которых коллективно финансирует и снаряжает триеру.
СТРАТЕГ. Высший руководитель как в сухопутных, так и в военно-морских силах. Каждая из десяти афинских фил избирала своего стратега, образуя тем самым постоянно действующий совет десяти. Ротация стратегов проводилась ежегодно, хотя избираться на этот пост можно было неоднократно. Опыта военных действий на суше или на море для избрания не требовалось, точно так же, как не существовало определенной процедуры перемещения граждан от низших чинов к высшим. По истечении срока полномочий гражданин утрачивал и титул стратега. Помимо выборной процедуры, собрание имело право назначать граждан (а в IV веке до н. э. и не-граждан) стратегами для выполнения определенного задания. Будучи единственным официальным лицом, получившим свою должность в результате голосования, а не по жребию, стратег обладал не только военной властью, но и значительным политическим влиянием в городе, особенно в V веке до н. э.
ТАЛАНТ. Мера веса, а также (при наличии содержания золота или серебра) денежная единица. Талант серебра равен шести тысячам драхм, или шестидесяти минам, и, следовательно, весит около шестидесяти фунтов.
ТАЛАССОКРАТИЯ. Власть моря («таласса» — море, «кратос» — власть).
ТАМИАС. Казначей.
ТАЛАМИТ. Гребец, располагающийся на нижнем ярусе триеры, в трюме, и действующий веслом через отверстие, проделанное в борту и прикрытое кожаным рукавом. На каждой триере имелось по двадцать семь таламитов по каждой стороне.
ТРАНИТ. Гребец верхнего яруса триеры, находящийся внутри гребной рамы. По каждому борту располагалось по тридцать одному траниту. Нередко платили им больше, чем другим гребцам.
ТРИЕРАРХ. Афинский гражданин — командир триеры, отвечающий, в порядке выполнения своего гражданского долга, за ее снаряжение, содержание и боевые действия. Тот же титул носили и командиры галер. В Афинах это была элита, тесный, числом не более трехсот — четырехсот лиц, круг наиболее состоятельных жителей Афин. В других греческих городах триерархами называли любого командира триеры, независимо от его гражданских обязанностей.
ТРИАКОНТОР. Тридцативесельная галера, игравшая в афинском флоте важную вспомогательную роль. Классический ее образец — священный корабль (предположительно «Делия»), совершавший каждую весну ритуальный поход на Делос.
ТРИЕРА. Судно с тремя рядами весел.
ФЕТ. Афинский гражданин четвертой, низшей, категории — представитель демократического большинства и, как правило, сторонник укрепления флота.
ЦАРЬ ЦАРЕЙ. Персидское наименование монархов, правивших Персидским царством. В древнегреческих текстах Дарий, Ксеркс, Артаксеркс и другие властители обычно именуются просто «царями».
Персоналии
АНДРОТИОН (ок. 410–340). Афинский «автобиограф», или хронист аттической истории. В годы существования Второго морского союза был наместником в Аморгосе. Сохранилось около семидесяти фрагментов его работ.
АРИСТОФАН (444 —между 387 и 380). Афинский драматург. Его дошедшие до нас комедии, от «Акарнян» (425) до «Плутоса» (388), представляют собой бесценный кладезь информации, позволяющий реконструировать приметы политической, социальной, интимной и морской жизни Афин Золотого века. Что касается последнего, то особенное значение имеют «Всадники» (424) и «Лягушки» (405).
АРИСТОТЕЛЬ (384–322). Философ, уроженец Стагиры в северной Греции. Основанная им в Ликее школа закрепила за Афинами славу центра греческой философской мысли. Ученик Платона Аристотель сделался известен как наставник Александра Великого и исследователь (совместно с Теофрастом) флоры и фауны Лесбоса. В «Риторике» он порицает пристрастие современных ему ораторов к военно-морской лексике, а в «Политике», следом за Платоном, прослеживает негативные последствия морского владычества в жизни города-государства. В ряд работ, приписываемых Аристотелю или его ученикам, входят трактаты «Механика», «Метеорология» и «Проблемы», содержащие материалы, которые прямо относятся к морю и кораблям. В конце XIX века было сделано важнейшее открытие в области изучения античности — в архиве Британского музея обнаружилась рукопись «Афинской политии», авторство которой приписывается Аристотелю. Наряду с хронологией политической истории Афин в этой считавшейся утраченной работе содержится и много подробностей, бросающих свет на развитие афинского флота.
ГЕРМИПП (V в.). Афинский драматург, в комедиях которого встречаются сцены из морской жизни, а среди персонажей есть гребцы. Наследие его, как и наследие всех остальных афинских комедиографов классической эпохи, за исключением Аристофана, сохранилось лишь во фрагментах.
ГЕРОДОТ (ок. 485–425). Греческий историк, уроженец Галикарнаса, проживший, однако, большую часть жизни на юге Италии. Труды Геродота в девяти книгах, часто именуемые «Историями», представляют собой композицию свидетельств очевидца, местных хроник, образцов устной речи, складывающихся в эпическое повествование о войне греков с персами. Этот труд — незаменимый источник знаний для всех, кто занят изучением истории греко-персидских войн, вплоть до осады и падения Сеста (479). По словам самого Геродота, в его задачу входило описание исторических традиций греков, а уж верить или не верить в достоверность этих рассказов, дело каждого.
ГИППОКРАТ (V в.). Врач с острова Кос, входившего в афинскую империю. Основал школу медицины, главным принципом которой было пристальное внимание к симптомам заболевания и подневная фиксация хода болезни. В огромном корпусе записей Гиппократа (многие из которых были сделаны его последователями) есть и такие, что имеют отношение к морю и морякам.
ГОМЕР (ок. VIII в.). Уроженец Малой Азии, основатель греческой литературы. В его произведениях содержится описание кораблей и морских путешествий. Считается, например, что «Список кораблей» в «Илиаде» — это перечень судов, собранных Агамемноном в разных греческих царствах накануне похода в Трою (Афины поставили пятьдесят из них); а эпизод в «Одиссее», в котором заглавный герой мастерит на острове нимфы Калипсо плот, или судно, доныне остается самым детальным в художественной литературе изображением искусства корабела.
ДЕМОСФЕН (ок. 384–322). Афинский оратор и пропагандист морской мощи. В потомстве он прославился в основном филиппиками — блестящими речами, направленными против македонской угрозы, возникшей во времена царствования Филиппа II.
ДИОДОР СИЦИЛИЙСКИЙ (I в.). Греческий историк, живший на Сицилии. В его монументальной, состоящей из сорока книг «Исторической библиотеке» предлагается иное, сравнительно с трудами Геродота, Фукидида и Ксенофонта, толкование событий прошлого. Он опирается на забытых авторов вроде Гелланика с Лесбоса, Эфора из Кум, а также историка Оксиринха, известного под псевдонимом-инициалом «П» (см. ниже). Репутация Диодора колебалась, как ни у кого другого, от хвалы до хулы, однако по некоторым вопросам, например, если речь идет о так называемом Каллиевом мире или о том или ином сражении в целом, он остается авторитетом и поныне.
ДИОГЕН ЛАЭРТСКИЙ (III в.). Греческий писатель-биограф. Для истории философии он сыграл такую же роль, как Плутарх для политической и военной истории Древней Греции и Рима. Воссоздавая биографии Сократа, Платона, Аристотеля, Теофраста и многих других, Диоген Лаэртский черпает сведения в более чем двухстах античных источниках.
ИСОКРАТ (436–338). Афинский патриот и учитель риторики. Истинный долгожитель, он родился еще в пору строительства Парфенона и умер вскоре после сражения при Херонее. Исократ распространял свои «речи» в виде политических памфлетов, в которых касался таких важных предметов, как панэллинизм, афинский империализм и подъем Македонии.
ИСТОРИК ИЗ ОКСИРИНХА, или «П». (V–IV вв.). Анонимный греческий историк, чьи работы дошли до нас в отдельных фрагментах. Он доводит повествование, оборванное Фукидидом 411 годом, до 395 года до н. э. Пелопоннесская война «официально» закончилась десять лет назад. Фрагменты эти были обнаружены на городской свалке в Оксиринхе, к западу от Нила, в центральной части Египта. Переклички между его текстами, сохранившимися на папирусе, и текстами Диодора Сицилийского позволяют предположить, что последний временами обращался к «П» как к источнику. Историк из Оксиринха нередко расходится с Ксенофонтом, чья «Элленика» остается главным историческим документом этого периода. Версии по этому поводу выдвигались и выдвигаются разные, но к единому мнению ученые пока не пришли.
КСЕНОФОНТ (428–354). Афинский военачальник, историк и писатель. В «Воспоминаниях» он воспроизводит, в частности, рассуждения своего учителя Сократа о военном искусстве и других предметах. В эссе «Доходы города Афины» Ксенофонт обращается к морским делам, более подробный анализ которых представлен в «Экономике», а в «Анабасисе» повествует о своих путешествиях по Черному морю. В «Элленике», представляющей собой в некотором роде послесловие к работам Фукидида о Пелопоннесской войне, Ксенофонт доводит обзор греческой истории до 362 года до н. э.
КСЕНОФОНТ-ОРАТОР, известный также под именем ПСЕВДО-КСЕНОФОНТА, или «СТАРОГО ОЛИГАРХА» (V в.). Афинский автор, чье важное сочинение «Афинская полития» считается чем-то вроде открытого письма афинского олигарха, обращенного к иноземным читателям. В нем говорится о том, почему добрые граждане вроде него вынуждены мириться с демократией в Афинах. Представляется несомненным, что автор был стратегом или триерархом; в одном месте он говорит о «своих боевых судах». О датах продолжают горячо спорить, но мне представляется, что «письмо» написано в первый год Пелопоннесской войны (431–430), после вторжения спартанцев и их союзников в Аттику, но до начала чумы. Его соображения касательно флота и морской мощи то ли отражают, то ли непосредственно предшествуют сходным мыслям Фукидида, а замечания о коммерческих выгодах господства на море приводят на память реплики персонажей пьес Гермиппа. В Афинах жил состоятельный гражданин по имени Ксенофонт, сын Эврипида, из дема Мелита. В середине V столетия он был гипархом, то есть аристократом высшего разбора. Этот Ксенофонт (никак, насколько известно, не связанный со знаменитым историком, носившим то же имя) постоянно избирался стратегом — с самого начала Самосской войны (440) до гибели в одном из боев 429 года. Более отчетливо, чем любой из известных нам античных авторов, Ксенофонт-Оратор (прозванный «Старым олигархом») выявляет связь между афинским флотом и политическим значением фетов.
КТЕСИЙ (V в.). Врач из Книда, что в Малой Азии, служивший при дворе персидского царя Артаксеркса II. Написанная им история Персидской империи сохранилась лишь во фрагментах, но и из них видно, что он сильно расходится с Геродотом и другими авторами, особенно в оценке численности сухопутных и военно-морских сил. В этих фрагментах имеются отсылки к походам Ксеркса и афинской экспедиции в Египет середины V в. до н. э.
НЕПОТ КОРНЕЛИЙ (I в.). Римский автор. Его краткие биографические очерки, посвященные знаменитым стратегам, возможно, подтолкнули больше столетия спустя Плутарха к созданию развернутых «Жизнеописаний» греческих и римских деятелей. Подобно Плутарху, Непот пишет о Фемистокле, Аристиде, Кимоне, Алкивиаде, Фокионе, но обращается также и к тем, кого Плутарх своим вниманием обходит, — к Мильтиаду, Фрасибулу, Конону, Ификрату, Хабрию и Тимофею.
ПАВСАНИЙ (II в.). Грек из Магнесии в Малой Азии. Его «Описание Эллады» представляет собой своего рода путеводитель по наиболее примечательным античным памятникам, сохранившимся до времен Римской империи. Павсаний часто воспроизводит ныне исчезнувшие надписи, а также пересказывает забавные истории из местного фольклора. Если говорить об истории афинского флота, то наиболее важными представляются описания надгробий, расположенных вдоль Священного пути, начиная с могил Фрасибула, Перикла, Хабрия и Формиона, расположенных прямо у городских ворот, и кончая могилами Эфиальта и Ликурга рядом с входом в Академию.
ПЛАТОН (429–347). Афинский философ, ученик Сократа. Диалоги Платона изобилуют образами, связанными с морем, а также сюжетами, имеющими отношение к таким морским военачальникам, как Никий и Алкивиад. Нередко Платон выступает непримиримым противником афинского флота. Он создал миф об Атлантиде, представив ее аллегорией талассократии или морского господства.
ПЛУТАРХ (ок. 50–120 гг.). Греческий историк и философ из Беотии. Был жрецом храма Аполлона в Дельфах. Такие очерки, как «Чем знамениты афиняне — воинственностью или мудростью?», свидетельствуют о широкой начитанности Плутарха в исторической литературе, в основном не сохранившейся до нашего времени. Если говорить об истории афинского флота, то наибольшее значение для нее имеют знаменитые «Жизнеописания», в частности биографии Солона, Фемистокла, Аристида, Кимона, Перикла, Никия, Алкивиада, Демосфена, Фокиона. На эту историю также бросают свет жизнеописания таких видных лиц не афинского происхождения, как Лисандр, Филипп II и Александр Великий.
ПОЛИЕН (II в.) Македонский военный историк. Посвящал свои сочинения римским императорам Марку Аврелию и Луцию Веру. Афинский флот представляют в них Фемистокл, Аристид, Кимон, Толмид, Перикл, Формион, Диотим, Никий, Алкивиад, Аристократ, Фрасилл, Конон, Ификрат, Тимофей, Хабрий и Фокион. О некоторых важнейших военных событиях, например, о «Битве Пятидесяти против Тридцати», в которой победил Формион, как и о победе Тимофея при Алисии, мы вообще только от Полиена и можем узнать. И о необычной тактике афинского морского военачальника Диотима — тоже. Два заключительных раздела старинной рукописи Полиена, хранящейся во Флоренции, озаглавлены «Дела морские» и «Захват прибрежных районов и городов». Кажется, у Полиена был доступ к уставам штурманов античных времен: он описывает некоторые маневры, к которым прибегали рулевые на боевых кораблях — например, коринфяне при столкновении с афинским флотом в районе Сиракуз.
СОФОКЛ (ок. 496–406). Афинский драматург. Помимо того, Софокл в разное время служил городу в качестве триерарха во время Самосской войны 440 года, казначея, ответственного за сбор дани с союзников Афин, а также советника, на пост которого был назначен после сицилийской катастрофы. Его трагедии, в том числе «Антигона» и «Царь Эдип», насыщены образами и метафорами моря. Зачарованность морем наиболее ярко проступает в романтическом финале драмы «Филоктет», действие которой происходит на острове Лемнос.
ТИМОФЕЙ (ок. 450–360). Поэт из Милета, прославившийся новаторскими достижениями в области мелодики стиха. Он написал поэму о битве при Саламине, где есть выразительная сцена с участием грека и перса-пленника. Она сохранилась в отдельных фрагментах на папирусе.
ТЕОФРАСТ (371–287). Ученый-естествоиспытатель с Лесбоса, последователь Аристотеля. В его монументальном труде «Исследование о растениях» описываются, в частности, виды деревьев, используемых для изготовления той или иной части триеры, а также весел и мачт. Содержатся в них также свидетельства рубщиков относительно того, когда, где и какие именно деревья надо валить, как собирать смолу. А в «Характерах» юмористически изображаются афиняне времен македонского владычества, многие из них — в морском пейзаже.
ФУКИДИД (455–400). Афинский историк. Будучи сам моряком-триерархом, Фукидид подвергся изгнанию из Афин после неудачной попытки выручить Амфиполь из спартанского плена в 424 году. В пору изгнания он и принялся за подробнейшее восстановление истории Пелопоннесской войны. Труд из восьми книг достигает мощной кульминации при описании сицилийского похода. В отличие от Геродота Фукидид избегает всяческих смешных и романтических подробностей, как и сопоставления различных версий одних и тех же событий. Свою историю Фукидид предваряет пространным анализом морской мощи Греции, начиная с героической эпохи Троянской войны и кончая первыми сражениями войны Пелопоннесской. Текст обильно насыщен публичными выступлениями таких деятелей, как Перикл, и боевыми речами стратегов. Некоторые документы Фукидид цитирует дословно. Он дожил до последнего, двадцать седьмого, года Пелопоннесской войны, однако хроника ее обрывается 411 годом до н. э. По свидетельству его первого, еще античных времен, биографа Марцелла, Фукидид был убит при возвращении в Афины по окончании войны.
ЭВПОЛ (ок. 450–410). Афинский драматург, современник Аристофана. Из дошедших до нас фрагментов его комедий видно, что его интересовали деятели афинского флота, как и в целом морская жизнь. Античные ученые утверждают, что именно Эвпол написал тот эпизод комедии Аристофана «Всадники», в котором экипажи триер, словно сварливые женщины, спорят о том, надо ли идти в Карфаген. Главным героем комедии самого Эвпола «Таксиархи» выступает афинский стратег Формион.
ЭВРИПИД (ок. 480–406). Афинский драматург, обновитель античной трагедии, автор девяноста пьес, из которых до нас дошли девятнадцать. Многие из них пародийно воспроизвел в своем творчестве Аристофан. Не обращаясь открыто к проблемам афинского флота, в отличие от Эсхила и Софокла, Эврипид подробно говорит о кораблях и подвигах на море в таких пьесах, как «Елена», «Ифигения в Авлиде» и «Ифигения в Тавриде».
ЭСХИЛ (ок. 525–455). Афинский драматург. Ветеран Марафона и Саламина, Эсхил нередко обращается в своих трагедиях, из которых до нас дошли семь, к армейским и морским сюжетам. В «Персах» представлены поэтические картины сражения при Саламине.
ЭСХИН (ок. 397–322). Афинский актер, впоследствии оратор. Главный политический оппонент Демосфена в годы противостояния Афин и Македонии. Три дошедшие до нас речи Эсхина не только представляют в подробностях черты современных ему деятелей, события, политические тенденции, но и позволяют ощутить широкий спектр мнений и взглядов тогдашних Афин.
Дань признательности
Много трудов было положено и многие ладони покрылись мозолями, чтобы довести «Властелинов моря» до финишной черты. Главное бремя легло на плечи команды издательства «Викинг», этих бесстрашных аргонавтов, спустивших на воду свою шлюпку на углу Хьюстон-стрит на Манхэттене. Ритм ему был задан мощными гребками старшего производственного редактора Брюса Гиффордса, которому вторила контрольный редактор этого издания Джэнет Билль, расположившаяся прямо у него за спиной, на месте номер семь. В машинном отделении корабля без устали трудились художники: оформитель Карла Болт — номер шесть; автор обложки Кристофер Серджио — номер пять; картограф Джефф Уорд — номер четыре; самый опытный гребец Сэм Мэннинг (номер три) подчинил все свои знания, приобретенные на лесопильнях Мэна, задаче воспроизведения афинской триеры пером, на бумаге. Мастера рекламы Меган Фэллон и Бен Петроне составили впечатляющую пару на носу корабля, а громкие команды рулевого, она же директор по продажам, Нэнси Шепард собирали на берегу толпы людей. Впереди, на лоцманском катере, команда редакторов, состоявшая из Лиз Паркер и Хилари Редмон, не выпускала из рук секундомеров, а Каролин Коулборн вела протокол. Рядом с ними, с мегафоном в руках, стоял редактор Уэнди Вульф, главный лоцман, всего себя отдавший этому пути: властная и в то же самое время вдохновляющая фигура человека с немигающими серыми глазами Афины, загадочной улыбкой коры — акропольской богини и срывающимся в тяжелые минуты голосом. Сейчас все они исчезли из вида на широких, залитых солнцем подступах к Гудзону, занятые другими книгами и другими авторами. Но мне повезло оказаться с ними, пусть и ненадолго, за веслами одной лодки.
Еще до того как мои друзья из «Викинга» засели за редактуру окончательного варианта книги, рукопись прочитали и помогли советом многие. Среди них — Невилл Блэкмор, Эли Браун, Молли Банди, Элен Дармара, Дэг Дэвис, Шарон Хекл, Аза и Хакан Рингбом, Каилла Томассен, Джоан Вандертолл, Том Уэлл. Особенно признателен я Мэтту Бару, выдающемуся игроку Национальной футбольной лиги, острый глаз и точное чувство времени которого помогли провести этот корабль до конца.
Многие главы этой книги были опробованы сначала в форме лекций (в рамках цикла «Греки и Персидские войны»), и я выражаю благодарность Луисвиллскому университету, Американскому институту археологии и Преподавательскому центру за организацию всего цикла и отдельных выступлений. В 2003 году Луисвиллский колледж предоставил помещение, в котором на протяжении тринадцати жарких июльских вечеров я рассказывал слушателям историю афинского флота, как я ее вижу. Сотрудница колледжа Бесс Рид организовывала лекции, Элайджа Притчет стенографировала, Мэри «Корки» Закс расшифровывала стенограмму, а Стефани Смит часами приводила свободную беседу в удобочитаемую форму. Осуществлению всей этой работы, как и сопутствующих ей исследований, немало способствовала щедрая финансовая поддержка со стороны Дэниэла и Джоанны Роуз. Капитан армейского резерва вооруженных сил США Кристофер Уиндич совместил изображение маневров античных кораблей со сделанной из космоса фотосъемкой Геллеспонта и полуострова Галлиполи, что укрепило мою версию об истинном месте сражения при Эгоспотамах.
Многочисленные поездки и полевые исследования на побережье Эгейского моря и восточного Средиземноморья помогали осуществить Американский институт классических исследований в Афинах, Ассоциация выпускников Йельского университета, компания «Трэвел дайнемикс», попечители Луисвиллского университета, добрые мои друзья Брюс и Элизабет Данливи, роттердамское телевидение, оплатившее поездку в Афины, где в гребном клубе бухты Зея я сам осваивал особенности гребли на триере. Много и охотно мне помогали туристические компании «Ганлик» (Виргиния), «Регейрос» (Пенсильвания), «Рингбомс» (Финляндия). Мухаррем Зебек из Измира оказал неоценимую помощь в Турции, пройдя со мной весь путь по реке Эвримедонт с ее стремительным течением на юге, до заболоченных берегов в районе Кизика (ныне Эрдек) на севере. Если же куда-то, например, до дельты Нила, не удавалось добраться самому, личный опыт заменяли живые рассказы Боба Бриера и Пэт Ремлер. Своими первыми впечатлениями о Галикарнасе, Милете, Эфесе, Нотии, Самосе, Лесбосе, Геллеспонте и других местах на всем протяжении восточной границы афинской морской империи я обязан доброму гостеприимству великого археолога Джона Кэмпа.
За годы исследований морской истории Афин я получил множество уроков в ходе общения и переписки с рядом крупных ученых, таких как Люсьен Бах, Джек Каргилл, Лионель Кассон, Джон Коутс, Филипп де Суза, Виктор Дэвис Хансон, Питер Крентц, Роберт Литтман, Шон Макгрейл, Джон Моррисон, Билл Мари, Борис Ранков, Барри Штраус, Лари Тритл, Гарри Тцалас, Ганс фон Виз, Х.Т. Уоллингс. В кругу своих коллег по Луисвиллскому университету я обязан Бобу Лугинвиллю за помощь в истолковании греческого текста, посвященного военному мастерству Формиона, как его описывает Полиен; Бобу Кебрику, проявившему интерес к античной технике гребли; астроному Джону Килкопфу, уточнившему положение светил во время сражения при Саламине. Вилль Алтонен из Финляндии просветил меня насчет нынешних спортсменов, увеличивающих скорость — как и их предшественники из древних Афин — за счет использования гребных подушек и работы ножных мышц.
В кругу археологов, работающих под водой, многому научили меня по части устройства кораблей древности Бриджет Бакстон, Дебора Карлсон, Сьюзен Карцева, Параскева Миша и Катарина Делапорта, эфор, как сказали бы в Спарте, — пятерка исследователей морской старины, с кем я познакомился во времена своих греческих изысканий. Я приветствую своих друзей и коллег — исследователей кораблекрушений времен греко-персидских войн — Шелли Воксмана, Боба Хольфельдера, Дэна Дэвиса, Алексиса Кэтсамбиса, Дану Йоргер, а также команду и членов группы ученых, собравшихся на борту судна «Эгей». Лучшим пониманием устройства неориона , как и сухопутной жизни афинской триеры в целом, я обязан героям-амфибиям, работающим в рамках проекта «Бухта Зея», и среди них — Бьорну Ловену, Мэтсу Нильсену, художнику Иоаннису Накасу, а также тем щедрым душам, что вошли в круг американских друзей этого проекта.
Первоначальный импульс написанию этой книги дал Доналд Кэген. Годы спустя он же придумал ей название. Однажды снежным февральским вечером 2006 года я сидел за столом отливающей черно-белым блеском кухни в доме Кэгенов. Марте Кэген наскучил наконец очередной спор об афинском флоте, и она вознеслась в высшие сферы. Дон скользил глазами по фразам и словам — длинному списку накопившихся за последние несколько дней и отвергнутых названий книги. Слышно было только, как по оконному стеклу шуршат снежинки. Внезапно Дон вскинул голову, посмотрел на меня с видом человека, которому явилось озарение, и тоном оракула выговорил четыре слова. Я сразу же согласился, что для названия они вполне годятся, и заметил, что, если не ошибаюсь, слова эти прозвучали в одной из речей Перикла.
— Да ну? Но уж точно не в «Надгробной». А ну-ка, подайте книгу.
У Кэгенов за Фукидидом в оригинале далеко ходить не приходится — текст всегда в нескольких шагах от твоего стула. Я дотянулся до ближайшего экземпляра. Дон принялся перелистывать последнюю речь Перикла — страстное выступление, прозвучавшее вскоре после того, как разразилась эпидемия чумы и народ отвернулся от своего вождя. Как обычно, он держал книгу в трех дюймах от глаз и скользил пальцами по строкам, бормоча что-то по ходу дела.
— Если б я не видел, что вы так подавлены… мир… суша и море… — Тут он перестал переводить. — Ха! Да это даже лучше, чем вам вспомнилось! «Kyriotatous»! Афиняне правят как высшие властители мира. Вот так-то! — Дон захлопнул книгу и подтолкнул ее ко мне: — Пусть будет «Властелины моря».