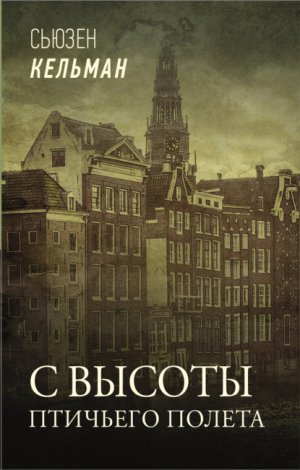
Но я больше смотрела в открытое окно, откуда виден почти весь Амстердам, море крыш до самой линии горизонта, которая так расплывалась в светлой голубизне, что не скажешь, где она кончается. «Пока все это существует, – думала я, – пока я живу и вижу это яркое солнце, это безоблачное небо, я не смею грустить!
Анна Франк «Дневник Анны Франк»[2]
Suzanne Kelman
A VIEW ACROSS THE ROOFTOPS
Перевод с английского Альбины Драган
© Suzanne Kelman, 2019
© Драган А., перевод, 2021
© ООО «Издательство АСТ», 2022
Пролог
Голландия, апрель 1921 года
В ясном синем небе плыли элегантные белые облака, наводя тени на поля алых и золотых тюльпанов. Легкий ветерок скользил по цветочным рядам, единственный вмешиваясь в эту безмятежность. Под его бесстрашным напором цветы склоняли головки как горничные перед господином. Вдалеке, на проторенной тропинке, стояла старая мельница – одинокий страж поля. Она высилась над распускающимися бутонами, ее коричневые дощатые стены были крепкими, но потертыми, краска не выдержала испытания временем и облупилась. Выцветшие до бледно-розового красного паруса ловили ветер, и, надрываясь и поскрипывая, тянули ритмичную песню.
Направляясь к мельнице, через поля кивающих тюльпанов, молодая невеста, играючи, убегала от жениха. Сара, которой едва исполнилось двадцать два, была одета для медового месяца. Простое хлопковое платье кремового цвета свободно ниспадало с ее изящных плеч. Она бежала перед мужем, и бежевые сандалии подчеркивали ее стройные лодыжки и длинные ноги, мелькающие в утреннем свете весеннего солнца.
Всего через несколько часов после обмена клятвами, большая часть свадебного наряда невесты была аккуратно упакована в мягкие листы белой папиросной бумаги. Старшие родственницы и незамужние подруги Сары бережно сложили шелковое платье с заниженной талией, достававшее ей до середины голени и атласные туфли с застежкой на щиколотке в сундук из красного дерева, где наряд будет ждать случая порадовать вереницу других невест.
Упаковано было все, кроме одной вещи, от которой она еще не могла отказаться. Не считая золотого обручального кольца на левой руке, единственным, что выдавало в ней невесту, была струящаяся и вальсирующая на ветру старинная кружевная фата: узловатые и огрубевшие руки прабабушки расшили драгоценную ткань гирляндами маргариток и крохотными кремовыми жемчужинами.
Когда она пробегала вдоль разноцветной дорожки, поднялся ветер, вмешиваясь в игру молодоженов. Его внезапный и озорной порыв налетел на Сару, взметнул фату и, словно танцуя, закружил ее в спираль, поднимая к небесам. Йозеф догнал Сару и выпрыгнул перед ней из-за стены цветочных стражей. Он был одет в льняные брюки со стрелками и голубую рубашку, закатанные рукава которой обнажали его длинные мускулистые руки. Он выглядел гибким, но сильным, а копна волос цвета вороного крыла обрамляла лицо с пронзительными голубыми глазами, полными ожидания.
Он схватил девушку за талию и притянул к себе, игриво заложив ее руки за спину, чтобы оказаться как можно ближе. Горячее и прерывистое дыхание Сары обжигало его щеку.
– Наконец-то! – торжествующе сказал он.
Сара хихикнула в ответ и попыталась выскользнуть, когда Йозеф потянулся к фате.
– Я не сдамся, Йозеф! Буду носить ее весь первый год нашего брака!
Глаза Йозефа изумленно округлились.
– Моя матушка придет в ужас: она уже собирается использовать ее для крестильных нарядов наших детей.
– Детей? – переспросила Сара. – Да мы женаты всего четыре часа!
– Что ж, – решительно сказал он. – Нельзя терять ни минуты!
Выпустив руку Сары, он притянул к себе ее лицо, и осыпал поцелуями глаза, губы и шею пока она, хихикая, делала попытки увильнуть от его нежностей.
– Только не моя шея, Йозеф! Ты же знаешь, как я реагирую на это.
Ответив всезнающей улыбкой, он обнял ее, и их губы сошлись в страстном поцелуе. Издалека их позвал чей-то голос.
Сара ухватила Йозефа за воротник и толкнула его в яму, скрытую в тюльпанах, взметнувшаяся длинная фата обвила их обоих.
– Ш-ш-ш, – прошептала Сара. – Если будем сидеть тихо и не показываться, мама нас не найдет.
– Не возражаю, – шепнул Йозеф, стягивая налетевшую на лицо волну ткани. Он переместился, подложив руку под голову Сары, желая защитить ее от жесткой земли.
Они лежали лицом друг к другу, молча ожидая, когда стихнут шаги, их дыхание замедлилось, слилось в единое. Аромат окружающих их тюльпанов опьянял. Сара приподнялась на локте и задумчиво посмотрела на Йозефа.
– Мне понравился подарок твоего отца, – шепнула она.
Йозеф с улыбкой покачал головой.
– Мой отец – романтик и всегда им был. Он безоговорочно верит в силу слов любви, – Йозеф перевернулся на спину и, заложив руки за голову, посмотрел вверх на перистые облака. – Даже не верю, что на нашей свадьбе он читал стихи. Я ведь математик! Зачем мне нужны такие вещи? Он все еще не теряет надежды, что однажды его драгоценные стихи каким-то образом найдут отклик в моем сердце, хотя мне уже двадцать восемь лет.
Сара поджала губы и вздернула подбородок.
– Как ты можешь так говорить? Что значит жизнь без живописи, музыки и поэзии? Они помогают нам понять, как мы чувствуем, любим и живем! – она перевернулась на спину и сосредоточилась на облаке, похожем на скачущего пони.
Затем робко добавила:
– Я даже чуточку влюбилась в твоего отца, когда он читал стихи. В его взгляде на твою мать выражалась вся та любовь, что они делили так долго.
На лице Йозефа отразилось крайнее удивление.
– Не уверена, что наша любовь продлится долго, если ты не знаешь, как поддерживать ее. Я не знаю математических уравнений, которые бы меня заставляли чувствовать то же самое, – со вздохом проговорила Сара.
Перекатившись к ней, он откинул рыжий локон с ее лица-сердечка.
– Что ты имеешь в виду? Математика может быть прекрасна. Тождество Эйлера считается самым красивым уравнением в мире, – и с глубоким выражением любви продолжил – «e+ 1 = 0».
Сара прикрыла глаза, наморщила носик и покачала головой, тряхнув медными кудрями в знак недовольства.
Он снова притянул ее к себе и прошептал на ухо:
– О как держать мне надо душу, чтоб она твоей не задевала? Как ее мне вырвать из твоей орбиты?[3]
Распахнув глаза, Сара расплылась в широкой улыбке, а он продолжал декламировать «Песнь любви» современного поэта Райнера Марии Рильке. В знак благодарности она осыпала его лицо мелкими и частыми поцелуями, а затем принялась медленно расстегивать рубашку.
Он продолжал нашептывать стихотворение, уткнувшись носом Саре в шею и поглаживая ее тело.
– Хорошо, – тихо сказала она. – Можешь отцепить фату. Как мы назовем нашего сына?
Прежде чем ответить он пристально посмотрел ей в глаза.
– Сара, – ответил он с уверенной улыбкой, – если будет дочка, назовем ее Сарой.
Она собиралась возразить, но он оборвал ее, накрыв рот долгим поцелуем. Когда их занятия любовью вошли в мягкий ритм, они слышали только тихий скрип ветряной мельницы, поднимающей свои паруса к темнеющему закатному небу.
Часть первая
Глава 1
Райнер Мария Рильке«Пантера»[4]
- Ее глаза усталые не в силах
- смотреть, как прутья рассекают свет, —
- кругом стена из прутьев опостылых,
- за тысячами прутьев – мира нет.
Амстердам, февраль 1941
Безжалостный, колючий снег ложился пеленой на истерзанные войной улицы оккупированной Голландии, сковывая кучи песчаной-серой слякоти, душа город, уже лишенный человечности. Стальные сугробы были испещрены уродливыми разводами – результат недельных холодов, грязных дорог и дорожной гальки, вылетающей рикошетом из из-под колес незадачливых водителей. Серый снег на серых улицах придавлен уныло желчным небом. Для голландцев такая гнетущая картина отражала мир, который чувствовал то же самое.
По темной жилой улице разнеслось гулкое эхо подбитых железом сапог – уже узнаваемый звук марширующей колонны нацистов. Громыхающие по мостовой чеканные шаги становились всё четче и зловещее, складываясь в сеть дурных предзнаменований. Казалось, будто кто-то неистово тряс коробку с гвоздями. За девять месяцев оккупации Третий Рейх показал себя чудовищем, не терпящим шуток, кровожадным шакалом, рвущимся в бой и готовым смести и поглотить все, что стоит на пути к завоеванию для фюрера.
Амстердам – некогда оживленный и беззаботный, сияющий алмаз, сокровище Нидерландов, имел большие надежды на победу над захватчиками, но вместо этого, как и остальная Голландия, пал в немецком блицкриге всего за четыре дня. Сердце города было разбито, изранено на века. В отличие от груды льда на земле, прежняя искрящаяся жизнерадостность Амстердама застыла и потемнела навсегда – её забрали силы зла в серой форме.
Когда звук на тихой улице стал оглушительным, испуганные лица за запертыми дверями и ставнями застыли, а глаза закрылись для беззвучной молитвы. Люди, чьи души оцепенели от страха, надеялись, что этот дерзкий жест – нераспахнутые шторы – выражает их общий крик сопротивления, позволяет им уцепиться за последние ниточки общей культуры. Шаги стихли, но страх был сильнее эха сапог. И лишь когда воцарилась полная тишина, они позволили себе роскошь вдохнуть и вернуться к выживанию. И вновь благодарили Господа – не на этой улице, не в этот день.
Часы тикали в такт марширующим по городу ногам. Профессор Йозеф Хельд вглядывался в белый анфас и острые черные стрелки не осознавая зловещий ритм, с которым отмерялось время. Часы висели высоко на стене, наблюдая за рядами студентов в просторной классной комнате. Высокий потолок подпирали декоративные карнизы, с одной стороны уступая место пыльным, но упорядоченным книжным шкафам, а с другой – элегантным рядам окон.
Профессор Хельд молча проверял работы за своим столом. Нескладный мужчина сорока семи лет, казалось, чувствовал себя неуютно в собственном теле и почти не поднимал глаза. Когда он все-таки оторвался от бумаг, на его лице проступила тень былой красоты. Она осталась в его ясных голубых глазах и блестящих черных волосах, едва тронутых сединой у висков. И хотя он провел всю свою жизнь, склонившись над этим столом, тело каким-то образом сумело сберечь подобие юношеской гибкости, более характерной для бывшего спортсмена, чем для скромного профессора математики.
Режим, марширующие солдатами – всё это казалось чем-то далеким. В его классе прилежные студенты, закатав рукава до локтей, склонились над тяжелыми дубовыми партами и были погружены в работу. Тишину нарушали только тиканье часов, редкий кашель и скрип карандаша, деловито царапающего сухую бумагу. Казалось, аудитория застыла в вечности, время тянулось бесконечно. Когда наконец стрелки часов встретились в полдень, слабые лучи солнца пробились сквозь беспросветное грифельное небо и скользнули в высокие окна.
Хельд отложил работу по математике и взял следующую. И застыл. На листе не было ни математических задач, ни ответов на них. Вместо этого было стихотворение «Пантера» Рильке – любимого поэта его покойной жены. Возмущенный, он покачал головой и вздохнул – думать сегодня о Саре не хотелось. Он снял очки в серебряной оправе – удачно подобранный реквизит для того, кто стремится отгородиться от внешнего мира. Аккуратно положил их на стол и протер глаза, прежде, чем надеть снова. По очереди цепляя изогнутые дужки Хельд вернул очки на место.
Он посмотрел на часы и покашлял:
– Все свободны. Манеер Блюм, можно вас на минуточку?
Покидая удушливо безмолвный класс, студенты тихой стайкой просочились за дверь. Одна из них, Эльке Дирксен, задержалась в дверях, наблюдая, как Майкл Блюм направился вперед. В ее красивых глазах читалось беспокойство. Своей приятной внешностью Майкл воплощал то лучшее, что могла предложить молодость: двадцатидвухлетний, живой, он был также невероятно обаятелен. Дерзкий огонек мелькнул в его глазах, когда он подмигнул Эльке в коридоре.
Профессор Хельд ждал пока опустеет класс. Сидя за столом, он складывал бумаги в аккуратную стопку. Когда дверь закрылась и стало тихо, он положил работу Майкла поверх остальных работ. Не глядя на студента, он обратился к нему:
– Господин Блюм, вы понимаете, что это курс высшей математики?
Майкл рассмеялся.
После многих лет преподавания Хельд не обижался на дерзость.
– Мы уже не впервые это обсуждаем. Вы снова в работе написали свое, а не решили формулу, как требовалось.
Майкл возмутился:
– Вы что не любите Рильке?
Профессор Хельд продолжил:
– Это не имеет никакого отношения к делу. Стихи должны быть в книгах, а не в работах по математике.
Майкл резко вдохнул, на мгновение задержал дыхание, а затем этот вдох растворился в голосе с едва сдерживаемой горечью, наполнившей его слова.
– Мне уже не так просто покупать…книги. Вы хоть знаете, кто он?
Впервые старший мужчина поднял глаза.
– Прошу прощения?
Майкл оживился, даже пришел в восторг.
– Райнер Мария Рильке. Поэт. Его считают одним из самых романтичных…
Профессор Хельд поднял руку, пытаясь остановить студента.
Лицо Майкла вспыхнуло от досады и разочарования.
– Послушайте, все это не имеет никакого значения, потому что сегодня мой последний день, – продолжил он.
Профессор Хельд опустил глаза и придвинул к себе новую стопку бумаг, а затем… протянул Майклу его работу через свой опрятный стол.
– Будьте добры, выполните задание.
Майкл покачал головой, не соглашаясь.
– Сегодня. Мой. Последний. День. Я не собираюсь сидеть и ждать, когда они придут за мной. И меня не отправят в Арбайтсайнзац[5].
Хельд мельком посмотрел на него. Многих молодых людей принуждали работать на немецких заводах, сопротивляться было опасно. Он хотел сказатьэто вслух, но вместо этого предпочел отступить и спрятаться за безопасной стеной.
– И все же вам следует выполнить задание.
Майкл схватил листок. Когда он наклонился вперед, из его сумки на стол выпала листовка. Ее уголок был оторван: очевидно, Майкл сорвал её и, видимо, в гневе. Это была инструкция, призывающая всех евреев зарегистрироваться. Мужчины застыли, уставившись на листовку. Тиканье часов и приглушенные звуки в коридоре заполнили оглушительную пропасть молчания между ними. Хельд вдруг понял, что Майкл еврей, и ощутил себя беспомощным и бессловесным. Он тут же пожалел, что был так строг, но не успел ничего сказать, поскольку Майкл взял лист с заданием, и, нарочито неспешно и дерзко скомкав его, бросил на профессорский стол.
– Вы всерьез считаете, что это важно? Мужество бороться и любить – вот что сейчас важно. И ничего из этого вы не найдете в математических формулах.
Медленно сдвинув очки на переносицу, профессор уставился на комок смятой бумаги.
Эльке распахнула дверь.
– Майкл! Скорее!
Звук чеканных шагов гулко разнесся по коридору – они приближались к классу. Майкл подбежал к двери.
Хельд открыл ящик стола и вытащил книгу. Это был потрепанный экземпляр «Новых стихотворений» Рильке. Он окликнул юношу.
– Пока вы не ушли, манеер Блюм…
Майкл обернулся и Хельдподтолкнул к нему книгу. Невольно заинтересовавшись, Майкл подошёл к столу. Прочитав название, он благоговейно открыл книгу. Хельд наблюдал, как юноша читает слова на первой странице – надпись, сделанную его отцом.
«Йозефу. Иногда самая смелая любовь в тишине говорит шепотом»
Бессмысленные слова из далекого прошлого, подумалось Хельду. Он вернулся к бумагам, и, снисходительно махнув рукой, пробормотал:
– Возьмите.
Майкл прижал книгу к груди.
– Это мне, правда? Спасибо. Большое спасибо!
От такой яркой реакции Хельду стало не по себе. Он задрал повыше очки и кивнул, неловко перекладывая бумаги.
Майкл уже собирался выйти, но внезапно остановился у двери.
– Думаю, теперь можно спокойно признаться вам, что я ненавижу математику. Хельд усмехнулся, а потом пробормотал, больше себе, чем Майклу:
– Я так и полагал.
Когда Майкл дошел до двери, Эльке быстро втащила его за руку в коридор.
Хельд рассматривал пустое место, на котором много лет лежала так ни разу и не открытая книга. Глубоко вздохнув, он закрыл ящик стола и уже собирался вернуться к работе, но заметил кое-что. Профессор осторожно поднял со стола листовку, оброненную Майклом.
Дверь в кабинет снова открылась и Хельд уже начал обращение:
– Манеер Блюм, вы забыли…Но его удивлению, вместо Майкла там стояла Ханна Пендер – новый университетский секретарь. Это была привлекательная женщина с тонкими скулами и задумчивыми голубыми глазами, редко покидающая приемную. Сегодня на ней была темно-синяя юбка А-силуэта, облегающая бедра и подчеркивающая стройные ноги, и блузка цвета слоновой кости с кружевным вырезом. Заходя в аудиторию, она говорила на идеальном немецком с сопровождающим её серьезным офицером.
Кроме него была также небольшая группа солдат: они остались за дверью, на страже. Строгая серая военная форма резко выглядела неуместно в уютном коридоре с деревянными панелями и высокими окнами в изящных рамах…
– Это профессор Хельд, – сказала Ханна. – Он преподает высшую математику. Она подошла к его столу.
– Здравствуйте, профессор. Мы просто проверяем ваших студентов.
Хельд озадаченно переспросил:
– Моих студентов? Но в аудитории никого нет.
Под столом он сжимал список присутствующих на занятиях. Ему совсем не хотелось отвечать почему тот у него оказался и зачем был спрятан.
Ханна выдавила нервный смешок и кивнула.
Майор целеустремленно бродил по классу, отмечая каждую его деталь.
У больших арочных окон он остановился, загипнотизированный пауком, плетущим свою паутину в верхнем углу. Паук, вращаясь, сплетал снаружи тонкие нити, а легкий ветерок подхватывал его творение, раскачивая, как гамак в море. В аудитории было слышно только тиканье часов, наполняющих комнату возрастающим напряжением с каждым движением стрелок. На переносице профессора под оправой очков проступила капелька пота, и он быстро вытер ее свободной рукой. Майор медленно повернулся к Хельду.
– Профессор Хельд? Интересное имя.
Профессор слегка кивнул.
Офицер подошел к столу и сказал по-немецки:
– По-моему, ваша фамилия и с голландского, и с немецкого переводится как «герой». Надеюсь, вы не собираетесь им становится.
Хельд снова сдвинул очки на нос, посмотрел на майора и ответил по-голландски:
– Боюсь, что я уже.
По лицу военного скользнуло любопытство, сопровождаемое натянутой улыбкой. Он нахмурил брови, оценивая слова профессора.
Хельд продолжал свое умелое наступление:
– Я преподаю гуманитариям, а они предпочитают алгебре литературу.
Военный понял, что профессор шутит, и громко и фальшиво рассмеялся, словно разыгрывая представление перед незримым, но взыскательным наблюдателем. Он резко остановился и, неспешно кивнув, принялся долго и тщательно изучать стол профессора.
Хельд поерзал на стуле и взглянул на часы на стене.
– Что-нибудь еще? Мефрау Пендер, если вы не возражаете, я бы хотел подготовиться – у меня скорос ледующее занятие.
Не обращая внимания на его слова, майор подошел к окну и еще раз взглянул на морозный пейзаж: в слабых лучах солнца вновь начал падать мокрый снег. Мефрау Пендер неловко улыбнулась профессору. Минуты ожидания, казалось, сжимали воздух между ними…
Наконец офицер обернулся.
– Думаю, быть учителем – прекрасно, и пока вы будете совершать подвиги в алгебре, у вас все будет хорошо.
Кивнув, майор вышел из комнаты, а вслед за ним и мефрау Пендер. Хельд выждал, пока затихнут шаги, и только потом тяжело выдохнул. Он скомкал лист и бросил его в корзину для бумаг.
Он встал и потянулся, а затем подошел к стоявшему в конце аудитории шкафу, вынул из нагрудного кармана жилета крохотный ключ и отпер дверь. Шкаф был совершенной пуст, если не считать старомодного, богато отделанного красным деревом, радиоприемника. Хельд протянул руку и покрутил шкалу настройки. Лампочки замигали, и, издав треск, приемник ожил. Классическая мелодия, прорезав спертый воздух, заполнила пустое пространство класса. Снова усевшись за стол, Хельд снял очки, прикрыл глаза и сделал глубокий медленный вдох.
В конце дня, подготовив назавтра новое уравнение на доске, Хельд плотно обмотал шею шерстяным шарфом и надел пальто. Со шляпой и портфелем в руке он вышел из класса. Молча двигаясь по коридорам опустив глаза, он выглядел демонстративно отчужденным. Из-за этого, с ним никто не разговаривал и даже не замечал. Он был словно невидим. Направляясь к главному университетскому столу, он заметил Ханну Пендер – она разъясняла молодой женщине ее обязанности.
Мефрау Пендер повернулась и произнесла, обращаясь к девушке:
– А вот и профессор Хельд! – и добавила: – Добрый вечер, профессор. Хотите забрать вашу почту?
Хельд утвердительно кивнул.
Ханна повернулась к своей протеже, чтобы проинструктировать в каком ящике почта. Пока она крутилась за столом, Хельд делал вид, что сосредоточен на учебнике математики в своих руках, а сам украдкой смотрел на нее. Она очень красива, думал он, намного красивее, чем ее уволившаяся предшественница. Та была крепкого телосложения, с жесткими волосами, вечно недовольным взглядом и пробивающимися усиками над губой. Эта секретарша, эта Ханна Пендер, была абсолютно другой.
– Прощу прощения за сегодняшнее вторжение, профессор. – Она повернулась, и он тут же перевел взгляд на свои руки. – У нас столько забот, и еще нужно отчитываться перед немецкой армией. Как будто у меня мало работы! И вот теперь у меня появилась помощница, Изабель, и это все, чем мне помогли, а ведь ее еще надо всему научить, а я сама, как вы знаете, здесь всего несколько недель…
Пока она щебетала, Хельд ждал, аккуратно разглядывая ее, стараясь не подавать виду, что изучает овал ее лица и мягкие каштановые кудри.
Изабель, похожая на мышь девушка с тонкими каштановыми волосами, собранными в пучок, вынырнула за Ханной и протянула той пачку писем, а секретарша вручила их Хельду. Пока она продолжала щебетать о погоде, своей нагрузке и сокращении студентов, он тихонько перебирал письма. Когда она наклонилась вперед, ожидая его указаний, он уловил запах ее духов: пахло сиренью или, возможно, фиалками. Он не хотел, чтобы она заметила, как сильно она его отвлекает, и, торопливо вернув на стол пару писем, а остальные отправив в сумку, повернулся и проговорил:
– Всего доброго, Мефрау Пендер.
Ханна забрала оставшиеся письма и улыбнулась:
– Всего доброго, профессор.
Хельд кивнул, надел шляпу и поспешил к выходу.
К вечеру на улицу вернулся утренний морозец. На улице вечерело, об этом напоминала утренняя прохлада. Поглубже натянув шляпу на голову, он молча зашагал домой по знакомой дороге. Купив продукты к ужину, он свернул на Стаалстраат, где его встретили возмущенные и сбивчивые голоса: молодая пара ругалась с немецким офицером. Прохожие останавливались, наблюдая за конфликтом с безопасного расстояния. В воздухе висело беспомощное отчаяние, такое же плотное, как окружавшая их холодная пелена. Хельд вгляделся в лица людей: ужас и трепет, и страх, что кто-то из них окажется следующим.
Солдат что-то кричал про identiteitsdocumenten[6], а молодая женщина расплакалась, причитая, что идет к врачу и просто забыла их взять. Хельд поменял направление и побрел, не поднимая головы, намеренно не смотря в сторону женщин-еврейки, когда та начала кричать. Он уверял себя, что все это скоро закончится. Это должно закончиться. Свернув на свою улицу, он ускорил шаг. Отзвуки женского крика все еще доносились до него, он поднял шарф до самых ушей, чтобы их заглушить.
У каменных ступенек, ведущих к простой коричневой двери его трехэтажного дома, он достал ключ. Позади раздались шаги двух солдат, и он торопливо отпер замок и вошел внутрь.
Хельд опустив портфель и небольшую хозяйственную сумку на пол и включил свет, освещая аккуратное и практичное, но лишенное тепла, жилье. Навстречу ему с нескончаемым мяуканьем в прихожую выбежал молодой серый кот.
Хельд оживился:
– Привет, Кот. Я тебе кое-что принес из магазина. Как прошел твой день? Мой – довольно интересно.
Кот проводил хозяина из коридора на кухню, где пристально следил за тем, как Хельд кладет в миску кусочки рыбы и заваривает чай.
Мужчина взглянул на настенные часы.
– Пора, – сообщил он коту. – Интересно, что нас ждет сегодня.
Он открыл тяжелые ставни над кухонной раковиной и широко распахнул окна. Шаг за шагом он выполнил свой ночной ритуал: осторожно развернул стул к окну, сел с чаем в руке, накрыв ноги шерстяным пледом, и стал ждать.
Кот запрыгнул ему на колени. Последние слабые лучи закатного солнца блеснули в темноте и озарили лицо Хельда. И сразу начался долгожданный концерт. Чарующие звуки соседского пианино полились в окно.
Поглаживая гибкое кошачье тело, он сообщил Коту:
– А это Шопен, один из ноктюрнов.
Он закрыл глаза и глубоко вздохнул.
Глава 2
Майкл рассматривал Эльке; ее глаза закрыты, темные мягкие ресницы сомкнуты. Каскады длинных каштановых волос, с влажными от пота кончиками, густо спадали вниз, прикрывая обнаженную грудь. Он наклонился и поцеловал ее в губы. Отстранившись, он накрыл ее простыней до подбородка, она застонала.
– Хватит, Майкл! Я устала.
Запустив руки под простыню, он начал поглаживать ее тело кончиками пальцев.
– Прекрати! – ее глаза гневно сверкнули. – Разве ты не знаешь, что сейчас идет война? Мы должны поберечь наши силы.
Майкл мягко приподнялся над ней, наслаждаясь близостью и тяжестью их обнаженных, прижатых друг другу тел, и прошептал ей в волосы:
– Именно поэтому мы и должны заниматься любовью. Кто знает, сколько нам еще осталось.
Она игриво оттолкнула его и снова прикрыла грудь простыней. Затем села, запустила руки в растрепанные волосы и спросила:
– Хочешь кофе?
Майкл вздохнул, перевернулся на спину и кивнул.
– Если это все, что ты можешь предложить.
Хихикая, она вскочила с кровати, и сдернув простыню, завернулась в нее, как в тогу, оставив Майкла лежать голым.
Двигаясь к корме своего плавучего дома, она, поглядывала, как он лежал, вытянувшись во всю длину кровати, притворившись, что нагота его не заботит.
– Я буду лежать здесь до тех пор, пока ты, покоренная моим видом, не попросишь меня снова заняться с тобой любовью, – сообщил он ей.
Она покачала головой, и перед тем, как приготовить кофе на кухне, в ожидании, когда закипит чайник, окинула критичным взглядом свою последнюю картину – незаконченную вазу с подсолнухами. Майкл заметил, что она дрожит, ее тело, реагирует на ночь, в которую плеснули жгучего холода. Услышав, что чайник закипел, он встал и надел ее оранжевый халат, найденный за дверью в спальню. Он схватил с тумбочки томик стихов, тот самый, что отдал профессор Хельд, и присоединился к возлюбленной в ее крошечном камбузе.
Эльке усмехнулась его наряду, но потом встревожилась, заметив, что он держит в руках.
– Будь начеку. Ты же знаешь, вам запрещают иметь книги.
Майкл надул щеки и полистал страницы.
– Пусть только попробуют забрать. Они могут отнять мою свободу, но не могут заглушить мой разум и мысли! Ни того, ни другого я им не отдам.
В ее голосе зазвучало беспокойство:
– Ну а что ты теперь будешь делать? Эти новые правила запрещают выходить на улицу после девяти вечера, читать книги, учиться…
Задумавшись, Майкл захлопнул книгу.
– Я еще не рассматривал этот вариант, но может, я останусь здесь и буду целыми днями писать стихи и готовить еду. Только вообрази, какая это роскошь – прятаться и писать изо дня в день стихи.
– Нет, я серьезно. Ты не думал уехать? Не знаю, как сложно будет выбраться, но, может, тебе стоит попытаться?
– И куда идти? Я же еврей. И хотя после смерти бабушки я перестал соблюдать все традиции, для наших новых немецких гостей я все еще еврей. Для меня теперь нигде нет места. К тому же, я ни за что не расстанусь ни с любимым Амстердамом, ни с тобой.
Она улыбнулась и вложила свои пальцы в его руку, сплетая их.
– Впервые слышу, как ты говоришь о своей вере. Тебя не волнует, что я не еврейка?
Он удивленно посмотрел на нее.
– Я и сам едва чувствую себя евреем. Да, у меня в роду все евреи. И да, я в детстве ходил в синагогу. И, наверняка, мне нравилось, как раввин читал Тору, но, когда Бог отнял у меня семью, я перестал в него верить… – с трудом сдерживая горечь в голосе, он продолжил: – Как ты знаешь, мой отец воевал в Первой Мировой, поэтому его смерть от ранения меня не потрясла, но когда спустя год моя мать скончалась от туберкулеза, и я видел, как она боролась за каждый вдох, а затем и бабушка умерла через несколько недель – после этого я понял, что никогда больше не смогу поверить в справедливого и доброго Бога. Тем более, война все идет и идет, а мой народ преследуют.
Его голос стих из-за с пробудившегося волнения: он снова почувствовал уже пережитые изоляцию и одиночество из-за потери всех близких перед началом войны.
– Ты всегда можешь на меня рассчитывать, – прошептала Эльке. – И если наши отношения перерастут во что-то более… – она слегка покраснела, – постоянное, тогда, если ты захочешь, я готова принять твою веру.
– Более постоянное? – повторил он с притворным удивлением, обнимая ее. – Звучит мило. Хотя я очень удивлюсь, если сыщется раввин, который нас благословит. Наверняка они все попрятались.
Он наклонился вперед и тронул поцелуем ее холодные губы.
– Не переживай так сильно. Все это скоро закончится, а мы пока продолжим бороться с ненавистью любовью.
Он снова попытался обхватить ладонью ее грудь, но она взяла его блуждающую руку и вложила в нее кружку с кофе.
– Ты неисправим.
Глава 3
В тот же с вечер Ханна Пендер возвращалась после работы в университете домой, одетая в темно-синюю фетровую шляпу, пальто и кожаные перчатки, широкий лакированный пояс подчеркивал тонкую талию. Она быстро двигалась сквозь ледяную дымку собственного дыхания, на ходу сковывающую ее лицо. Вопреки холоду, она остановилась на углу своей улицы, вглядываясь в небо., Несмотря на мороз, сумерки были прекрасны: она залюбовалась стаей перелетных птиц, возвращающихся домой, длинные темные ряды тянулись над ней в красном мраморном небе.
«Если небо красно к вечеру, моряку бояться нечего» – проговорила она себе по нос и засмеялась. Прабабушка Ханны была англичанкой, и она много раз слышала от нее эту поговорку. Она все еще смотрела на небо, когда, к ней подбежал мальчик.
– Ханна, Ханна, он выпал! – радостно улыбаясь, завопил ребенок. Он показал на зияющую дыру во рту, где еще вчера был зуб.
Она улыбнулась и опустилась на корточки, чтобы быть с ним вровень.
– Дай-ка посмотрю, – сказала она, ее глаза заблестели.
Даже с широко открытым ртом он продолжал говорить.
– Я нашел стювер[7] у себя под подушкой сегодня утром!
– Молодчина, Альберт. – Ханна поднялась на ноги. – Тебе пришлось его расшатать?
Альберт отрицательно затряс головой – пожалуй, слишком усердно… Почувствовав ее сомнения, он с неохотой добавил:
– Но только чуть-чуть.
Ханна пригладила мальчику волосы, и он убежал сообщить о своем достижении кому-то еще.
Она стояла, очарованная, напоминая себе, что еще не все потеряно в эти страшные времена; еще существовали невинные вещи: ласточки по весне вили гнезда, а у детей выпадали молочные зубы.
Завернув за угол Ханна заметила энергично машущую ей из дверного проема женщину – это была давняя подруга ее матери, мефрау Оберон, которую с детства все соседи называли «Ома», то есть «Бабушка». Маленькая и сухонькая старушка была закутана в шаль с бахромой и темную тяжелую юбку. На ногах толстые черные чулки и клоги – традиционные деревянные башмаки. Пока Ханна поднималась к ней по тропинке, женщина вернула прядь выбившихся седых сальных волос обратно под поношенный платок и потеребила коричневый бумажный сверток, крепко сжимаемый морщинистыми руками. Высокая, в сто семьдесят сантиметров и туфлях на высоком каблуке, Ханна возвышалась над ней.
– Шерсть для твоей мамы, – беззубо улыбнулась мефрау Оберон, протягивая сверток. – Я бы и сама отнесла, но у меня тушится мясо.
Ханна наклонилась, чтобы обнять старушку.
– Благодарю вас, мефрау Оберон. Не стоило утруждать себя. Мама будет так рада!
Ома отмахнулась от благодарности.
– За все эти годы Клара так много сделала для меня, особенно после смерти мужа. И это такая мелочь. К тому же, мне все равно пришлось стоять в очереди.
Она горячо расцеловала Ханну в обе щеки. Когда Ханна вернулась на дорогу, Ома крикнула ей вдогонку:
– Поцелуй ее за меня!
Ханна помахала в ответ.
Она только собиралась перейти улицу, когда перед ней резко затормозил грузовик. Яростное облако копоти с вонючим запахом бензина заставило Ханну отступить назад. Грузовик был немецкий. В кузове громоздились груды велосипедов.
Ханна вздохнула, думая об ущербе. Металл и резина, вероятно, нужны для военных нужд, однако все понимали, что это всего лишь очередная уловка, придуманная врагом, чтобы подавить их, лишить любого проявления свободы и независимости.
Когда грузовик тронулся с места, что-то отлетело назад и с грохотом упало на землю. Это была педаль: расшатавшись, она оторвалась с нависшего велосипеда. Ханна непроизвольно наклонилась и подобрала ее. Спрятав педаль в карман, она направилась домой.
По обе стороны от тропинки, пробивая себе путь через мерзлую почву, поднимались крокусы, восхищающие Ханну своим неукротимым бесстрашием. Красно-синий молочный бидон у двери её дома стал прибежищем для нарциссов.
Она повернула ключ в замочной скважине, и как только вошла внутрь, оказалась окутана волной теплого домашнего уюта. Прихожая была выкрашена в мягкий и приглушенный лимонный цвет, а расписанные вручную синие тарелки гордо красовались на высоких полках. Как только она закрыла за собой дверь, дедушкины часы из красного дерева, хозяева прихожей, словно обнимая и приветствуя ее дома, мягко и глубоко пробили пять часов.
Хриплый, старческий голос окликнул ее из гостиной:
– Привет, родная!
Ханна сняла пальто и повесила на деревянный крючок.
– Привет, мама, – отозвалась она.
Мать сидела в своем кресле, склонившись над вязанием. Ее, похожие на пушистую пряжу волосы обрамляли морщинистое лицо, расплывшееся в широкой улыбке, схожей с улыбкой дочери. Она подняла на Ханну задумчивые глаза того же оттенка синего.
– Все еще так холодно, – сказала она, недовольно качая головой.
– Да, – кивнула Ханна и, подняв соскользнувшую на пол толстую шерстяную шаль, накинула ее на плечи матери, а затем подбросила дров в камин.
– Что у тебя там новенького? – спросила Клара, заметив сверток, который дочь поставила у ее ног, пока занималась камином. – Мефрау Оберон кое-что тебе передала.
Клара опустила вязальные спицы на колени, в ее глазах заплясали огоньки предвкушения. Ханне нравилось видеть маму такой оживленной.
– Ну что, – нетерпеливо спросило Клара, – я могу развернуть?
Ханна прошла через комнату и вручила сверток в протянутые руки матери. И хотя те были скручены артритом, каким-то образом они сумели справиться с бумагой за короткое время. От радости женщина хлопнула в ладоши:
– Зеленый! Великолепно! Он так подойдет для новой шапки Петера, если я заставлю этого негодяя носить шапки!
Ханна разглядывала мягкие мотки шерсти мшисто-зеленого цвета, пока искусные пальцы Клары разглаживали их на коленях.
– Мама, – засмеялась она, – остались ли в Голландии еще дети, которые ходят без связанных тобой вещей?
Клара усмехнулась про себя и вернулась к отложенной работе.
– Это мой личный акт сопротивления, – призналась она. – Я собираюсь согреть всех голландских мальчишек, даже если не смогу их уберечь.
Ханна кивнула и пошла на кухню ставить чайник. Вернувшись в гостиную, она заметила, что руки матери вцепились в подлокотник кресла.
– Я хочу встать, совсем одревенела, – объявила она, и, уклонившись от попыток дочери помочь, медленно поднялась. Чтобы разогнуться ей потребовалось время, и она, ковыляя, сделала несколько шагов. Затем выпрямилась, и опираясь на трость, направилась к окну.
– Как дела в университете, дорогая?
Ханна задумалась – она не знала, как много можно рассказать матери, а потому остановилась на следующем:
– Все по-прежнему. Меньше студентов, больше правил.
Раздвинув занавески, Клара всмотрелась в сумерки за окном и задумалась. – Так много уныния, всем этим трудно будет дышать любому. Иногда я рада, что сижу дома. Не уверена, что смогу это выдержать. Наверняка, если когда-нибудь выйду отсюда, то меня запрут в камере в первый же день: скажут, что передавала секреты британцам или ударила тростью одного из фрицев.
Ханна двигалась по комнате, наводила порядок и посмеивалась – Вот уж кто, а ты самое секретное наше оружие, мама. Кто бы стал подозревать седую старушку-рукодельницу в шпионаже? Не сомневаюсь, что будь у тебя возможность, ты в одиночку уничтожила бы всю немецкую армию.
Клара согласилась, шутливо погрозив воздуху тростью. Потом подошла к другой занавеске и решительно задернула ее.
Ханна сняла кипящий чайник и заварила чай. Затем, развернув оберточную бумагу, достала тонкий кусок мяса, добавила черный хлеб и фрукты и они поужинали у камина. Ханна вышла в коридор и достала из сумки подпольную газету «Хет Парол» – ее передал для Клары один из преподавателей в университете. Роясь в кармане пальто в поисках ручки на случай, если мать захочет пометить статьи для Ханны, она обнаружила в нем подобранную на улице педаль. Забрать педаль – было каким-то естественным решением, желанием отбить у немцев хоть что-то, принадлежащее им самим. Но сейчас, когда она смотрела на педаль, ее осенила идея.
– Я иду в папину мастерскую, – крикнула она через плечо, сунув газету в нетерпеливую руку матери.
Клара придвинулась ближе к камину, и принялась просматривать заголовки, одобрительно кивая головой.
Накинув пальто, Ханна прошла через заднюю дверь и по узкой каменной дорожке спустилась в их крошечный садик. Обычно дома в Голландии не имеют задних садов, но их дом граничил с небольшим лесом, и отец при покупке выторговал им клочок земли. Открыв две массивные деревянные двери в отцовскую мастерскую, она перенеслась в прошлое. Тот же запах пыли и масла встретил ее, как в детстве. Протянув руку за дверь, она включила свет. Одинокая лампочка качнулась взад-вперед, и, лязгнув металлической цепью, осветила все помещение. На свет прилетел заплутавший мотылек, его крылья с резким шелестящим звуком забились о лампочку. Она огляделась, глубоко вдохнула, позволяя убаюкивающим воспоминаниям наполнить ее трепетом, охватывающим ее каждый визит сюда. Присутствие отца, большое, но смутное, все еще ощущалось, заполняя все пространство. Она посмотрела на свои руки и затем, по одному разжала пальцы, предлагая педаль мастерской.
По щекам потекли слезы, и Ханна удивилась им. Из-за времени, в которое они живут, из-за этой войны, воспоминания об ушедших муже и отце переживались острее, тоска, спрятанная глубоко, теперь вышла наружу.
Закрыв глаза, она представила себе, как большая, медвежьярука отца тянется к ней и забирает педаль, его густые темные брови хмурятся, когда поверх очков для чтения он видит, что она ему дает. И тогда своим низким раскатистым голосом он бы спросил: «Что это ты мне принесла, Ханна-медвежонок?». Он осторожно покрутил бы педаль в своей огромной ладони, рассматривая, как сокровище из неведомой страны. А потом, несмотря на пустяковый подарок, заключил бы ее в объятия и сказал: «Спасибо, дорогая».
Ханна смахнула слезы и прошла дальше, к верстаку, так и не тронутому после смерти отца. Она положила педаль на стол рядом с последним проектом, над которым он когда-то работал – трехколесным велосипедом для одного из соседских детей.
Расхаживая по мастерской, она поежилась и плотнее закуталась в пальто. Отец обожал велосипеды: на стенах висели цепи и поникшие, сдутые камеры, в углу громоздились колеса со спицами, лежали стопкой снятые кожаные сиденья. Все стены были увешаны пожелтевшими плакатами и афишами велосипедных мероприятий; шаткие темно-зеленые полки забиты банками с краской, смазочными маслами и клеем для седел.
Она ходила кругами по комнате, и вдруг остановилась, завороженная ярким плакатом: на нем усатый мужчина в коротких штанишках и котелке опасно балансировал на элегантном пенни-фартинге[8]. Слова на афише гласили: «То, что ему нужно!». Ханне внезапно пришла в голову идея, от которой по телу прошлась приятная дрожь.
Она подошла к пыльным, но аккуратным отцовским книжным полкам и стала искать нужную книгу. Улыбнувшись самой себе, Ханна сняла ее с полки, и, довольная, смахнула с обложки пыль. Повернувшись, она вышла из мастерской и погасила свет.
Может еще и есть кое-что, что поможет ей справиться с этой тоской.
Глава 4
На следующий день, в субботу утром, Хельд вышел из дома, запер дверь и направился в центр Амстердама. По выходным он обедал со своей племянницей Ингрид. Она – единственная дочь его покойного брата, Маркуса, и он считал своим долгом участвовать в ее жизни. На ее долю выпало столько несчастий!. Сильнейшим потрясением в детстве стала потеря родителей, умерших от гриппа.
Добрые родственники матери отправляли ее в порядочные школы, только за тем, чтобы ей там говорили, что она не совсем подходит, когда она обычно забрасывала учебу, нисколько не заботясь о своем образовании. Все свое бурное детство она изо всех сил старалась обрести друзей и найти место в мире. Теперь, когда ей исполнилось двадцать, вся эта отверженность выстроилась внутри в грубый и жесткий панцирь. Однако Йозеф еще лелеял надежду, что в один прекрасный день она станет мягче и милее, больше похожей на его дорогого, кроткого брата.
В это утро, проходя через Йоденбурт, он обнаружил длинную очередь в пекарню. Хмурые женщины, плотно закутанные в платки и шали, цепляясь за пустые корзинки, сбились в кучу и переговаривались мрачным шепотом. Он повернул за угол и прошел мимо почерневшего здания, в котором раньше размещалась лавка кошерного мясника. Покинутый магазин заколотили досками и подожгли. На деревянной двери еще свежей черной краской было выведено Juden[9]. Хельд вздохнул. Он скучал по жизнерадостному мяснику мистеру Вольфу. Тот был веселым крупным мужчиной с женой-пышкой и двумя прелестными дочерьми. Насвистывая, он отделял от костей крепкие говяжьи голяшки, прежде чем искусно разделать их острыми длинными ножами, и, взвешивая на огромных весах куски красной плоти, развлекал покупателей своими последними шутками.
Хельд гадал, где сейчас Вольф и его семья. Он старался не думать о плохом и не верить слухам. Он предпочитал верить, что этот приятный человек рассказывает свои шутки новой публике в безопасном месте под названием Манхэттен или, может, Цинциннати.
Свернув на Амстелстраат к кафе «Шиллер», он заметил, что грязные груды льда вдоль дорог начали таять. Должно быть, температура повысилась на пару градусов, хотя ледяное облако его дыхания и мороз, сковавший его щеки могли бы с этим поспорить.
Приблизившись к бело-голубому козырьку кафе, он заглянул в окно. Ингрид уже сидела внутри: одной рукой она высоко держала сигарету, ноги соблазнительно закинуты одна на другую, позволяя юбке задраться выше положенного. Красуясь, она с за столом, ее густые светлые волосы были уложены волной по последней моде, а чересчур накрашенное лицо выделяло ее среди остальных блеклых и унылых посетителей.
Он зашел внутрь, и она вскочила ему навстречу, чмокнула в щеку:
– Дядя Йозеф! – а затем стрельнула глазами в немецких солдат, вошедших следом за ним.
Хельд машинально вытащи кармана жилета чистый носовой платок, чтобы стереть красный след от помады, который, как он знал по опыту, остался на щеке.
Они сели, и она сразу же завела разговор о своей жизни и новой работе. Менять работу было для Ингрид делом привычным, она никогда нигде не задерживалась и по каким-то причинам расстраивала людей, где бы ни оказалась. Хельд слушал, женщина с печальным лицом подала стакан воды и бутерброд, который он всегда заказывал.
Она продолжала щебетать, она была полна энтузиазма относительно своей работы.
– У меня свой кабинет, и все, особенно майор Генрих фон Штраус так любезны со мной!
Хельд, который до этого момента слушал вполуха, прекратил жевать. Когда она на секунду затянулась сигаретой, он высказал свои худшие опасения:
– Ингрид, ты что работаешь на… них?
Выпустив голубое облако дыма, она возмущенно ответила:
– О, ради Бога. Нет больше никаких «мы» и «они». И не говори мне, что веришь всем этим сплетням и слухам. Ты же профессор! Я думала, у тебя больше здравого смысла. Они обычные люди. Кроме того, им нравятся голландцы – мы похожи на них.
Два немецких солдата, сидевшие неподалеку, громко рассмеялись и Хельд заерзал на стуле. Ингрид мельком взглянула на них и расплылась в лучезарной улыбке.
Ему требовалось время, чтобы успокоиться. Он посмотрел в окно и увидел, как, молодая семья, которая, как он полагал, вполне могла быть еврейской, склонив головы, медленно двигалась по улице, стараясь не привлекать внимание. Что бы сказал своей дочери Маркус, если бы был жив? Хельд знал, что Ингрид – волевая, и может быть очень упрямой. Нужно быть осторожным, иначе можно оттолкнуть ее. Особенно, если пытаться контролировать. Он закрыл глаза, вчерашний голос кричащей еврейки вернулся и настиг его. Нет, он должен что-то сказать. Глядя ей прямо в глаза, он кивнул в сторону молодой семьи и спросил тихим голосом:
Как ты можешь мириться с этим?
Она отогнала пелену сигаретного дыма от лица. – Дядя Йозеф! Все будет хорошо! Я и сама подумываю вступить в партию. Если мы будем делать, что они хотят, все будет замечательно. Так мне сказал Генрих.
Зная, какой наивной может быть его племянница, Хельд с тревогой продолжил – Студентам-евреям запрещено ходить на занятия.
Ингрид стала защищаться:
– Генрих говорит, у них есть свои отдельные школы.
Хельд потерял дар речи.
Ингрид отпила глоток чая и надула губы. Они долго сидели молча. Наконец она нарушила неловкое молчание, добавив:
– Нам не о чем беспокоиться. Тебе не о чем беспокоиться. Ты, – она понизила голос, – не один из них.
– Не один из них? – попытался понять Хельд. В голосе Ингрид послышалась усталость, она заговорила с ним как с маленьким ребенком:
– Наша наследственность чиста! Мы чисты! Мы не паразиты.
Хельд с трудом верил своим ушам, беспокойство сменилось гневом. – Паразиты? Такие люди как моя соседка… добрейшая женщина…учительница музыки. С какой стати кто-то считает людей вроде нее паразитами?
Ингрид раздавила сигарету в потрепанной металлической пепельнице и машинально зажгла следующую, заинтересовавшись:
– Она еврейка? И живет по соседству? Она зарегистрировалась? Если еще нет, то ее могут посадить в тюрьму или еще хуже.
Хельд ощутил, как не смену гневу внезапно пришел страх. Его рука слегка задрожала, когда он поднес стакан с водой к губам. Он позволил себе короткую паузу перед ответом, и стал наблюдать, как упрямая муха приземлилась на стол между ними и потерла задние лапки.
Он тихо добавил:
– Она обучает музыке местных детей. У нее болезнь, из-за которой она боится выходить из дома, боится внешнего мира.
Ингрид задумчиво прищурилась:
– И все же, ее должны уже были депортировать.
Хельду сильно хотелось сменить тему разговора. – Мне ничего об этом неизвестно.
Ингрид приняла надменный вид. – Ну почему ты..?! – ощетинилась она.
Затем, чтобы привлечь внимание солдат, она выдохнула клубок дыма в их сторону. Один из них подмигнул ей в ответ.
С тихим отвращением Хельд отодвинул от себя тарелку с недоеденым бутербродом. Внезапно подступила тошнота, стало жарко, казалось, будто стены кафе навалились на него. Он должен рассказать больше о мефрау Эпштейн, но он не знал, что именно. Он мог бы сказать Ингрид, что ошибся, но врать у него выходило плохо, и она бы сразу догадалась. К тому же, это привлекло бы лишнее внимание к их разговору. Он настороженно взглянул на нее: ее заботило другое – она флиртовала с солдатами. Она – взбалмошная девчонка, и, скорей всего, забудет о разговоре. И кроме того, он был уверен: Ингрид не проболтается. В конце концов она не бессердечная. Она же голландка, как и все они. Может быть, она наивна, но не жестока.
Он встал:
– Мне пора.
Казалось, Ингрид испытала облегчение, она умиротворенно улыбнулась – О, дядя Йозеф! Жаль, что после смерти тети Сары, ты так никого и не встретил. Живи себе тихо, не высовываясь, и оставайся веселым. Я думаю, новый Амстердам, если дать ему шанс, тебе понравится.
Хельд положил деньги на стол. Жар продолжал обжигать, заструился по венам, из-за этого пальто невероятно отяжелело, когда он его натягивал, а во рту пересохло.
Племянница вскочила и чмокнула его в щеку, оставив, вероятно, еще одно алое пятно губной помады, поскольку она хихикнула, довольная своей работой – Ой, я лучше сотру, а то подумают еще, что у тебя завелась девушка!
Она взяла салфетку, лизнула ее и к его неудовольствию, потерла щеку. Хельдбыл угрюм и совершенно потерян, и пытался оправиться от разговора.
Наконец с усилием он передвинул ноги и медленно вышел на улицу. Он шагнул в холодный день, но тот не принес бодрости. Обернувшись, Хельд еще раз взглянул на Ингрид. Он должен вернуться, должен сказать что-то еще. Но прежде, чем он успел это сделать, заметил, как она подошла к столику с солдатами и стала кокетничать уже без стеснения.
Хельд плелся домой, погруженный в себя, ощущая охватившую его болезненную тревогу. Так много зла вокруг. Неужели уже пора перекрашивать свою входную дверь? Он вспомнил Ингрид: как она маленькой, напуганной девочкой оказалась у него дома вскоре после смерти матери. В простом голубом клетчатом платье и коричневом кардигане с маленькой дыркой на локте, вцепившись в свою куклу, она сидела на его кухне и искала героя. На роль заботливого опекуна маленькой племянницы он не годился – слишком горевал, оплакивая смерть Сары. Если бы другие родственники вмешались и забрали ее, он бы стал заметно счастливее. Опустошающая боль его собственного страдания еще и отраженная в глазах скорбящего ребенка была совершенно невыносимой. Ему вспомнилось, как он держал ее маленькую ладонь перед вагоном поезда, который увезет ее к другим членам семьи. Когда она через окно помахала ему на прощанье, он подумал, кто же тогда залатает ей в дырку в кардигане.
Что, если она и стала такой из-за его полной неспособности позаботиться о ней? Виноват ли он в том, что у нее внутри оказалась такая огромная дыра, что заполнить ее смогло только зло, поджидающее теперь за каждым углом? С этого ли все началось: разочарованная душа стала легкой мишенью для зла, скрытого за статусом элиты?
Свернув на свою улицу, он зашагал быстрее. Ему необходимо вернуться домой, необходимо дышать, необходимо снова почувствовать себя в безопасном месте.
Он вошел в дом, снял пальто и прошел сразу на кухню. Не обращая внимания на жалобное мяуканье Кота, он распахнул большие деревянные ставни. Ледяной воздух вихрем ворвался внутрь и заполнил всю комнату. Закрыв глаза, он стоял, отчаянно желая облегчения. Когда холод наконец проник через толстую ткань брюк, пробрал до костей и успокоил – тогда его сознание прояснилось.
Он поговорит с Ингрид снова. Она выслушает. В конце концов, он ее дядя. Он самой простой форме объяснит ей, в чем опасность. Он объяснит так, что она поймет. Он должен заставить ее понять. Бедная Ингрид, с ее простыми и наивными манерами. Единственное, чего она действительно хочет— быть любимой. Неудивительно, что бравые офицеры в сверкающих сапогах с их привлекательной пропагандой завлекли ее. Она – легкая добыча для зла.
Порыв холодного воздуха пронесся по кухне, приподняв уголки студенческих работ, сложенных стопкой на столе. Ветер взъерошил ему волосы, заставил поежиться. А потом полилась музыка мефрау Эпштейн. Ее знакомое присутствие утешало его, как любимая колыбельная утешает ребенка. Он открыл глаза, и в них выступили слезы – настолько красивой была музыка, наполняющая кухню и дарующая надежду.
Эту мелодию она репетировала неделями, она была ему незнакома, но звучала спокойно или рично, убаюкивая и умиротворяя. Он вбирал в себя всю эту мелодию, и его захлестывала волна уверенности. Все будет хорошо – иначе быть не может.
Вдруг, сквозь толстую ткань шерстяных брюк он ощутил, как острые когти коснулись ноги, и, увидев ожидающую мурлыкающую серую кошачью голову, расплылся в улыбке.
– Думаю, ты проголодался, дружок.
Он неспешно двигался по кухне, пока музыка возвращала его душу из мрака к дневному свету, из безысходности к спокойной силе. Он наполнил едой миску Кота, а себе сделал чашку чая. Когда мефрау Эпштейн перешла к Бетховену и нежные звуки снова обволокли его, он уже сидел в кресле у окна. Глаза его были прикрыты, а сердце и чувства вернулись к прежнему покою.
Глава 5
Профессор Хельд рассматривал свою поредевшую группу студентов. Так много пустых парт. Как случилось, что столько людей стали неугодны нацистам? Он подумал о тех, кого уже не будет, о хороших учениках, тихих, вдумчивых ребятах, которые желали только одного – учиться. Чем угрожают Третьему рейху люди, изучающие основы высшей математики? Какую такую страшную угрозу для мира несет в себе человек, умеющий складывать и вычитать?
Ему вспомнился Майкл Блюм. Открыв ящик стола, он вытащил работу Майкла, аккуратно разгладил листок и озадачился переписанным стихотворением. Оно было о сильном животном, оказавшимся за решеткой. В этот момент, что-то в словах Рильке задело его за живое – после многих лет проведенных в собственной эмоциональной тюрьме, он осознал, что понимает бедственное положение пантеры, о которой пишет поэт.
Он вернул листок на место, где раньше лежала книга, и закрыл ящик. Он не знал, почему оставил работу у себя. Наверное, промелькнула какая-то смутная надежда на радость, с которым он вернет ее обратно, когда все закончится, вернется к обычной жизни, и задание будет выполнено. Так или иначе, ему нравилось, что он может поступать правильно хотя быв своем собственном мирке. Закрыв ящик, он еще раз взглянул на пустые парты.
Сняв очки, Хельд потер глаза, затем аккуратно вернул очки на нос и прохрипел:
– Все свободны.
Классная комната опустела и воцарилась тишина. В дверь тихонько постучали. Наверное, кто-то из студентов забыл учебник по математике или карандаш, подумал он, но к его удивлению в дверном проеме застыла в нерешительности Ханна Пендер. Он жестом пригласил ее пройти.
Она вошла в комнату, и он снова поразился ее красоте: темные волосы недавно коротко подстрижены по последней моде, прическа подчеркивала прелесть ее синих глаз. Этот цвет совершенно его очаровал, и он поймал себя на мысли, что очень давно не смотрел в глаза женщине. Он почтительно встал в знак приветствия и снова ощутил этот аромат. Определенно сирень.
– Профессор.
– Мефрау Пендер, – его голос зазвучал странно, пронзительно и почти пискляво, отметил он про себя. Он покашлял, чтобы убрать комок в горле и скрыть собственное стеснение.
Несколько секунд она колебалась, взвешивая слова, а затем сказала:
– Кажется, у вас есть радиоприемник.
Прежде, чем ответить, Хельд встал.
– Да, а что?
Ханна переминалась с ноги на ногу, опустив глаза.
– Нам приказали собрать все радиоприемники.
На мгновение Хельд потерял дар речи:
– Приказали?
– Да, Третий рейх.
Хельд уставился на нее:
– Зачем им мой радиоприемник?
Дрожащей рукой Ханна разгладила складку на юбке. Когда их глаза встретились, возникло напряжение, и он попытался осмыслить новость и последствия отказа от чего-то дорогого ему. Он заметил, что Ханна выглядела – или, может, делала вид – так же печально.
– Мне очень жаль, – продолжила Ханна.
Он неторопливо прошел в конец классной комнаты. Руки тряслись, пока он искал подходящий ключ – и не только оттого, что она попросила его отдать радиоприемник, но и из-за встречи с ней. Он напомнил себе, что она замужем.
Ключ в замке повернулся, и на него накатила грусть. До сих пор, открывая эту дверь, он всегда предвосхищал радость. Он достал радиоприемник, вдохнул запах полированного дерева, а затем передал аппарат в вытянутые руки Ханны.
Их руки на мгновение соприкоснулись, она снова извинилась, а он пытался не думать об этом.
– Я понимаю, как он вам дорог.
В ответ он кивнул головой, не в силах ничего сказать. Не желая погружаться в боль от потери радиоприемника, Хельд был сбит с толку ее мягкостью ее кожи, коснувшейся его, и тем осознанием, что он это заметил.
Он резко развернулся, прошел к столу, уселся и сделал вид, что перебирает бумаги.
Ханна поспешила за ним, и казалось, собиралась сказать что-то еще, но не нашла слов. В волнении она крутилась вокруг, и пространство наполнялось ароматом весенних цветов. Он взглянул на нее, и она ответила обнадеживающей улыбкой, словно хотела добавить что-то еще, но по какой-то неведомой причине ей не хватило смелости. Он снова опустил взгляд, пытаясь сосредоточиться на столе, в то время как она медлила, задерживаясь дольше, чем нужно. Когда она наконец вышла, он с облегчением вздохнул.
Вечером, по дороге домой, размышляя о прожитом дне, Хельд прикупил к ужину бутылку вина. Потеря была серьезной. Он знал, что это всего лишь радиоприемник, вещь, предмет, но он так много значил. Разве нацисты не отняли у них уже и так много? Их города, их образ жизни, их надежду. Почему важно забрать и это? Они уже пленены и покорены. Какой смысл брать еще больше? И что сделают с радиоприемником? Его захлестнула жгучая обида, когда он представил себе, как прибор красуется на почетном месте в доме какого-нибудь нациста, или еще хуже, пылится на полке с конфискованными предметами. Какой урон Германии может нанести профессор математики и его радиоприемник, настроенный на волну классической музыки?
Он свернул с дороги, и тут же к нему подошел немецкий солдат и попросил показать документы. На мгновение ему показалось, что тот прочитал его мысли, почуял, как в нем закипает гнев при виде их униформы. Но усталый солдат только проверял документы, а он ждал, утомленный этим днем. Ему хотелось домой. Пройдя досмотр, он подошел к двери и подумал о бутылке красного вина, она лежала рядом в хозяйственной сумке. Вообще он не любитель вина, но решил, что сегодня вечером ему необходимо выпить бокал-другой.
Он шарил в поисках ключа от входной двери, когда совсем рядом услышал душераздирающий крик. Резко обернувшись, он ничего не увидел. Потом из-за изгороди, прижимая к груди стопку бумаг показалась его соседка, мефрау Эпштейн. В глазах была паника, и она ужасала. Взбежав по ступенькам, она бросилась прямо к нему всем своим телом, хватаясь за его руки свободной рукой. Хельд застыл от испуга. Она панически боялась внешнего мира и никогда раньше он не видел ее на улице. Было ясно, раз уж она покинула безопасный дом, то ситуация действительно была безысходной.
В исступлении она схватила его за воротник пальто и дернула так сильно, что он соскользнул на две ступеньки вниз, она приблизила к нему свое лицо. – Спасите меня, прошу! – закричала она. – Спасите!
Не успел Хельд ответить, как кто-то набросился на нее. Это произошло настолько стремительно, что потом, когда он многократно вспоминал об этом, то видел хаос безумного ночного кошмара, смазанное дрожащее изображение, застрявшее впамяти: рука вокруг шеи, серый рукав, черная перчатка. Ее застывшие глаза смотрели умоляюще, как добыча в лапах кровожадного хищника. Крик – пронзительный и протяжный – раскалывал его мир снова и снова.
И, наконец, ее слова, безрассудные и неистовые, слова, которые останутся с ним навсегда.
– Нет, пустите меня, умоляю, отпустите!
В последний раз яростно дернув за воротник, ее белые пальцы вцепились в него и отказывались отпускать, но были насильно оторваны. Выражение крайней беспомощности застыло на ее лице, когда ее тащили обратно через кусты. Последней картинкой в памяти было размытое пятно синей шерстяной юбки и черного ботинка, завалившегося на бок на тропинке.
Затем из-за кустов донесся звук выстрела, за которым последовала оглушительная тишина. С этим резким звуком раскололся мир Хельда.
Он не помнил, как выскользнула из рук сумка, не слышал, как разбилась бутылка, не видел, как выплеснулось на ступени вино. Позже он догадался, что, скорее всего, закрыл глаза, потому что, когда открыл их снова, в небе порхали белые листы бумаги. Ноты сыпались с неба дождем. Завораживающее зрелище – словно лепестки белых роз, поднятые в воздух порывом ветра, – он помнил, как отметил это про себя. Непостижимый, шокирующий ужас отступил, привязывая его к красоте. Совсем ненадолго, только чтобы позволить частичке очарования просочиться сквозь трещины тяжелого осознания и едкого запаха пороха, повисшего в воздухе. Сквозь снегопад нот он увидел, как к нему приближается солдат. На мгновение, в приступе паники, он решил, что будет следующим на очереди.
Хельд не мог сдвинуться с места, ноги приросли к земле. Ему хотелось пошевелить ими, он перевел на них взгляд. Ботинки покрылись красной жидкостью. Кровь это или вино?
Он смотрел на офицера, заговорившего с ним, но Хельд не различал слов. Солдат повторил фразу, и потихоньку слова стали доходить до него.
– Вы профессор?
Даже не осознавая этого, он ответил кивком. Собственное тело не подчинялось ему, казалось, кто-то другой им управляет. Он просто зритель, наблюдающий с безопасного расстояния.
– Хельд? – продолжил солдат.
Он снова кивнул. Слова не давались. В глаза бросилось что-то на рукаве рубашки. Крошечные красные точки на манжете, где задрался рукав пальто. Спустя некоторое время он осознал: это была кровь.
Военный закурил и предложил Хельду. Он смог ответить отказом.
Солдат продолжил с той же интонацией в голосе, словно они говорили о погоде:
– Да, Ингрид вас описала. Вы же ее дядя, верно? Нам уже сообщили об этой еврейке, но я все равно благодарю вас за подтверждение ее пребывания.
Хельд уловил имя племянницы. Оно прозвучало уродливо и чуждо из пасти этого животного, отвратительного существа, который только что как бы невзначай в метре от него лишил жизни другого человека. Человека, о котором противник ничего не знал, за исключением одного, для них она была паразитом. О каком подтверждении он говорит?
От задержки дыхания закружилась голова. Слова солдата гулко отдавались в ушах, словно тот кричал в глубокий колодец пленнику, а этим пленником был Хельд. Из раздробленных обломков его мыслей один поднялся вверх: что-то страшное и невообразимое, такое, от чего его замутило. Кошмарное осознание пронзило его сердце и душу с поразительной точностью, и эта боль была еще сильнее той, свидетелем которой он оказался. Офицер говорил о разговоре Хельда с Ингрид.
Солдат продолжал говорить, не обращая внимания на Хельда, готового потерять сознание.
– Да. Ушлых евреев сложно сыскать. Но мы их найдем, благодаря порядочным голландцам вроде Ингрид. Вроде вас.
Немецкий солдат поднял мокрую хозяйственную сумку, теперь уже просто сумку со осколками, и протянул ее Хельду.
Сильно дрожащими руками он вставил ключ в замок и вошел. Оказавшись внутри, он в ужасе закрыл дверь, ловя ртом воздух. Привалился к дверному косяку, потом сполз на пол. Кот забрался к нему на колени, приветственно мяукая и мурлыча.
Рассеянно протянув руку в поисках хоть какого-то утешения, Хельд погладил друга. – Ох, Кот, что я наделал?
Что произошло в следующие два часа Хельд помнил плохо, но он точно помнил, как лил воду на ступени крыльца, пытаясь все смыть. Он стоял в темноте, не обращая внимания ни на отсутствие света, ни на комендантский час, и ровным потоком лил из ведра чистую воду. Вода скатывалась по бетонным ступеням на дорожку, вихрилась и вздымалась, собирала грязь и мусор, превращала красное в розовое. Закончив смывать кровь, он услышал шелест, будто какая-то птица попала в ловушку его изгороди. Лунный свет падал на смятые ноты, большую часть из них поймал и нацепил на себя куст в ее крошечном садике.
Он аккуратно их собрал, старательно расправляя листы. Затем положил их на кухонный стол. По какой-то причине это казалось ему важным, он и сам не понимал почему. Материальное напоминание о том, что на самом деле случилось с мефрау Эпштейн. Он изучал на ноты и видел, что это была веселая, жизнерадостная пьеса, предназначенная для исполнения allegro. Он мгновенно это понял по нотам – именно эту мелодию она репетировала уже несколько недель. Похоже, это была пьеса, которую она написала сама. Он поднес титульный лист поближе, и прочел два слова, нацарапанных сверху тонким почерком мефрау Эпштейн. Он прошептал их про себя: «Mijn Amsterdam».[10]
Глава 6
В тот вечер, когда холодный день сменился ночью, Эльке зажгла длинные красные свечи внутри плавучего дома. Их свет отражался от окон и падал на нависающие карнизы, отбрасывая по всему периметру густую и теплую тень. Эльке стояла босиком на кафельном полу, выкрашенном ею в красный цвет, ее волосы были собраны в небрежный пучок, а на плечи накинута толстая шерстяная шаль. Напевая перед плитой, она помешивала в кастрюле горячую еду, которая обещала стать их ужином. Эльке всегда любила варить суп, он напоминал ей о бабушке.
Она только что закончила рисовать и слушала, как Майкл в ее кровати играет на гитаре. Он сочиняет песню, и его нельзя беспокоить – напомнил он ей в суровой манере художника. Затем, чтобы смягчить свою просьбу, он добавил, что песня будет о любви к ней.
Прислушиваясь к его нежному бренчанию, Эльке помешивала деревянной ложкой суп в синей эмалированной кастрюле. Суп забурлил крошечными пузырьками, поднимавшихся со дна, которые потом сменились большими тягучими пузырями на поверхности. Запах вареной моркови и картофеля опьянял. Закрыв крышку, она уменьшила огонь под кастрюлей и не торопясь накрыла крошечный столик к ужину: ваза с бумажными цветами в стиле Ван Гога в ярко-желтых и синих тонах – она сделала ее на уроке рисования много лет назад; ложки лежали рядом с широкими фиолетовыми суповыми мисками, которые она тоже слепила сама. Поставив два больших, разномастных бокала для вина и свечу, Эльке завершила композицию.
Подойдя к полке, она достала бутылку дешевого красного вина. Во время оккупации с некоторыми продуктами было тяжко, но, по крайней мере, вино было доступно. Она повернула штопор, вытащила пробку и оставила бутылку с вином подышать на столе. Это сюрприз для Майкла, легкомысленная слабость с дополнительных денег, которые она зарабатывала переводами с французского – в основном, чтобы оплачивать учебу в университете.
Затем она вернулась к плите и обмотала ручки кастрюли кухонным полотенцем. Она отнесла кастрюлю на стол и наполнила широкие кривоватые миски дымящейся оранжевой жидкостью. Она понимала, что блюдо получилось острым, но, надеялась, что они съедят суп горячим и это будет не так заметно.
Эльке позвала Майкла. Музыка смолкла, и он босиком прошел на кухню.
– Ммм, – при взгляде на стол, его глаза заблестели. – Что у нас здесь?
– Суп по рецепту моей бабушки, – сказала она, а затем добавила: – Ну, по половине рецепта.
– Я имел в виду это, – шутливо подмигнул ей Майкл, взяв бутылку вина, и наполнил бокалы.
Сидя на одном из выкрашенных вручную синих табуретов, он был похож на маленького мальчика с растрепанными темными волосами. Взяв ложку, он осторожно подул, затем попробовал ее угощение.
– О Боже, это восхитительно! Как ты узнала, что больше всего я люблю суп из омаров?
Она хихикнула над его шуткой, убирая выбившуюся прядь волос со лба и придвинулась ближе к своей миске. Внезапно она что-то вспомнила.
– Я забыла, у нас же есть хлеб! – воодушевленно проговорила она.
Вскочив, она подошла к маленькому красному шкафчику с синими ручками, открыла его и вытащила черствую на вид буханку хлеба. Она положила его на доску для хлеба вместе с явно тупым ножом.
– Он немного твердый, трехдневной давности, и у нас нет масла… Но зато он достался нам бесплатно.
Майкл несколько раз пытался отрезать кусок, но безуспешно: тупой нож просто скользнул по жесткой корке, даже не царапнув ее. Отказавшись от ножа, Майкл отломал неаккуратный ломоть и протянул его Эльке.
– Для вас, миледи!
Эльке кивнула:
– Ах, спасибо, великодушный сэр, – пошутила она, и взяв ломоть хлеба, макнула его в суп, чтобы тот размок.
– Как там сегодня обстоят дела? – спросил он, наблюдая, как она запускает ложку в размягченный кусок, а затем ловит пальцами капли густого супа, стекающие по подбородку.
– Сойдет, – сказала она и опустила глаза.
Он долго смотрел на нее.
Она вздохнула. Майкл всегда умел читать ее мысли; она пыталась выбросить это из головы.
– Мистер Меир, мастер по ремонту обуви, сегодня снова разбил окна голландцам, которые поддерживают Гитлера, и никто ничего не предпринял. Мне кажется, что даже полиция сейчас боится противостоять несправедливости. И все потому что появились слухи о том, что, возможно, его отец был наполовину евреем.
Бросив еще один кусок твердой корочки в миску, она взяла ложку и попыталась утопить его, зачерпнув суп с краев. Когда она потянулась за бокалом вина, ее глаза застилали слезы.
Майкл наклонился и накрыл ее руку своей:
– Все со мной будет хорошо. Перестань беспокоиться.
Когда она протянула к нему руку, он нежно сжал ее, поглаживая большим пальцем тыльную сторону ее ладони.
Эльке подождала и успокоилась прежде, чем заговорить снова.
– Откуда ты знаешь? С каждым днем они находят все больше и больше евреев. Я не могу поверить, что наши друзья, семьи, которые мы знали всю жизнь и которым доверяли, доносят немцам, где их найти. А потом, когда их арестуют… Я понятия не имею, куда они их везут, но слухи ходят ужасные. Я не сплю из-за кошмаров… – ее голос дрогнул, когда она закончила говорить.
Майкл подошел к ней и присел рядом на корточки.
– Люди напуганы. Они надеются, что если дадут немцам, что хотят, им будет легче жить. Ты должна перестать тревожиться. Это уничтожит тебя. Тебе нужно быть жизнерадостной и сильной. Иначе сойдешь с ума. Со мной все будет в порядке, я тебе обещаю. Ты должна мне поверить. Я не знаю, откуда я это знаю, просто знаю и все.
Он протянул ей руку, нежно обнял ее и высвободил волосы из небрежного пучка, чтобы погладить их. Майкл успокаивал ее, пока она тихо позволяла переживаниям выходить изнутри. Он притянул ее ближе и ласково покачивал, пока не стихли ее рыдания.
Он заговорил снова с вызывающей решимостью в голосе:
– Я не боюсь. Я найду способ бороться с этим. Не знаю, как, но я найду. Чтобы я смог снова сделать твою жизнь безопасной, – он нежно притянул ее к себе, чтобы заглянуть в глаза и вытереть большим пальцем остатки слез с ее щек. – Тогда, в один прекрасный день я женюсь на тебе и подарю двух пухленьких еврейских малышей. Хотя, полагаю, наверное, тебе нужно будет перейти в иудаизм, если ты хочешь, чтобы они были евреями. Но в любом случае, мы назовем их Гензель и Гретель!
Эльке поглубже зарылась головой в его плечо, сдерживая смех перед тем, как буркнуть:
– Но мы же голландцы. А это немецкие имена.
– А, точно подмечено, – ответил Майкл, отстраняясь от нее, чтобы достать из кармана носовой платок. – Нам нужны красивые голландские имена. Что насчет Ота и Сиен? – он вспомнил ее любимую голландскую детскую сказку.
Эльке продолжала хихикать, сморкаясь в протянутый носовой платок.
– Звучит здорово, – с сарказмом произнесла она, немного успокоившись. – Идеальные имена для близнецов.
Они вернулись к ужину, смакуя каждую ложку теплого супа, и продолжили говорить о других вещах: о песне, над которой он работал и вспышке сильного гриппа.
Как только они убрали со стола, Майкл объявил, что в ее честь в спальне состоится особенный концерт.
Сложив грязную посуду в раковину как попало, он взял ее за руку и повел в спальню, пока он настраивал гитару, она устроилась в изголовье кровати. Эльке взяла две подушки, чтобы лечь поперек, пока он мягко бренчал по струнам и читал вслух одно из своих стихотворений, положенного на музыку. Она зачарованно слушала, его темные глаза блестели в мерцающем свете свечей.
Когда он закончил петь, она восторженно захлопала в ладоши:
– Это было прекрасно, но, к сожалению, мне нечем вам заплатить.
Отложив гитару, он, по-кошачьи подкрался к кровати, а затем одним быстрым движением обхватил ее за талию. Она потеряла равновесие, и со смехом упала на спину.
Его глаза засияли, когда он откинул с ее лба пряди волос и прошептал:
– Я подумаю, что можно сделать, – он остановился и внимательно посмотрел на нее, без обычного озорного блеска в глазах. – Ты такая красивая.
Она отмахнулась от него рукой:
– Ну тебя, Майкл!
– Нет, я серьезно. Ты невероятно красива, как богиня. Даже не знаю, почему мне так повезло.
Ее сердце растаяло.
– Жаль, что мы не встретились в более спокойное время, – прошептала она в ответ. – Я чувствую, будто многое в нашей любви отравлено и испорчено этой проклятой войной. Каждый раз, когда я вижу или слышу что-нибудь о евреях, у меня сводит живот. Я не могу представить, что бы я сделала, если бы у меня отняли тебя.
– Ш-ш-ш, – сказал он, снова успокаивая ее страхи. – Не беспокойся, моя милая Эльке. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Слушай меня. Если по какой-то причине мне придется уйти, тогда ты должна будешь найти свой собственный путь к миру и счастью. Ты не можешь жить в страхе. Это разрушит изнутри твою красоту. А затем добавил с озорной ухмылкой:
– И тогда к кому я вернусь? К сумасшедшей старухе с растрепанными волосами, живущей в доме-лодке и разговаривающей с самой собой?
Она игриво ударила его по руке:
– Не смей шутить со мной о таких вещах, ты никуда не пойдешь! Ты останешься здесь со мной навсегда. Он снова притянул ее к себе, касаясь теплыми губами ее щеки, чистый запах его мыла задержался на ее коже:
– Конечно, нет. Просто пообещай мне, Эльке, что ты не будешь оглядываться назад, если мы вдруг расстанемся? Что ты найдешь способ быть счастливой. Обещай мне.
Она медленно кивнула.
Он еще больше напрягся:
– Нет, произнеси это. Только так я смогу вынести разлуку с тобой хотя бы на один день. Я должен знать.
– Я обещаю найти способ быть счастливой, если… нам придется расстаться.
– Славно, – сказал он уже непринужденным голосом.
Осторожно перевернув ее на спину, он поцеловал ее ладонь. Он погладил ее, рисуя кончиками пальцев на коже крошечные круги, прежде чем подойти к ее лицу. Он изучал каждую черточку на лице, прежде чем поцеловать ее в губы, затем в щеку и начал постепенно спускаться вниз по шее.
– А теперь, – проговорил он, медленно расстегивая ее блузку, – давай подумаем, чем оплатить мою песню, да?
Глава 7
Они подъезжали к дому оберштурмбаннфюрера[11], Ингрид не могла поверить в реальность роскошного здания по ту сторону сверкающего окна черного «Мерседеса». С начала войны нищета вокруг вызывала у нее отвращение, но сейчас она словно очутилась в сказке. Как только машина остановилась, она заметила величественные, ярко освещенные белые мраморные колонны. Под их сводами вереница ярко-красных флагов, украшенных свастиками, колыхалась на прохладном ночном ветру. Молодой офицер отдал честь и распахнул дверцу машины. Ингрид посмотрела на своего спутника. Его черный парадный мундир сидел безупречно, серебряные пуговицы сверкали, как и высокие сапоги. Каждый раз при взгляде на него, ее сердце замирало.
Молодой офицер протянул ей руку и помог выйти из машины. Шагнув в ночь, она ощутила себя звездой голливудских фильмов. Вокруг нее оказались офицеры, одетые в такие же парадные мундиры. Они разговаривали и смеялись, стоя небольшими группами, многие смотрели на нее с восхищением. Ей нравилось внимание. На ней было блестящее черное платье, длиной до щиколоток, и маленькое белое меховое манто – подарок Генриха. Он возвышался рядом с ней, и девушку вновь охватила гордость.
К ним подошла компания офицеров, они пожимали руки, бегло переговариваясь с Генрихом по-немецки. Когда он представил Ингрид, все тепло заулыбались и уважительно закивали.
Взяв Ингрид под руку, он повел ее по белым каменным ступеням в особняк. Внутри дом оказался еще великолепнее, чем снаружи. Посреди просторного холла возвышалась широкая, богато украшенная лестница из белого мрамора, а между элегантными хрустальными люстрами висели еще знамена со свастикой, они качались, трепетали от жара, поднимающимся из комнаты. Порхала рядом с Генрихоми знакомясь с людьми, она продолжала рассматривать роскошное убранство дома. Генрих всегда будет представлять ее, как «Ингрид, одна из наших добрых голландок». И это представление несомненно будет вызывать улыбки и похвалы: «Замечательно» или «Чудесно». Ей нравилась быть востребованной, быть одной из «наших добрых голландок».
В какой-то момент Генрих извинился, и дав ей понять, что скоро вернется, отошел пошептаться с другим офицером.
Пока его не было, она бродила по комнате, любуясь всей этой красотой и представляя себе жизнь с Генрихом и все, чем она будет обладать. От него она узнала, что армия вермахта собирает сокровища: такие как, например, ее великолепное меховое манто. Ее возбуждала сама мысль о том, что жизнь, полная борьбы, осталась позади. Она была создана для такой жизни как эта.
Пока она осматривала комнату, к ней подошла молодая девушка в черном форменном платье и белом фартуке. В руках горничная держала большой серебряный поднос с хрустальными фужерами, полные золотого игристого напитка. Она приблизилась, и Ингрид стало не по себе. Девушка долго и странно вглядывалась в Ингрид, и прежде чем протянуть поднос, спросила на чистом голландском. Ингрид смутно припомнила, что они вместе учились в одной школе.
– Хотите шампанского?
Ингрид взбесили слова девушки, и не только сама фраза, но и то, с каким суровым презрением они были сказаны.
Она вытянулась. Ей доводилось встречаться с завистью и раньше, и сейчас, она была почти уверена, это именно зависть. Холодно и надменно Ингрид бросила ей:
– Да, хочу, – Она взяла бокал с подноса и слегка улыбнулась надеясь, чтона этом все и закончится.
Однако, когда Ингрид отвернулась, девушка продолжила со злобой в голосе:
– Говорят, оно очень хорошее. Надеюсь, оно того стоит.
Ингрид повернулась, но девушка лишь с ненавистью посмотрела на нее и ушла.
Что она имела в виду, когда сказала, что надеется, что оно того стоит? Ингрид была в ярости. Как грубо. Она слышала, что многие недовольны тем, что их заставляют работать на немцев, но откуда такая враждебность? Неужели она не понимает, какая это честь? Потягивая шампанское, она решила, что обязательно будет строго отбирать девушек, которые будут обслуживать их с Генрихом званые обеды.
Генрих присоединился к ней, и они продолжили светский променад. Худощавый, похожий на паука, оберштурмбаннфюрер с крючковатым носом и зачесанными на косой пробор волосами, бочком подошел к ней и представился как хозяин дома. Целуя ей руку, он задержал ее в своей дольше положенного, без стеснения заигрывая.
– Ну как, Ингрид, нравятся ли вам новая Голландия и мой новый дом? – спросил он, обводя комнату рукой.
Она ответила улыбкой:
– Очень. На мой взгляд, оккупация – лучшее, что случалось с нашей страной.
Он медленно оглядел с ног до головы.
– Вы сегодня очаровательны; я польщен встречей с такой прекрасной барышней.
Ингрид просияла. Она даже не могла назвать его даже приятным, но все равно ей нравилась его лесть. Потом, крепко схватив ее за руку, он прошептал ей на ухо:
– А только Генрих претендует на вас?
Его грязный намек ошеломил ее, и она нервно захихикала, полагая что он так непристойно заигрывает.
Отстранившись, Ингрид сменила тему разговора:
– Мне очень нравится ваш дом, – защебетала она, – хотелось бы осмотреть его целиком.
Глаза подполковника загорелись, и он что-то спросил у Генриха по-немецки, так тихо, что Ингрид не расслышала. Генрих, увлеченный серьезной беседой, утвердительно кивнул.
Офицер взял ее под руку:
– Тогда позвольте мне устроить вам грандиозную экскурсию.
Она забеспокоилась, но лишь на мгновение, решив, что ей просто в новинку мужчины, показывающие особняки. Он провел ее наверх по широкой мраморной лестнице и неспешно показывал комнату за комнатой. Она старалась деликатно отстраниться, но при каждом удобном случае он касался ее или гладил по спине. Теперь, оказавшись одна в такой интимной обстановке, она пожалела, что не пригласила Генриха присоединиться к ним. Она попыталась увернуться от его заигрываний и вместо этого начала ходить по комнатам. Красота поражала воображение: высокие арочные окна с дивным видом на канал Херенграхт, кресла в спальне были отделаны золоченой бахромой, Солидные столы из красного дерева, стены украшали изысканные гобелены и превосходные фрески.
– Вы сами все обставили? – она провела рукой по глади мраморной столешницы.
Вопрос вызвал у него раздражение.
– Большая часть мебели уже была в доме, но я, конечно, добавил несколько предметов. – Как красиво! – воскликнула Ингрид, завороженная красными бархатными шторами, обрамляющими французские окна. – Как любезно со стороны прошлых жильцов было сдать вам дом со всей мебелью. Офицер разозлился:
– Они уехали, и это все им больше не понадобится. – Он резко сменил тему: Пройдемте, я покажу лучшую комнату в доме., – и снова крепко схватил ее за руку.
Он провел ее в огромную спальню с мраморным потолком, его круглый центр украшала изысканная фреска с пухлыми херувимами, играющими на золотых арфах. Большую часть комнаты занимала роскошная резная кровать, обильно украшенная красно-золотыми подушечками с кисточками. Он подвел ее к кровати и сел. Ингрид удалось увернуться от его руки, она попыталась сделать вид, что интересуется потолком. – У меня очень удобная кровать, – мурлыкнул он, и улыбнулся так, что его губы раздвинулись, обнажив зубы, отчего крючковатый нос стал еще более заметным. Он провел по кровати рядом, приглашая ее сесть. – Проверь сама, – прошептал он, жадно оглядывая ее с головы до ног. Ингрид отвернулась, сделав вид, что не расслышала. Одним быстрым движением он схватил ее за руку и притянул к кровати, усадив рядом с собой. Она прикусила губу, чтобы не вскрикнуть от боли, заставив себя соблюсти видимость приличия. – Чувствуешь? – спросил он, с вожделением глядя на нее. Он был так близко, что она уловила запах алкоголя в его дыхании. Он отпустил руку, собираясь погладить ее бедро, и это был шанс. Она вскочила на ноги и прыгнула к двери. – Мне уже пора возвращаться к Генриху, он наверняка будет волноваться!
Она выскочила из спальни и без оглядки побежала по коридору к лестнице. По дороге она решила не рассказывать Генриху о случившимся, чтобы не портить им прекрасный вечер. Кроме того, подумала она, увидев себя в большое позолоченном зеркале в самом начале лестницы, вряд ли его начальник виноват. Она и в самом деле выглядит восхитительно. Улыбнувшись себе, она ринулась вниз по мраморной лестнице к Генриху.
Он кивнул ей, и она, схватив бокал шампанского с ближайшего подноса, залпом выпила его. Затем тут же взяла второй, но пила его уже медленнее, так как пузырьки ударили в голову.
Остаток вечера она сопровождала Генриха, встречая новых гостей, пока они не оказались в элегантном бальном зале. Кто-то играл на пианино традиционные немецкие застольные песни, а захмелевшие военные пили и раскачивались, хрипло распевая вокруг нее, и тогда она почувствовала себя более расслабленной. Генрих зажег им обоим по сигарете и усадил к себе на колени. Вокруг них собрался кружок поклонников. Когда она взяла следующий бокал шампанского, один из них спросил, нравится ли ей дом, и, уже забыв о досадном происшествии в спальне, она принялась восхвалять красоту всех увиденных комнат. Потом добавила, что собирается делать в своем доме, когда будет создан полностью новый Амстердам.
Наслаждаясь вниманием, она вернулась к своему привычному кокетству: соблазнительно закинув ногу на ногу, она позволила вечернему платью приподняться и показала свои изящные ножки в выгодном свете.
Она повыше подняла бокал с шампанским и произнесла:
– И у меня будут красные бархатные шторы!
Все восторженно загудели, а Генрих игриво поцеловал ее в шею:
– И они у тебя будут, mein liebling[12].
Глава 8
Сразу после полуночи мирный и крепкий сон Майкла и Эльке прервал настойчивый стук в дверь их плавучего дома. Майкл распахнул глаза, понимая, что мир вокруг раскачивается. Эльке выпуталась из его объятий и села. Она затряслась всем телом. Должно быть, кто-то запрыгнул на лодку.
Как только они вскочили с кровати, послышались яростные крики: одни и те же фразы на немецком, смысл которых был неясен, а отголоски прорезали чернильную темноту канала.
Майкл схватил брюки и побежал к двери, чтобы в окне разглядеть одинокую темную фигуру, жмущуюся к двери. Разобрать кто это не получалось, но это точно был не человек в форме.
В дверь снова постучали, а затем сквозь деревянные доски донесся суетливый шепот:
– Майкл, скорее! Это я, Давид!
У Майкла отлегло от сердца, когда он узнал голос своего друга детства из синагоги. В камбуз вбежала взволнованная Эльке, судорожно натягивая свитер через голову, и все еще с голыми ногами.
– Кто это? – дрожащим голосом прошептала она.
– Все хорошо. Все хорошо. Это Давид.
Майкл принес свою одежду из спальни и бросил часть вещей Эльке – и они оба принялись торопливо одеваться на кухне.
И вновь раздался взволнованный голос:
– Майкл, ты там?
Майкл прошипел в ответ:
– Да, сейчас.
Он застегнул брюки и, убедившись, что Эльке одета, открыл дверь.
Давид едва стоял на ногах, в глазах читался ужас.
– Майкл, они идут за тобой! Тебе надо уходить. Мой отец подслушал, как мистер Кратц из пекарни рассказал гестапо, что ты остался здесь, незарегистрированный. Я сразу, как смог, прибежал сюда, но комендантские патрульные заметили меня и побежали следом. Нам надо уходить. Сейчас же! – Давид зашелся в приступе кашля.
На долю секунды все в комнате замерло.
Пока Майкл натягивал остальную одежду и обувался, они с Эльке встретились глазами. Они понимали – это конец. Война наконец добралась и до их дорогого плавучего дома. И это было только начало. Теперь придется бежать, прятаться и вечно дрожать от страха. В это мгновение он будто понял – и она тоже, судя по выражению ее глаз, – что, после того как он покинет лодку, весь знакомый им мир изменится раз и навсегда.
Надевая пиджак, Майкл сделал то, о чем впоследствии будет спрашивать себя еще долгие годы. Он не знал, почему так поступил. Сработал ли инстинкт, или какое-то внутреннее чутье, а может его направил Бог. Как выбегающий из горящего здания способен ухватить один предмет, так и он сгреб со стола томик стихов Рильке, подаренный Хельдом, и сунул в карман пиджака.
Эльке тоже надевала куртку, и было невыносимо больно видеть, что она тоже в этом замешана.
– Тебе не нужно убегать. Ты в безопасности. Ты же чистокровная голландка.
– Которая влюблена в еврея! – огрызнулась она.
Слова горечью отозвались в душе. Это он во всем виноват. Из-за своего эгоистичного желания быть с ней, обладать ею, он подверг опасности единственное, что делало жизнь стоящей: его милую, чудесную Эльке.
Похоже она прочла это в его глазах, когда они оказались у двери. Она практически вытолкала его наружу.
– Не беспокойся обо мне. Я немного побуду у своей сестры. Со мной все будет хорошо. Но тебе нужно бежать.
Они вышли в ночь. Чуть дальше, по дороге вдоль канала, два немецких солдата рыскали в кустах.
Втроем они бросились бежать, но один из солдат заметил их и крикнул:
– Стоять!
Они мчались по Аудезийдс Воорбургвал без оглядки, но слышали, как солдаты за ними гнались. Позади раздавался цокот подкованных сапог.
Свернув с набережной, они помчались по мосту Армбрюг, направляясь в заселенную часть города, где найти их будет труднее. За ними ломались кусты и трещали выстрелы, они бежали без остановки. Добежав до главной улицы, они нырнули в темный проход, в стороне от дороги – им пользовались голландские школьники, чтобы срезать путь. Остановившись на середине переулка, затененного рядом домов, они прижались к сырой стене. Затаившись, они дышали часто и тяжело, а в это время сапоги с металлическими подошвами зазвучали громче, а затем чуть стихли. Они слышали, как солдаты шарят по садам и стволами винтовок раздвигают кусты в начале переулка.
Все трое затаили дыхание, прижавшись к стене. Майкл понимал, что, когда они выбегут с другого конца переулка, то снова окажутся на улице, где их легко заметят, а он должен убедиться, что Эльке в безопасности.
Он шепнул ей:
– Стой здесь. Мы с Давидом побежим в другой конец. Они нас заметят и побегут следом, тогда ты тихонько выскользнешь и убежишь к сестре.
Эльке обезумела, охваченная паникой, она зашептала:
– Майкл, я хочу с тобой. Я не хочу тебя потерять.
Он схватил ее ледяную руку и прижал к своему лицу.
– Ты должна это сделать, Эльке. Тебе надо быть храброй. Я тебя разыщу, даю слово. Встретимся завтра, прямо перед комендантским часом в нашем секретном месте, хорошо?
Эльке сжала его руку так крепко, словно пыталась забрать с собой последнее, что осталось между ними.
От ее хватки и холода ему жгло руку. Он убрал прядь ее каштановых волос и притянул к себе для страстного поцелуя.
– Эльке, ты должна это сделать. Будь смелой и помни, что ты мне обещала.
Шаги приближались к концу переулка. Когда свет факела коснулся мокрых стен, они машинально припали к земле. Дрожащий свет факела осветил дикий ужас в ее глазах. Движением головы Майкл напомнил ей не сдаваться. Схватив Давида за руку, он подал знак, чтобы они приготовились бежать в конец переулка. Давид кивнул. Майкл повернулся к Эльке и жестом приказал ей остаться на месте.
Вскочив на ноги, он побежал. Шаги раздавались эхом, когда он стал хорошо различим на дороге. Солдаты заметили его и Давида, бежавшего следом. Как он и полагал, солдаты пустились в погоню по главной дороге, надеясь преградить им выход из переулка.
Солдатский голос прорезал ночь:
– Halt![13] – а затем продолжил на плохом голландском: – Или мы будем стрелять.
Глава 9
В тот вечер Йозеф стоял на тускло освещенной кухне. Закатав рукава, он склонился над – руки покраснели от горячей воды. Он не мог поверить, что за один день столько всего произошло. Он стирал с рубашки пятна крови мефрау Эпштейн с каким-то остервенением. Уже было поздно, и в доме все затихло, словно тот затаил дыхание, наблюдая, сможет ли Хельд избавиться от чудовищных воспоминаний минувшего дня, если будет так лихорадочно соскребать кровь с жесткой ткани. Когда вода в раковине стала бледно-розовой, Хельд изо всех сил старался отогнать видение, которое продолжало его преследовать. После происшествия с соседкой, оно снова всплыло на поверхность. Он давно не думал о любимой Саре, умудряясь хранить эти воспоминания в темном ящике под замком. И никогда не вскрывать. Он спрятал эти воспоминания, как прячут ненужную одежду. Но с этого дня, после смерти мефрау Эпштейн, крупинки воспоминаний опасно кружились на пороге его мыслей, готовые ворваться и поглотить его.
Его мысли словно осуществились – в дверь кухни настойчиво постучали. На мгновение ему показалось, что это игры воображения, но стук быстро повторился. Бросив рубашку в раковину, он погасил свет на кухне, опасаясь, что свет просочится в ночь и противник снова окажется у дверей. Он уже не сможет вынести этим вечером еще одного солдата.
Однако стучали все яростнее, и, с глубоким вздохом, он открыл заднюю дверь. Как лиса со сворой гончих на хвосте, в кухню влетел Майкл Блюм. Он вырвал дверь из рук Хельда и захлопнул ее за собой.
Включив свет, Хельд с трудом попытался все связать. Это был его студент, мальчик-еврей. Почему один из его студентов оказался у него в доме? Пытаясь разобраться в этой высшей степени необычной ситуации, он вопросительно глядел на Майкла, а тот молча смотрел на него обезумевшими глазами.
Задыхаясь, Майкл заговорил с бравадой, которую он совсем не ощущал:
– Ну, здравствуйте, профессор.
– Минейр Блюм.
Майкл продолжал в своей непринужденной манере:
– Хотите верьте, хотите – нет, но я подумал, что вы, возможно, соскучились по мне.
– Зачем вы здесь?
– Я… хотел… вернуть вам книгу.
Хельд смутился:
– В смысле?
– Стихотворения Рильке, – ответил Майкл, шагая по комнате. Его глаза метались по сторонами, он жадно дышал. Он выглядел так, словно выдумывал все это на ходу. Хельд отлично знал это выражение – он годами наблюдал его на лицах множества студентов, когда они боялись получить плохую оценку за не вовремя сданную работу.
Хельд кивнул.
– Как вы меня нашли?
Майкл распахнул пиджак и показал книгу.
– Адрес был внутри.
– Что?
– Ваш адрес. Внутри книги.
– Это все равно ничего не объясняет…
Взгляд профессора зацепился за красновато-коричневое пятно на обложке книги. Такое же пятно он заметил и на руке Майкла. В это мгновение Хельда осенило. Такие же темные пятна были и на нем самом. Взглянув на одежду молодого человека, он заметил, что темные и липкие красные пятна проступали не только на его рубашке, но и сквозь толстую шерстяную куртку. Кровь.
Вокруг все замерло, и то единственное воспоминание, которое он пытался подавить в ночи, глубинное, застарелое, вернулось с такой силой, будто его ударили молотком по лицу. Сознание раздробилось, сердце сжалось, дыхание перехватило. Сарино лицо, повсюду кровь, ее изумрудные глаза безжизненны и холодны, словно где-то за ними потушили свет.
Очередной стук в дверь вырвал Хельда из его кошмара наяву. Они оба вздрогнули. Когда Хельд поймал испуганный взгляд Майкла, он внезапно показался ему совсем юным.
Молча он указал ему на чулан в коридоре, Майкл забежал и сел на корточки. Хельд схватил красный клетчатый плед с полки и накрыл юношу.
Выждав время, чтобы успокоиться, Хельд взял на руки кота, и с глубоким медленным вдохом открыл дверь.
На пороге стоят все тот же немецкий офицер, что и вчера. Исчез прежний дружеский тон. Вместо этого, прозвучал монотонный и чеканный голос:
– Профессор Хельд. Извините за беспокойство в столь поздний час.
Хельд заставил себя заговорить как ни в чем не бывало:
– Добрый вечер. Чем могу быть полезен?
Не дождавшись приглашения, офицер вошел в дом.
– Мы ищем беглецов, полагаем, они евреи. С одним уже покончили.
У Хельда застрял комок в горле, желудок сжался – он слишком хорошо понимал, что может означать эта фраза.
– Двое патрульных выследили последнего в этом районе. Солдаты перекрыли дороги, а значит он прячется где-то поблизости.
Хельд старался сохранять спокойствие, а засидевшийся на руках Кот начал извиваться.
– Не понимаю, чем я могу помочь?
Офицер оглядел прихожую.
– Вы ничего вечером не слышали, не видели?
Наконец Кот добился своего – спрыгнул с рук Хельда и направился к чулану, принюхиваясь, явно заинтригованный свежим запахом крови.
Профессор отрицательно качнул головой в надежде, что на этом все закончится.
– Нет. Совсем ничего.
Солдат кивнул, явно озадаченный происходящим.
– Мы бы проверили дом ради вашей безопасности.
Хельд хотел задержать его, но потерял дар речи. Прежде, чем он успел что-то сказать, офицер подозвал четырех стоявших в темноте солдат. Он грубо скомандовал что-то по-немецки.
– Я не думаю, что… – наконец нашелся Хельд.
Солдат успокоил его:
– Это будет быстро. Майор фон Штраус строго приказал нам следить за вашей безопасностью.
Солдаты бросились мимо него в прихожую. Они быстро поднялись наверх, и было слышно как они там рыщут, тщательно и упорно.
Один солдат вытащил сигарету в коридоре:
– Можно?
– Конечно, – занервничал Хельд.
Машинально он направился на кухню, чтобы достать из шкафа пепельницу, по пути забрав Кота, который все еще тыкался носом в дверь чулана. Он только потянулся за ней, но тут же развернулся – заметил кровавые следы, ведущие из кухни в чулан. Наверное, Майкл наследил. Недолго думая, он схватил из открытого шкафа бутылку темного уксуса и разбил ее об пол, маскируя пятна. Кот в ужасе спрыгнул с профессорских рук в тот момент, когда на кухню вошел солдат.
– Профессор Хельд?
– Прошу прощения, – пробормотал профессор. – Я сбил бутылку с полки, когда доставал пепельницу.
Солдат оценил лужу темной жидкости и битого стекла и пожал плечами.
Стоя на четвереньках, Хельд оттирал уксус, пока остальные солдаты спустились вниз и стали обыскивать первый этаж, обходя его на кухне. Один солдат протянул руку к дверце чулана.
Хельд застыл с мокрой тряпкой в руке, в воздухе висел тяжелый запах уксуса. Солдат распахнул дверь и дулом отодвинул край клетчатого одеяла. Хельд собрался с духом, размышляя, что сказать. Он приготовился к худшему. Но в то же мгновение, немец отступил и закрыл дверцу чулана.
Когда остальные солдаты покинули дом, офицер произнес:
– Простите за беспокойство, профессор.
Хельд бросил тряпку в раковину и последовал за ними к входной двери. Чтобы скрыть дрожь и волнение, он вцепился в собственные штанины, но все же нашел в себе силы ответить непринужденно:
– Ничего страшного.
Когда офицер спустился по ступенькам, то крикнул ему:
– Не забудьте запереть дверь на ключ!
Профессор сухо помахал рукой и кивнул.
– Да, да, разумеется.
Он молча закрыл и запер ее на ключ. Положив обе ладони на панель двери, чтобы успокоиться, он закрыл глаза и вздохнул. Успокоившись, он двинулся к чулану. Открыв дверь, он отодвинул верхнюю одежду, поднял красный клетчатый плед. Майкла не было. Проследовав за ним в чулан, Кот принялся топтаться по красной шерсти. Профессор уставился в темноту чулана. Над его головой зашевелилась большая коробка, потом она упала на пол. Каким-то образом Майклу удалось забраться на высокую полку не больше метра шириной и спрятаться за тремя коробками.
Хельд не поверил своим глазам:
– Как…?
Он помог Майклу выбраться, и они оба двинулись на кухню, где все еще остро пахло уксусом.
Он снова взглянул на окровавленную рубашку Майкла.
– Куда вас ранили?
– Это не моя кровь, – в глазах Майкла отразилась невыносимая боль.
Они оба замолчали.
Хельд подошел к кухонной двери.
– Вам нужно переодеться.
Майкл попытался возразить. – Сейчас принесу, – невозмутимо продолжил Хельд. – Бросьте свою в огонь.
Он отправился в спальню и принес оттуда чистую одежду. Когда он вернулся, Майкл уже очутился в гостиной, он смотрел на огонь не мигая. Хельд протянул ему штаны и рубашку, Майкл благодарно кивнул.
– Может, еще что-то нужно?
– Я бы выпил.
– Конечно.
– Спасибо, профессор, большое спасибо, – измученно отозвался Майкл.
Хельд вернулся на кухню, рукав его запачканной кровью рубашки все еще лежал в розовой воде. Он схватил его, и, пытаясь выплеснуть все накопленные чувства, отжал его до последней капли. Налив в два больших стакана бренди, который использовал в лечебных целях, он вернулся к Майклу и протянул ему напиток. Затем бросил свою мокрую и грязную рубашку в огонь вместе с одеждой студента. На мгновение огонь зашипел и задымился, а потом снова вспыхнул ярким пламенем.
Хельд взял свой стакан и подсел к Майклу, тот застегивал профессорскую рубашку. Они пили в молчании.
Рассеянно глядя на пламя, желтые языки которого жадно лизали свежую порцию растопки, Майкл тихо спросил:
– Почему вы не выдали меня?
Несколько мгновений Хельд молчал, охваченный изнуряющими эмоциями прошедшего дня.
Майкл посмотрел на него.
– Вы могли бы…
– Нет. Я не мог бы. С меня хватит крови на сегодня.
Майкл согласился, в его глазах отразилась новая боль.
– И с меня.
Они выпили еще по стакану бренди, потом Хельд встал и принес аккуратную стопку свернутых одеял.
– Пойдемте.
Хельд проводил его в ванную, где Майкл вымылся, затем повел юношу по лестнице к двери на втором этаже. За дверью оказалась крутая тонкая деревянная лестница. Она вела к другой двери, на чердак. – Здесь будет безопасно, даже если они снова вернутся с обыском. Эта комната неприметна.
Дверь выглядела как дверь чулана, от посторонних глаз ее скрывала лестница. А это значило, что попасть в нее можно только пригнув голову. Профессор повернул ключ и открыл дверь в душное, пыльное помещение. В одном конце находилось маленькое окошко с треснувшим стеклом, сквозь которое пробивалась полоска лунного света, освещая крошечный кусочек деревянного пола.
Вдоль стен и в глубине лежали коробки и аккуратно сложенная серая походная кровать профессора – его детская реликвия, когда-то он ходил в походы с отцом. Хельд вручил Майклу одеяла, тот уныло стоял, наблюдая, как профессор раскладывает кровать. Закончив, он кивнул и направился к двери.
Сквозь тьму до него донесся голос Майкла:
– Профессор?
Он замер и обернулся:
– Да?
– Благодарю вас. Я завтра уйду.
Хельд кивнул.
– Доброй ночи!
Захлопнув дверь на чердак, он спустился по лестнице, понимая, как нелепо прозвучали его прощальные слова. Что доброго в этой ночи? Вернувшись на кухню, он сел в кресло и обхватил голову руками.
Глава 10
Хельд лежал, уставившись в белый потолок, размышляя о Майкле и мефрау Эпштейн – заснуть этой ночью у него не вышло. Когда он сосредоточился на крошечной трещинке, змеящейся по штукатурке, в его сознании снова всплыло охваченное ужасом лицо соседки. Сердце заколотилось, и он пытался унять биение медленными и глубокими вдохами и попытками зажмурить глаза.
Слушая, как воздух входит и выходит из легких, он чувствовал себя опустошенным, поскольку проиграл битву с нескончаемой ночью, полную жутких кошмаров с испуганными лицами и криками. Он пытался разобраться с напирающими чувствами, атаковавшими все его мысли, но жестокие образы рвались на свободу, когда он тщетно старался их упорядочить в своем математическом уме.
Он пробовал сосредоточиться на чем-нибудь другом, но в голове все еще звучал резкий звук выстрелов. Пойманный навязчивой петлей памяти, звук только усилился от запаха уксуса, который до сих пор держался на одежде и волосах. Этот едкий гнилостный запах вернул его к ужасам вчерашнего дня.
Вновь и вновь он убеждал себя, что с ним все в порядке, пытался и не мог найти во всем этом никакого смысла.
Он встал с кровати и направился в ванную. Ритм утренней рутины его успокоил. Он умылся, оделся, покормил Кота и заставил себя проглотить немного еды, перед тем как, собрать что-то из съестного. С едой он отправился на чердак.
Майкл проснулся и уже сидел на чемодане, уставившись в окно с трещиной. Сквозь пыльное стекло пробивалось слабое утреннее солнце. В одежде профессора он выглядел довольно нелепо.
Хельд снова отметил, что несмотря на свою дерзкие манеры, Майкл Блюм все еще очень молод.
Хельд закрыл за собой дверь, но Майкл не пошевелился.
– Я иду в университет.
Майкл кивнул в ответ.
На деревянный сундук Хельд поставил кувшин с водой, сухари, орехи и яблоко. На пол опустил ночной горшок.
– Тебе лучше держаться подальше, на всякий случай, – затем жестом показал на еду: – А это тебе на сегодня.
В тот момент Майкл повернулся и посмотрел на него:
– Спасибо вам, профессор. Я уйду вечером, в сумерках, до темноты.
– Отлично. Это даже хорошо, – кивнул Хельд. – Я как раз вернусь домой позже.
Хельд двинулся к двери.
– Профессор? – он обернулся. Голос Майкла звучал искренне: – Я знаю, что мы никогда не ладили…
Хельд поднял руку, чтобы попрощаться и вышел.
– Увидимся вечером.
Внизу профессор надел пальто, шляпу и шарф, подхватил сумку и вышел из дома, аккуратно заперев за собой дверь.
Стараясь успокоиться и вернуть самообладание, он, опустив голову, следовал своему бессменному алгоритму и шел в университет привычным маршрутом. Сосредоточившись на гулком отзвуке собственных шагов, он снова пытался обуздать воспоминания вчерашнего дня, воспоминания, которые, похоже сидят на краю каждого элемента его реальности. Он чувствовал себя незащищенным. Годами он тщательно возводил стену, стараясь отгородиться от всех чувств, и все это рухнуло в один день. Он напряг все свои силы, чтобы остановить поток всепоглощающих мыслей – те могли схватить и раздавить его.
В университет он пришел пораньше, старался сконцентрироваться и не упустить из виду каждую деталь, ища утешение в привычных вещах: скрипе открывающейся классной двери, запахе древесины и в сухом воздухе, смешанного с меловой крошкой. Он снял пальто и повесил его на крючок вместе со шляпой и шарфом. Подойдя к столу, он заметил уравнение, написанное его рукой на доске. Неужели это было вчера вечером? Столько всего произошло.
Сердце запылало от гнева. Он злился на немцев, злился на бессмысленно отнятую жизнь, но главное – злился на самого себя. Как он мог поступить так глупо? А теперь женщина мертва; добрая невинная душа, которая только и хотела, что нести в мир музыку. Он проглотил горячую ярость и попытался переварить горькую вину.
Неосознанно он подошел к шкафу и отпер дверцу. Обнаженная пустота внутри ужасала. Он совершенно забыл, что у него больше нет радиоприемника. Его сердце жаждало музыки, которая могла бы успокоить его душу и справиться с болью. Вернув в карман ключ, он оставил дверцы открытыми, не потрудившись их запереть.
День тянулся мучительно медленно, пока он балансировал между обостренным чувством страха и тяжелой сокрушающей болью. У него бывали периоды, когда он, пусть и ненадолго, забывал об ужасе, ныряя на мгновения в убежище математики. Потом он вспоминал, и противоречивые чувства снова наваливались каменной стеной. В какой-то момент он в панике открыл ящик стола, вытащив листок Майкла и сунул его в карман. Он не хотел, чтобы там лежало что-то, что могло связать его с конкретным студентом.
Ближе к вечеру Хельд посмотрел на часы и не мог поверить, что до конца рабочего дня и последнего занятия остался всего час. За высокими окнами влажной стеной шел дождь, скорее всего, он смоет остатки застарелого льда. Впервые на его памяти он не мог дождаться, когда выйдет из класса. Утром он стремительно выбежал из дома, а теперь то же чувство гнало его из университета.
Когда он бежал по холодному коридору к выходу, его окликнул знакомый голос:
– Профессор Хельд! Ваша почта!
Хельд обернулся. Привлекательное озабоченное лицо Ханны Пендер смотрело из-за стола.
– Да. Конечно, мефрау Пендер.
Он подошел к ней.
Ханна осторожно наблюдала за Хельдом, голос ее звучал скорее взволнованно, чем вежливо:
– Как ваши дела, профессор?
Он ответил кивком.
– Я сожалею о вчерашнем.
Хельд попыталмя понять, как она узнала, что случилось, и лишь потом сообразил, что она имеет в виду радиоприемник и ничего другого. Опасаясь, что кипящие внутри эмоции вырвутся на поверхность, он, борясь с чувствами, серьезно сказал:
– Будьте добры, мою почту.
Следя за тем, как она ищет его письма, он хотел сказать ей, что его неспособность посмотреть ей в глаза связана не с радиоприемником, а со страхом, что если он заговорит, то рассыпется перед ней. Он хотел бы разделить с кем-нибудь эту ношу, особенно с человеком с такими добрыми глазами. Но можно ли ей доверять? В его памяти всплыл эпизод, когда она непринужденно разговаривала по-немецки с майором. Кому-то рассказывать было слишком опасно. Он не мог рисковать и подвергать Майкла опасности.
Робея, она протянула письма через стол и быстро проговорила:
– Я действительно сожалею о вашем радиоприемнике. Если бы я смогла им помешать, поверьте, я бы это сделала. Мне было очень неловко просить вас. Я знаю, как он вам дорог. Я сама не знаю, зачем они им нужны…
Пока она тараторила, Хельд всматривался в ее прекрасное лицо и его поразила нелепость происходящего. Она говорила о радиоприемнике. Всего двадцать четыре часа назад он был так расстроен из-за какого-то предмета, а сейчас… Его задумчивое молчание побудило Ханну податься впереди положить руку на его ладонь в качестве утешения. Ее глаза излучали тепло.
Потрясенный неожиданным эффектом ее прикосновения, он резко отдернул руку и забрал письма.
– Да, хорошо. Всего доброго, мефрау Пендер.
И, прежде, чем Ханна успела что-то сказать, он поспешил к дверям. Быстро оглянувшись через плечо, он заметил, что она внимательно наблюдает как он выходит из университета.
На улице он поплотнее обмотал шарф вокруг шеи, чтобы защититься от проливного дождя, хлеставшего с удвоенной силой. Настоящий потоп, да еще и холодный, обрушился на него длинными, ледяными, мокрыми полосами, вонзаясь в тело и пропитывая всю одежду. Погода соответствовала его настроению.
Прижав шляпу и лацканы пальто, он, пряча голову, направился к дому. Дорога домой казалась бесконечной, он с трудом переставлял ноги. Как и проливной дождь, просачивающийся через его тяжелое пальто и одежду, пробирал его до костей, так и шок от вчерашнего вечера проникал все глубже. Казалось, что истинная тяжесть несправедливости скоро поглотит его изнутри.
Когда он проходил мимо двух патрульных в немецкой форме, неистовая ярость пробежала по спине и отозвалась во всем теле. В каждом солдате он видел того, кто отнял жизнь мефрау Эпштейн. Он задался вопросом, почему он не замечал этого раньше. Как он мог не знать о вопиющем зле, живущем в городе рядом с ними.
Поглощенный своими новыми мыслями, он переходил улицу, как вдруг раздался рев гудка, испугавший его до полусмерти. Он понял, что прошел перед машиной немецкого офицера. Сквозь струи воды, стекающие по лобовому стеклу и маячившие черные дворники, водитель в униформе свирепо посмотрел на него, прежде чем свернуть и дать по газам. Хельд отступил на обочину и замахал руками, извиняясь. Потрясенный и измученный, он прислонился к фонарному столбу, чтобы прийти в себя.
Он стоял, напряженный, в ожидании сил для ходьбы, и не мог сопротивляться холодному дождю, который непрерывным потоком стекал с полей его шляпы вниз по носу и по подбородку. Сквозь ледяную пелену он видел мир заново, словно глаза раскрыл, и мир этот был поганым и грубым. Заколоченная лавка мясника с антисемитским ругательством поперек двери выглядела крайне оскорбительно. Безнадежность в глазах двух бледных, худых евреев, укрывшихся в дверном проеме, выворачивала наизнанку. Серые мундиры и винтовки на каждом шагу вселяли настоящий ужас. А вдалеке, над их ратушей, неистово развевались промокшие штандарты со свастикой. До невозможности тягостное зрелище.
Почему он до сих пор не ощущал полной серьезности происходящего вокруг? Только одна мысль занимала его, когда он, спотыкаясь всю оставшуюся часть дороги, шел домой: когда все это стало нормой?
Почти год назад, после первого потрясения от оккупации, они испугались и отступили. Нация превратилась в жертву, все вместе они затаили дыхание и единственное, на что они уповали – стоическое выжидание. Но их образ жизни постоянно разрушался, как от капель кислотного дождя, каждая из которых приближала их к чему-то смертельно опасному. Для него эти изменения были настолько незначительными, что он научился обходить каждую новую реальность, приспосабливаться, а потом находить новую точку отсчета. Но теперь, проходя мимо каждого разрушенного здания и каждой знакомой, но уже едва узнаваемой улицы, он ясно осознал, что немецкие оккупанты уничтожили город.
Мимо него, смеясь и перешучиваясь, проехала группа шумных солдат в кюбельвагене[14]. Их развязность вызвала у него отвращение. Он ускорил шаг и вынужденно сфокусировался на дыхании, превращавшееся перед ним в холодные и влажные облачка. Он понимал только одно: ему нужно домой.
Когда он добрался до своей улицы, непогода утихла и воздух наполнился приятным дымным запахом сырой земли. Измотанный и насквозь промокший, он вошел в свой крошечный садик, отводя глаза от потемневшего пятна вина, которое он так и не смог полностью смыть, оно все еще виднелось на ступеньках.
Вставляя ключ в замочную скважину, он смутно ощутил, как сзади подъезжает машина. Хлопнули две дверцы, и раздался знакомый голос:
– Дядя Йозеф!
Он резко обернулся. Ингрид так редко приходила к нему домой, что он сообразил не сразу, но был уверен – голос принадлежит ей. На дороге, прямо на против дома, он увидел припаркованный длинный черный автомобиль. Он смутился, ведь у Ингрид не было машины. Потом он увидел ее, но не одну. Навстречу шел высокий, широкоплечий и безупречно одетый нацист. На мгновение Хельду даже показалось, что все это ночной кошмар, какое-то бредовое воспоминание о вчерашнем дне, но при виде довольного лица своей племянницы, шагающей рядом с немцем, эта иллюзия рассеялась.
Он настороженно наблюдал, как они маршируют к нему по лужам, чтобы поздороваться. Ингрид быстро двигалась в блестящих красных туфлях на высоком каблуке, рядом в черных сапогах уверенно вышагивал ее партнер. У двери они восторженно поприветствовали его, сделав вид, что воссоединились после долго отсутствия.
– Дядя, дорогой, я так рада тебя видеть.
Хельд едва обратил внимание на ее сантименты, все его животное чутье обострилось, сосредоточилось на высоком светловолосом мужчине рядом с ней.
– Это майор Генрих фон Штраус, – представила она своего спутника.
Хельд вздрогнул и продолжил смотреть на него, только одна мысль пульсировала в его голове: почему у его дома стоит нацист?
Смущенная паузой, Ингрид снова заговорила:
– Помнишь, я тебе о нем рассказывала?
Офицер протянул руку и пожал его ладонь:
– Здравствуйте, профессор Хельд.
Хельд отдернул свою руку, с которой стекала вода, и уставился на возвышавшегося над ним мужчину. Из-под офицерской фуражки выглядывали аккуратные светлые волосы, близко посаженные глаза смотрели проницательно. Он был до невозможности ухожен, и это был явно тщеславный человек, которого сильно заботила собственная внешность. Когда он заговорил, его голос зазвучал резко и сильно. Это был голос начальника.
Хельд автоматически ответил:
– Как ваши дела?
На мгновение все замерли, Ингрид сконфузилась:
– Ты не собираешься пригласить нас в дом?
Он застыл. На мгновение он совершенно забыл о Майкле Блюме. Что же делать? Два лица выжидательно смотрели на него, не оставляя выбора. Если он проявит нежелание, наверняка у них появятся подозрения, что он что-то скрывает.
– Конечно. Извините, – вырвалось у него.
Молясь, чтобы Майкл все еще сидел на чердаке, он с глубоким вздохом отпер дверь. Ингрид вошла внутрь, и смущенная увиденным, произнесла:
– О, дядя, здесь нужно сделать ремонт. Могу тебе помочь.
Повернувшись к спутнику, она добавила:
– Сара – жена дяди Йозефа умерла почти двадцать лет назад. Боюсь, с тех пор он превратился в неисправимого холостяка.
Хельд слушал вполуха, снимая промокшие шляпу, шарф и пальто. Ему не терпелось развести огонь, чтобы унять холод, который угрожал подобраться к костям, но понимание, что Майкл может оказаться где-то поблизости, затмевало любые мысли об удобстве. Его глаза шарили по коридору. Все ли на месте? Может ли что-то выдать того, кто находится в полуметре над их головами?
Пригнув голову, Генрих вошел в дом. Он ответил Ингрид своими зычным голосом – У человека нет времени на ремонт. Я прав, профессор?
Остро ощущая происходящее, Хельд двигался по дому как можно быстрее и тщательнее проверяя каждый угол. Он пробормотал себе под нос:
– Я преподаю в университете.
Ингрид сняла пальто и повесила его чулан:
– Ага, все время!
Генрих согласно кивнул:
– Да, мы в курсе. Нам нужны такие хорошие преподаватели как вы!
Хельд положил портфель на стол и услышал негромкий звук над собой. Вздрогнув, он затаил дыхание. Глядя в потолок, он надеялся, что это всего лишь шумит Кот.
Следом за Генрихом на кухню впорхнула Ингрид и объявила:
– Мы принесли тебе подарки!
Генрих раскрыл сумку, с которой вошел. В ней было вино, мясо и сыр. Щедрые дары!
Хельд уставился на еду и не верил своим глазам:
– Не знаю, что и сказать. Как это все возможно?
Бросив сумку на стол, Генрих опустил свою тяжелую ладонь на плечо профессора и притянул его к себе:
– Ваша маленькая племянница заботится о вас.
Ингрид расхаживала по кухне и открывала все ящики, пока не нашла штопор. Вместе с бутылкой она отдала его Генриху, и тот с легкостью открыл ее и наполнил бокалы, выставленные девушкой на стол. Взяв тарелки и столовые приборы, Ингрид принялась раскладывать еду, обмениваясь при этом с Генрихом влюбленными взглядами. Пока они вдвоем суетились вокруг него, Генрих чувствовал себя чужаком в доме.
Ингрид щебетала:
– Вообще-то это дядя Йозеф заботится обо мне, впрочем, как и всегда.
Генрих сел за стол, чувствуя себя как дома:
– Расскажи еще что-нибудь.
Хельд опустился в кресло, он силился вступить в разговор. На ум ничего не приходило. Ингрид села к ним и заполнила тягостную тишину:
– Как я уже говорила, Генрих, мои родители умерли, когда я была маленькой.
Он кивнул, а она продолжила:
– И после постоянных переездов я вернулась сюда, в Амстердам, в свой родной город. У меня никого не осталось, кроме дяди Йозефа, – она чмокнула дядю в щеку.
Генрих в шутку отпрянул:
– Мне стоит волноваться?
Ингрид игриво сверкнула глазами и обняла дядю:
– Не говори глупостей, Генрих! У меня замечательный дядя, вот и все, и он заботится обо мне.
Протянув руку, Генрих похлопал его по спине:
– Достойный человек!
Ингрид принялась за кусочек сыра, а Генрих продолжил:
– Вы должны гордиться племянницей: она очень помогает мне и Третьему рейху. У нас ее очень любят.
Йозеф рассеянно кивнул:
– Да…
Они ели с аппетитом, но Хельд даже не притронулся к еде. Генрих это заметил:
– Профессор, угощайтесь.
Он заставил себя проглотить несколько кусочков и, торопливо выпив вино, неубедительно выдавил из себя:
– Спасибо. Это очень… любезно.
Пока Ингрид складывала тарелки в раковину, Генрих наклонился к Хельду и, понизив голос, заговорил как мужчина с мужчиной:
– Я знаю о вчерашнем вечере и хочу сказать, что мы ценим вашу помощь.
Кусок сыра застрял в горле. Хельд попытался его проглотить.
Когда Ингрид вернулась к столу, из коридора донесся шум. Генрих выглянул из-за плеча Хельда, его лицо стало серьезным.
– Ингрид вроде говорила, что вы живете один.
Страх парализовал Хельда, он старательно тянул время:
– Прощу прощения?
Генрих строго и вопросительно смотрел на него:
– Вы ведь на самом деле живете не один, да?
Стало нечем дышать. Воздуха не осталось.
Генрих поднялся и вышел в коридор.
– Какой милый кот! – он привел Кота на кухню и, поглаживая, усадил его на свои большие колени.
– Кхм, нет… Не совсем один, – сбивчиво проговорил Хельд. Кот мяукнул в ответ, Ингрид и Генрих рассмеялись. Хельд вытер лоб и сдвинул очки на переносицу. – Ну, meine geliebte, – наконец заключил Генрих, бросив салфетку и встав из-за стола, – нам пора.
Ингрид кивнула в ответ. Когда она выскользнула в коридор за пальто, Генрих отвел Хельда в сторону.
– Хочу вас предупредить, мой друг, – Хельд внимательно посмотрел на офицера, – запланированы… операции в эти несколько недель, в основном по ночам. Лучше не гулять по улицам, сидеть дома, с закрытыми дверями.
– Угу, – покивал задумчиво Хельд.
Ингрид вернулась, и Генрих приобнял ее.
– Мы же не хотим, чтобы Ингрид волновалась за вас.
– Разумеется. Сидеть дома. С закрытыми дверями, – согласился Хельд.
Пока он провожал их до двери, ему стало дурно. Когда они ушли, он закрыл дверь на замок и едва успел добежать до ванной, прежде чем его вырвало. Изможденный, дрожащий, он переоделся в сухую одежду и развел в гостиной огонь. Пока в камине разгоралось пламя, он прошел на кухню и привычным движением раскрыл большие ставни, ему был необходим его вечерний покой. Ужасное осознание завладело им, когда он вспомнил, что музыка больше не зазвучит.
Он закрыл окно и запер ставни. C нахлынувшей решимостью он собрал остатки их ужина и поднялся по лестнице на чердак. Открыв дверь, Хедьдс удивлением обнаружил, что чердак пуст. Развернувшись, он услышал за спиной шорох. Майкл прятался за ящиками.
Профессор с облегчением выдохнул:
– Минейр Блюм?
– Я слышал голоса.
Майкл вышел и сел на большой сундук, наблюдая, как Йозеф раскладывает съестное изобилие на ящике, а после садится на сундук напротив. Молчание длилось долго, пока Хельд пытался заговорить, наконец, он произнес:
– Я думаю, будет лучше, если вы уйдете не сейчас.
– Но… – встревожился Майкл.
– Нет. Вы останетесь, – категорично заявил Хельд.
– Я не могу! Вы не понимаете! Я должен быть в другом месте, – дерзко отреагировал Майкл.
– На улице опасно.
– Вы не можете удерживать меня тут.
С принятым решением Хельд направился к двери.
– Это для вашего же блага.
Разгневанный, Майкл поднялся:
– Я же вам не нравлюсь.
Хельд кивнул, а потом продолжил:
– Это не имеет значения.
Майкл рванул к двери. Профессор вскинул руку.
– Эти несколько недель там будет очень опасно. Немецкий офицер предупредил меня. Вы переждете здесь, пока этот кошмар не стихнет.
– Здесь что, был нацист? – в ужасе спросил Майкл.
– Да, но он искал не вас. Пока вы сидите здесь, вы все еще в безопасности.
Студент отрицательно покачал головой.
– Профессор, мне очень жаль. Но я должен идти! Я обещал встретиться!
И прежде, чем Майкл успел еще что-то добавить, Хельд быстро шагнул за дверь и запер ее.
Майклу совсем не верилось в происходящее.
– Не могу в это поверить. Вы что, запираете меня!?
Спускаясь по лестнице, Хельд слышал, как Майкл расхаживает по крошечной комнате, словно зверь в клетке. Ему вспомнилось стихотворение «Пантера» и он испытал противоречивые чувства. Справедливо ли сажать кого-то в тюрьму ради его же блага? Что это могло дать на самом деле? Но его мысль прервало более сильное чувство. Необходимость сохранить кому-то жизнь любой ценой.
Он положил ключ в карман. На этот раз он поступит правильно. На этот раз вместо смерти будет жизнь. На этот раз он будет бороться за правду. И наименьшее из того, что он мог совершить. Этот самое незначительное, что он может совершить ради мефрау Эпштейн и ради Сары.
Глава 11
На следующее утро после облав профессор Хельд проснулся и снова уставился в потолок спальни. Он выдохнул, утомленный и довольный тем, что ему не придется быть в университете допоздна. Его дом находился вблизи еврейского гетто Йоденбурта, и большую часть ночи он не спал из-за доносящихся до окон его спальни звуков гудения сирен, выстрелов и криков, так как облавы на евреев длились всю ночь. И даже с плотными шторами и глухо запертыми деревянными ставнями мучительные вопли и пронзительные крики прорывались в неподвижное безмолвие ночи.
Он неоднократно делал попытки не думать о том, что там происходит. Но громкие, сердитые голоса немцев звучали, по улицам двигались грузовики и время от времени раздавались выстрелы. Ему хотелось верить, что это были предупредительные выстрелы, но каждый хлопок, осквернявший ночную тишину, возвращал его к эпизоду убийства мефрау Эпштейн. Каждый пугающий выстрел сотрясал его до глубины души, и он ощущал себя беспомощным.
Ворочаясь в постели, он думал о Саре, и впервые за много лет его ноющие чувства обнажились. По-видимому, после смерти мефрау Эпштейн крепко-накрепко запертая дверь, сдерживающая их, распахнулась. Теперь она не хотела закрываться, а он утратил контроль над всеми мыслями: они нападали на него в нескончаемом разговоре. Он пытался дистанцироваться от них, но вместо того, чтобы утихнуть, они только усиливались. По мере того, как тянулась ночь, его сны становились все ярче и раздражающе реальными, сердце билось чаще, он дышал неровно, прерывисто, когда обнаруживал, что снова и снова переживает последние мгновения жизни Сары.
В три часа ночи, не в силах больше справляться с кошмарными видениями, он поднялся, чтобы выпить стакан воды. Сонный Кот поскакал за ним вниз, вероятно, сбитый с толку их нарушенным распорядком. Набирая воду, он склонился над кухонной раковиной, и его отражение в затемненном окне выразило всю тяжесть бессмысленности, обрушившейся на него.
Почему он запер Майкла на чердаке? Юноша пришел за помощью, а он обращается с ним, как с преступником. Он чувствовал расхождение со своими действиями, хотя понимал, что им руководили страх и инстинкт; но был и импульс, потребность контролировать неконтролируемое. Когда эмоции навалились на него и захлестнули яростной волной, он снова попытался обуздать мысли и эмоции, найти им аккуратное место в сознании, чтобы разложить по полочками и убрать. Но, казалось, не помогало ничего. Он летел в свободном падении, и ничего не могло его остановить.
Он медленно допил воду и вымыл стакан. Вернувшись к лестнице, перед тем как бесшумно подняться на чердак, он немного потоптался на площадке. Приложив ухо к двери и закрыв глаза, он прислушался. Изнутри доносились мягкие, ритмичные звуки дыхания, их умиротворяющее присутствие успокаивало его. С сердцем, полным благодарности, он развернулся и направился к своей кровати. Позже, утром он отопрет чердак, и Майкл сам решит, хочет ли он остаться, хочет жить или умереть. Он должен дать ему выбор.
Наконец около четырех утра, когда крики снаружи стали стихать, Хельду удалось заснуть.
Окончательно проснувшись, он увидел, как солнце уже пробивается сквозь щели в ставнях, хотя и не дарит тепло ледяному дню. Он повернулся на другой бок и снова посмотрел на часы – 8 утра. Холодный пол спальни жалил и кусал ступни. Он торопливо оделся, ткань рубашки оказалась сырой и холодной и под ней он дрожал. Одевшись, он поднялся по лестнице на чердак и опустил руку на ручку. В сознании вспыхнуло лицо, которое он много раз представлял себе. Сколько лет было бы его сыну, если бы он жил? От этой мысли он содрогнулся. Куда канули все эти годы?
Дверь со скрипом отворилась. Луч рассветного, голубоватого света сочился сквозь треснувшее оконное стекло. Он отбрасывал длинный, пыльный столб света на деревянный пол и идеальный светлый прямоугольник на кровать Майкла.
Майкл лежал к нему спиной, без рубашки, что было нелепо морозным утром. Его широкие плечи поднимались и опускались при дыхании. Темные, вьющиеся волосы разметались по подушке. Серое шерстяное одеяло валялось поодаль, белая простыня скомкана в ногах. Очевидно, Хельд был не единственный, чья ночь оказалась бессонной.
– Минейр Блюм, – прошептал он. Майкл не двигался. Хельд кашлянул и повторил чуть громче: – Блюм, вы спите?
Майкл зашевелился. Набрав в грудь воздуха, он потер лицо и повернулся к профессору. Хельд не знал, что говорить дальше. Он переступил с ноги на ногу и сдвинул очки на нос.
– Вы слышали? Слышали… – Хельд не знал, как закончить фразу.
– Да, – резко ответил Майкл, садясь и набрасывая на плечи серое одеяло.
Хельд направился в угол чердака, вытащил пыльный чайный сундук и неловко сел на него. Когда он устроился, Майкл заговорил, с трудом сдерживая суровую интонацию в голосе.
– Не верится, что вы заперли дверь. Там были мои друзья. Может им нужна была моя помощь.
Хельд хотел ответить разочарованному Майклу, но не мог вспомнить, как вести такого рода диалог. Так много времени прошло с тех пор, когда в его жизни был кто-то, с кем у него была возможность поговорить честно, по-настоящему. Была только Ингрид, и она с ним просто болтала. Он хотел все объяснить. Хотел объяснить, что в теперешнее время евреям помочь очень трудно, но эти слова прозвучали бы грубо и бессердечно. Он хотел бы объяснить, почему запер его на чердаке, но тогда уже пришлось бы рассказывать и о Саре, и сыне, а сама мысль о том, что он может обнажить собственные потери, заставляла чувствовать себя таким уязвимым, что даже думать об этом было трудно. Теперь, при свете дня, решение запереть студента казалось действительно абсурдным.
И Хельд спрятался за безопасные фразы:
– Есть немного еды, если вы голодны, – он встал и направился к двери. Потом остановился, выдавливая из себя слова: – Если хотите, можете уйти, после сумерек будет безопаснее. Я заскочу в университет. Вам еще что-нибудь нужно?
– Нужно? – повторил Майкл, откидываясь на спинку кровати и закидывая руки за голову. – Разумеется. Мне много чего нужно. Мне нужна свобода. Мне нужно, чтобы война закончилась. Мне нужно, чтобы я мог ходить по улицам и со мной обращались как с человеком, а не как с животным, обзывая евреем.
Хельд заморгал за очками, потеряв дар речи.
Должно быть, Майкл почувствовал его смущение, поэтому, встретившись взглядом с профессором, добавил:
– Я бы с радостью начал с воды, если она у вас есть, – по его лицу скользнула слабая улыбка.
Хельд кивнул. За время, пока он спустился вниз, собрал небольшой поднос с едой и принес его на чердак, Майкл оделся. Он стоял у окна, глядя на красные крыши, уходящие далеко, насколько хватало глаз, и листал книгу стихов.
Хельд опустил поднос на чайный сундук.
– В углу есть письменный стол, – сказал он. – Он старый, но за ним можно писать и читать. У меня есть немного черновой бумаги, ее не забрали, я храню ее для студентов, – предложил он, вытаскивая несколько листов из коробки.
Майкл кивнул.
– Спасибо.
Хельд немного неловко постоял, затем направился к двери.
– На самом деле вы можете кое-то сделать для меня, профессор, – Майкл повернулся лицом к Хельду. – Помните девушку, которая в тот день была со мной? Девушку, которая встретила меня после занятия? Она посещала занятия только из-за меня. На этой девушке я однажды женюсь.
На мгновение он задумался, а потом припомнил девушку с задумчивыми глазами.
– Мисс Дирксен? Но она не еврейка…
– Ее зовут Эльке. И какая разница? – стал защищаться Майкл.
Хельда поразили его слова – он понимал, что Майкл встречается с не иудейкой, а это очень нетрадиционно, особенно в нынешних обстоятельствах, но лишь слегка покивал.
– Ну, я хотел бы узнать, можете ли вы передать ей записку. Скажите ей, что я постараюсь встретиться с ней через пару дней, когда эти облавы закончатся, – Майкл подошел к кровати, нацарапал текст на листке бумаги, которую только что дал ему профессор и протянул ему.
Хельд напрягся.
– Это очень рискованно, – ответил он, отступая назад и нервно теребя очки. – Знаете, теперь, когда вы в бегах, это рискованно и для нее. Думаю, это не разумно.
Майкл бросил записку на кровать и захлопнул книгу стихов.
– Мне нужно ее увидеть. Она ждет. Она уже тревожится. Не могу представить, что мы не увидимся. Пожалуйста, вы должны хотя бы попытаться. Она так много значит для меня, – голос Майкла задрожал.
Хельд немного шагнул вперед, чтобы утешить его, но не знал, что делать. Его поразило, что он совершенно не помнит, как это физически обнять кого-то. Обнять ли его? Должен ли он положить руку ему на плечо? Хельд так давно ни к кому намеренно не прикасался. В конце концов он просто кивнул и сделал единственное, на что был способен: взял записку с кровати.
– Я подумаю, что можно сделать.
На мгновение Хельду показалось, как вся тяжесть мира спала с плеч молодого человека.
Спускаясь с чердака, профессор отметил, что сердце взволнованно чем-то новым. Осознанием, в кого он превратился. К кому он в последний раз прикасался, не считая Кота? Даже Ингрид просто навязала ему свою привязанность, а он не мог ответить ей взаимностью. Он даже не смог вспомнить, когда в последний раз протягивал кому-то руку, не говоря уже о том, чтобы держать ее. После смерти Сары восемнадцать лет назад у него было много объятий – сестры, родители, доброжелательные друзья. Но ни одно из них не принадлежало Саре, так что утешение казалось пустым, незнакомым, даже болезненным. Намеренно, по одному человеку, по одной паре рук, он оттолкнул их всех. Теперь он стал таким. Но прежде, чем он успел закрыть дверь на чердак, появился Кот и забежал внутрь. Он прыгнул Майклу на колени и свернулся клубком.
Глаза Майкла заискрились.
– По крайней мере, есть один товарищ, который составит мне компанию, – веселее заговорил он.
Хельд согласился.
– У меня занятия. Я вернусь позже.
Он замер. Это нужно было произнести:
– Майкл… – Майкл поднял глаза. – Простите, что запер вас.
Майкл пожал плечами.
– Пожалуй, вы спасли мне жизнь, – ответил он, садясь на кровать и поглаживая Кота.
Закрывая за собой дверь, Хельд услышал, как Майкл прошептал Коту – Стоило ли ее спасать, еще предстоит выяснить.
С тяжелым сердцем Хельд спустился вниз, надел пальто и отправился в университет.
Оказавшись в безопасном пространстве аудитории, Хельд раскрыл журнал и нашел имя Эльке Дирксен. Она будет на занятии после обеда. Время шло, а он все ждал четвертого занятия. Но Эльке не появилась. Может, она заболела, а может, ее поймали, как Майкла. Он раздумывал, стоит ли говорить юноше, и решил, что лучше сначала подтвердить свои подозрения.
День закончился, он задержался, чтобы добавить на доску последнюю задачу, а затем надел свое тяжелое пальто, шляпу и шарф и вышел из кабинета.
Он привычно остановился в коридоре, и Ханна Пендер весело улыбнулась ему:
– Ваша почта, профессор, – пропела она.
Он ответил кивком, остановился, на секунду задумавшись, какие могут быть последствия, если он спросит о мисс Дирксен. В нынешние времена опасно привлекать внимание к любому человеку. Но ему надо узнать, ради Майкла. Он ему обещал.
– Мисс Пендер, могу я вас кое о чем спросить?
Ее глаза вспыхнули, в предвкушении.
– Речь идет о студенте.
Она не смогла скрыть своего разочарования:
– Ах, да, конечно, профессор Хельд.
Ее реакция удивила его, но он все же продолжил:
– Это студентка и она сегодня не пришла. Я подумал, не заболела ли она, – он старался говорить непринужденно.
Ханна внимательно посмотрела ему в лицо, прежде чем кивнуть.
– Давайте я посмотрю в главное журнале, – она исчезла под столом и вынырнула с тяжелой книгой в кожаном переплете, в котой отыскала группу профессора Хельда.
– Как ее зовут?
– Эльке Дирксен, – унимая дрожь в голосе, ответил он. Рука сама потянулась в карман пальто и пальцы нащупали записку, которую он положил утром.
Он смотрел, как ее указательный палец заскользил вниз, пока не остановился на букве Д.
– Эльке Дирксен… О!
У Хельда перехватило дыхание.
– Что-то случилось?
Она подняла на него глаза, полные тревоги:
– Боюсь, что да, профессор. Здесь записка, в ней говорится, что она больше не будет посещать университет. Ей пришлось уехать. Сейчас я припоминаю. Она очень нервничала, выглядела уставшей. Я подумала, что у нее… – Ханна сделала паузу, подбирая слова, – проблемы личного характера.
Их взгляды ненадолго задержались, пока они оба размышляли над этой фразой. «Проблемы личного характера» – эту фразу часто использовали, чтобы описать ужас, происходящий вокруг. Это могло означать, что ее семью арестовали, или они уехали, или их бизнес разрушен. Ничего хорошего проблемы личного характера не означали.
Хельд кивнул и туго затянул шарф вокруг шеи. Он медленно взял письма со стола и, не глядя, сунул в портфель. И снова он почувствовал, как Ханна наблюдает за ним, выходящим в ночь.
Возвращаясь домой своим обычным путем, он думал о ней – о том, как мало он знает о ней и ее муже. При мысли, что они вместе, они вдвоем ужинают, беседуют, смеются, занимаются любовью, он напрягся. Последняя мысль оказалась особенно болезненной, и это его удивило. Должно быть, он путает всплывающие на поверхность мысли о Саре с женщиной с прекрасными глазами, каждый вечер провожающей его взглядом. Он стряхнул с себя эти мысли и сосредоточился на дороге, примечая первые признаки весны. Казалось зима длится бесконечно, но теперь на деревьях появились почки. В эти мрачные времена стоит отмечать все хорошее, успокаивал он себя. Конечно, с теплой погодой и погожими днями дела пойдут лучше.
Переходя улицу, Хельд вздохнул. Сколько еще им придется терпеть немцев? Сколько еще им придется мириться с жизнью, где боишься лишний раз сделать вдох? А потом новая мысль. Сколько еще Майклу придется оставаться на чердаке? Конечно, не слишком долго. Даже если война продолжится, ему, скорее всего придется перейти с чердака в более безопасное место.
Он зашел в магазин, и взяв то немногое, что можно было купить по талонам на день, отправился домой. Сказать Майклу, что Эльке уехала, он побоялся. Даст Бог, эта война закончится через пару месяцев, и они все смогут вернуться к прежней жизни.
Глава 12
Ингрид открыла глаза и на мгновение забыла, где она. Взглянув на пышное богатство вокруг, она догадалась, что находится не в своей постели, не в своей темной и сырой квартире на Бледстраат. Взгляд задержался на красном платье и белом манто, лежавшем на золотом парчовом стуле, красных туфлях с ремешками, раскиданных по персидскому ковру. Она вспомнила, что была с Генрихом.
От этой чудесной мысли она затрепетала, растянулась на удобной, широкой кровати, затем повернулась на бок, по-кошачьи поджала ноги, и, наслаждаясь роскошью, заскользила по шелковым простыням. Она протянула руку через кровать, чтобы нащупать Генриха. И хотя простыни еще хранили тепло, его не было, и она огорчилась. Она одна. Его отсутствие внезапно расстроило ее. Момент единения был упущен. Они впервые занимались любовью, и это был ее первый раз. Она самовлюбленно рассчитывала понежиться в его сильных объятиях до того, как они встанут.
Он вознес ее на такие высоты и места, о которых она раньше могла только мечтать. Он настойчиво требовал, чтобы их отношений развивались, и она с радостью удовлетворяла его настоятельную потребность. Ей нравилась то ощущение власти над ним, то, с каким желанием он смотрел на нее раздетой.
Когда она окончательно проснулась, то услышала голос вдалеке, и поняла, что это Генрих – он с кем-то разговаривал в коридоре. Ингрид приподнялась, села и потянулась. Вот так все будет, подумала она, оглядывая его богатую квартиру. Обставленная дорогой мебелью, она купалась в ярком утреннем свете. Вот каково это быть замужем за Генрихом. Она легонько улыбнулась – наконец-то она получила то, о чем всегда мечтала: любовь сильного, красивого мужчины, который позаботится о ней.
Отсюда, с ее нового места, сквозь французские окна Ингрид видела Нордермаркт, подсвеченный ранним солнцем. Сначала она думала дождаться свадьбы, но прошлая ночь оказалась идеальным моментом. После визита к дяде они были на званом ужине с его друзьями, а потом он привел ее сюда выпить по бокалу. Вскоре они стали страстно целоваться, и он настаивал, уговаривал, говорил, какая она красивая, давая понять, что хочет большего. Поначалу Ингрид колебалась, ей хотелось домой, но Генрих пустил в ход весь свой дар убеждения, напомнив, что они любят друг друга. И вот теперь она здесь, в нижнем белье, просыпается в его постели.
Выскользнув из-под простыней, Ингрид подошла к окну. Похоже дождя не будет. Ленивой походкой она направилась в ванную. Выглянув в коридор, Ингрид заметила Генриха, он стоял к ней спиной в брюках и рубашке. Ей понравилось его нагое тело. Было в этом что-то личное, интимное. Ей редко удавалось видеть его без пиджака, и Ингрид с нетерпением ждала замужества, чтобы каждый день перед тем, как она приготовит ему завтрак, иметь возможность видеть его таким.
На цыпочках она прошла в коридор. Генрих говорил по телефону, все его внимание было занято разговором. Он говорил очень быстро и по-немецки, так что она уловила только пару слов – «еврей» и «подполье». Он не слышал, как она подошла сзади и обняла его за талию.
Генрих вздрогнул, обернулся и суровостью лица дал понять, что это не к месту. Ингрид ощутила себя униженной и опустошенной. Она выдавила улыбку и убрала руки. Он неловко поерзал, казалось, ему не по себе от ее присутствия рядом. Затем пристально посмотрел на нее, и, прикрыв трубку, шепнул:
– Приведи лицо в порядок.
Ингрид опешила. Щеки горячо вспыхнули от смущения, он же повернулся к ней спиной и продолжил разговор.
По дороге в ванную Ингрид ругала себя за то, что не посмотрелась в зеркало, прежде чем подойти к нему. Перед тем, как закрыть дверь в ванную, услышала, как Генрих выругался. Вероятно, трудности на работе, решила она.
Включив свет, она подумала, как с окончанием этой дурацкой войны их жизнь станет лучше. Своему отражению в зеркале она ужаснулась. Ее макияж, тщательно нанесенный накануне, и в самом деле был в беспорядке. Черными кругами под глазами лежала поплывшая тушь, красная помада размазалась по подбородку. Неудивительно, что Генрих упрекнул ее. Ей стало стыдно, что она не встала раньше и не умыла лицо. Разумеется, Генрих ждет, что она будет выглядеть так же безупречно, как и он. В конце концов, он очень влиятельный человек. Всегда чистый, одет с иголочки, и, однажды став его женой, ей придется соответствовать.
Ингрид наполнила раковину теплой водой, намылилась куском белого, благоухающего мыла и принялась тереть лицо до красноты. Она потянулась к своей сумочке с фермуаром и вытащила из нее нужную косметику, которую наносила, чтобы прошлой ночью выглядеть привлекательнее. Умывшись, она неторопливо наложила свежий макияж, подчеркивая собственную привлекательность. Ингрид не хотела, чтобы перед отъездом Генриха последнее впечатление о ней оказалось таким же неудачным, как и первое.
Вернувшись в спальню, она заметила, что Генрих выключил телефон, и по тому, как он ходил по комнате, поняла, что он не в лучшем настроении, он хлопнул ящиками комода, когда закончил одеваться.
– Доброе утро, Генрих! – сказала она, надеясь снова поймать его взгляд. Теперь, с заново накрашенным лицом, возможно, она будет лучше соответствовать его требованиям.
Генрих не повернулся и не ответил на ее взгляд. Вместо этого он надел куртку.
– Утром возникли проблемы. Поговаривают о волнениях. Сейчас все распространяется по Амстердаму. Вероятно, они говорят о забастовке. Веришь ли? По всему городу ползут слухи о протестах.
Он выругался про себя. Затянув пояс, он повернулся к ней.
– Быстро одевайся и отправляйся домой.
– Но ты сказал, что мы могли бы утром отдохнуть, прогуляться или может где-то позавтракать.
Генрих хмуро посмотрел на нее.
– Сегодня не выйдет.
Надев фуражку, он вышел в коридор.
– Как я доберусь домой? – робко спросила она, ей не хотелось идти по улице в вечернем наряде.
– Мой водитель отвезет тебя, – бросил он через плечо. – Я попрошу его вернуться за тобой, как только он завезет меня на работу.
Он повернулся и продолжил:
– Как только переоденешься, приходи на работу. Надеюсь увидеть тебя не позже десяти.
Ингрид едва удержалась, чтобы не отдать честь. Порой ей казалось, что Генрих принимает ее за очередного солдата., того, кто будет подчиняться и выполнять его приказы.
Видимо, он углядел обиду в ее лице, так как, когда она повернулась и пошла в спальню, он заговорил теплее:
– Мы найдем время для прогулок по каналам в выходные, я уверен, liebling. Но сейчас нужно работать.
Стоя к нему спиной и глядя сквозь французское окно, Ингрид ответила кивком. На противоположной стороне площади стояли люди, толпа, собиравшаяся двинуться к их зданию. В руках они держали лозунги и плакаты в поддержку евреев, требовавшие прекращения облав, и выражающие возмущение по поводу несправедливого обращения с голландскими евреями в Амстердаме. Когда люди приблизились, их голоса зазвучали громче и Генрих обратил на них внимание. Подойдя к ней, стоявшей у окна, он оглядел толпу поверх ее плеча.
– Можешь ли ты в это поверить? – сказал он резко и сурово. – Это же голландцы. Одна из арийских наций. Они должны быть с нами, а не против нас. Кому нужны эти евреи? Все знают, что они унтерменши и с ними должно быть покончено. Что ж, их ждут серьезные последствия. Им это не сойдет с рук.
Ингрид кивнула:
– Конечно. Мне очень жаль, Генрих. Мне не верится, что мои соотечественники не видят преимуществ Третьего рейха. Они не видят того добра, что вы творите, не видят всего богатства, которые вы принесете, мира. Мне стыдно быть голландкой, – добавила она с отвращением. – Я помогу тебе, и сделаю все, что в моих силах.
Генрих развернул Ингрид к себе:
– Несомненно, ты одна из лучших голландок, meine liebchen, – ласковая интонация прошлой ночи вернулась к нему. А также нежность глаз, мягкость голоса. Он погладил ее по щеке: – А теперь мне пора. Я должен с этим разобраться.
Его губы коснулись ее щеки. Он вышел за дверь и уехал на служебной машине.
Вновь облачившись в вечернее платье, Ингрид почувствовала себя неуверенно и неловко. Наверняка соседи узнают, что она ночевала не у себя, а была с мужчиной. Она расправила плечи: почему это ееволнует? На самом деле никто о ней всерьез не заботился. Только Генрих. Теперь она стала его возлюбленной, а Третий рейх – ее новой семьей.
Ингрид ждала на стуле в прихожей с меховой накидкой на плечах и с расшитой блестками сумкой на коленях. Водитель Генриха вернулся минут через пятнадцать и проводил ее до машины. Выйдя на улицу, она не поверила своим глазам: сотни людей собрались на площади, скандируя, крича и распевая. Они держали плакаты в поддержку Сопротивления, королевы Вильгельмины и королевской семьи, хотя те сейчас пребывали в Англии, в изгнании. Ингрид стало не по себе. Эти люди так усложняют работу Генриха.
Пока она шла в сопровождении шофера к автомобилю со свастикой, до нее донеслось крики о любовнице нациста. Ингрид охватил страх, словно ее объявили врагом. Мысль, что они к ней могут быть настолько враждебны, привела ее в ужас. Кто-то кричал и проклинал ее, а женщина рядом плюнула в ее сторону. Потрясенная, она влезла на заднее сиденье.
Толпа окружила их и принялась колотить по крыше машины. Водитель, не теряя времени, запрыгнул на переднее сиденье и попытался протиснуться сквозь разъяренную толпу. Ингрид забилась в задний угол машины, желая как можно скорее оказаться дома.
Глава 13
Ханна несла две тяжелые корзины с покупками, радуясь, что у нее выдалось свободное от работы утро. Походом по магазинам она была довольна – продуктовые талоны были отоварены не полностью, что позволит целую неделю покупать товары для нее и матери. Однако, все ее мысли занимало увиденное ранним утром.
Свернув за угол на Нордермаркт, она с удивлением увидела, что обычно тихая рыночная площадь, окруженная кафе и магазинами, полна людей. Кто-то стоял впереди и подбадривал протестующих криками. Она думала развернуться и пойти домой другой дорогой, когда до нее донеслись слова: пылкий оратор рассказывал об облавах прошлой ночью и призывал людей выйти на митинг этим вечером.
Ханна задержалась, внимательно слушая. Она жила неподалеку от Йоденбурта и уже видела колючую проволоку и ограждения, возведенные вокруг еврейского квартала. Ходили ужасные истории, их она слышала, стоя в очереди утром у лавки мясника: сотни мужчин-евреев были схвачены во время рейда. И это произошло здесь, в ее дорогой Голландии.
Желая узнать подробности, она заторопилась в центр площади, чтобы присоединиться к толпе. Она слушала, как страстный оратор призывает к забастовке, протестам против такого обращения с евреями и особенно против рейдов и облав. Его слушали сотни людей. По периметру робкими группами стояли растерянные немецкие солдаты, не зная, как сдержать бурлящую толпу разъяренных сторонников.
Пока Ханна слушала выступающего, кто-то сунул ей в руку листовку. На ней – слова: «Забастовка! Забастовка! Забастовка!» Прочитав, она отметила, что ее вручил член Коммунистической партии. Ханна читала раньше, что немцы запретили существовать Коммунистической партии в Амстердаме – похоже, они хотели дать отпор.
Вдруг от угла площади отъехала машина, ее сопровождали разъяренные голоса. В салоне Ханна мельком увидела симпатичную блондинку и немецкого солдата. Судя по тому, что люди выкрикивали ей вслед, она была голландкой. Толпа продолжала гнаться за машиной, выражая свое недовольство. Ханна вздохнула и невольно пожалела молодую женщину. Кто знает, почему она так поступает? Злость – легкая эмоция, она быстро переходит в ярость.
Когда машина уехала, она обернулась, чтобы послушать оратора – энергичного мужчину в тяжелом сером пальто и кепи. Амстердам нужно освободить, говорил он. Затем он начал протестовать против принудительного труда в Германии, тоже навязанного нацистами. Она прослушала его речь до конца, спрятала листовку в карман и пошла домой.
Ее мать нервно стояла у окна, ожидая возвращения дочери. Еще до того, как вставить ключ в замок, Ханна услышала, как Клара, опираясь на трость, ковыляет по коридору. Ханна открыла дверь, Клара набросилась на нее:
– Ты слышала? Ты слышала, как они обращаются с евреями в Йоденбурте?
Ханна закрыла дверь и поставила корзины, чтобы снять пальто.
– Да, мама, все в городе только об этом и говорят.
– А что случилось с малышкой Евой? – спросила Клара. – Ты что-нибудь слышала о ней? С ней все хорошо? Она должна была прийти сюда несколько часов назад на урок вязания.
– На их улице повсюду солдаты, – ответила Ханна, внося тяжелые корзины на кухню.
Клара последовала за дочерью, проворно орудуя тростью.
– Это ужасно! – произнесла она. – Поверить не могу, что это наша Голландия. Все эти люди – наши друзья, наши семьи.
– Я знаю, – кивнула Ханна. – Мама, я все проверю, обещаю. Но везде заборы из колючей проволоки, солдаты патрулируют улицы. Как только появится возможность, я отправлюсь туда. А пока, прошу тебя, успокойся.
Казалось, Клару не удовлетворил ее ответ. Она вернулась к окну, и расхаживая с палкой взад и вперед, изучала улицу, будто та могла ответить на вопросы. Чтобы отвлечь ее от окна, Ханна приготовила маме чашку чая и поставила ее в гостиной на свой любимый чайный поднос.
– Я уверена, что Ева придет, когда сможет, – успокоила Ханна свою мать. – Уверена, с ними все хорошо. Давай выпьем по чашечке чая, и если в ближайшее время мы ничего не узнаем, обещаю, что пойду и проверю сегодня же днем.