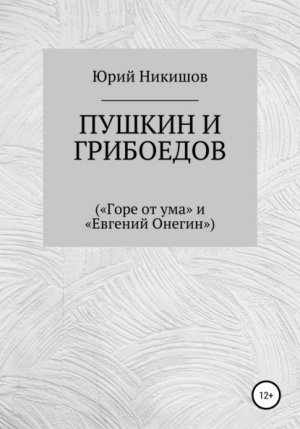
Человек пришел в мир,
чтобы сознать и сказать.
Из афоризмов Ф. Достоевского
Предисловие
Замысел этой книги необычный: на два шедевра русской литературы, создававшихся параллельно, посмотреть под едиными ракурсами. Так явственнее можно видеть как сходство, так и различие художественных приемов в период становления новой русской литературы.
Сравнение не ставит целью установить, какое произведение является «лучшим»: они разные, и оба хороши – по-своему. Такого рода сопоставимость предметов ничуть не обязательна. Пушкин иронизировал: «Хорошая эпиграмма лучше плохой трагедии… что это значит? Можно ли сказать, что хороший завтрак лучше дурной погоды?»
Меня больше всего привлекает содержание выбранных книг. Но к содержанию, можно видеть, подходят с разных сторон. Например, так: «В той или иной форме и в той или иной мере Грибоедов коснулся в “Горе от ума” множества серьезнейших вопросов общественного быта, морали и культуры, которые имели в декабристскую эпоху самое актуальное, самое злободневное значение»1. Но содержание не существует отдельно от формы! Если же довольствоваться весьма расплывчатыми обозначениями («в той или иной форме», «в той или иной мере»), то поневоле содержание произведения придется облекать в форму собственного изготовления. Попытка прямым текстом выделить идейное содержание игнорирует формы, в которых они созданы. Изложение идеи книги своими словами ведет к искажению авторской позиции, подчас существенному. Так что содержание произведения надо представлять не «в той или иной форме», а только в той, в какую его облек художник. Путь к пониманию авторского намерения лежит через понимание поэтики книги: чтобы понять, что изображено, надо видеть, как это изображено.
Отдаю отчет в том, что копание в мелочах будет далеко не всем по душе. Но как иначе добраться до понимания авторской позиции? В искусстве окольный путь к истине оказывается надежнее и эффективнее, чем прямой. В полном объеме восстановить ход авторской мысли невозможно; важно стремиться пройти этим путем как можно дальше. Награда будет достойная: «Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная».
Заманчивым было бы опереться на принцип непредвзятости, но, увы, он недосягаем. Образование, эрудиция, опыт, вкус, мировоззренческая позиция – все это и создает взятое «пред». Выразительно о несомненном сказал М. Л. Гаспаров: «Филология трудна не тем, что она требует изучать чужие системы ценностей, а тем, что она велит нам откладывать на время в сторону свою собственную систему ценностей. Прочитать все книги, которые читал или мог читать Пушкин, трудно, но возможно; забыть (хотя бы на время) все книги, которых Пушкин не читал, а мы читали, неизмеримо труднее»2. Но если видеть трудности, отчетливее задача их преодолевать.
Понятно, что какие-то итоговые мысли у меня определились, они и побудили отправиться в путь. Но я убежден: сам материал таит в себе новые наблюдения, корректировку накопившихся. Изведанное откроет новые грани. Поиск предпочтительнее вещаний. Классиков нет надобности учить, у них в достатке того, чему можно учиться.
По идее эту книгу надо было бы называть «Грибоедов и Пушкин»: из двух знаменитых творцов новой русской литературы (они еще и двойными тезками оказались) Грибоедов был немного старше и первым создал свой шедевр. Но это умозрительное рассуждение, а выбор исследователя определяет материал, который оказался в творческом наследии авторов. Пушкин с Лицея определился как профессиональный литератор («Мне жребий вынул Феб, и лира мой удел»). Грибоедов трепетно относился к литературе, воспринимая ее как средство познания жизни, но даже очевидный успех «Горя от ума» не увлек его на путь профессионального творчества (впрочем, и служба не отпустила). От литературы он требовал не менее, как откровений. Эрудиция его была завидной. При этом он оказался очень скуп на литературные оценки. На таком скудном материале концепцию нельзя выстроить. Тут уж волей-неволей материалы профессионала Пушкина предстают почти монопольными и по этой причине становятся опорными.
В центре внимания – два шедевра, задуманные и создававшиеся параллельно, но чтобы лучше понять их, в поле зрения и личности их творцов в их связях с действительностью.
Из пушкинских материалов о Грибоедове наиболее в ходу два письма с оценками «Горя от ума»; очерк о писателе, включенный в «Путешествие в Арзрум», используется исследователями слабо. Наибольший интерес уделен реминисценциям из комедии; весьма основательно этот материал представлен в статье С. А. Джанумова «“Горе от ума” А. С. Грибоедова в произведениях и письмах А. С. Пушкина»3.
Как раз этот особенно привлекательный среди исследователей Грибоедова аспект в данной работе будет затронут только мельком. Наша цель иная: оценить вклад обоих поэтов в развитие русской литературы. Тут речь не о взаимовлиянии, которого и не было: каждый шел своей дорогой. Интересны и частичные совпадения решений, и полностью оригинальные находки.
Моя задача – не изложение того, как я воспринимаю героев Пушкина и Грибоедова, а попытка понять, какими изображают своих героев Пушкин и Грибоедов.
Личные отношения
1
А ведь весьма любопытен факт, который как-то не вычленялся: два основателя новой русской литературы в одно время оказались сослуживцами! В 1817 году один – после окончания Лицея, другой – гусар Отечественной войны в отставке, поступили на службу по Коллегии иностранных дел. Имя Грибоедова неизгладимо вписано в историю российской дипломатии, но произошло это позже, не в столичные годы. Удивительно: ни у того, ни у другого поэта столичная служба не оставила следа в их жизни. Еще значительнее совпадение: оба покинули столицу не своей волей. Грибоедова поманили Америкой, а отправили в глухую Персию, и было это негласным (несколько припоздавшим) наказанием за участие в нашумевшей четверной дуэли. И Пушкина в южную ссылку не отправляли, а мелкого чиновника перевели по службе в южную канцелярию того же ведомства (впрочем, это поощрением никем не воспринималось).
Нет никаких документов этой поры, выявляющих какое-либо общение молодых авторов в Петербурге. Между тем существует (и недостаточно используется) уникальный психологический портрет дебютировавшего поэта в очерке Пушкина о Грибоедове, включенном в «Путешествие в Арзрум»: «Я познакомился с Грибоедовым в 1817 году. Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества, – всё в нем было необыкновенно привлекательно. Рожденный с честолюбием, равным его дарованиям, долго был он опутан сетями мелочных нужд и неизвестности. Способности человека государственного оставались без употребления; талант поэта был не признан; даже его холодная и блестящая храбрость оставалась некоторое время в подозрении. Несколько друзей знали ему цену и видели улыбку недоверчивости, эту глупую, несносную улыбку, когда случалось им говорить о нем как о человеке необыкновенном». Только в улыбке этой нет оснований видеть стеснительность поэта-дебютанта; волей начальства покинув столицу, Грибоедов писал С. Н. Бегичеву 18 сентября 1818 года в пути на юг из Воронежа: «В Петербурге я по крайней мере имею несколько таких людей, которые не знаю, настолько ли меня ценят, сколько я думаю, что стою; по крайней мере судят обо мне и смотрят с той стороны, с которой хочу, чтоб на меня смотрели».
Выделим бесценное свидетельское показание Пушкина: «Рожденный с честолюбием, равным его дарованиям…». Оно естественно после «Горя от ума», выявившего это дарование. Но тут речь идет о начале творческого пути, отнюдь не блистательном.
Утраченная пародийная комедия «Дмитрий Дрянской». Одна пьеса в стихах: перевод с немецкого. Соавторство в написании нескольких водевилей, где нет возможности вычленить участие Грибоедова. Общий уровень их таков, что они, не теряясь на фоне театральной жизни того времени, не стали литературными событиями. Написал дельную статью, примкнув к движению младоархаистов. Была активной пикировка эпиграммами между «своими» и «чужими» в среде театралов. Дебют не громкий, не сулящий взлета! Понятна странная улыбка честолюбивого и ощущающего свои способности человека в ответ на признание авансом его дарований.
Раннее знакомство двух поэтов не привело к их дружбе, к тому же они оказались в разных литературных группировках. Грибоедов – активный участник кружка Шаховского, комедия которого «Урок кокеткам, или Липецкие воды» послужила для антагонистов толчком к образованию литературного общества «Арзамас», к которому Пушкин рвался примкнуть еще лицеистом. Ю. Н. Тынянов в статье «Архаисты и новаторы» показал, что принадлежность к враждующим группировкам не препятствовала реальному сближению позиций их участников в трактовке целого ряда проблемных вопросов.
Значение даже мимолетных ранних контактов с Грибоедовым для Пушкина со временем возрастало.
В январе 1824 года Пущин, сделав крюк, навестил в Михайловском опального друга. Грибоедову не удалось продвинуть «Горе от ума» ни в печать, ни на сцену. Но списков комедии было наготовлено столько, что они успешно соперничали с тиражами того времени. Был такой список и у Пущина. Впечатлениями от прочтения, по обстоятельствам – беглого, Пушкин поделился 28 января 1825 года в письме к Вяземскому и в близкие к этой дате дни в письме к Бестужеву. Письмо к Вяземскому интимное, дружеское; автора ничто не связывает. Письмо к Бестужеву деликатнее, оно содержит просьбу показать письмо Грибоедову. В связи с различием адресации писем возникает и отличие оценок.
Бестужеву: «Драматического писателя должно судить по законам, им самим над собою признанным. Следовательно, не осуждаю ни плана, ни завязки, ни приличий комедии Грибоедова». Но тут угадывается фигура умолчания: не осуждаю – но мог бы осудить. Это выявляет реплика в письме к Вяземскому: «во всей комедии ни плана, ни мысли главной, ни истины».
На своих замечаниях Пушкин не настаивает: «Может быть, я в ином ошибся. <…> Эти замечания пришли мне в голову после, когда уже не мог я справиться» (Бестужеву). Общая оценка комедии высокая. «Читал я Чацкого – много ума и смешного в стихах…» (Вяземскому). «Покажи это Грибоедову. <…> Слушая его комедию, я не критиковал, а наслаждался. <…> По крайней мере говорю прямо, без обиняков, как истинному таланту» (Бестужеву).
Пушкин формулирует главную цель писателя: «характеры и резкая картина нравов»4. Под таким углом зрения особо выделены Фамусов и Скалозуб, есть претензии к изображению Софьи, Молчалина, Репетилова. «Les propos de bal <Бальная болтовня>, сплетни, рассказ Репетилова о клобе, Загорецкий, всеми отъявленный и везде принимаемый, – вот черты истинно комического гения».
Необычна у Пушкина оценка главного героя. Решительно заявлено в письме к Вяземскому: «Чацкий совсем не умный человек – но Грибоедов очень умен». Эти оценки повторяются и в письме к Бестужеву, но тут развертываются и мотивируются. «В комедии “Горе от ума” кто умное действующее лицо? ответ: Грибоедов. А знаешь ли, что такое Чацкий? Пылкий, благородный и добрый малый, проведший несколько времени с очень умным человеком (именно с Грибоедовым) и напитавшийся его мыслями, остротами и сатирическими замечаниями. Всё, что говорит он, очень умно. Но кому говорит он всё это? Фамусову? Скалозубу? На бале московским бабушкам? Молчалину? Это непростительно. Первый признак умного человека – с первого взгляду знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед Репетиловым и тому под.». Но у Чацкого на сцене нет единомышленников, и что же ему остается делать? Молчать? А как же мы узнали бы, что он умен? Да и резонерство Чацкого Пушкин преувеличивает.
Между тем как не принять во внимание общее свойство драматургии: автора не принято включать в число действующих лиц (о редчайших исключениях из этого правила говорить не будем) – но позиция автора для понимания доступна, воспринимается без усилий. Тут важно обратиться к композиции: она уж точно выстраивается по воле автора. Над примитивными решениями Пушкин подсмеивался:
Питая жар чистейшей страсти,
Всегда восторженный герой
Готов был жертвовать собой,
И при конце последней части
Всегда наказан был порок,
Добру достойный был венок.
У нас не о примитивах речь. Композиция здесь красноречива. Именно она делает внятной позицию автора, выявляет его ум.
В замечаниях Пушкина не стыкуются упрек в отсутствии плана и такое наблюдение: «Между мастерскими чертами этой прелестной комедии – недоверчивость Чацкого в любви Софьи к Молчалину прелестна! – и как натурально! Вот на чем должна была вертеться вся комедия, но Грибоедов видно не захотел – его воля». А она на этом и вертится! Пушкин это замечает, но, вероятно, по причине спешки первого прочтения не придает такому построению должного значения.
Завершающая оценка стала хрестоматийной: «О стихах я не говорю: половина – должны войти в пословицу».
Здесь хочется отметить, что во взаимных высказываниях о творчестве друг друга оба Сергеевича наступили на одни грабли: люди творческие, они вместо того, чтобы попытаться понять замысел автора, фактически предлагали свое видение персонажей и ситуаций.
Пушкин посчитал, что «Софья начертана не ясно: не то – – – – -, не то московская кузина». Современный читатель плохо сведущ даже и не в слишком отдаленных родственных связях (кузина – близкий родственник, двоюродная сестра), тем более не стремится понять, за что выделен этот типаж. Нам за пояснениями далеко ходить не надо. Выразительный образец – княжна Алина, близкий человек для Лариной, матери Татьяны. Та чему от нее набралась?
Она любила Ричардсона
Не потому, чтобы прочла,
Не потому, чтоб Грандисона
Она Ловласу предпочла;
Но в старину княжна Алина,
Ее московская кузина,
Твердила часто ей о них.
Заемная книжность Лариной в деревне, не пополняемая, быстро выветрилась, зато прожившая в мире книг всю жизнь Алина и в старости осталась княжной. Она и новую, неожиданную для нее встречу воспринимает в привычном для себя ключе: «Ей богу, сцена из романа…». (Бытовая фраза оборачивается каламбуром, поскольку для читателя это действительная сцена из романа. Романа в стихах Пушкина).
Пушкину показалось недостаточно острым изображение избранника Софьи: «Молчалин не довольно резко подл; не нужно ли бы сделать из него и труса? старая пружина, но штатский трус в большом свете между Чацким и Скалозубом мог быть очень забавен». Но у Грибоедова этот образ показан не столько смешным, сколько опасным, страшным, удостоенным недоуменного восклицания Чацкого: «Молчалины блаженствуют на свете!». Очень не прост этот образ в комедии!
2
В сохранившемся не слишком обширном эпистолярном наследии Грибоедова крайне редки (да и те скупы и лаконичны) суждения на литературные темы. Тем значительнее выглядит просьба Булгарину доставить ему на гауптвахту Главного штаба (февраль 1826) «Стихотворения» Пушкина. Кстати, в его письмах встретилась одна стихотворная цитата из Пушкина в размышлении, что такое слава («Лишь яркая заплата / На ветхом рубище певца»), а еще одна – из своего «Горя от ума».
Особый интерес Грибоедов проявил к трагедии «Борис Годунов». Он пишет Бегичеву (9 декабря 1826. Тифлис): «Когда будешь в Москве, попроси Чадаева и Каверина, чтобы прислали мне трагедию Пушкина “Борис Годунов”». Сетует в письме к Булгарину (16 апреля 1827. Тифлис): «Желал бы иметь целого “Годунова”. Повеса Лев Пушкин здесь, но не имел ко мне достаточного внимания и не привез мне братнина манускрипта». Тут, вероятно, Грибоедов судит по своему опыту: «Горе от ума» не удалось напечатать, а списков разлетелось множество; ужели списков трагедии нет у близких друзей? Он не знает, что Пушкину были запрещены чтения трагедии и выпуск на публику произведений, не прошедших цензуру.
Активным общение двух Александров было в марте – июне 1828 года, когда Грибоедов явился в столицу вестником Туркманчайского мира. «Их часто видели в то время вместе не только в Демутовом трактире, где они снимали номера, но и у общих знакомых…»5. К. А. Полевой свидетельствует, что на обед у литератора и журналиста П. П. Свиньина Грибоедов прибыл вместе с Пушкиным; вечером он читал наизусть отрывок из трагедии «Грузинская ночь»6; можно не сомневаться, что общение двух поэтов в эти месяцы было несомненным, но Пушкин, увы, об этом умалчивает и о «Грузинской ночи» не упоминает.
«16 мая в доме Лавалей Г<рибоедов> слушал чтение “Бориса Годунова” автором»7. Наконец-то исполнилось его давнее желание. (Ради Грибоедова Пушкин нарушил жандармский запрет?).
Сохранились два отзыва Грибоедова о трагедии Пушкина. Один – в письме к Булгарину (из Тифлиса 16 апреля 1827 года) после прочтения сцены в келье Чудова монастыря, напечатанной в журнале.
Грибоедов проницательно угадал пушкинскую мысль в словах персонажа: «И не уйдешь ты от суда мирского, / Как не уйдешь от божьего суда». Эта мысль близка и Грибоедову. Подробнее сказать об этом отзыве будет повод позже.
Другой отзыв изложен в пушкинском письме Н. Раевскому 30 января 1829 года (по-французски), которое поэт намеревался включить в предисловие к «Борису Годунову» (трагедия была напечатана без предисловия). В письме отмечалось: «Грибоедов критиковал мое изображение Иова – патриарх, действительно, был человеком большого ума, я же по рассеянности сделал из него дурака».
Посмотрим сначала, что показано в пушкинской трагедии. Патриарх активным действующим лицом предстает лишь в одной сцене, «Боярская дума», весьма оригинальной по содержанию. Здесь какие-то важные решения (направить в войска Трубецкого и Басманова, не принимать помощь союзников – дабы потом не быть за нее перед ними обязанными, не привлекать на ратную службу монастырских отшельников – их молитва важнее участия в войсках) царь принимает сам, боярам их только объявляет, заключая: «таков / Указ царя и приговор боярский». Но один вопрос он выносит на боярское обсуждение: как нейтрализовать слухи, которые сеет «наглый самозванец». В запасе у царя есть средство («Предупредить желал бы казни я»), но он пока его придерживает. Первое слово сам дает патриарху (условился с ним об этом заранее?). Тот рад дать свой совет, хотя признается: «Твой верный богомолец, / В делах мирских не мудрый судия, / Дерзает днесь подать тебе свой голос».
И следует самый длинный в трагедии монолог. Патриарх неторопливо рассказывает историю, как слепой старец помолился на могиле царевича и прозрел. Отсюда и совет: перенести святые мощи в Архангельский собор.
Умолк патриарх – и наступило глубокое молчание. Наконец, его прерывает князь Шуйский. С патриархом он не спорит, но предлагает другое средство – «проще»: «Я сам явлюсь на площади народной, / Уговорю, усовещу безумство / И злой обман бродяги обнаружу». Вряд ли предлагается действенное средство (и не будет упоминаний, состоялась ли такая попытка), но царь рад случаю закончить ставшее тягостным заседание.
Речь патриарха сопровождается авторской ремаркой: «Общее смущение. В продолжение сей речи Борис несколько раз отирает лицо платком». И заключительная ремарка: «Уходит <царь>. За ним и все бояре». Двое из бояр обмениваются тихими репликами: «Заметил ты, как государь бледнел / И крупный пот с лица его закапал?» – «Я – признаюсь – не смел поднять очей, / Не смел вздохнуть, не только шевельнуться».
Что же такое шокирующее в словах патриарха, что очевидно для всех, кроме говорящего? Предлагаемое средство действительно изобличает самозванца, но признание мощей чудотворными означает, что царевич был убиенным, а не подвернувшимся под нож случайно. И возникает вопрос о заказчике убийства. Стало быть, гасятся одни слухи, но тут же порождаются новые, и очень сомнительно, что они окажутся для Годунова легче, чем прежние.
К слову, самому изобретательному театру не по силам выразительно поставить эту сцену. Длиннейший монолог. Ну, Годунов вытирает лицо: что тут выразительного даже для зрителей первых рядов партера, не говоря уж о тех, кто сидит подальше? Но ныне на экране сцену легко сделать потрясающей. Времени достаточно, чтобы дать общий план заседания и погулять по лицу говорящего, по лицам присутствовавших, но с тем, чтобы потом остановиться и крупно, во весь экран показывать лицо Годунова; медоточивый голосок за кадром – а на помертвевшем лице царя набухают капли пота…
Для чего Пушкину нужна эта сцена? Поэт показывает страшное одиночество нового царя. Борис заботливо растит наследника, но тот пока еще для царского дела мал. Боярская верхушка ревниво оппозиционна. Талантливые из незнатных его поддерживают, но ненадежны; они продают свой талант властям, выгодные для них предложения не пропустят. Народ либо безучастен, либо обозлен отменой Юрьева дня, благодеяния царя его только раздражают. Патриарх всецело на его стороне, и это была бы весомая поддержка, так ведь он недальнего ума человек: вот тут хотел помочь – а эффект неожиданный; патриарх – а не замечает побочное следствие своих слов, которое внятно окружающим.
Грибоедов указал на отступление от исторической достоверности (и судит об этом компетентно!), а у Пушкина это историческое лицо выполняет только функциональную роль. Как историк Пушкин здесь неправ, но как художник сообразуется с логикой всего произведения.
И какая художническая честность! Кто бы знал о критическом замечании поэта-современника, если бы не пушкинское признание, предназначенное для печати.
3
В необычной для него по форме статье «Отрывки из писем, мысли и замечания» (1827) Пушкин поместил такой фрагмент: «Путешественник Ансело говорит о какой-то грамматике, утвердившей правила нашего языка и еще не изданной, о каком-то русском романе, прославившем имя автора и еще находящимся в печати, и о какой-то комедии, лучшей из всего русского театра и еще не игранной и не напечатанной. В сем последнем случае Ансело чуть ли не прав. Забавная словесность!». Этим лаконичным замечанием Пушкин решает двуединую задачу: высмеивает Греча и Булгарина, до назойливости занимавшихся саморекламой и восхвалением друг друга, и создает рекламу действительно достойной внимания комедии Грибоедова (о которой у Ансело нет упоминания).
Читал ли Пушкин «Горе от ума» после возвращения из ссылки, не зафиксировано.
О последнем общении с Грибоедовым Пушкин вспоминает в «Путешествии в Арзрум»; но и здесь он слишком краток: «Я расстался с ним в прошлом <1828> году, перед отъездом его в Персию. Он был печален и имел странные предчувствия. Я было хотел его успокоить; он мне сказал: <по-французски: «Вы еще не знаете этих людей: вы увидите, что дело дойдет до ножей»>. Он полагал, что причиною кровопролития будет смерть шаха и междуусобица его семидесяти сыновей. Но престарелый шах еще жив, а пророческие слова Грибоедова сбылись. Он погиб под кинжалами персиян, жертвой невежества и вероломства».
След последних встреч остался и на листе черновой тетради. Здесь имеет значение памятная запись: «9 мая 1828. Море. Ол<енины>. Дау». В этот день Пушкин участвовал в поездке на пироскафе в Кронштадт. Дау (правильнее Доу) – знаменитый художник, автор портретов в памятной галерее 1812 года в Зимнем дворце. В поездке он набросал карандашный портрет Пушкина, что вызвало экспромт поэта:
Зачем твой дивный карандаш
Рисует мой арапский профиль?
Хоть ты векам его предашь,
Его освищет Мефистофель.
Рисуй Олениной черты.
В жару сердечных вдохновений
Лишь юности и красоты
Поклонником быть должен гений.
25 мая (в канун дня рождения поэта) групповая морская прогулка в Кронштадт была повторена; участниками поездки были Грибоедов и Вяземский. Грибоедов своими тревожными предчувствиями резко выделялся среди развлекающихся экскурсантов. Пушкин, по воспоминаниям в «Путешествии в Арзрум», пробовал его успокоить, но предчувствия собеседника были слишком основательными. На том листе рукописи, о котором сейчас речь, Пушкин рисует два профиля Грибоедова; рисунок задевает памятную запись. А тревожные предчувствия томили и его самого. Они выливаются здесь в набросок стихотворения, и названного «Предчувствие».
Снова тучи надо мною
Собралися в тишине;
Рок завистливый бедою
Угрожает снова мне…
«Снова тучи…» А что было раньше? Тут гаданья излишни, об этом сказано прямым текстом во втором четверостишии первой же строфы.
Сохраню ль к судьбе презренье?
Понесу ль навстречу ей
Непреклонность и терпенье
Гордой юности моей?
Контуры ссылки поэта в 1820 году прорисовываются здесь очень отчетливо. Между тем ее обстоятельства часто толковались на уровне школьных упрощений: нехорошее правительство наказало поэта за его хорошие вольнолюбивые стихи. Был известным, но явно недооценивался личностный фактор. В январе 1820 года Пушкин «последним» с ужасом узнал, что по Петербургу бойко гуляет гнусная сплетня. Ее запустил Ф. И. Толстой (Американец): поэта за крамольные стихи якобы высекли в тайной канцелярии8. Можно понять состояние честолюбивого Пушкина, но и трудно представить всю меру его отчаяния, вплоть до намерения покончить счеты с жизнью. Поэта спасла только здравая мысль: подобная акция не гасила бы сплетни, наоборот, косвенно их подтверждала.
Сохранившуюся остроту переживаний поэта передает написанный (по-французски) пять (!) лет спустя черновик неотправленного письма к царю. Вот итоговое решение поэта: «Я решил тогда вкладывать в свои речи и писания столько неприличия, столько дерзости, что власть вынуждена была бы наконец отнестись ко мне, как к преступнику; я надеялся на Сибирь или на крепость, как на средство к восстановлению чести». За одну вину дважды не наказывают, реальное наказание, ссылка, перечеркивало бы сплетни. Вот подтекст странного решения, когда сам поэт добивается репрессий!
Были явные странности поведения. Это ли не дерзкий поступок? В театре, прилюдно, Пушкин демонстрирует портрет Лувеля (убийцы наследника французского престола) с надписью «Урок царям». «Таким же образом он во всеуслышание в театре кричал: “Теперь самое безопасное время – по Неве идет лед”. В переводе: нечего опасаться крепости»9. «Перевод» Пущина (ему принадлежит это свидетельство) точен, но есть и подтекст: Пушкин как будто подсказывает властям акцию с помещением его в крепость.
А вот главный эпизод этой истории. Вызванный к генерал-губернатору Петербурга Милорадовичу, Пушкин своей рукой в его кабинете написал тексты каких-то своих крамольных стихов (и чужих, ходивших под его именем), которые жандармы не смогли бы заполучить при обыске. Как бы хотелось заглянуть в эту рукопись («тетрадь Милорадовича»)! Но она не сохранилась. Пушкин не боялся ссылки; поставленный клеветниками в невыносимые обстоятельства, он провоцировал ссылку: честь была для него превыше всего. А в поступке поэта перед Милорадовичем просвечивает двойная установка. Поэт сознательно идет на великодушие, и оно оценено: отсюда искомая мягкость наказания (поэту достаточно факта, но его не манят ни крепость, ни Сибирь, ни Соловки).
Когда человек страдает за свои убеждения, будучи не поколебленным в них, он переносит страдания твердо и гордо. Рылеев написал мужественные строки (они были выцарапаны на оловянной тарелке в Петропавловской крепости):
Тюрьма мне в честь, не в укоризну,
За дело правое я в ней,
И мне ль стыдиться сих цепей,
Коли ношу их за отчизну.
Пушкин имел все основания воспринимать свою ссылку не как внешнюю кару, но как добровольный разрыв со светской чернью: отсюда его стойкость и непреклонность. В первом же «южном» стихотворении («Погасло дневное светило») находим очень понятное в рассматриваемом контексте, а для непосвященных загадочное заявление, дважды повторенное: «Я вас бежал…» Как может такое написать невольник, хотя и ощутивший себя свободным в путешествии с Раевскими? Может – если воспринимает себя бунтарем, добровольно оборвавшим прежние связи. Этот мотив повторится и в 1821 году, сначала в стихотворном фрагменте письма к Гнедичу:
Твой глас достиг уединенья,
Где я сокрылся от гоненья
Ханжи и гордого глупца… –
затем в послании «К Овидию», где Пушкин назовет себя – «изгнанник самовольный».
Время все расставит на свои места, «изгнанник самовольный» почувствует себя тем, кем и был, – «ссылочным невольником». Но начало ссылки по праву помнится непреклонностью, терпением, гордостью.
Как ни странно, до сих пор приходится искать ответ на простейший вопрос: когда Пушкин отправлен в ссылку? «Летопись жизни и творчества Александра Пушкина» называет дату 6 мая 1820 года10, следует отсылка к свидетельствам людей авторитетных – А. И. Тургенева и К. Я. Булгакова, возглавлявшего почт-департамент, человека весьма компетентного по части прибывающих (именитых) в столицу и отъезжающих из нее. Но 9 мая 1821 года Пушкин делает памятную запись: «Вот уже ровно год, как я оставил Петербург». Вроде бы и невелико расхождение (три дня), но оно принципиально. (В «Летописи жизни и творчества…» памятная запись поэта проигнорирована).
Эту загадку сравнительно недавно успешно разгадал А. Ю. Чернов, поэт, филолог, историк, краевед. Он автор книги «Длятся ночи декабря», которая открывается солидным разделом «Поэтическая тайнопись: Пушкин – Рылеев – Лермонтов». Здесь первая глава «Пушкин против Рылеева. Самая тайная дуэль XIX столетия». В ней объясняется11, что Пушкин покинул Петербург действительно 6 мая, но отправился не в ссылку, а на станцию Выра: это третья почтовая станция от Петербурга по Минскому шоссе. (Нетрудно угадать, откуда взялись фамилии персонажей Вырин и Минский; только «та» станция была далековато; чтобы прогуляться пешочком до столицы, смотрителю понадобился отпуск на два месяца. Но до замысла повести было тоже еще очень далеко).
А в версте от тракта и в пяти от Вырской станции была усадьба Батово, принадлежавшая Рылееву. Последние владетели усадьбы – Набоковы. Здесь вырос писатель, переводчик, комментатор В. В. Набоков. Не удивительно, что, с опорой на местные легенды, он первым высказал гипотезу о дуэли между Пушкиным и Рылеевым.
Рылеев нечаянно нанес обиду Пушкину. Он-то публично возмутился деяниями правительства, позволившего себе экзекуцию над поэтом, но тем самым признал истинной бродившую сплетню: этого-то и не простил ему Пушкин.
Дуэли с Рылеевым поэт придавал значение, упомянув о самой дуэли даже в черновике письма к царю12. Откровенность выглядит странной: власть дуэлянтов наказывала; но тут мы имеем дело с неотправленным письмом; документ в такой форме равнозначен дневниковой записи.
Дуэль была хорошо замаскирована. Было известно, что Пушкина до Царского Села провожали Дельвиг и Яковлев. Какая шаблонная, но вместе с тем выразительная сентиментальная ситуация: лицейским друзьям обнять отъезжающего на фоне Alma Mater и других достопримечательностей Царского, воспетых юным поэтом! Чистота этой картины несколько искривляется: провожал Пушкина не лицейский староста Михаил Яковлев, а его брат Павел Яковлев. И вместе с Дельвигом они не провожали Пушкина до Царского, а сопровождали его чуть подальше, до Выры, готовые выполнить миссию секундантов.
Что происходило в Батове и его окрестностях в майские дни 1820 года, остается за плотной завесой тайны. Закончилась ли дуэльная история извинением и примирением? В пушкинском письме сказано категорично: «дрался на дуэли». Определенно можно судить только по факту: оба дуэлянта физически не пострадали. Вероятно, надобно заключить: это залетный карьерист не может понять «нашей славы», не может понять «в сей миг кровавый, / На что он руку поднимал».
Еще один отзвук миновавшего события – в пушкинском письме Бестужеву 24 марта 1825 года: «Он <Рылеев> в душе поэт. Я опасаюсь его не на шутку и жалею очень, что его не застрелил, когда имел тому случай – да чёрт его знал». Сказано в шутку, но какова шутка! Ради острого словца Пушкин щепетильностью охотно жертвует.
Вот для отсылки к каким фактам и понадобилось отвлечение. Нет никакой странности в том, что поэт в первую годовщину ссылки помечает иную дату ее начала, чем его современники. Он точно покинул Петербург девятого, а шестого лишь отправился – только недалече – доделать одно дельце, завязавшееся именно в столице. Вот уж потом и отправился в то место, которое было обозначено в его подорожной по казенной надобности.
Наконец-то мы можем вернуться к памятной записи 1828 года. Если в портретной зарисовке Грибоедова у Пушкина – прямой отзвук беседы с ним в морской прогулке, то в наброске «Предчувствия» – осмысление аналогичных переживаний применительно к своим обстоятельствам. Обратим внимание на чуткость поэта. Сейчас еще исход весны и небо ясное, но предчувствуемые тучи к осени действительно соберутся. Пушкину уже приходилось давать объяснение по поводу ходившего по рукам списка стихотворения с заглавием «На 14-е декабря» (в опубликованной элегии Пушкина «Андрей Шенье», написанной ранее, был фрагмент, не пропущенный цензурой; он-то и пошел гулять по рукам, название добавлено произвольно), теперь (что и говорить, очень «оперативно») тем же делом заинтересовалось III отделение императорской канцелярии. Хуже того, параллельно возникло новое и более опасное дело по поводу авторства поэмы «Гавриилиада». 1 сентября 1828 года Пушкин пишет Вяземскому: «Благодарствуй за письмо – оно застало меня посреди хлопот и неприятностей всякого рода. <…> Ты зовешь меня в Пензу, а того и гляди, что я поеду далее. “Прямо, прямо на восток”».
Прозорливость Пушкина удивительна, но и преувеличивать ее нет надобности. Первая строфа «Предчувствия» содержит вопрос, сохранит ли поэт стойкость, с которой он встретил превратности судьбы в юности. Нет препятствий для утвердительного ответа. Но в новой жизни идет поиск и новой опоры: делается ставка на духовную помощь подруги:
И твое воспоминанье
Заменит душе моей
Силу, гордость, упованье
И отвагу юных дней.
Новое, заменяя былое, не уступит ему в твердости. Только и разницы, что поэт выбрал отчет не перед своей совестью, а перед дорогим человеком; наверное, так приятнее и категоричнее. Но тут поэт допустил ошибку: его избранница (той поры) не оправдала возлагавшихся на нее надежд. А тучи на этот раз настроение туманили, но прошли стороной.
Рождение замыслов
1
Оба Александра Сергеевича рядом, в одном ведомстве «прослужили» недолго, только год. Младший уже стал художником-профессионалом, другой еще только пробовал себя в творчестве. Обоих можно считать театралами, но для Грибоедова театральный интерес приобрел (до поры) исключительное значение. Младший, выбравший поэзию главным делом жизни, сумел проделать огромный путь, Жуковский за поэму «Руслан и Людмила» отвел ему первое место на русском Парнасе. В творческих историях обоих шедевров, о которых поведем речь, были, назовем так, накопительные, дописьменные периоды: уточнялись замыслы. Грибоедов быстрее приступил к непосредственной работе и раньше свое произведение – оно компактнее – закончил.
Более определенно датируется творческая история «Евгения Онегина». Уже в позднем письме, адресованном в Крым, Пушкин заметил: «Там колыбель моего “Онегина”…». (В Крыму поэт был летом 1820 года). Этому утверждению вторит поэтическое признание в концовке:
Промчалось много, много дней
С тех пор, как юная Татьяна
И с ней Онегин в смутном сне
Явилися впервые мне –
И даль свободного романа
Я сквозь магический кристалл
Еще не ясно различал.
Из этого следует, что надо различать два этапа работы над произведением, предысторию и историю. Предыстория – этап дописьменный, хотя в то же время идет проба изображения сходного героя в жанре романтической поэмы («Кавказский пленник»). «Колыбель» непроизвольно появилась, но пришлось ждать три года, прежде чем на брегах Невы в ней появится младенец, из которого не по дням, а по часам вырастет покоритель женских сердец.
Первая страница черновой онегинской рукописи не содержит ни общего названия произведения, ни обозначения его раздела (главы): нумерация глав в черновике начнется со второй главы. Заменяет эти (ожидаемые) знаки строка с двумя датами: «9 мая» и «28 мая ночью» – это событие 1823 года. Строка с датами написана тонким пером, мельче последующего текста. Цифра 9 вписана, видимо, позже – крупнее и жирно, возможно, закрывая какую-то прежде написанную цифру (или заполняя имевшийся пробел).
9 мая – значимая дата: ее Пушкин помнит, от нее ведет отсчет самой протяженной и фактически долгой работы над одним произведением. Сделав в Болдине росчерк окончания романа в черновой рукописи, поэт на следующий день подсчитал, что провел в работе над своим творением 7 лет, 4 месяца, 17 дней. Однако прошло еще полтора года, пока дорабатывалась и проводилась в печать последняя, восьмая глава, и еще год миновал, в ходе которого было скомпоновано и вышло в свет первое полное издание романа. Так что непосредственная творческая работа над произведением растянулась на десять лет: от написания первых двух черновых глав в 1823 году до публикации романа в 1833 году. (А если прибавить три года предыстории, то окажется: «Евгений Онегин» был в творческом сознании Пушкина свыше половины срока его поэтической деятельности).
Двойная (хотя это дни одного месяца) датировка начала работы, видимо, означает, что 9 мая, в третью годовщину высылки поэта из Петербурга, было принято окончательное решение писать роман, замысел которого в сознании поэта уже получил мысленную обкатку на протяжении трех лет. Возможно, в этот день в сознании поэта уже зазвучали первые строки: спустя около трех недель, 28 мая, первое четверостишие будет написано сразу почти набело (поменяются местами вторая и четвертая строки), а с первой строфой и какие-то следующие черновые строфы романа. Только что миновал день рождения поэта. Фантастически роскошным подарком (на этот раз от себя – миру) ознаменовал Пушкин свое двадцатичетырехлетие!
Все это – факты известные, во всяком случае открытые. А если уже по прочтении всего романа обдумывать прочитанное, возникает вопрос самый естественный, который, как ни странно, за почти двести лет существования романа не задавался: каким был первоначальный замысел поэта? Потому что в процессе работы начальный замысел менялся (углублялся) кардинально. И есть авторские признания, которые грех игнорировать.
Главы вначале печатались отдельно, по мере создания и доработки; печатание началось задолго до окончания романа. Первая глава в печати получила предисловие. Выделю тут странное уподобление: «Дальновидные критики… станут осуждать и антипоэтический характер главного лица, сбивающегося на Кавказского Пленника…» Глава еще только отправляется к читателю, еще не известно, будет ли замечено (да еще и с осуждением) сходство героев поэмы и романа, а поэт указывает на это сходство сам; это «сбивается» на прямую подсказку.
Отмеченное автором сходство героев реально. Попробуем сопоставить исповеди героев перед самозабвенно влюбленными в них юными девами: обнаружится поразительное совпадение. Онегинская речь индивидуальна, а вместе с тем создается впечатление, будто герой подслушал монолог своего предшественника и пользуется им как конспектом, очень близко, иногда почти буквально повторяя целый ряд его аргументов.
Оба героя уступают пальму духовного первенства женщине.
Пленник
Забудь меня: твоей любви,
Твоих восторгов я не стою.
Онегин
Напрасны ваши совершенства:
Их вовсе недостоин я.
Дублируется признание, что встреча с героинями произошла не вовремя, опоздала: ее исход мог быть иным.
Пленник
Несчастный друг, зачем не прежде
Явилась ты моим очам,
В те дни, как верил я надежде
И упоительным мечтам!
Онегин
Скажу без блесток мадригальных:
Нашед мой прежний идеал,
Я верно б вас одну избрал
В подруги дней моих печальных…
Оба героя констатируют омертвение души:
Пленник
Но полно: умер я для счастья,
Надежды призрак улетел…
Онегин
Мечтам и годам нет возврата;
Не обновлю души моей…
Следствие тоже одинаково: перед наполненными огнем страсти героинями герои ощущают себя живыми мертвецами, и это ощущение для них мучительно. Есть и разница: Пленник говорит о реально испытываемых чувствах, опыта Онегина достаточно, чтобы прогнозировать нежелательную ситуацию.
Пленник
Как тяжко мертвыми устами
Живым лобзаньям отвечать
И очи, полные слезами,
Улыбкой хладною встречать!
Онегин
Поверьте (совесть в том порукой),
Супружество нам будет мукой.
…
Начнете плакать: ваши слезы
Не тронут сердца моего,
А будут лишь бесить его.
Наконец, оба героя демонстрируют плохое, по крайней мере – одностороннее знание женской души, пророча влюбленным в них девам новую любовь и забвение прежней; оба прогноза не сбываются.
Пленник
Не долго женскую любовь
Печалит хладная разлука;
Пройдет любовь, настанет скука,
Красавица полюбит вновь.
Онегин
Сменит не раз младая дева
Мечтами легкие мечты…
…
Полюбите вы снова…
Как видим, отсылка поэта к Пленнику для понимания Онегина не декларативна и все-таки неэффективна. В поэме из-за избирательного характера романтического изображения нет внятного ответа, откуда взялся духовный недуг героя и в чем он состоит. Пушкин признает это в черновике письма Гнедичу 29 апреля 1823 года: «кого займет изображение молодого человека, потерявшего чувствительность сердца в несчастиях, неизвестных читателю…» Поэт считает потерю чувствительности важной утратой, он хочет, чтобы читатели знали это; не потому ли и не ограничивается намеком, а судит о Пленнике прямо и категорично – пусть не в поэме, а в частном письме к В. П. Горчакову осенью 1822 года: «Я в нем хотел изобразить это равнодушие к жизни и к ее наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделались отличительными чертами молодежи 19-го века».
Подсказка поэта о сходстве Пленника и Онегина неоднократно была поддержана исследователями, но только на констатационном уровне, без надлежащих выводов, а это приводит к искривлению представлений о герое.
Преждевременная старость души: вот как по-настоящему называется психологический недуг, который изображает поэт в Пленнике. Тот же недуг (надо будет уточнить, в какой степени) настигает по первоначальному замыслу и Онегина. Оба героя отравлены первыми уроками любви-сладострастья. Пленник не может вырваться из тесных рамок этого опыта, воспоминаниями героя повелевает «тайный призрак» – и добивает его душу окончательно. Тяжким оказывается груз первого опыта и для Онегина, но герой предстает более жизнестойким, его душа не очерствела окончательно, не потеряла способности к возрождению.
Так ли это? Подчеркнем в монологе Пленника: «умер я для счастья», «Как тяжко мертвыми устами / Живым лобзаньям отвечать». В романе поэт не щадит и своего приятеля, который «к жизни вовсе охладел». Но всякое сходство выявится отчетливее, если наряду с ним видеть и неизбежное различие сравниваемых объектов: перед нами не тождество, а сходство, которое не может быть абсолютным. Прием такого двустороннего сопоставления сравниваемых предметов возведем в принцип.
«Характер главного лица… приличен более роману, нежели поэме…» (Гнедичу, 29 апреля 1822 года, черновое), – фиксировал поэт. «В реалистическом романе характер героя будет показан с куда большей глубиной, от его истоков и в движении, в окружении социальных обстоятельств. Но в основе своей это будет тот же характер (“Людей и свет изведал он и знал неверной жизни цену…”)»13. Задача тут поставлена со всей четкостью, вот только она не решалась в полном объеме. Напротив, преобладал «формульный» способ постижения героя, и целью исследования становился поиск группы сотоварищей по образу жизни. А ведь тот же характер изображается иначе, что и недооценивается.
Вот мы и встречаемся с частным проявлением общего закона: в искусстве для того, чтобы понять изображаемое, надо учиться понимать, как это изображается, иными словами – надо осваивать язык искусства.
Что за человек, чьим именем названо произведение? Светский денди, плоть от плоти общества, к которому он принадлежал: таково наиболее устойчивое мнение. Такая трактовка не верна. Как не верна? Подобие денди отмечает не кто иной, как сам поэт. Поведение героя воспринимается, мало сказать, типическим, но резче – эталонным. Все это имеет место. Только необходимо принципиального значения уточнение: на каком этапе его жизни?
Подлинный эталон светского образа жизни, причем в полном виде, дан, но поздно, в восьмой главе романа в стихах, когда поэт приступил к «дорисовке» Онегина. Здесь жизнь человека уподоблена дневному циклу, метафорические рубежи применительно к человеческой жизни расчисляются.
Блажен, кто смолоду был молод,
Блажен, кто вовремя созрел,
Кто постепенно жизни холод
С летами вытерпеть успел;
Кто странным снам не предавался,
Кто черни светской не чуждался,
Кто в двадцать лет был франт иль хват,
А в тридцать выгодно женат;
Кто в пятьдесят освободился
От частных и других долгов,
Кто славы, денег и чинов
Спокойно в очередь добился,
О ком твердили целый век:
N. N. прекрасный человек.
Так расчислены этапы человеческой жизни: «утро» – двадцать лет (это если округляя; точнее – восемнадцать, как начало самостоятельной жизни), «полдень» – тридцать лет, «вечер» – пятьдесят. Ну и как? Онегинская жизнь совпадает с этим эталоном только в первом звене: в свои восемнадцать Онегин даже не на выбор, а слитно и франт, и хват; тут сказывается его «счастливый талант». Так что в пушкинском романе повествование ведется не о светском шалопае, а о человеке, порвавшем с прежним характерным образом жизни.
Когда Онегин развлекался в свете, смыслом жизни для него была эта самая жизнь. Четко показана иерархия его взглядов. Он знает «тверже всех наук» науку «страсти нежной». Что особенно нужно подчеркнуть, влечение к этой «науке» пробудилось в нем даже не в юности, а «измлада».
А это как? Ничего странного! Представим себе атмосферу в доме, где по прихоти отца задаются «три бала ежегодно». Ведь бал – это не только само мероприятие, но и подготовка к нему, и разговоры о прошедшем. Тут во всем доме переполох. Детям нет места в играх взрослых, но ведь отзвук происходящего в доме долетает и до детской. Фантазия уносит подростка в запредельные дали. Не ради красного словца сказано, что наука страсти нежной влекла Онегина к себе «измлада». (Не будем увлекаться новой веточкой этого дерева, но можно обнаружить факты, что некоторые поступки героя, описанные как деяния, на самом деле – по привычке – проходили лишь в его воображении).
Что после кризиса? Пока ничего! Прежние (обывательские) ценности разрушены, новые (истинные!) не обретены. Какие-то попытки читать, даже писать позитивным результатом не увенчались.
Что подвигнуло героя на перемену образа жизни? Конечно, можно принять во внимание особенности психологического склада Онегина, отмеченные поэтом «резкий, охлажденный ум» или умение с первого взгляда распознавать людей, что свидетельствует о даре героя извлекать опыт (но не односторонний ли?) даже из бесплодной науки страсти нежной («Зато как женщин он узнал», сказано в IX строфе первой главы в беловой рукописи; в печати строфа опущена, обозначена точками).
Но хотелось бы знать мнение автора. И кажется, поэт готов дать прямой ответ, как будто предугадав любопытство читателей!
Недуг, которого причину
Давно бы отыскать пора…
Слово «причина» вынесено в рифму, запоминается. Но что это? Фраза становится громоздкой, поэт на ходу упрощает ее.
Подобный английскому сплину,
Короче: русская хандра
Им овладела понемногу…
Воистину, перед нами уникальный фрагмент пушкинской поэзии. Это не черновик, а беловой текст. Поэт, разумеется, демонстрирует не косноязычие, а виртуозное владение словом. Он руководствуется своим принципом: «…Не надобно всё высказывать – это есть тайна занимательности» (Вяземскому, 6 февраля 1823 года).
Это не означает, что всю заботу объяснить изображаемое явление Пушкин перекладывает полностью на плечи любопытствующих. У него есть своя версия, и он заинтересован в том, чтобы она была доступной интересующимся, как минимум чтобы она учитывалась при выработке иной версии. Только делает это поэт не открытым текстом, а намеком. Такую роль выполняет в предисловии к первой главе отсылка героя для сравнения с Кавказским пленником.
Якобы забота о стиле в выделенном фрагменте прикрывает подмену темы: было обещано «отыскать» причину явления, а фактически оно только еще раз констатируется. Даже более! В новой констатации происходит смягчение содержания изображаемой неприятной ситуации. Это тоже необходимо заметить.
Пушкин, вероятно, рисует героя с преждевременной старостью души уже на излете своего интереса к человеку такого типа, но усматривает в этой особенности отличительную черту «молодежи 19-го века». Все-таки скорее интуитивно он угадывает, что такой герой не вызовет большого интереса читателей, а потому «разбавляет» экзотическое состояние чувствами более понятными, обиходными. Есть и другие формы неудовлетворенности (или не полной удовлетворенности) жизнью, и они разнообразны. Вариант Пушкин изображает в «Стансах Толстому» (1819): «Философ ранний, ты бежишь / Пиров и наслаждений жизни…» Поэт фиксирует: «Зевес, балуя смертных чад, / Всем возрастам дает игрушки…» Так что адресат послания Яков Толстой меняет ценности юности на ценности, предназначенные для следующего (зрелого) этапа жизни, а не переносит интерес к последним ценностям, как это делают юноши с преждевременной старостью души.
«Недугом, подобным английскому сплину, онегинством, поражены были многие из дворянского круга, близкого Пушкину», – отметил Н. Л. Бродский. Исследователь ссылается на записи К. Н. Батюшкова, В. Ф. Одоевского, Н. И. Тургенева, П. А. Вяземского14. Но здесь главенствует понятие «скука». «Скука» преследует и Онегина, однако его состояние все-таки вбирает разные оттенки, не исключая самых мрачных («к жизни вовсе охладел»); с другой стороны, его жизнелюбие до конца не истреблено. И тут мы видим, что герою тесноваты даже вроде бы удобные формулы.
2
Чтобы лучше понять героя, расширим материал. В первой главе рисуются не только индивидуальные и групповые портреты персонажей, но и парный портрет героя и автора. Их приятельские отношения содержательны и разнообразны. Об органической связи автора и героя в первой главе выразительно писал Е. Е. Соллертинский: первая «глава лишь внешне посвящена Онегину, внутренне же в ней идет параллельное развитие персонажа, пожалуй, не менее важного, чем Онегин, – автора романа, рассказчика, современника и в какой-то мере участника событий. Площадь этой главы не распределена между ними поровну или как-либо еще. Вовсе нет – они оба развиваются друг в друге: то Онегин вдруг приоткроется в каком-то сокровенном размышлении автора, то автор мелькнет на фоне бала, разделив чувства своего героя, то протянется прямая параллель между ними в как будто невзначай брошенном “мы”, порой очень значительном»15.
Уверенно можно предполагать, что сходные с героем духовные терзания поэт испытал сам. Стало быть, возникает необходимость заглянуть и туда, где они изображены наиболее отчетливо, – в лирические исповеди художника.
Пушкиноведами не отмечается первый духовный кризис Пушкина. А он был и приходился на полгода в канун окончания его лицейской жизни, с осени 1816 по весну 1817 года. Его источник сугубо внутренний, взросление: подросток становится юношей. Ему нестерпимо хочется иметь подругу, а как ее иметь при казарменном образе жизни? Скажи об этом прямым словом – попадешь в смешное положение, а юноша-поэт щепетилен в вопросах чести. Но у него уже разбужена творческая фантазия, и невозможное легко предстает быть доступным.
Собрание сочинений Пушкина открывает послание «К Наталье» (1813): это первое из сохранившихся стихотворений начинающего поэта, которому четырнадцать лет (а может, еще тринадцать, если стихотворение написано в первой половине года), маловато для реальных любовных посланий. Конфликтную ситуацию стихотворения снимает юмор. В конце пылкому влюбленному приходится назвать себя, но тогда выясняется, что страстные признания заведомо комичны, потому что их произносит монах, выбравший иной образ жизни.
Ситуация элегического цикла, отчетливого знака кризиса, обретает драматический характер, тут не до шуток. Фантазия помогает и тут: да есть у меня подруга! Но мы, дело житейское, в разлуке…
Хочется подчеркнуть: внешних изменений в жизни Пушкина не происходит, даже чуткий Пущин никаких перемен в друге-соседе не замечает. Но кончается регламентированный лицейский день, Пушкин уединяется в своем 14 нумере – и текут элегии… Тоже любопытно: юный поэт уже активно печатается в журналах, но очень редкие стихи из элегического цикла при жизни Пушкина напечатаны: это стихи для себя.
Соблазнительно усматривать здесь жизненный источник. Да, было увлечение Пушкина сестрой однокашника Екатериной Бакуниной, но литературным переживаниям оно созвучно только соотношением положительных и отрицательных эмоций. В единственной дневниковой записи Пушкина об этом эпизоде жизни дан такой расклад:
«Но я не видел ее 18 часов – ах! какое положенье, какая мука! – – –
Но я был счастлив 5 минут – –»
Что и говорить, компенсация за страдания слишком слабая.
Что же произошло в душе Пушкина в последнее полугодие его лицейской жизни? Как поэт он начинал широко и щедро. Для начинающего, причем совсем юного круг его интересов разнообразен, особенно если принять во внимание, что в разработке основных мотивов – изобилие вариантов. Жадность на впечатления, нетерпение, побуждающее упреждающим образом духовно прочувствовать еще запредельный опыт, – все это черты складывающейся поэтической натуры, жизнерадостной и своевольной. И вдруг – как гром средь ясного дня.
О милая, повсюду ты со мною,
Но я уныл и втайне я грущу.
Блеснет ли день за синею горою,
Взойдет ли ночь с осеннею луною –
Я всё тебя, прелестный друг, ищу.
Засну ли я, лишь о тебе мечтаю,
Одну тебя в неверном вижу сне;
Задумаюсь – невольно призываю,
Заслушаюсь – твой голос слышен мне.
Разлука, 1916.
Поэт потрясенным сознанием ощущает: жизнь идет своим обычным потоком, она не переменилась, но он, поэт, какой-то силой из этого потока выброшен. Он одинок среди дружеского братства. Конфликта нет, друзья все те же, их интересы страдалец совсем недавно разделял и теперь не осуждает, но разделять, как прежде, не может. Свет настолько ярок, что слепит, предметы теряют очертания. Широкий мир вдруг сгустился в одну точку: непрестанно болящее сердце. Только его голос слышит поэт. Конечно, когда голос сердца начинает перевоплощаться в поэтические звуки, возникает непроизвольная инерция движения, в орбиту разговора хотя бы сопоставительно втягиваются иные темы, концентрированный мир раздвигается. Поэт даже стремится найти оппозицию любви, то, что хоть в какой-то степени может потеснить ее монополию: поэзия, дружба, природа, покой. Оппозиция не состоялась: любовь как духовная ценность не встретила альтернативы, одна господствует властно и безраздельно, остается доминирующей нотой.
Эта любовь поэта особенная. Она совершенно лишена рационального начала – в подтверждение: любовь случается, а не заказывается. В накопившемся арсенале лирики поэта уже обдумывался вариант: если не получается одна любовь, ее может заменить другая. Но такое решение легко находилось вымышленными персонажами. Пастух («Блаженство», 1814) приуныл из-за измены Хлои, но выручил Сатир, подсказав, что и другие не хуже, да посоветовав и от счастливых мгновений любви отдыхать за чашей Бахуса. Такой вариант не подходил к личному опыту («Измены», 1815). В элегическом цикле любовь понимается как единственная, осознается синонимом самое жизни, соответственно катастрофа любви оказывается равнозначной смерти.
В жизни молодых людей контрастные полюса, жизнь и смерть, широко раскинуты, а тут они внезапно сдвинулись, встали рядом. Необычное «преждевременная старость души» перестало быть оксюмороном, оказалось реальностью. Это фиксируют «Стансы (Из Вольтера)», 1817:
Ты мне велишь пылать душою:
Отдай же мне минувши дни,
И мой рассвет соедини
С моей вечернею зарею!
Подкрепляется личным признанием, да еще с контрастным сопоставлением с нормальной судьбой друга («Князю А. М. Горчакову», 1817):
Твоя заря – заря весны прекрасной;
Моя ж, мой друг, – осенняя заря.
Насколько усложнилось восприятие жизни! Прежде для Пушкина антитеза молодость / старость (в метафорическом выражении рассвет / закат) была самодостаточна. Но вот сопоставляются не предметы-антонимы, берется один предмет (заря) но в нем самом усматриваются контрастные признаки (весенняя – осенняя) – и сразу появляются новые, причем резко контрастные оттенки, их взаимодействие очень серьезно меняет прежний лик предметов.
Движение поэтической мысли в элегиях можно уподобить колебанию большого маятника, ход которого отсчитывает не просто бытовое время, но время жизни. Движется маятник, теряя скорость, к верхней точке – и кажется, силы иссякают; еще чуть-чуть – и маятник сломается, пресечется жизнь. В песне поэта начинают звучать жалобы.
Счастлив, кто в страсти сам себе
Без ужаса признаться смеет…
Элегия, 1816.
Страшно слышать такие слова из уст влюбленного, который сам не может воспринимать свою страсть «без ужаса». А как не ужасаться, если «цвет жизни сохнет от мучений!» Источник ужаса не внешний (недосягаемость объекта любви), а внутренний, поскольку неутоленная страсть воспринимается разрушительной. И тогда возникает надежда уже не на счастье – хотя бы на то, чтобы «в сердце злых страстей умолкнул глас мятежный». Надежда несбыточна, и в резерве остается только упование на смерть-избавление.
Но маятник начинает обратное движение, набирается скорость – и сквозь жалобы прорывается ликование:
Мне дорого любви моей мученье –
Пускай умру, но пусть умру любя!
Желание, 1816.
Потому и пришла ассоциация с маятником, что в элегическом цикле колебания между восторгами и отчаянием ритмичны и повторяются многократно. Но восторги призрачны, а отчаяние реально. Наблюдения над прожитой жизнью, размышления над ее перспективами безотрадны.
«Желание» все построено на оксюморонах.
Я слезы лью; мне слезы утешенье;
Моя душа, плененная тоской,
В них горькое находит наслажденье.
Наслаждение, опорное слово философии эпикурейства, сопровождается эпитетом «горькое». Душа привыкла стремиться к наслаждению – и ценит его, хотя, за неимением иного, оно стало горьким. То же – в концовке: дорого любви мученье… Как так – дорого мученье? Воистину – все перевернулось. Впрочем, слова выпускать нельзя: дорого не мученье, дорога любовь; но уж такая судьба, что любовь несет не радость, а муку. Выбор возникает такой: либо мука вместе с любовью, либо жизнь без муки, но и без любви. И выбор делает душа, не считаясь с доводами разума.
Не будем задним числом, зная всю пушкинскую биографию, уличать поэта в непоследовательности, в прямом нарушении принятого решения, ибо пока сама любовь Пушкина – факт не столько биографический, сколько литературный. Но именно этим он и интересен: если юношеский максимализм столь высоко подымает нравственную планку, это не проходит бесследно, даже если выдвинутый литературно жизненный принцип не реализуется (не «чисто» реализуется) в бытовой практике. Качественно значимы нравственные ориентиры: они питают идеал художника, его святая святых.
Крушение первой, юношеской любви поэта прогнозировать нетрудно. Необыкновенного изящества выстроена яхта, но на ней безнадежно пускаться в плавание по бурному житейскому морю. Роковое противоречие заложено изначально: любовь – единственный свет в окошке, а в нем так мало радости и так много страданий.
Из духовного оцепенения Пушкина вывело подступившее окончание Лицея, обозначение начала самостоятельной жизни, предстоящее расставание с друзьями. Послания к друзьям – основной жанр последних лицейских произведений. И сколько искреннего порыва, сердечного тепла в этих признаниях!
Кризис нельзя понимать как спад, лишь замедливший творческое развитие поэта, который теперь всего лишь возвращается на оставленные позиции. Духовная стойкость и нравственное здоровье Пушкина находят свое выражение в том, что поэт даже из выпадавших на его долю невзгод и страданий умел извлекать позитивный опыт. Из кризиса поэт выходит возмужавшим и умудренным. Он многим сумел воспользоваться в последующем творчестве. Даже горькая первая любовь одарила поэта образом незабвенной и умением прощать, а не мстить за страдания. Широко образованный поэт будет знать, что такое «английский сплин», но что такое «русская хандра», он будет знать не из книг; неплохой информатор – собственный опыт, пусть даже придуманный. Психологизм – тоже явление литературное, но ему легче проникать в литературу, когда поэт ведает, что сердце умеет жить только одной страстью, зато в ней одной различать бездну тонов и оттенков.
А еще отметим и такую особенность творческой манеры Пушкина. Он человек увлекающийся и темпераментный, но не имеющий склонности к фанатизму. Обдумывая какой-либо тезис, поэт не упускает возможности осознать и его антитезу. Вот и здесь. Поэт осмысливает необычное явление, преждевременную старость души. Однако уже в 1817 году, еще в зоне кризиса он пишет послание «К Каверину». Здесь – в применении к другому опыту – утверждается иной принцип:
Всё чередой идет определенной,
Всему пора, всему свой миг;
Смешон и ветреный старик,
Смешон и юноша степенный.
Этического противоречия тут нет. Степенный юноша смешон при взгляде на него извне (потому-то поэт эту любовь и таит), при взгляде изнутри – не до смеха.
Циклическое восприятие жизни развивается и крепнет. В «Стансах Толстому» (1819) поэт напутствует приятеля:
До капли наслажденье пей,
Живи беспечен, равнодушен!
Мгновенью жизни будь послушен,
Будь молод в юности твоей!
В 1823 году написано темпераментное и озорное стихотворение «Телега жизни». Такой «телегой» правит «ямщик лихой, седое время». Этапы человеческой жизни здесь охватывают полный дневной цикл: «с утра», «в полдень», «под вечер». «А время гонит лошадей».
И все-таки след кризиса в Пушкине оказался глубок, и настроения, которые, казалось бы, преодолены окончательно, возобновляются в стихах конца 1817 года и в 1818 году: зажившие раны ноют в непогоду. Стихотворение «Мечтателю» (1818) построено на полемическом мотиве. С явной иронией передаются наивные мечты неопытного юноши, находящего приятность в томной грусти. В таких мечтах распознается игра, но завершается она всерьез горьким страданием; поэту ведомо «страшное безумие любви», «яд», «бешенство бесплодного желанья», от чего он и остерегает «неопытного мечтателя». Поэт знает больше – что бессильна мольба об исцелении от кошмарных мук.
Как воспоминание (ведомое одному ему) пережитое отзовется в лирическом шедевре «Я помню чудное мгновенье». Здесь поэт выделил три этапа своей жизни»: «бурь порыв мятежный», «во мраке заточенья», «душе настало пробужденье». «Мрак заточенья» в деревне перекликается с «неволей мирной» («В альбом Пущину», 1817) тем, что любить хочется, а желание неутолимо. Тригорские соседки иногда скрашивают досуг, но не более. Возникают горькие строки:
В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.
Без жизни? Но у тех, кто помнит о преждевременной старости души, этого вопроса не возникнет. Поэтом пережито и такое.
Пушкину нелегко далась попытка изгнать ощущение преждевременной старости души из лирики, в эпосе он и не торопится расстаться с ним: такое состояние наследует Пленник, а вслед за ним Онегин. Между тем такую фигуру сподручнее изображать именно в лирике, а не в эпосе. Человек (не только поэт) для самого себя прозрачен. От самого себя у него не может быть секретов, их просто некуда спрятать. Вот лирик и заглядывает в самые закрытые уголки сердца. Эпик может знать о жизни не менее, чем лирик, но он более скован в средствах изображения внутренней жизни героя. Если человек чисто умозрительно удалил продуктивную среднюю часть жизни и напрямую связал весенний рассвет с осенним закатом (проще говоря, какие-то испытания погасили ценности юности, и он переключился с них на оскудевшие ценности старости), то об этой акции помнит он сам, но окружающим она не видна (наверное, постепенно станет заметной из-за странностей поведения этого человека; но будут ли понятны эти странности?). Ладно, учтем особенности творческого процесса. Художник не боится трудностей, он дерзает препятствия преодолевать.
Но может быть активным и встречный процесс. Компетентный читатель учится понимать больше того, что являет прямой текст. Здесь будет уместно вспомнить эпизод творческой истории «Онегина». Пушкин набросал рисунок, где изобразил себя вместе с героем на набережной Невы, на фоне Петропавловский крепости, и попросил брата, чтобы профессиональный художник воспроизвел это, но с условием, чтобы фигуры были изображены «в том же положении». В «Невском альманахе» появились два рисунка, оба удостоились резких эпиграмм поэта. На рисунке по эскизу автора художник точно воспроизвел пушкинский ракурс линии набережной, даже поэта нарисовал со скрещенными ногами, как на эскизе, но ему показалось неправильным изображение узнаваемого человека со спины, и он развернул его лицом к зрителю. Это и вызвало особенное возмущение Пушкина:
Не удостаивая взглядом
Твердыню власти роковой
Он к крепости стал гордо задом:
Не плюй в колодец, милый мой.
«Пригодится воды напиться» – досказывает пословица. Об обстоятельствах южной ссылки (в размышлениях по поводу ее возникала и Петропавловка) у нас была речь.
Тут показательно: можно созерцать только внешний вид натуры, а можно (подчас непременно нужно) прозревать скрытый второй план образа, иными словами, уметь выделять двуплановый образ-символ.
3
Обращение к герою с преждевременной старостью души потребовало изображения молодого человека.
– Это требование не выполняется в «Евгении Онегине»! – слышу я голос оппонентов. – В четвертой главе сказано, что герой потратил на светские развлечения восемь лет, так что его хандра – всего лишь закономерный итог пресыщенности.
Но у нас в поле зрения первая глава, а здесь возраст героя обозначен иначе: «Всё украшало кабинет / Философа в осьмнадцать лет». Впрочем, тут указан возраст совершеннолетия, когда юноша начинал самостоятельную жизнь и соответственно обустраивал свой кабинет. В пушкиноведении не возникал (а тем не менее напрашивается) новый вопрос: сколько времени продолжалась успешно начатая светская жизнь Онегина до наступления хандры? Восемь лет – это не первый, а итоговый ответ на этот вопрос. В первой главе иные указания: «рано чувства в нем остыли», «Красавицы не долго были / Предмет его привычных дум», особенно резко: героя и его приятеля-поэта «ожидала злоба / Слепой Фортуны и людей / На самом утре наших дней». «Утро» и есть рубеж совершеннолетия (тут и разочарование с усилением – «на самом утре»). Получается, что хандра успела напасть на него в те же восемнадцать лет, как и началась его самостоятельная жизнь.
А тут начинает действовать исключительной важности творческий прием Пушкина: поэт не довольствуется одним (и только верным) объяснением изображаемых поступков или явлений, а дает несколько, на выбор. На материале стихотворения «Пир Петра Первого» такую особенность пушкинской манеры описал Л. В. Пумпянский: «Уметь анализировать и перечислять есть главное дело ума. Глупость, опуская все возможные причины, прямо попадается в единственно верную и на вопрос: почему пир в Питербурге? – прямо отвечает: потому что царь мирится с Меншиковым. Это примитивизм. У Пушкина 7 возможных причин и 8-я верная. Почему это так? Потому что размышление должно учесть все причинные обертоны – без этого у решения этиологической темы нет тембра»16. Выделенный принцип художественного мышления поэта исследователь называет принципом исчерпывающего деления. Уместнее именовать его альтернативным (художнику нет надобности «исчерпывать» деление, да и не нужны остановки в чтении для проверки, в какой степени исчерпаны перечни; объем перечня заведомо окажется субъективным); тут суть в том, что намечается не единственное (даже если выставляется сразу реальное, истинное) объяснение, но, рядом с ним, еще объяснения возможные, даже если они менее вероятны. Открывается путь увлекательных раздумий, которые вооружают читателя знанием души человеческой; размышления о судьбе героя обогащают его личный опыт. Итоговые решения не декларируются, путь к истине в ситуации, начертанной поэтом, читатель приглашается проделать самостоятельно.
Принцип альтернативного анализа реализуется и в первой главе «Евгения Онегина». Здесь основная версия (она же первая в замысле романа) – преждевременная старость души героя. Есть и «запасная» (альтернативная) – элементарная пресыщенность (она намечается уже в первой главе!): «Измены утомить успели; / Друзья и дружба надоели…» Мотивировки несовместимы, следовательно, даны на выбор.
Придирчиво говоря, обе версии психологически небезупречны. Для пресыщенности просто никакого времени нет, его вряд ли хватает только опробовать многочисленные (за счет разнообразия вариантов) занятия героя. Не очень-то внятна преждевременная старость души: какие такие ценности старости перевесили увлечения юности? Пожалуй, молодящегося старика легче встретить, чем раннего духовного старца. Пушкин идет на упрощение, уподобляет недуг героя сплину, именует русской хандрой. Кроме всего хандру по вечно угрюмому виду можно заметить по внешним проявлениям. Вот только как распознать, чем хандра вызвана… Точно ли передает такое определение начальный замысел? Вероятнее, что не вполне. Но поэт идет на упрощение, чтобы эксцентричность поведения героя сделать понятнее читателю. Любознательные могут опереться на отсылку предисловия к первой главе.
Вопрос, как мог бы далее строиться роман с героем, наделенным преждевременной старостью души, отведем как непродуктивный: это были бы праздные размышления, в сторону от решения авторского. Будем опираться на выбор поэта, по факту.
У Пушкина сначала роман раздвинулся вширь. Но удивительно: Онегин выглядит старше новых героев, Ленского и Татьяны, хотя формально с Ленским они почти ровесники: Онегину, можно считать, девятнадцать, а Ленскому «без малого» осьмнадцать лет. Но Онегин уже «считается» инвалидом в любви17. Чуть позже возрастное изменение получит прямое уточнение. Это уже реальный отход от первоначального замысла.
Герой с преждевременной старостью души исчерпал художественный ресурс уже в первой главе. Быт отшельника показан выразительно, а для движения сюжета герой явно невыигрышный. Видимо, сякнет (годы ведь идут) интерес Пушкина к этому типу. Поэт упрям. Он делает такого человека героем «Кавказского пленника». Задним числом считает лучшими страницами поэмы описание быта черкесского аула, изображением героя недоволен. Общий вывод не лестный: «отеческая нежность не ослепляет меня насчет “Кавказского пленника”, но, признаюсь, люблю его сам, не зная за что; в нем есть стихи моего сердца» (Гнедичу 29 апреля 1822 года, черновое). За эти стихи и любит! И образ героя повторяет, предполагая, что неторопливый роман лучше подойдет для его изображения. Но тут обнаружились свои препятствия.
Пушкин был вынужден вносить в изображение героя корректировку, стимулируемую собственными творческими поисками. Но нельзя исключить (как добавление) и воздействие внешнего толчка. Пушкин прослышал еще в Одессе о том, что Грибоедов работает над комедией. В начале декабря 1823 года (в это же время закончена в черновике вторая глава «Онегина») он спрашивает у Вяземского: «Что такое Грибоедов? Мне сказывали, что он написал комедию на Чаадаева; в теперешних обстоятельствах это чрезвычайно благородно с его стороны».
«Комедия на Чаадаева»! Пушкин еще не знает, таков ли действительно герой комедии, как он подается, но имя друга очерчивает поэту тип героя. Потенциальные способности приметного современника, как теперь скажут, на уровне мировых стандартов (таких, как Брут или Перикл), но пока он всего лишь «офицер гусарской». Поэт призывает друга к большему: отчизне посвятить «души прекрасные порывы».
Талантливым современником, способности которого миру еще не явлены, Пушкин воспринимает и Грибоедова, чему свидетельством воспоминания о нем в «Путешествии в Арзрум».
В романе Онегин уже назван «вторым Чадаевым», но лишь за то, что «в своей одежде был педант». Это говорится не в осуждение, а в похвалу («Быть можно дельным человеком / И думать о красе ногтей»). Но со своей массовому читателю непонятной старостью души Онегин Чаадаеву заведомо уступает. Возникает задача поднять уровень героя. Она будет решена в четвертой главе. На импульс к этому хотя бы чуть-чуть повлияла и не только не прочитанная, но еще лишь наполовину написанная комедия Грибоедова. Впрочем, у Пушкина это уже совсем не первоначальный замысел. Углубление характера героя – тема отдельного анализа.
4
А пока поставим очень непростые вопросы. Как же читать пушкинский роман, если изображение и героев, и обстановки меняется? Если обнаруживаются факты, раньше не привлекавшие внимания, которые серьезно корректируют складывавшееся впечатление?
«Евгений Онегин» – книга не для однократного (тем более – беглого) прочтения. Образы романа динамичны и объемны. Воистину перед нами редкостный брильянт, который нужно покрутить, полюбоваться каждой гранью. Новому впечатлению совсем не обязательно отменять прежние – их можно и нужно поправлять, дополнять!
Мы выделили два этапа творческой истории «Евгения Онегина», его дописьменную предысторию и собственно историю. О дописьменной предыстории известно мало, тут важен только факт, что она была, и три года в сознании поэта каким-то образом складывались отношения героя и героини. Но следом необходимо видеть предысторию и историю уже в изображении героя: то и другое тут четко явлено в самом повествовании. Стартовое звено истории (одновременно стартовое звено сюжета романа) – летящая в пыли почтовая кибитка, доставляющая героя в деревню; здесь он унаследует богатое имение. Но прежде, чем начнется складываться этот сюжет, только обозначенный и остановленный на стадии экспозиции, перед читателем прогалопирует целый этап эволюции героя, включая очарование и разочарование в обычном светском образе жизни.
Более понятной, естественной выглядит начальная половина этапа, когда герой легко, а главное – охотно усваивает уроки общества. Онегин тянется к тому, что общество и предлагает молодежи соответствующего положения. Дебют одобрен: «Свет решил, / Что он умен и очень мил». Тут легко склониться (что часто и происходит) к соблазну заключить, что герой индивидуализирует общий, стандартный образ жизни по обыкновениям, выработанным в свете. Выбор героя действительно совпадает с реальным эталоном, данным в восьмой главе, но только в первом звене!
Если светский этап жизни героя психологически воспринимается вполне естественным, то решительное разочарование героя в нем выглядит неожиданным и не вполне понятным, да и поэт (в тексте) уклоняется от прямого объяснения. С привлечением иных фактов устанавливаем, что недуг Онегина – преждевременная старость души. Для читателя, которому открылось новое понимание героя, не будет скучным прочтение романа заново. Откроются нюансы и оттенки. Привлечет позиция художника, чуждого доктринерству, умеющего размышлять. В послании «Чаадаеву» (1821) он ставил перед собой цель: «Учусь удерживать вниманье долгих дум». Вполне освоил такой способ мыслить. Фиксирует: в осенние вечера горит камин, «а я пред ним читаю / Иль думы долгие в душе моей питаю» («Осень», 1833). Компонентом долгих дум предстает и альтернативное мышление. Поступок героя не только показывается (иногда о нем только упоминается), но и мотивируется; несколько объяснений даются на выбор.
Со второй главы роман как будто начинается заново. На переходе к «деревенским» главам «Евгения Онегина» весьма существенно изменяется сама повествовательная манера Пушкина. Меняется художественное пространство. В первой главе оно постоянно ограничено – сетками городских улиц и набережных, интерьерами кабинета, трактира, театра, бальных зал. Теперь пространство раздвигается безмерно. Меняется сам ракурс восприятия.
Обращение к широкому пространству вносит коррективы в движение времени. Летят годы и в первой главе: на наших глазах резвый и милый ребенок превращается в юношу, начинающего самостоятельную светскую жизнь, заканчиваются жизненные пути его отца и дяди. Но ход лет фактически не заметен; для движения времени первой главы более существен суточный звон онегинского брегета. Понятно, что дней, подобных описанному, было много, и все-таки удельный вес одного дня жизни героя в первой главе исключителен. В «деревенских» главах продолжает развертываться последовательное повествовательное время, синхронизированное с естественным хронологическим актом жизни героев, но счет времени разнообразнее. Поэт не отказывается от суточного измерения, поскольку оно входит в естественный цикл (причем не упускает случая поиронизировать над брегетом).
Люблю я час
Определять обедом, чаем
И ужином. Мы время знаем
В деревне без больших сует:
Желудок – верный наш брегет…
Но поступательный ход времени здесь ощутимее. Суточный ритм органично переходит в ритм времен года. Полет времени воспринимается стремительным. В сущности, при описании быта Лариных дается описание их дня, в параллель описанию дня Онегина, но сходство практически незаметно, важнее становится различие: ларинские дни нечувствительно мелькают, и акцент переносится именно на динамику и повторяемость. Чай, ужин, сон; потужить, позлословить, посмеяться с соседями; блины на масленице, посты, ежедневный квас, качели, хоровод, молебен; вся жизнь, как размеренные качели.
Но повествование регулярно отмечает завихрения циклического времени, где счет отнюдь не на сутки и даже не на года:
Увы! на жизненных браздах
Мгновенной жатвой поколенья,
По тайной воле провиденья,
Восходят, зреют и падут;
Другие им вослед идут…
С какой космической высоты надо обозревать происходящее, чтобы жизни поколений уподоблялись мгновениям!
Но это уже не рождение замысла, а движение его.
Какие звенья замысла оказались устойчивыми, а какие – переменными?
Самое прочное – выбор главных героев и не столько отношения между ними, сколько размещение их в повествовании, потому что первые три главы – экспозиционные. Такую особенность передает и авторское заявление: «Описывать мое же дело». Этим путем поэт идет последовательно. Сказано о дружбе поэта и героя – описаны их прогулки питерскими белыми ночами по набережной Невы.
Приоритет описания над изображением можно видеть и в таком эпизоде. В. В. Набокова удивляло несоответствие начала второй главы ее продолжению. Сначала утверждается: «Богат, хорош собою, Ленский / Везде был принят как жених…» – и выразительный пример приводится. Обобщается, что Ленский не имел «охоты узы брака несть». А вскоре мы узнаем, что Ленский, «чуть отрок», был уже «Ольгою плененный…», и отцы им прочили венцы, герою, оказалось, вовсе не чуждые. В. В. Набоков замечает по поводу представления Ленского как жениха: «Это место звучит фальшиво, поскольку ранее было сказано, что Ленский избегал своих соседей-помещиков. Тем более (согласно строфе XXI) все, бесспорно, знали, что Ленский был влюблен в Ольгу». Комментатор делает неожиданное, но убедительное предположение: «Кажется, что здесь Пушкин еще не разработал план о существовании некой Ольги Лариной»18 (хотя она появится уже в той же главе). Видимо, так оно и было. Что заглавный герой встретит героиню, это задумывалось изначально, еще «в смутном сне». Так что Ленский вначале и предоставлен сам себе. И вдруг у Татьяны обнаруживается сестра, ей находится сюжетная роль. Что делать поэту? Выбрасывать колоритнейшую сценку уездных нравов? Да, устранялось бы сюжетное противоречие. Пушкин вычеркивать этот эпизод не стал: очень выразительно показан здесь «обычай деревенский», да и эффектна некая Дуня, которая старается, но пищит, а не поет. Грех нестыковки невелик, хоть и добавилось еще одно противоречие из числа тех, которые многие и не замечают, а поэт видит, но исправлять не хочет.
Роман нетороплив, не спешит узреть исход. Поэт понимает: если читатель угадывает, чем дело кончится, он теряет интерес к чтению. А тут попробуй угадай, если автор вывел героя на какую-то стезю, но сам еще не знает, куда она повернет; пока остановка на повороте.
5
В замысле-первотолчке герой и героиня явились автору вместе; в повествовании о них их встречу предваряют основательно прорисованные портреты, и его, и ее.
Татьяна являет собой тип романтического мировосприятия. Девушка живет преимущественно в иллюзорном, созданном ее воображением мире. С миром реальным она поддерживает лишь необходимые бытовые отношения.
Романтизм – это не только тип художественного сознания, реализуемый в сфере искусства. Это и тип жизненного поведения, причем наблюдается полная аналогия между поведением реальных людей и родственных им литературных героев: Татьяна прямым образом строит свою жизнь по книжным образцам.
Романтический стиль – это не только сознательно выбранный способ поведения, но и предрасположенность натуры: это подтверждает множество аспектов.
Ее поведение несет черты странности «от самых колыбельных дней». «Как лань лесная боязлива», не умеет ласкаться к родителям, чуждается детских забав, сторонится даже сверстниц, но и наедине не общается с куклами, т. е. избегает приготовления «к приличию» уклада жизни взрослых. «Серьезное поведение в детстве, отказ от игр – характерные черты романтического героя»19, – свидетельствует Ю. М. Лотман.
Заметны и другие романтические черты: «задумчивость», высокоэмоциональное отношение к природе и (последнее по счету, но первое по важности) особый стиль чтения: «Ей рано нравились романы; / Они ей заменяли всё…» Важное слово тут найдено – замена. Выясняется: в жизни Татьяны есть два мира – реальный и книжный (идеальный). Как это происходит? Понятно: когда человек книжку читает, он и живет в мире книги. Но тут другое, большее: героиня продолжает жить в мире книжных образов и тогда, когда просто живет! Романы заменяют всё не потому, что она много времени проводит за книгами, но потому, что продолжает книжно мыслить и в остальное время.
В жизни Татьяны много предпосылок романтического поведения; стиль чтения создает решающее качество – романтическое «двоемирие». Понятие не для пушкинской героини придумано, это термин, объясняющий своеобразие романтизма. Романтики резко критически воспринимают действительность и противопоставляют ей мир воображения. С помощью мечты они переносятся в будущее или погружаются в прошлое, в дорогие воспоминания. Но от реальности уйти нельзя. Поэтому возникает совмещение, наложение одного на другое («двоемирие»). Писатели-романтики изображают явления как жизнеподобные, но если присмотреться, можно обнаружить, что фактически изображается мир мечты.
Возьмем совсем простую сценку: «Она любила на балконе / Предупреждать зари восход…» Солнцу, небосклону, ветру, деревьям, цветам нет никакого дела, наблюдают за ними или нет. «Равнодушная природа» – сказано в одном из стихотворений Пушкина. Но Татьяна, наблюдая движение утра, одухотворяет природу, наделяет ее своей поэтичностью и лиричностью. Она не просто внимает картинам, а ведет с ними диалог. Она не переживает, а сопереживает. Вот чем объясняется, что можно говорить о «двоемирии», в котором и которым живет героиня, хотя внешне она живет обыкновенной жизнью.
Любя реальные рассветы, бродя по саду, полям, лугам, лесам, Татьяна обитает в иллюзорном мире. Ей мало «друга», ей нужен непременно герой, книжный герой. Кого она полюбила? Скучающего русского помещика – соседа Онегина? И да, и нет. Появлению героя предшествует мечта о герое. «Душа ждала… кого-нибудь, / И дождалась… Открылись очи; / Она сказала: это он!» Сама вспышка любви в ней – это результат узнавания идеального в реальном: «Ты чуть вошел, я вмиг узнала…» И знаменитое письмо Татьяны придумано прежде, вычитано прежде, чем написано: в «опасной книге» она находит
Свой тайный жар, свои мечты,
Плоды сердечной полноты,
Вздыхает и, себе присвоя
Чужой восторг, чужую грусть,
В забвенье шепчет наизусть
Письмо для милого героя…
Совершенно изумителен этот сплав «своего» и «чужого», когда в «чужом» видится «свое», а «свое» не ищет собственного проявления, а довольствуется «чужим».
Романтический тип поведения Татьяны – следствие ее натуры, но не побочных обстоятельств. Задумчивость и мечтательность нельзя рассматривать как своего рода компенсацию непривлекательной внешности или физического нездоровья: девушка внешне обаятельна (только красота ее иная, чем красота сестры) и вполне здорова – обыкновенно встречает зиму, выбегая первым снегом «умыть лицо, плеча и грудь», в крещенский вечер выходит во двор «в открытом платьице»20. По всей вероятности, героиня вполне принадлежит к типу провинциальных барышень, про которых Пушкин сказал в лирическом стихотворении: «Но бури севера не вредны русской розе».
Романтический мир Татьяны – это действительно самая ее суть, натура. «Двоемирец» живет в иллюзорном, им самим созданном мире. Но тут надо заметить, что, во-первых, иллюзорный мир не вовсе отстранен от мира реального и вбирает в себя его черты, «элементы», а во-вторых, уходя в иллюзорный мир, человек не может вовсе порвать связи с миром реальным, с которым ему надо поддерживать, как минимум, бытовые отношения.
Отдадим должное словам поэта: «Она в семье своей родной / Казалась девочкой чужой». Не будем преувеличивать значения этих слов и трактовать их как конфликтные отношения Татьяны с семьей. Напротив, по всей вероятности, «сельская свобода» обеспечивала девушке возможность странности ее поведения, что в ответ вызывало чувство приязненности, благодарности. Единство уклада семьи подчеркивает и та деталь повествования, что собирательное «Ларины», «они» – обычное обозначение романа.
Итак, в жизненном поведении юной Татьяны наблюдается резкая двойственность. Двойственностью отмечено уже ее бытовое поведение, в нем есть черты странности (замкнута, стремится к уединению, не умеет ласкаться к отцу и матери), с другой стороны, в ней нет, как ныне скажут, комплекса неполноценности; ее свободу на некоторые странности окружающие не стесняют, зато и особенную не тяготит ритуальность бытового поведения. Выделяется ее внутренняя жизнь. «Всё» ей заменяют романы. Наедине сама с собою она живет на манер книжных героинь, в мечтах своих преобразуя окружающую ее действительность.
Даже главный контакт юной Татьяны с миром реальным – общение с природой – носит в высшей степени идеализированный характер: она сама отдает природе свои пылкие переживания. Реальные явления бытия выступают в роли катализатора эмоциональных движений души.
Впрочем, к сказанному необходимо дополнение-поправка. Онегин замечает и выделяет ум Татьяны: «…с такою простотой, / С таким умом ко мне писали…» Незаурядный ум выявляется уже в том, что она осознает свою оторванность от реального мира; этим вызвано ее признание Онегину: «Вообрази: я здесь одна, / Никто меня не понимает…» Немудрено: в окружении героини действительно нет подобных ей книжников, бытовых контактов с родными ей явно мало, ей холодно в ее подзвездном одиночестве. И в «нелюдиме» Онегине она прозревает родственную душу.
Девушка предчувствует невозможность длительного существования в одиноком мире воображения и необходимость возвращения на землю. Вот почему ее письмо отразило вполне практичные желанья:
Души неопытной волненья
Смирив со временем (как знать?),
По сердцу я нашла бы друга,
Была бы верная супруга
И добродетельная мать.
В ее положении мало выбора, она вынуждена считаться с тем, что наиболее вероятное для нее – безропотно исполнить долг, т. е. быть верной супругой и добродетельной матерью – вне зависимости от того, кто и при каких обстоятельствах станет ее супругом. И все-таки она пытается выбор осуществить. Девичье воображение Татьяны заполнено иной мечтой, разбуженной французскими книжками, но питаемой силой и страстью поэтической романтической души. Юная мечтательница поры своей встречи с Онегиным живет как раз не по «народной правде», совсем наоборот! Она бунтует, она вопреки бытовым правилам приличия (зато даже смелее героинь «своих возлюбленных творцов») первая пишет письмо Онегину.
В финале романа Пушкин назвал Татьяну – «мой верный идеал». Но более всего «идеально» героиня поступает именно при первом нашем знакомстве с нею: она отвергает все условности, не желает подчиняться нормам и традициям окружающей ее жизни, полностью отдается охватившему ее чувству – что может быть естественнее, духовнее, поэтичнее?
Истоки жизненного пути Татьяны контрастны онегинским. Именно в своих истоках она максимально независима от внешних обстоятельств, растет так, как подсказывает ей ее натура, причем само собой оказывается, что в ее натуре нет эгоизма и очень много отзывчивости и самоотверженности. Быт Лариных довольно примитивен, но тонкость и деликатность любимица поэта занимает из книг, а в доме черпает чрезвычайно необходимую человеку толику взаимной приязни. Очень рано просыпается ее воображение, питаемое вначале страшными рассказами «зимою в темноте ночей», а потом – французскими романами. К ней рано приходит ощущение идеала, который подсказан, разумеется, книжками, но в полном ладу с влечением собственной чистой души.
Духовный мир Татьяны сформировался очень рано и как бы весь сразу. Теперь проще судить, почему это так. В ее жизни преобладает духовное начало. Онегинская мысль обобщает опыт; Татьяне личный опыт не обязателен; с помощью книг ее мысль объемлет все тонкости отношений. В ее сознании достойное место принадлежит идеалу: благодаря ему отсекается мелкое и мелочное, героиня распахнута высокому и светлому.
Само наличие идеала в душе человека может иметь разные следствия. У натур эгоистических это может приводить к капризной неудовлетворенности (у Крылова есть басня «Разборчивая невеста»). В главной героине романа нет эгоизма; наличие идеала становится стимулом самовоспитания: идеалу нужно соответствовать.
Означает ли сказанное, что Татьяна совершенно свободна от обстоятельств? Нет, разумеется, и понимает это она сама. Уже отмечалось, что отшельница предвкушает неизбежность одиночества, если она продолжит жить по книжным законам, поскольку все окружающие живут иначе: так добровольно возникает внутренняя установка смирить со временем «души неопытной волненья».
Такова Татьяна периода ее предыстории, до встречи с Онегиным. Содержание второго цикла ее духовной жизни, или первого этапа собственно «истории» героини, определяется ее любовью к Онегину. Здесь нет резких перемен: напротив, любовь лишь выявляет все дремавшие качества девушки.
6
Творческая история «Горя от ума» воспринимается в обратной симметрии по отношению к творческой истории «Евгения Онегина»: в романе происходит постепенное и даже меняющееся постижение героя, в комедии герой обрисован сразу и резко, углубляется его восприятие окружающего мира. Посвятивший изучению «Горя от ума» всю свою творческую жизнь Н. К. Пиксанов утверждает категорично: «В образе Чацкого нет дисгармонии, нет спаек разнородных элементов, он вылился aus einem Guss»21. Это наблюдение тем более удивительно, что серьезные изменения в комедии в процессе работы встречаются на многих уровнях, даже сюжетном, а позиции главного героя они не коснулись. Иначе говоря, в замысле Грибоедова быстрее определилось, что нужно сказать, но не сразу, в поисках была найдена форма, способ как это сказать.
И что же захотелось сказать?
В отличие от «Евгения Онегина» с неторопливым началом и непрогнозируемым продолжением «Горе от ума» началось с итоговой идеи. Неужели по шаблону? «…при конце последней части / Всегда наказан был порок, / Добру достойный был венок»? Ничуть! Ключевая идея неизбежно объявлена при конце, но прогнозируется с самого начала – заглавием комедии. Горе – от ума? А вначале то же выглядело еще острее: горе – уму. При этом Грибоедов мыслит как диалектик, не как метафизик.
Распутье при смене «века минувшего» на «век нынешний» затронуло и сферу ума. «Просветители XVIII века верили, что разум неуязвим, что на нем “бронзовые одежды”. А Грибоедов доказывал, что разум не только уязвим, но порою и беспомощен»22.
Философские дебаты происходят именно в словесной форме. Это ли не пиршество ума! Только человек бессилен, при всем своем красноречии, перед любым законом. «Субъект не может предписывать свои законы объективному миру; если же он делает это, то сам становится игрушкой дурной объективности, ее собственным призрачным, хотя и напыщенным отражением»23.
М. А. Лифшиц может отталкиваться от раннего варианта – «Горе уму»; тут понятно: горько уму среди дури. Но тот же смысл отчетлив и в итоговом рассуждении: «По-видимому, сам Грибоедов хорошо сознавал, что ум – не только преимущество, но и бремя, источник горя» (с. 124). Возникает надобность оценить именно итоговое грибоедовское: «Горе ОТ ума», причем для носителя ума.
Неотразимое толкование найдем в комментарии А. А. Кунарева: «В первую очередь следует соотнести название с общефилософской (и отсюда – вечной, а значит, и поэтической) проблемой ума, опыта (мудрости) и блаженства, счастья, житейского благополучия». Исследователь советует вспомнить «хотя бы библейское во многая мудрости много печали, русские пословицы, например, глупому счастье, умному напасти; где умному горе, там глупому веселье; с умом жить – мучиться, без ума жить – тешиться; хоть дурак, а съел бурак, а умный и так»24.
По авторской оценке, в «комедии 25 глупцов на одного здравомыслящего человека». (Увидим гиперболу: бытовой сообразительности здесь никто не лишен, разве что князь Тугоуховский по старости из ума выжил, хотя его жена считает своего «князь-Петра» первым умником; так ведь она сама им рулит, а он и не возражает). Но такой расклад предвещает трагический исход конфликта. Отметил Гончаров: «Чацкий сломлен количеством старой силы, нанеся ей в свою очередь смертельный удар качеством силы свежей»25. Если в этом замечательном рассуждении убрать (притенить) имя собственное, получится выразительное определение основного трагического конфликта. А трагедия примечательна катарсисом, очищением через сострадание, и в этом ее оптимизм. В статье Гончарова все-таки отмечаются оба эмоциональные полюса: «Чацкого роль – роль страдательная: оно иначе и быть не может. Такова роль всех Чацких, хотя она в то же время и всегда победительная» (с. 28). Но торжествующей понимается победительная роль, страдательная притеняется.
Т. Алпатова заглавие пьесы обращает в вопрос: «Чье именно “горе” становится предметом размышлений? Носителя этого ума – и тогда ум оказывается едва ли не проклятием; или тех, кто столкнулся с ним?»26. На этой основе, пожалуй, возобладало перевернутое значение заглавия: горе тому, с кем встретится умный человек. В современной грибоедовской «Энциклопедии» вроде бы поддерживается двусторонняя оценка, но торжествует акцент уже односторонний: «Герой пьесы пережил “мильон терзаний”, он бежит прочь из Москвы в поисках, “где оскорбленному есть чувству уголок”. И все же произведение Г<рибоедова> – комедия, выносящая окончательный приговор фамусовщине, вбивающая в нее осиновый кол. Это сплоченное низменными интересами общество может еще торжествовать, философствовать, важничать и клеветать, но “в высшем смысле” оно нежизненно, неразумно, призрачно и лживо. Над драматической коллизией пьесы, оканчивающейся трагически для Чацкого, господствует оптимистический, победительный тон, который, по любимой пословице Г<рибоедова>, и делает музыку…»27. Тут прямое преувеличение от увлечения. Заглавие приобретает не свойственное ему значение: противникам горе от моего ума.
Если путь к философскому осознанию конфликта «Горя от ума» все-таки проложен, то уточнение, какие именно мысли (а они непременно страшные!) причиняют герою (и автору!) горе, оказалось недоступным современникам; такой подход ошибочной эстафетой передан и преемникам. Самый острый парадокс «Горя от ума» состоит в том, что подсказанная автором ключевая идея, объявленная заглавием, не стала руководством к пониманию комедии.
Задача, как ни странно, до сих пор остается открытой. (Ее оставляю на потом).
Документально зафиксированных атрибуций даты возникновения замысла «Горя от ума» нет. Имеется свидетельство С. Н. Бегичева о том, что уже в 1816 году у Грибоедова был какой-то фрагмент, где фигурировал Фамусов вместе со своей сентиментальничающей женой: это истоки будущей комедии? Бегичев трепетно относился к памяти Грибоедова, его воспоминание сомнений не вызывает. И все-таки попробуем это сообщение понять по-другому.
Что связывает фрагмент 1816 года с «Горем от ума»? Имя важного для комедии персонажа. Еще, наверное, каким-то отзвуком можно счесть выговор Фамусова дочери в последнем явлении:
Бесстыдница! где! с кем! Ни дать ни взять, она
Как мать ее, покойница жена.
Бывало, я с дражайшей половиной
Чуть врознь: – уж где-нибудь с мужчиной!
Но препятствует ли сообщение друга поэта выдвижению такой гипотезы: в 1816 году Грибоедов работал над водевилем, где главными героями выступают Фамусов и его жена (это и зафиксировал Бегичев). Водевиль (возможно, единственный у Грибоедова – авторский!) не состоялся. А персонаж (овдовевший) пригодился в другом произведении!
Соседство интереса к водевилям с замыслом комедии в первый для Грибоедова этап его петербургской жизни представляется противоестественным. Но тем острее становится вопрос: как же произошел рывок к бессмертной комедии?
Рискну предположить, что начальным импульсом к написанию «Горя от ума» послужило катастрофически острое переживание одиночества человеком, затерянным в далекой чужой стране. Такая ситуация сложилась, когда волей начальства Грибоедов оказался в далекой Персии, даже не в столице, а в провинциальном Тавризе.
Горечь пронизывает письма Грибоедова. П. А. Катенину, февраль 1820 года, Тавриз: «Вот год с несколькими днями, как я сел на лошадь, из Тифлиса пустился в Иран, секретарь бродящей миссии. С тех пор не нахожу самого себя. Как это делается? Человек по 70-ти верст верхом скачет каждый день, весь день разумеется, и скачет по два месяца сряду, под знойным персидским небом, по снегам в Кавказе, и промежутки отдохновения, недели две, много три, на одном месте! – И этот человек будто я? Положим, однако, что еще я не совсем с ума сошел, различаю людей и предметы, между которыми движусь…
К моей скуке я умел примешать разнообразие, распределил часы; скучаю попеременно то с лугатом персидским <словарем>, за который не принимался с сентября, то с деловыми бездельями, то в разговорах с товарищами. Веселость утрачена, не пишу стихов, может, и творилось бы, да читать некому, сотруженики не русские». За Грибоедовым водилась слабость: ему надобно было поверять написанное на слушателях, а тут – «читать некому». Он ужасался еще в столице, узнав о «командировке»: «Музыканту и поэту нужны слушатели, читатели; их нет в Персии…» (Бегичеву, 15 апреля 1818); не вняли…
А. И. Рыхлевскому, 25 июня 1820 года, Тавриз: «Об моих делах ни слова более, не губить же мне вас моею скукою». Но не художнику сетовать на отсутствие впечатлений: он умеет творить, идя от умозрительного противного!
Н. А. Каховскому, 3 мая 1820 года, Тавриз: «Скука чего не творит? а я еще не поврежден в моем рассудке. Хочу веселости. …где же позволено предаваться шутливости, коли не в том краю, где ее порывы так редки». Здесь та же мысль, но выраженная еще острее: художник в принципе – не копировщик, то, чего недостает, но чего хочется, добывает воображение.
Н. А. Каховскому, 27 декабря 1820 года, Тавриз: «…во всех моих письмах одно и то же, как вчера, так и нынче. Процветаем в пустыне, отброшенные людьми и богом отверженные».
Даже эти скупые заметки могут послужить предметом для обобщений. Атмосфера абсолютно творчеству не способствующая. А еще человеческая слабость. Пушкин в «Капитанской дочке» вложил в уста рассказчика-персонажа такое заключение: «Известно, что сочинители иногда, под видом требования советов, ищут благосклонного слушателя». Подтверждает и другой персонаж: «стихотворцам нужен слушатель, как Ивану Кузмичу графинчик водки перед обедом». Под это обыкновение вполне подходит Грибоедов: на успешность его работы очень влияло наличие или отсутствие вызывающего доверие слушателя («творилось бы, да читать некому…»). В Персии иссякло его водевильное творчество. Условия не очень-то благоприятствовали практической работе, зато сложились условия для возникновения замысла «Горя от ума».
Но в том, что остро переживается автором, нет конфликта – просто горе, которое надобно перетерпеть. Его комедия – не выдумка веселости как лекарство от скуки одиночества (тут именно водевили годились бы). Ситуация Чацкого, вновь это подчеркну, страшная. Если проникнуть за внешнюю суету внутрь, в суть, не обнаружится ли то же самое одиночество мудреца, но в гуще столичной театральной жизни? То, что было пережито в Петербурге самим художником? А вот такое ощущение отнюдь не напрашивается, оно доступно лишь проницательному уму. Не сочтем невозможным, что в далеком Тавризе в сознании Грибоедова в новом свете предстала столичная жизнь, о которой были и ностальгические вздохи: «…мысли всё в Петербурге. Там я имел огорчения, но иногда был и счастлив; теперь, как оттуда удаляюсь, кажется, что там всё хорошо было, всего жаль» (Бегичеву, 30 августа 1818 года. Новгород). Поубавилось азарта былой театральной жизни, а также интереса к водевилям. За восторженным восклицанием Репетилова: «Да! водевиль есть вещь, а прочее все гиль» – можно почувствовать усмешку автора «Горя от ума».
Возможна ли такая переоценка былого? А перечитаем лирический монолог Чацкого, в одиночестве покидающего дом Фамусова.
Ну вот и день прошел, и с ним
Все призраки, весь чад и дым
Надежд, которые мне душу наполняли…
<…>
В повозке так-то на пути
Необозримою равниной, сидя праздно,
Всё что-то видно впереди
Светло, синё, разнообразно;
И едешь час, и два, день целый; вот резвó
Домчались к отдыху; ночлег: куда ни взглянешь,
Всё та же гладь и степь, и пусто и мертво…
Досадно, мочи нет, чем больше думать станешь.
Человеку не дано заново прожить свою жизнь, даже эпизод ее. Но мысленно эпизоды на выбор он может переживать заново, меняя эмоции. Вот и здесь: впечатления были даже приятными («Светло, синё, разнообразно»), а на исходе того же дня мысль зачеркивает их («и пусто и мертво»).
Что известно о поисках Грибоедова пути к осуществлению замысла? К этому трудно дававшемуся как? Сохранилось размышление писателя, которое, предполагают, было приготовлено для предисловия к «Горю от ума» (в этом качестве оно не понадобилось, поскольку комедию автору не удалось напечатать): «Первое начертание этой сценической поэмы, как оно родилось во мне, было гораздо великолепнее и высшего значения, чем теперь в суетном наряде, в который я принужден был облечь его. Ребяческое удовольствие слышать стихи мои в театре, желание им успеха заставили меня портить мое создание сколько можно было. Такова судьба всякому, кто пишет для сцены…»
Пожалуй, возможна поправка. Дело не только в «ребяческом удовольствии». Автору нужна комедия, потому что ему хочется «веселости», и если ее нет в данной жизненной ситуации, то почему не погреться у очага фантазии?
Признание Грибоедова о перемене жанра в ходу у исследователей, но обычно высказывается лишь сожаление, что нам не суждено узреть грандиозного замысла. Возможно ли хоть как-нибудь проникнуть в первоначальный замысел?
Достойно удивления: даже исследователи, воспринимающие «Горе от ума» шедевром, все равно утверждают, что начальный замысел (о существовании которого известно только по авторскому замечанию) был грандиознее. Такое мнение высказывал и Н. К. Пиксанов: «Свою комедию он <поэт> готов был считать искажением грандиозного замысла. <…> Мы должны поверить, что “первое начертание” “Горя от ума” в замыслах поэта было гораздо великолепнее, чем в теперешнем “суетном наряде”»28.
При этом допускается серьезная логическая ошибка: подменяется предмет размышления. К тому подталкивает выражение «первое начертание», как будто уже воплощенное. Но практическая работа вряд ли еще начиналась, речь идет только о замысле нового творения, а конкретнее – только о форме его, о превосходстве великолепия сценической поэмы перед «суетным нарядом» комедии.
Форма, конечно, влияет на восприятие содержания («встречают по одежке…»). Но поэт ни словом, ни намеком не говорит о снижении (тем более о целенаправленном снижении) содержания своего начального замысла. Прямые потери содержательного плана тут исключены. Более того, автор видит пределы, которые в порче переступать нельзя: допускается, «сколько можно было». Косвенные, в связи с изменением формы, потери неизбежны; тут поэту просто поверим на слово. Но сравнивать нужно не то, что задумывалось, и то, что получилось. Мы этого не сможем сделать, поскольку не знаем, чтó и как первоначально задумывалось. Но можно и нужно сравнивать то, что получилось, и то, что в ту пору было вокруг: тогда и увидим рождение шедевра русской литературы, а в Грибоедове – талант поэта и драматурга. «Горе от ума» и в «суетном наряде» грандиозно. Высокому уровню соответствует не только замысел «сценической поэмы», но и реализованный текст комедии!
Можно ли хотя бы слегка представить себе, как Грибоедов понимал жанр сценической поэмы? Как ни странно, вполне очевидный ответ – перед взором поэта был «Фауст» Гёте – оказался практически невостребованным. Такое воззрение было высказано И. Н. Медведевой, причем не в ее монографии, а лишь во вступительной статье к подготовленному ею сборнику произведений Грибоедова в стихах, но никем не было поддержано. Исследовательница показывает, что у Гёте было заимствовано Грибоедовым даже само обозначение жанра первого замысла: «“Фауст” в печати обозначен как трагедия, но Гете именовал свое произведение “поэмой”, “драматической поэмой”, “сценической поэмой” и даже называл “песнями” отдельные главы-сцены с их заглавиями, характеризующими содержание…»29.
И. Н. Медведева выделяет очевидное: разве в «Фаусте» «не умещена грандиозная тема, не дано “объяснение всего человечества” на сравнительно небольшом пространстве повествования, благодаря свободному движению действия, свободной смене мыслей и персонажей, благодаря умолчаниям там, где читатель сам может додумать и дочувствовать то, что дано намеком? Законы поэтики “превосходного стихотворения” принципиально допускали эту недосказанность, служившую особым целям, взаимодействию произведения и читателя в веках, открытости его для поколений, хотя разговор поэта шел с современником… Вся эта поэтическая система, мечтаемая Грибоедовым для своей “сценической поэмы”, являлась высшей смелостью “Фауста”… Она-то, эта поэтика, и противостояла “узкой рамочке” правил французского классицизма, она-то и позволяла поэту, давши волю своему воображению, “расходиться по широкому полю”» (с. 20).
И. Н. Медведева прозорливо написала: «…Грибоедов недооценил свое мастерство, которое позволило ему сохранить высшее значение замысла и в тесных рамках комедии, при всех огорчавших его “хитростях ремесла” (“Не лучше ли без хитростей”, – писал он). Однако когда повзрослевший Грибоедов, не оставляя своего замысла, пришел к простейшему оригинальному его разрешению, верования его, определявшиеся поэтикой Гете, оставались при нем» (с. 20). Это исключительно важное утверждение: изменилась форма начального замысла; если как-то и поблекло его содержание, то не катастрофически. Именно это обстоятельство обеспечило возможность на обломках водевильных штампов (но с ориентиром на красоту и широту Гёте и Шекспира) создать шедевр русской литературы.
Когда замысел начал претворяться? Н. К. Пиксанов не исключает, что какие-то наброски (исследователь называет их брульонами) делались еще в Персии; они не сохранились. Во всяком случае вехой можно считать дату 17 ноября 1820 года. В этот день написано письмо к неизвестной о необыкновенном сне. А приснилась поэту встреча с адресатом и разговор с ней с обещанием через год закончить задуманное произведение. Замысел адресату известен, и произведение не называется. Нам гадать не приходится: в сознании автора не было произведения, соперничавшего с «Горем от ума». И замечательно: обещано во сне – исполнено наяву. Автор ошибся только в сроках, года оказалось явно недостаточно.
Причем надо исключить всякую мистику. Иным воспринималось бы дело, если бы автору приснился сюжет или хотя бы ключевая сцена комедии. В письме Грибоедова речь идет об уже оформившемся замысле в сознании поэта (который осталось только записать), нет никакого «подарка» свыше. Вот почему можно воспринимать дату письма как рубеж, на котором уже четко сложился замысел «Горя от ума».
А исполнен он был в Тифлисе (1821–1822: два действия комедии) и в усадьбе Бегичева (1823); на пути из Москвы в Петербург (май 1824) придумана обновленная концовка.
Н. К. Пиксанов отметил: «В 1823–1825 годах в России не было поэтического произведения более яркого и глубокого, чем “Горе от ума”»30. Исследователь абсолютно прав! А выделенные им даты для русской литературы значимы: в 1823 году начат «Евгений Онегин», в 1825 году опубликована первая глава романа в стихах; а в начале ноября пошло сообщение в Москву Вяземскому об уникальном событии: «Трагедия моя <“Борис Годунов”> кончена; я перечел ее вслух, один…» Тут (в театре одного актера) Пушкин был в трех лицах: и автор, и исполнитель, и зритель… Вот царского разрешения печатать еще пришлось ждать пять лет. Курьез ситуации: в конце 20-х и даже в начале 30-х годов критики обсуждали: существует ли такой феномен – «русская литература».
Время историческое, время художественное
1
Наше родовое имя Homo sapiens. Оно требует от живущих ставить перед собой задачу: не только жить, но и осмысливать жизнь. Способов познания жизни много. Один из них – давний, действенный: искусство. В человеческую жизнь много помещается. А тут такой благоприятный случай – прикоснуться к сотням человеческих жизней! К сожалению, мы не умеем учиться на чужих ошибках: нам свои подавай! К тому же искусство наращивает опыт, становится все более многообразным. Появляются и течения, которые выдвигают на первый план уже самоцельные задачи, вытесняя первоначальную – познание жизни. Тут уже недалеко и до деградации искусства, превращения его в заманчивую, увлекательную (тем хуже для него) игрушку.
Впрочем, преувеличения от увлечения неизбежны и непредсказуемы, а питает их сама сущность искусства; оно и строится на парадоксе, поскольку не обходится без фантазии. Реальное здесь преображается в виртуальное.
Были иные трактовки. Л. И. Тимофеев двумя основными особенностями в образном отражении жизни воспринимал воспроизведение и пересоздание действительности31; на этой основе выделялись реалистический и романтический типы творчества. Подобное разделение некорректно, поскольку «воспроизведение» просто-напросто невозможно без «пересоздания». Да, когда-то даже ставилась задача отражать жизнь «в формах самой жизни». Тоже задача практически не решаемая. В формах жизни существует жизнь. Как только предмет жизни становится предметом изображения, он перестает быть предметом жизни, а предстает предметом искусства. Он может восприниматься подобным жизни? Но это совсем другое: подобие не копия, пересоздание неизбежно. У реалистов это, конечно, происходит по-другому, но типологически аналогично с самой откровенной фантастикой.
С. Г. Бочаров отметил «сдвоенный мир» пушкинского творения, в котором парадоксально сходятся разноплановые явления – Романа и Жизни: «действительность, в которой встречаются автор, герой и читатель, – …гибрид: мир, в котором пишут роман и читают его, смешался с миром романа; исчезла рама, граница миров, изображение жизни смешалось с жизнью»32. Поэт объявляет желание рассказать нам о некоем Онегине, но сам тут же является с узнаваемыми чертами биографии, а своего знакомца представляет читателю добрым приятелем. В конце первой главы автор описывает свои прогулки с героем по невской набережной в белые ночи. Тут смещения в нашем восприятии демонстративны: «живой» А. С. Пушкин сам вроде как становится литературным героем, а литературный герой показан в реальном времени и пространстве.
Так – с перемещениями героев из литературной сферы в жизнь и обратно. Это не единственный случай естественного, но и, казалось бы, невозможного сочетания, есть и другие, не менее красноречивые. Таким же образом строятся и повествовательные картины. Вот начало главы пятой:
В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе
На третье в ночь. Проснувшись рано,
В окно увидела Татьяна…
Что увидела, далее перечисляется. Тут полная иллюзия конкретности, включая своеобразие погодных условий «того года». Картина утеплена присутствием героини. Автор тут принимает эстафету от героини и раздвигает рамки изображения, которые сковывал бы взгляд одного человека, к тому же из окна. Набрасывается ставшая хрестоматийной картинка зимы, опять-таки с поглощающим впечатлением, что рисуется пейзажно-жанровый этюд с натуры. И снова перемена ракурса:
Но, может быть, такого рода
Картины вас не привлекут:
Всё это низкая природа;
Изящного не много тут.
Мы погрузились в атмосферу жизни, а поэт снова перемещает нас в литературную сферу, где сочиняется, а следом комментируется эксперимент на ту пору новаторского литературного описания.
Для Пушкина Роман и Жизнь – единый предмет, лишь представляемый то одной, то другой гранью. В названных случаях обнажение обеих граней особенно явственно, однако сдвоенный и совмещенный мир «Евгения Онегина» в отдельных эпизодах демонстрируется, а фактически определяет саму манеру повествования. Видимо, на первых порах поэта и увлекла нарочитая легкость перехода явлений жизни на страницы произведения, да еще и создаваемого в стихах.
Эту особенность художественного стиля Пушкина нельзя игнорировать. Само собой разумеется, что Онегин – герой пушкинского романа, да подается-то он как приятель поэта. Это два разных ракурса восприятия, но художник совместил одно с другим. Совмещение разнородного материала (виртуального и принадлежащего реальной жизни) рискованно: каждый исходный источник тянет за собой свои природные признаки. Пушкинский персонаж сетовал: «В одну телегу впрячь неможно / Коня и трепетную лань». У поэта и такая странная парочка (реальность и воображение) везет дружно.
С. Г. Бочаров завершает свои наблюдения над смешением реального и виртуального обобщением: «Современному глазу… заметно внедрение непретворенного, “голого” факта, реальной сырой детали в “художественную ткань”; это станет потом интересной и острой проблемой искусства и его основной трудностью: “нос «реальный», а картина-то испорчена”, – как скажет Чехов о том, что случится, если в лице на картине Крамского вырезать нос и вставить живой. Вторжение сырого материала из мира разрушительно для замкнутого “другого мира” картины»33. Заметим: в воображаемом эксперименте «сырая» деталь нарушает стилистическое целое. У Пушкина увидим иное: заимствованное из другой сферы стилистически полностью преобразуется под общий лад в сфере принимающей. Поэт пользуется приемом, который устойчив и демонстрирует саму суть искусства: предметы, почерпнутые из реальной жизни, легко и свободно переходят в вымышленный мир произведения и возвращаются в жизнь уже художественными деталями. Реальное не может оставаться самим собой в виртуальном мире, там оно предстает подобным себе. Открывается возможность через посредство искусства познавать жизнь.
Особую важность, но и сложность представляет контакт художественного сюжетного времени произведения с временем историческим. Д. С. Лихачев выделяет время произведения «закрытое», «замкнутое в себе, совершающееся только в пределах сюжета, не связанное с событиями, совершающимися вне пределов произведения, с временем историческим». С другой стороны, отмечается «открытое» время произведения, которое «предполагает наличие других событий, совершающихся одновременно за пределами произведения, его сюжета»34.
«Евгений Онегин» – произведение с открытым художественным временем с самого начала, с сообщения о рождении героя на брегах Невы. Это произошло само собой из-за фигуры рассказчика, образ которого создается на автобиографической основе, о чем тоже заявлено сразу: это поэт, автор известной читателю поэмы, ныне (в момент написания этого эпизода) разлученный с этими берегами.
Повествование в «Евгении Онегине» неминуемо проецируется на биографию автора, которую нельзя передатировать. Можно ли затереть, заменить, к примеру, дату открытия Лицея – 19 октября 1811 года: там присутствовали именитые гости, включая царя. Дату чтили выпускники. В романе будет помечен такой факт: «весной, при кликах лебединых», к юному лицейскому воспитаннику стала являться муза (и до самого конца его не покинула).
Биография реального лица датируется. Конечно, случается, что и в документах обнаруживается путаница, не все документы доходят до потомков. Дискуссионной остается дата рождения Грибоедова! Но это не правило, а исключение из него. На то были какие-то особые причины, которые участники и постарались оставить в тайне.
Соотнесение биографии поэта с биографией героя, коли они объявлены приятелями, вроде бы подразумеваемое, но оказывается делом непростым.
Начальная светская столичная жизнь для Пушкина оказалась короткой. В трехлетие 1817–1820 годов уместилось и упоение ею, и разочарование в ней. А светская жизнь героя оказалась еще короче: с 1819 по середину 1820 года. Концом 1819 года датируется в предисловии к публикации первой главы описание типового дня из жизни героя, где он выглядит уже уставшим, накануне полного разочарования; далее сдвигать эту дату было уже просто некуда. Мотивировка разлуки двойная. Онегин едет в деревню по зову дяди; по отношению к историческому времени эта деталь нейтральная. Зато пушкинский отъезд датируется временем историческим. Но виртуальность оказывает поэту услугу: свое столичное бытие Пушкин несколько продлевает. Декларируются частые прогулки с героем летними белыми ночами, тогда как поэту пришлось покинуть столицу в начале последнего весеннего месяца, в канун белых ночей. Возникает еще одно противоречие из числа тех, которые, как заявил поэт в концовке первой главы, он видит, но их исправлять не хочет.
Год 1819 и смежные с ним Пушкин воспринимает обычными. Задним числом станет явно: активно в это время (в меру возможного открыто, а более энергично потаенно) действуют декабристы. Но пока они и сами еще не знают, что будут так именоваться. Название им даст событие 14 декабря 1825 года. Только изнутри до того можно было судить о масштабах и общественном значении этого движения. Справедливо замечает Л. Г. Фризман: «…Место декабристов в русской литературе определилось лишь после 1825 года. Только после восстания стало возможным осмыслить их историческую роль, дать целостную характеристику декабризма как общественного движения»35. Это не мешало Пушкину воспринимать себя вольнолюбцем и вольнолюбцам сочувствовать. В первой главе имена Каверина и Чаадаева (а они члены «Союза благоденствия», что поэту не было известно) почти демонстративно избыточны, периферийны. Исторические детали дразнят воображение читателя – и далеко не всегда доступны рациональному толкованию. Их нет надобности раздувать, но и не брать в расчет опрометчиво. А как понять акцию в пользу крестьян, которую реализует Онегин в унаследованном имении? В. В. Набоков увидел здесь просто человеколюбие героя. Но Онегин рациональный человек и к эмоциональным порывам не склонен. К тому же он Адама Смита почитывал. Не каждый шаг вперед можно именовать революционным. Без этого некоторые из них не перестают быть прогрессивными.
Будем считаться с тем, что Пушкин в иерархии интересов своего приятеля на первое место ставит интимное: «в чем он истинный был гений», что более всего его «занимало» – «была наука страсти нежной».
Открытое время роману гарантирует исторический хронотоп. И параллельно с сюжетным временем, и даже с пересечением с ним включаются исторические детали – «гулял» на берегах Невы автор, развертывал свою пеструю панораму волшебный край столичного театра и т. д. С самого начала проявляется и исторический фон. Одно впечатление, если бы изображению героя сопутствовало суммарно-обобщенное (пусть даже и с отдельными индивидуальными штрихами) воспроизведение фона: кокетки записные, блаженные мужья (супруг лукавый, недоверчивый старик, рогоносец величавый), модные жены и модные чудаки, причудницы большого света и т. п. Другое впечатление, когда этот фон конкретизируется: брега Невы, Летний сад, Невский проспект (бульвар), Охта, Мильонная; Чаадаев и Каверин; Фонвизин, Княжнин и Шаховской; Озеров и Семенова; Истомина и Дидло; Державин, Дельвиг, Языков, Баратынский и Вяземский. Многочисленные исторические имена собственные задают определенный тон повествованию, благодаря которому становится конкретным, «историчным» и бытовой фон: белые ночи Петербурга, белокаменная Москва со стаями галок на крестах, пыльная Одесса, пейзажи всех времен года северных районов среднерусской полосы, Волга, Кавказ и Крым – все это изображено с полной определенностью и является компонентом еще только складывавшейся реалистической природы пушкинского романа.
Обрисовка исторического фона – это, может быть, самый важный канал связи виртуального с реальным. Установляются границы для воображения. Их диапазон широк, и все-таки выдвигается негласное условие не выходить (заметно выходить) из рамок жизнеподобия.
Только и тут надо стремиться к адекватности. Не в первый и не в последний раз увидели мы новаторский прием. Бывает, что он зарождается не в полном объеме своих возможностей. Остается место для его развития. Вот и здесь: исторические реалии вначале выполняют функции фона. Придет время, когда они войдут в повествование как предмет изображения. Стало быть, нужно различать активную и пассивную роль исторического фона.
Ждать такого рубежа в истории долго не пришлось: событием эпохального значения стало 14 декабря 1825 года. Тут уже оценка происходившего и происходящего разделилась на до и после. Благодаря ему высветлилась и еще одна дата: знаковая победа 1812 года, за которую уплачена немалая цена, с вопросом, что выпало на долю народу-победителю?
Еще одна особенность хронотопа «Евгения Онегина»: пути автора и героя дважды пересекаются, а в остальном автономны. Очень устойчива иллюзия: поэт и его герой, поскольку приятели, – современники и запечатлены они в одно время. В действительности ситуация намного сложнее. В пушкиноведении не отмечается (а это необходимо видеть!), что художественное время романа движется двумя потоками.
С одной стороны, это «расчисленная» хронология сюжетных событий, о чем объявлено в 17-м примечании к роману. Жизнью расчислена хронология биографии поэта. Эти две линии во многом автономны, но могут на время и объединяться. Так что автор предстает и прямым свидетелем, но большей частью эпическим повествователем, не информирующим читателей, откуда у него взялось знание не только о внешней, но и внутренней жизни героя.
А рядышком бежит поток большой исторической жизни. В романе он обозначен сразу, но по началу ему открыты двери как гостю. Очень скоро обнаружится, что такая скромная роль ему не по характеру, и он потребует прав хозяина. Его требований окажется невозможным не принять. Тут возникает очень серьезная проблема, которая мимоходом не решается. Пока разберемся с двумя творческими потоками.
Для связи вымышленного повествования с временем историческим необходимо хотя бы одно жесткое авторское указание. Таковое у поэта есть в предисловии к публикации первой главы: опорное событие ее (день Онегина) происходит в конце 1819 года. Герой здесь показан равнодушным, накануне полного разочарования; вслед за тем и прямо показано завершение его светской жизни.
Датировка сюжетных событий уже производна и устанавливается легко, что исследователи (Р. В. Иванов-Разумник, Н. Л. Бродский, С. М. Бонди, Ю. М. Лотман) с незначительными вариациями и проделали. Летом 1820 года Онегин поселяется в унаследованной от дяди деревне. Тогда же он знакомится с Ленским, посещает Лариных, получает письмо от Татьяны, происходит их свидание. В конце четвертой главы изображена затянувшаяся осень (а точнее сказать – межсезонье) того же 1820 года. Далее идут расчисленные в прямом смысле слова события: именины Татьяны – 12 января, картель бывшему другу 13 января, дуэль и гибель Ленского – 14 января 1821 года. Вскоре Онегин уезжает в Петербург, а «июля третьего числа» отправляется в трехлетнее путешествие по России, финал которого – посещение Пушкина в Одессе в 1824 году. Без Онегина летом 1821 года Татьяна посещает его усадьбу. В конце декабря 1821 или в начале января 1822 года Ларины уезжают в Москву, осенью 1822 или первой зимой 1823 года (т. е. в январе – феврале) Татьяна выходит замуж. Примерно в августе 1824 года происходит встреча Онегина с Татьяной-княгиней (как раз к этому времени Татьяна замужем «около двух лет»). Зиму 1824–1825 года Онегин проводит в изоляции у себя дома. Действие романа завершается свиданием Онегина с Татьяной, на которое герой едет еще в санях, но уже по талому снегу (это конец марта или начало апреля 1825 года). Сюжетное, или эпическое, или «онегинское» время стремится к сюжетной последовательности; основные сюжетные события приходятся на 1819–1825 годы, т. е. охватывают семь лет.
Переход к открытому времени произведения не означает полного отказа от использования приемов повествования, характерных для вещей с закрытым временем. Быту не обязательна проекция на календарь. Наряду с конкретными мерами времени у Пушкина мы встречаем весьма многочисленные расплывчатые, неопределенные обозначения, поскольку они не имеют привязки к объективной, общезначимой шкале; счет идет от соседних событий, относительный характер времени заостряется: «давно» (добавляется вопросительная частица – и проступает относительность индивидуальной оценки пласта прожитого – «давно ль»), «недавно»; прошедшим вечером – «вечор»; «сначала», «нынче» («ныне»), «теперь», «мне пора», «тотчас», «вскоре», «рано»; отмечаются события однократные: «однажды», «впервые»; редкие: «иногда», «порой»; устойчивые: «всегда» («завсегда»); повторяющиеся: «чаще», «столь же часто»; неизменные: «вседневно»; протяженные: «до сих пор»; в связке и порознь «бывало» – «после» – «теперь»; нечто неизбежное или ожидаемое: «наконец»; параллельное другому событию: «меж тем как»; бессрочное: «навсегда»; не измеряемое: «чтоб только время проводить»; не уточненное: «некогда», «в это время», «в ту же пору», «в те дни», «когда-нибудь», «проходит время» (реально – часы). На таком размытом фоне отчетливее становятся внятные (расчисленные!) отсылки: «на самом утре наших дней», «вот как убил он восемь лет», «Ужель мне скоро тридцать лет», «дожив… до двадцати шести годов», «спустя три года, вслед за мною».
А еще в романе есть и второй поток, ориентированный на календарь, условно говоря, авторское, или лирическое время: то время, в которое создавалось произведение, – 1823–1830 годы. Удивительное совпадение: в авторском времени тоже семь лет (сверх того четыре месяца и 17 дней, по пушкинскому подсчету; впрочем, доработка восьмой главы в 1831 году добавляет отсылок к современным событиям и удлиняет творческую историю романа).
В пушкинском романе с большой подвижностью и непринужденностью время пульсирует между двумя потоками: настоящим временем героев (для автора оно прошедшее) и настоящим временем автора. Два временных потока движутся поступательно, параллельно, с разной скоростью, попеременно убыстряясь и замедляясь. В «онегинском» времени наиболее замедлен насыщенный событиями 1820 год. В движении авторского времени есть своя последовательность: Пушкин оговорил свое пребывание в Петербурге, Кишиневе и Одессе, в деревне, возвращение в свет. Дистанция между сюжетным временем и временем работы над соответствующими эпизодами минимальна в 1823 году (три года), в 1826 году достигает шести лет, в конце работы сокращается до пяти. Всегда, естественно, авторское время опережает «онегинское». Возникает иллюзия полной осведомленности автора во всем, что происходит с героями.
Пушкин развертывает перед читателем даль свободного романа: от недавнего прошлого через свое настоящее к неясно различимому будущему. И мы забываем, что опыт автора опережает опыт героев, что с высоты привычной временной дистанции автор «знает» продолжение судеб героев. Мы верим той непосредственности, с которой поэт вводит нас в свою творческую лабораторию, увлекаемся подлинностью картин русской жизни, хотя автор не скрывает, что рассказывает придуманный литературный сюжет. Эмоциональное подкрепление за счет непосредственности поведения и переживаний героев, которые – по собственному восприятию – действуют не в прошлом, а в настоящем, также помогает забыть, что «онегинское» время «отстает» от авторского.
2
Хронотоп «Горя от ума» иной. Грибоедов мастерски уложил действие комедии в 24 часа. Водевильная интрига (дознание, кто на ком женится) здесь начисто отсутствует (тайное существует для персонажей комедии, но ничего тайного нет для зрителей). Задача автора – дать зрителю (читателю) возможность понять героя и его недругов. Конфликт завязывается и решается путем диалогов и монологов.
А тут возникают особые условия для хронотопа. Если реальное время движется строго равномерно и последовательно, то мысленно оно может двигаться в любом направлении, привлекаться выборочно. В результате здесь и сейчас сталкиваются век нынешний и век минувший.
Когда происходит действие «Горя от ума»? Ясно одно: показан герой современной автору жизни. Точную дату его появления в Москве, видимо, устанавливать необязательно.
Грибоедов закончил комедию летом 1823 года (а в конце весны еще только начат «Евгений Онегин»). Летом же 1824 года на пути из Москвы в Петербург поэту пришло обновление развязки, что и было выполнено с творческим удовлетворением. Во время многочисленных чтений автор позволял себе экспромтные замены (см. письмо Бегичеву в июне 1824 года), но они не сохранились и поэтому в творческую историю произведения не входят. Близкое знакомство Грибоедова с Рылеевым не вызвало желания вносить какие-либо поправки и уточнения. Хронология «Горя от ума» полностью принадлежит додекабрьскому времени.
Четко лишь обозначено, что действие комедии происходит в конце зимы, скажем, в феврале. (Спешащий увидеть любимую Чацкий «падал сколько раз». Это значит, что к концу снежного покрова на дорогах появились раскаты. В частушке пели: «Дайте сани с подрезами, / Что зимой каталисё». Подрезы – стальные полоски, вделанные, выступая ребром, в полозья саней; утопая даже в укатанном снеге дороги, они удерживали сани от сползания в раскат. Но подреза были редкостью. А спеша, не диво было ударяться в раскаты так, что из кибитки запросто можно было вылететь).
Грибоедов не знал о декабристах, когда писал комедию, соответственно было бы натяжкой искать здесь хотя бы намеки на это движение. Но действие комедии происходит в Москве; «грозы двенадцатого года» было не избежать. Поскольку вызревание 14 декабря в комедии не показано, в грибоедовской Москве тон задают не патриоты, героическое обытовляется и опошляется: «Пожар способствовал ей много к украшенью» (Скалозуб); «С тех пор дороги, тротуары, / Дома и всё на новый лад» (Фамусов). («Новый лад» оборачивался неукоснительной защитой старых нравов: «Не то, чтоб новизны вводили, – никогда…»). Фамусов умолял Чацкого при Скалозубе вести себя «скромненько». Чацкий не реагировал даже на личные против него выпады, но замены патриотизма пошлостью не стерпел:
Дома новы, но предрассудки стары.
Порадуйтесь, не истребят
Ни годы их, ни моды, ни пожары.
Очень непростое дело – определить возраст Чацкого. С одной стороны, в его жизнь много чего вместилось. С другой стороны, он «привязан» к возрасту Софьи, который указан определенно: на момент действия ей семнадцать лет. Чацкий не может быть много старше девушки, рядом с которой он рос с детства. Разница в возрасте не может быть чувствительной, иначе не получится единства интересов, в детстве меняющихся год от году. Допустим, Чацкий ради общения с нравившейся ему девочкой умел приноровиться к ее интересам, но и при этом разница в возрасте не могла быть чрезмерной.
В. И. Немирович-Данченко рассказал о разговоре с одним театралом-любителем. Тот поинтересовался возрастом героя, получил ответ: «Двадцать два, двадцать три» – и удивился; по его представлению, Чацкому лет тридцать. «Уж никак не меньше»36. Собеседники оценивали только зрелость героя, сопоставление с возрастом Софьи не делали; это явное упущение. И возраст двадцать три года – перебор. Можно ли представить задушевное общение двадцатилетнего мужчины с четырнадцатилетней девочкой? И десятилетнего мальчика, гармонирующего интересами с четырехлетним ребенком? Мальчику уже пора ученьем заниматься, а не детскими играми.
С. В. Яблоновский: «Чацкий не может быть, в качестве друга детства Софьи, старше ее более чем на пять лет»37. Значит, в момент новой встречи ему примерно двадцать два года, а расставание произошло в его девятнадцать лет. Нет, и эта дата (нижняя в раскладе Немировича-Данченко) не годится.
Условно и даже с натяжкой допустимо представить, что Чацкому на тот день, когда мы видим его в комедии, – двадцать лет (стало быть, он уезжал из Москвы семнадцати лет; и то получается, что самостоятельную жизнь он начал до совершеннолетия). Даже и здесь возрастная разница интересов в три года очень существенна для детства, но она еще могла преодолеваться по желанию старшего.
Из разных источников получая сведения, мы можем установить круг занятий Чацкого во время трехлетней отлучки из Москвы, но невозможно выстроить последовательность, равно как и продолжительность этих занятий. По содержанию эта отлучка – сплошная загадка. Она именуется путешествием, но не только из путешествий состоит. А если вычленить именно путешествия, столкнемся с неясностью: они российские (как потом у Онегина) или зарубежные? Сомнение снимает прямое признание: «Хотел объехать целый свет, / И не объехал сотой доли». Так что Чацкий и за рубеж съездил, но из трехлетия отлучки это путешествие не основное по времени и не особенно длительное.
И в отечестве своем у Чацкого нашлось много забот. Фамусов попрекает его: «Именьем, брат, не управляй оплошно…» Имение Чацкого не маленькое, там крепостных душ триста или даже четыреста. Упрек Фамусова позволяет предположить, что Чацкий уменьшил свои доходы, а, стало быть, облегчил положение крепостных. Сами нововведения не потребовали бы много времени (исполнение поручается приказчикам), но чтобы осмотреться и принять какие-то решения – надо пожить в усадьбе. Во всяком случае «умный, бодрый наш народ» Чацкий знает не понаслышке. Опять же он одобряет тех, «в деревне кто живет».
Два дела, пожалуй, можно соединить. Фамусов вынужден похвалить: «славно пишет, переводит», до Москвы доходит весть про связь Чацкого с министрами (потом разрыв). Возможно, тут идет речь о каком-то проекте, сочиненном Чацким, которым заинтересовался кто-то из министров; правда, успехом это мероприятие не увенчалось (надо полагать, не потому, что проект был плох).
Чацкий с Платоном Михайловичем Горичем вспоминают о воинском быте. С. А. Фомичев преуменьшает значение этого эпизода: «Ничто не мешает предположению о том, что встреча эта происходила в одном из военных лагерей под Петербургом. И вовсе не обязательно, конечно, считать, что Чацкий в это время состоял на военной службе: он мог посетить в лагере своих армейских товарищей»38. Кое-что мешает предположению, что герой в лагере был гостем; версия исследователя опровергается филиппикой Чацкого против «наших строгих ценителей и судей»:
Мундир! один мундир! он в прежнем их быту
Когда-то укрывал, расшитый и красивый,
Их слабодушие, рассудка нищету;
И нам за ними в путь счастливый!
И в женах, дочерях – к мундиру та же страсть!
Я сам к нему давно ль от нежности отрекся?!39
Теперь уж в это мне ребячество не впасть;
Но кто б тогда за всеми не повлекся?
Так что насыщенной оказалась отлучка Чацкого. Он остается молодым, но уже обретает способность мыслить самостоятельно. Итог М. А. Лифшиц формулирует неожиданным и убедительным образом: «…Чацкий уехал из Москвы “ума искать”, а вернулся с ясно выраженным желанием найти что-то доброе в том, что он оставил»40. Только находит ли он это доброе? Москва встречает его враждебно, и Чацкий заветное сжимает буквально в один образ, а и в нем вынужден разочароваться…
Жанровые решения
1
За «Горем от ума» закрепилось жанровое определение «комедия», быть по сему. Но сразу видно: эта комедия особенная. Так что для повседневного обихода определение годится, а для понимания нужен аналитический подход.
Новатор Грибоедов ничуть не высокомерен в отношении к опыту современников и предшественников. Обновление жанровой поэтики Грибоедовым, утверждает В. М. Маркович, не было радикальным: «многие традиционные черты высокой комедии (“три единства”, афористичность сценической речи, рудименты классических амплуа и т. п.) Грибоедов сохранил, включив их в новую художественную систему. Тем самым он “спутал” карты, создав такую комбинацию жанровых элементов, которая оказалась не вполне новой и вполне традиционной, а потому способной смутить как рутинеров, так и новаторов»41. Зато, не будучи последовательным в движении по избранному направлению, Грибоедов очень постарался в смешении разнородных начал: «…До Грибоедова не соединяли в единое целое лиризм и желчь, любовь и злость, сатиру и психологизм, комедию и трагедию, стих и прозу тоже так еще не соединяли…»42.
Попробуем рассмотреть экспозиционную сцену. Действие комедии начинается на рассвете, но уже позднем, потому что еще зимнем, того дня, когда Фамусов появляется в гостиной, привлеченный звуками флейты и фортепьяно. Эпизод весьма насыщен и динамичен.
Пожалуй, преобладает преувеличение грехопадения Фамусова в сцене с Лизой. Посмотрим, что реально в комедии. Лиза поймана за вызывающей удивление проказой с часами, за которую, она предчувствует (и трудно в том ошибиться), ей «будет гонка». А тут сам барин! (Цитируя диалоги, я буду, когда ясны говорящие, опускать принятое в драматических сочинениях обозначение имен персонажей).
– Нет, сударь, я… лишь невзначай…
– Вот то-то невзначай, за вами примечай;
Так, верно, с умыслом.
(Жмется к ней и заигрывает.)
Ой, зелье, баловница.
– Вы баловник, к лицу ль вам эти лица!
– Скромна, а ничего кромé
Проказ и ветру на уме.
– Пустите, ветреники сами,
Опомнитесь, вы старики…
– Почти.
– Ну, кто придет, куда мы с вами?
– Кому сюда прийти? / Ведь Софья спит?
Лиза не может сказать правду; ее положение труднейшее – попробуйте-ка придумать сколько-нибудь внятный повод явного озорства. Она произносит слова-отговорки («я… лишь невзначай…»). Ага: «невзначай» подставила стул, влезла на него, передвинула стрелки часов… Фамусов иронизирует над этим «невзначай», подсказывает более вероятную версию: «Так, верно, с умыслом». Каким умыслом – Фамусов не договаривает; он же на своей реплике демонстративно дублирует слова жестом: «жмется к ней» – и находит это приятным! Так прерывается детективная линия сюжета, которая привела Фамусова в гостиную, а возникает линия «амурная».
Нельзя придавать этой линии большого значения. Это Лиза перепугалась: «Минуй нас пуще всех печалей / И барский гнев, и барская любовь». Конечно, тут в принципиальном отношении антитеза обозначена крупно, но барская любовь Лизе не угрожает. «Умысел» Фамусова на слово «любовь» никак не тянет, ближе к истине тут было бы обозначение «прихоть». Сама ситуация заигрывания – вот тут уж точно – возникла «невзначай». На игру служанки с часами, неясную для хозяина, затеялась встречная игра! Лиза неуступчива, и это Фамусова забавляет. Укор: «вы старики» – не обижает, а смешит: Фамусов знает за собой, что он кое на что способен. Но в обмене репликами возникает имя Софьи – и всё: «амурная» линия в самом начале обрывается, исчерпывается.
Н. К. Пиксанов простому объяснению почему-то не доверяет и поведение Фамусова воспринимает неубедительным: «Странно, что Фамусов, в первый раз появляясь на сцене, так боится разбудить Софью… крадется вон из комнаты, услышав голос дочери. <…> Все-таки можно с натяжкой объяснить его торопливое удаление боязнью, как бы Софья не застала его с Лизой…»43.
Тут не натяжка, а полноценная разгадка. Перед дочерью Фамусову очень хочется выглядеть образцово-показательным. Он вскоре похвастается: «Монашеским известен поведеньем!..» Ко всему нет оснований полагать, что Фамусов каким-либо образом выделяет Лизу из многочисленной дворни (а и выделял бы – заводить интимные отношения именно с ней из-за ее близости к дочери поостерегся бы).
Так что приравнивать, что случается, «амурную» линию Фамусов – Лиза другим линиям (Софья – Молчалин, Чацкий – Софья) неправомерно; в этом проявляется азарт умножить водевильные прерогативы. Фактически эта сцена минутна (и случайна!); удовольствий хозяину она доставила крайне мало, но тотчас повлекла за собой чувствительные неприятности и серьезно искривила основную для начала комедии детективную линию.
Софья за дверью окликает Лизу. Фамусов «крадется вон из комнаты на цыпочках». При вторичном появлении в гостиной в дверях сталкивается с Молчалиным. Происходит второй этап расследования.
Все-таки плохой из Фамусова дознаватель. Не наблюдателен: его не смущает, что дочка предстает перед ним – из постели же! – не в утреннем уборе, а при полном параде (который и не снимала с вечера). (Когда Пушкин подчеркнет, что Татьяна, написав письмо, будет ждать не ответа, а раннего – чтобы другие визитеры не мешали – визита своего героя, она будет «с утра одета»; со стороны непривычное очень заметно; но там это, видимо, списано на «сельскую свободу» и вопросов не вызвало).
Фамусов пытается быть грозным, но конфузится «при воспоминании о несколько легкомысленном поведении своем с горничной дочери…»44. И Софья перехватывает инициативу! «Как давиче вы с Лизой были здесь, / Перепугал меня ваш голос чрезвычайно, / И бросилась сюда я со всех ног…» Даже фраза «вы с Лизой были здесь», нейтральная по содержанию, двусмысленности не предполагающая, неприятна Фамусову, приравнивается к намеку45. Он почувствовал перемену! «Пожалуй, на меня всю суматоху сложит. / Не в пору голос мой наделал им тревог!» «Почуяв, что гнев отца ослабевает», Софья, «вначале путаясь, а потом все более увлекаясь, рассказывает отцу свой знаменитый сон» (с. 134).
Остановимся, размыслим. Изображение плотное, густое! Интриги завязываются и тут же заменяются. А сколько неоформившихся, потенциальных! Иным суждено продолжение. Модно преувеличивать «флирт» с Лизой – это чтобы Фамусова уязвить циником, ханжой, хвастуном, блудодеем. А чуть позже осмелилась Лиза подать реплику, барин осекает в гневе: «Молчать!», «Все умудрились не по летам». И в финальной разборке Лиза не будет забыта:
Ты, быстроглазая, всё от твоих проказ;
Вот он, Кузнецкий мост, наряды и обновы;
Там научилась ты любовников сводить46,
Постой же, я тебя исправлю:
Изволь-ка в избу, марш, за птицами ходить…
А набор персонажей! Тут и героиня-невеста, у которой свои интересы, не совпадающие с намерениями отца, и комплект любовников, и служанка-субретка… Что-то напоминает, и будет надобность посмотреть и на сходство, и на различие. Только нельзя забывать главную установку автора: «портреты и только портреты входят в состав комедии и трагедии…»
Вот и тут. Пред нами предстал Фамусов сугубо домашний, Фамусов в халате. А мы вполне можем представить себе Фамусова-вельможу – и скоро будет дана возможность проверить свое предположение. Барина уже можно определить плохим начальником. Так неспроста: он не умеет решать проблемы, навыка такого нет. Скоро узнаем, чем занят на службе: воле начальников неукоснительно послушен, родственничков опекает да бумаги подписывает (бумаги к подписи «деловой» секретарь готовит, а тот умеет держать нос по ветру; о претензиях к его работе не сообщается).
Присмотришься к мотивировкам поступка (даже иной раз реплики) –складывается представление о характере персонажа. Так могут рождаться гипотезы, но гипотезы еще далеко не истина; это особенно заметно, когда гипотезы начинают спорить друг с другом.
2
Попробуем взглянуть на «Горе от ума» на фоне практиковавшихся в ту пору драматургических жанров. Этот аспект вызывал интерес исследователей. Понятно, что в полном объеме эти «смежные» жанры в структуру «Горя от ума» войти не могут, но какие-то свои элементы, даже иногда в контрастном эмоциональном наполнении, «дарят» грибоедовскому творению.
ВОДЕВИЛЬ? Сопоставление с популярным жанром той поры, которому заплатил дань в начале творческого пути и Грибоедов, напрашивается. Тут важно сохранять чувство меры; перестараться ничуть нетрудно. Пример: «Позиции водевиля в театральном представлении его времени сохранены и автором “Горя от ума”: пьеса начинается с водевильных эпизодов, содержит водевильную интермедию и в финале <?!> – водевильную сентенцию. <…> То, что было прежде эклектикой, претворено высоким художественным синтезом – водевильное начало подчинено конфликту и проблематике комедии»47. Тут закономерен вопрос: и что остается после этого подчинения водевильному началу? Но исследовательница упряма: «“Скромный обожатель” оказывается утром в комнате юной московской барышни – ее отец едва не застает во время свиданья романтическую пару – но и сам не чужд поползновений к молоденькой горничной – которая обеспечивает “конспирацию” влюбленных, помогая им провести отца – вдруг появляется третий лишний, “подозрительный ревнивец” – и по контрасту с ним “хвастливый офицер” с глупыми шутками – а “скромный любовник” начинает предпочитать служанку госпоже… Чем не интрига для водевиля средней руки?» (с. 161)48. Только и дела, что сюжетные ситуации «Горя от ума» здесь излагаются балагурным – под водевиль! – тоном. И как прикажете играть актерам – функционально или психологически?
Продуктивнее путь, который избрал Э. Безносов: он учитывает реальную судьбу «Горя от ума» в читательском восприятии. Если бы грибоедовское творение увидело сцену сразу же после создания, то тогда (и только тогда) «искушенные театралы, воспитанные на комедиях А. А. Шаховского, Н. И. Хмельницкого», быстро сбились бы на ожидание избитых сюжетных ходов – и были бы разочарованы в этих ожиданиях. Грибоедов взял самую ходовую ситуацию. Два претендента добиваются руки героини. Девушка благосклонна к одному, родители предпочитают другого. «Избранник самой девушки всегда являлся морально более достойным, а его соперник представлял собой образец пороков: заносчивости, самомнения, болтливости». «Далее все, казалось, зависит от умения драматурга вести эту интригу, виртуозно воздвигать на пути влюбленных препятствия, которые они не менее виртуозно будут преодолевать». «Поначалу Грибоедов, тонко играя на взаимодействии с традицией и до времени не включая механизма неподтверждения ожиданий, не разубеждает своего зрителя в справедливости его предположений»49. Но произойдет и разубеждение.
«С точки зрения традиционной комедийной интриги все эти злоключения главного героя должны были бы служить его развенчанию в глазах тех, от кого зависит судьба его возлюбленной. Внешне все именно так и происходит. Но в грибоедовской комедии парадоксальным образом сочувствие зрителя при этом достается именно отвергаемому. И сюжетное место, должное служить ниспровержением героя, становится его апофеозом в глазах зрителей. Публика уже поняла, что нерв комедии заключен… в борьбе общества с Чацким и подобными ему людьми…» (с. 5).
Какой вывод напрашивается? Водевильные ассоциации в «Горе от ума» носят отвлекающий характер. В комедию врывается жизнь. На ее фоне водевильные развязки выявляют упрощения, которыми не может руководствоваться не теряющий веселья, но и серьезный писатель.
КОМЕДИЯ? «Комедия» – вошедшее в обиход, привычное обозначение жанра «Горя от ума», хотя слишком очевидно, что «чистой» комедией пьеса не является, поскольку отягощена очень глубокими, отнюдь не шуточными переживаниями персонажей. Но вовсе отрицать комедийное составляющее тоже было бы не с руки. Трактовки накопились – на любой вкус.
Весьма распространено мнение, что «Горе от ума» потому комедия, что сфера комического здесь универсальна, такой подход проникает и в приемы изображения положительного героя. Да, проникает, но не в силу канона жанра тех времен, а в силу новаторства Грибоедова. Нет ни малейших оснований сомневаться в правомерности именования «Бригадира» и «Недоросля» комедиями. Но невозможно себе представить, чтобы, скажем, Добролюбов с Софьей или Стародум с Правдиным попадали в комические положения: их миссия совсем другая. Положительное (утверждаемое) и сатирически осмеиваемое здесь занимали каждое свою нишу. Соответствующие герои уже как будто рисовались разными перьями: одни – традиционно гусиными, другие как будто уже требовали перехода на металлические. Грибоедов «очеловечил» положительного героя – в основе своей героя комедии.
Убеждение А. А. Лебедева: «“Горе от ума” все пропитано стихией смеха – в самых разных его модификациях и применениях»50. Е. А. Маймин утверждает: «Без веселого, без смешного настоящая комедия не мыслима», – добавляя: «Чтение комедии без понимания собственно комического – это не только унылое и недостаточно углубленное чтение, но и заведомо неверное чтение»51. Исследователь выводит следствие: «Чацкий потому истинный герой комедии, что он оказывается у Грибоедова в комической ситуации» (с. 141). Следом эта мысль поясняется: «Появившись в гостиной Фамусова, с первых своих слов, Чацкий производит самое положительное впечатление. Он пылок, он остер, умен, красноречив, нетерпелив, полон жизни. Но он слишком пылок, слишком нетерпелив. И это слишком вызывает при взгляде на него, при знакомстве с ним – улыбку. Добрую улыбку. Но и чуть-чуть насмешливую. Это та улыбка, с какой умудренный жизнью человек смотрит на очень славного, очень чистого, но еще недостаточно искушенного юношу. Чацкий в “Горе от ума” и есть воплощение доброй юности: юной силы, юной честности, доверчивости, по-юному безграничной веры в себя и в свои силы», что «делает его вполне открытым и для трагического, и для ошибок комического свойства» (с. 142).
Так комическое начало проникает в характерологию. Чацкий, предполагая полное взаимопонимание с Софьей, поражен, что в его слова вкладывается смысл, которого в такой степени не было у говорящего! Читавшим и перечитывавшим «Горе от ума» ясно, что тема понимания / непонимания – сквозная для комедии; вот почему важно отметить ее начало. Вот подлинная завязка грибоедовского творения.
Чацкий еще не способен делать какие-либо обобщения, да сразу-то не получается и осмысление этой ситуации, но обескуражен: любимая его не понимает! А тут входит Фамусов; пользуясь случаем, уходит Софья. Фамусов вряд ли рад появлению Чацкого, но встречает его как родного – обнимает, говорит приветливое: «Здорово, друг, здорово, брат, здорово!» А Чацкий на вопросы отвечает рассеянно, под воздействием встречи с Софьей, которую понять не может.
Возникает своеобразнейшая репетиция опорных сцен «Горя от ума», когда партнеры вроде бы ведут диалог (якобы контактируют друг с другом), – а на деле не контакта ищут, а себя изъявляют. Репетицией сцену можно назвать потому, что тут зрителю ясно то, что говорится, и то, что недоговаривается, но это именно проба; ведущие диалог изначально плохо понимают друг друга, а дальше нас ждет ситуация острее, вплоть до прямого отказа слышать партнера.
Фамусову интересно знать, о чем успела Софья поговорить с Чацким, какие отношения завязались между ними при встрече. Объективно тут случай сказать, что прибывший как раз сегодня ночью девушке приснился, – основание для многообещающей завязки! Голос судьбы! Так возникает между Фамусовым и Чацким тема разговора, важная для одного и непонятная для другого.
Сказала что-то вскользь, а ты
Я чай, надеждами занесся, заколдован. –
Ах! нет, надеждами я мало избалован. –
«Сон в руку» мне она изволила шепнуть.
Вот ты задумал… –
Я? Ничуть! –
О ком ей снилось? что такое? –
Я не отгадчик снов. –
Не верь ей, все пустое.
Чацкому неизвестно, о каком сне Фамусов речь заводит. Он вообще «не в своей тарелке»: говорит – и невпопад – с отцом, а внутренне удручен неожиданной для него холодностью дочери.
Фамусов предлагает тему для общения:
Он всё свое. Да расскажи подробно,
Где был? Скитался столько лет!
Откудова теперь?
А у Чацкого все красноречие куда-то подевалось. Отговаривается необходимостью побывать дома и вернуться через час: «подробности малейшей не забуду…»
Только и отлучка ничуть не переменила состояние героя. Ни слова о своих путешествиях, никуда не свернет с вопросов все про Софью Павловну, чем вызовет прямое раздражение: «Тьфу, господи прости! Пять тысяч раз / Твердит одно и то же!» Фамусов улавливает подтекст: «Обрыскал свет; не хочешь ли жениться?» Встречным вопросом Чацкий удручает. Человек совершенно не чувствует партнера, он полностью погружен в свой мир, так что даже допускает прямую бестактность: «А вам на что?» Фамусов, надо заметить, реагирует на это остроумно:
Меня не худо бы спроситься,
Ведь я ей несколько сродни;
По крайней мере искони
Отцом недаром называли.
Реакция Чацкого на это по сути своей прямая и серьезная, но по форме безответственная. Он говорит о задушевном, а получается – проявляет праздное любопытство, на случай: «Пусть <?> я посватаюсь, вы что бы мне сказали?» Фамусов отвечает всерьез; если разобраться, он говорит ожидаемое, ничем не удивляя:
Сказал бы я, во-первых: не блажи,
Именьем, брат, не управляй оплошно,
А главное, поди-тка послужи.
Наконец-то Чацкий демонстрирует уровень афористического мышления: «Служить бы рад, прислуживаться тошно». Но эта фраза приравнивается к объявлению мировоззренческой войны.
Комическое проникает в построение сюжета. А. А. Лебедев полагает: «Это произведение Грибоедова потому отчасти, быть может, и явилось комедией, что поединок Чацкого с Молчалиным, сам акт их противостояния заключают в себе нечто горько-смешное. Этот поединок, это противостояние, это соперничество роняет, конечно, Чацкого. И Чацкий сам это чувствует. И потому-то так досадует, так злится, так попрекает самого же себя за слепоту, за неумение понять ситуацию. Но сложившаяся ситуация вместе с тем лишь подчеркивает ничтожность Молчалина. В результате Чацкий оказывается в положении героя, который способен вызвать чувство некоего сострадания или даже порой ироническое сочувствие»52.
Добавление к пониманию жанра грибоедовского творения дает наблюдение Т. Алпатовой: «Особенностью комедии стало именно своеобразное “испытание” истины, сопоставление различных точек зрения, различных мнений по тем или иным вопросам – в этом диалоге, в действительной борьбе взглядов ничего не предрешено заранее. Не случайно нередко мы ощущаем странную правоту самых, казалось бы, “неправых” героев, – а изображение Чацкого, словно слишком “живое”, недостаточно оторванное от развития интриги, прежде всего любовной, не дает ему сделаться лишь “рупором авторских идей”, героем-“резонером”, который не может быть смешон. В пьесе же над Чацким нередко смеются – может быть, именно потому, что вопросы, о которых спорит со своими противниками, – неразрешимы, в них – как это всегда бывает в разговорах о будущем России – еще нет и не может быть застывшей истины»53.
А. В. Луначарский видел своеобразную неизбежность обращения Грибоедова к комедийному жанру (Державин фиксировал: «истину царям с улыбкой говорил»): «Значит, нужно было… найти такую манеру, в которой можно было и царям и подцаренкам говорить правду. Давно известна для этого шутовская форма; в этой форме можно было кое-что протащить; поэтому, оставив за Чацким – своим прокурором – всю полноту серьезности… Грибоедов в остальном старался сделать веселую комедию»54. А получилась «драма о крушении ума человека в России, о ненужности ума в России, о скорби, которую испытывал представитель ума в России» (с. 325).
Отмечая в «Горе от ума» жанровый синтез, за комедией оставим одну из жанрообразующих основ.
ДРАМА, ТРАГЕДИЯ? Проблема новаторства не обходится без сопоставления того, что стало, и того, что было. Видим это и в анализах «Горя от ума». Только с частичным использованием комедийной канвы Грибоедов вышивает по ней совершенно непривычные узоры.
Сыщется толкование с отклонением и в другую сторону. Либеральный критик конца XIX века М. О. Меньшиков не находил в «Горе ума» никакого комедийного начала: «В самом деле, почему “Горе от ума” – комедия? Ведь суть ее – не какое-нибудь пошлое разочарование, не игра мелких страстишек, смешных как пародия на большие страсти. В основе пьесы лежит горе, непритворное жгучее горе, и души не мелкой, а героической. И темная сила, причиняющая эти мучения, – не призрак, а действительная и могучая стихия. Страдания такого порядка составляют драму, а не комедию…»55. И далее: «Что, спрашивается, забавного в этой изящной и строгой пьесе? Ни в самом Чацком, ни в том, что его расславили сумасшедшим, нет ни на йоту смешного. В отрицательных типах, как они ни ярки, комизма вложено не только не больше, но скорее меньше, чем встречается в самой жизни: все эти Фамусовы, Скалозубы, Репетиловы, Молчалины другим талантом (например, Гоголем) могли бы быть представлены несравненно смешнее, чем позволил себе Грибоедов. Цель последнего была вызвать в зрителе не смех, не низменную радость увидеть на сцене нечто ничтожнее нас самих, – а вызвать внимание к горю благородного сердца и сочувствие ему» (с. 265). В. П. Мещеряков полагает, что «Грибоедов употребил слово “комедия” исходя из дантовской традиции»56.
Какова жизнь, таково и его художественное воплощение, полагает Ю. Н. Борисов: «обнаруженный Грибоедовым конфликт перерастал традиционные рамки комедийного жанра. Высокие социально-нравственные идеалы человека новых убеждений не находили условий для своего осуществления в реальных общественно-политических обстоятельствах, не находили опоры в массовом сознании. Острое идеологическое столкновение разнородных систем взглядов, оценок, общественного и личного поведения в существовавших реально и художественно воплотившихся в “Горе от ума” исторических условиях выливалось в неразрешимый конфликт. Отсюда естественно возникала трагическая интонация и открытый финал комедии»57.
Сложное взаимодействие контрастных жанровых тенденций влияет на приемы изображения персонажей. «Трагический герой в комедийном контексте – таков эстетический парадокс Чацкого, персонажа, который противостоит сатирически изображенному фамусовско-молчалинскому обществу, но не изъят из комической стихии произведения. Однако комизм положений, в которые попадает Чацкий, имеет иную природу, нежели комизм сатирических персонажей. Разоблачающий и карающий смех не касается Чацкого, который может вызвать улыбку (принципиально иной оттенок смеха) отдельными чертами своего характера и поведения: не в меру горяч и говорлив, не верит собственным глазам и ушам, когда Софья признается в своей любви к Молчалину, не соизмеряет степень искренности и серьезности своих высказываний с уровнем и настроением собеседников.
Юмористическая трактовка некоторых черт характера Чацкого, думается, не снижает образа героя, а скорее усиливает его обаяние и человеческую привлекательность. Герой, не лишенный слабостей, подчеркивает художественную объективность Грибоедова, преодолевшего традицию идеализированного изображения положительного персонажа комедии, благодаря чему образ Чацкого обрел жизненность, столь отличающую грибоедовского героя от резонеров и “голубых” персонажей предшествующей “Горю от ума” комедиографии. Одновременно юмор как бы обозначает дистанцию между автором и героем, которая несомненно существует наряду с не менее очевидной лирической основой образа Чацкого» (с. 13–14).
А. Е. Горелов посчитал Грибоедова «родоначальником жанра трагической комедии»58.
А. И. Ревякин иронизирует над односторонними определениями жанра. Он декларирует: «…мы не можем признать “Горе от ума” комедией. В пьесе слишком громко звучат трагические и драматические мотивы»59. Образы Чацкого и Софьи, полагает исследователь, нарушают дозируемые в комедии «границы драматизма»: «Как можно считать пьесу комедией, когда в ней драматично положение утверждаемых лиц, противостоящих отрицаемым, осмеиваемым? Притом эти положительные лица являются основными, действующими в пьесе от начала и до конца. Их драмой и заканчивается пьеса». «Хороша комедия, завершающаяся драмой обоих положительных персонажей!» (с. 120), – восклицает исследователь. Следом под ту же схему мысли попадает другой материал: «Реакционный, барско-бюрократический фамусовский лагерь, воспроизведенный комическими средствами, занимает в пьесе не подчиненное, а самостоятельное место. Разве можно назвать “Горе от ума” драмой, когда подавляющее большинство действующих лиц пьесы изображается в комическом свете и от начала до конца раздается обличительно-сатирический смех?» (с. 121). Отводится и определение «трагедия», поскольку «трагическая ситуация не завершается трагическим исходом, Чацкий остается жить» (с. 121). Универсальное обозначение таки нашлось – трагикомедия, которая «представляет собою органическое единство равноправных в своем выражении начал: трагического (или драматического) и комического» (с. 121). Как славно! Объявить «органическое единство» – и сделать вид, что проблема решена, тогда как она только обозначена. Но драматическое слагаемое реально и должно быть учтено. Оно и не противопоказано жанру высокой комедии.
СЦЕНИЧЕСКАЯ ПОЭМА? А вот такое жанровое воздействие рассматривается впервые – с удивлением, что этого не делалось раньше, – поскольку отсылка именно к такому жанру в качестве первоначального замысла давалась самим автором, а И. Н. Медведева указывала и на ориентир Грибоедова – «Фауст» Гёте (у Гёте Грибоедов позаимствовал и такое определение жанра).
Понятно, что первоначальный замысел (особенно в отношении формы) изменен; только неужели не осталось никаких его следов? Задачу четко и внятно обнаружить их ставил А. А. Лебедев: «Странно… предположить, что в “Горе от ума” невозможно отыскать никаких следов “первоначального начертания этой сценической поэмы”, как она родилась в сознании Грибоедова»60. Действительно странно, что исследователь цель указал, а от решения реальной задачи уклонился. Попробуем обозначить, чем особенно сценическая поэма отличается от драматургических сочинений. Высокой автономией немногочисленных картин, связь между которыми относительна. Особенно заметны неувязки в хронотопе. Некоторые действия персонажа мотивированы частной ситуацией, но приводят к неувязке черт его характера.
«Горе от ума» завершено в годы обострившейся полемики между романтиками и классицистами (романтики первыми осознали себя как особое литературное направление; классицисты не знали, что они классицисты, они делали просто литературу, но фактически действительно создали первое литературное направление; название ему дали те, кто с ними полемизировал, часто с добавлением уничижительных приставок: «ложноклассицизм», «псевдоклассицизм»; приставки со временем отпали).
Активнее всего романтики нападали на правило единства места и времени в драматургии: пятиактное действие совершалось без смены декораций, ему полагалось уместиться в 24 часа. Пушкин в черновом наброске «О трагедии» написал: «…место и время слишком своенравны: от сего происходят какие неудобства, стеснение места действия. Заговоры, изъяснения любовные, государственные совещания, празднества – всё происходит в одной комнате! – Непомерная быстрота и стесненность происшествий, наперсники… а parte столь же несообразны с рассудком, принуждены были в двух местах и проч. И всё это ничего не значит».
Грибоедов – практик, а не теоретик, ему неприятны те, «в ком более вытверженного, приобретенного пόтом и сидением искусства угождать теоретикам, т. е. делать глупости…»; упрек Катенина «Дарования более, нежели искусства» он обращает в комплимент: «Я как живу, так и пишу свободно и свободно».
Хронотоп комедии не слишком привлекал внимание исследователей. Обычно довольствуются отсылкой текста: «Действие в Москве, в доме Фамусова». Здесь усматривается классицистская традиция единства места, с некоторой новацией: дом большой, сценическая площадка варьируется. Констатации обычно завершались уверениями в победе реализма61.
Между тем ремарка к первому действию содержит странность: «Гостиная, в ней большие часы, справа дверь в спальню Софьи…» Позже из разговоров будет ясно, что в доме имеются мужская и женская половины; в спальню Софьи не могла вести дверь из гостиной. Молчалину достанется раздраженный вопрос хозяина: «Зачем же здесь? и в этот час?» Но быть в гостиной живущему в этом доме не криминал. Так ведь возле спальни девушки…
Историк Е. Н. Цимбаева констатирует: «План любого дворянского дома средней руки был одинаков: парадная анфилада заканчивалась в торцах крайних комнат окнами или зеркалами, которые зрительно расширяли ее протяженность…»62. Исследовательница уверяет: именно это мы наблюдаем в грибоедовской комедии: «Три первых акта проходят в последней комнате парадной анфилады…» Далее следует опора на ремарку: «…от которой дверь ведет вправо в комнату Софьи». Но на той же странице исторического комментария в качестве нормы фиксируется иное: от последней комнаты анфилады «вглубь дома уходили личные комнаты и спальни хозяев, отделенные от анфилады узким коридором» (с. 21). Топонимика сцены отнюдь не повторяет типичной топонимики дома!
Отметим курьезный парадокс. С первого просмотра спектакля или с первого прочтения комедии наверняка не заметно то, что станет явным, когда в этом доме читателю-зрителю станет все привычным. Фамусов на вопрос к Молчалину, зачем он здесь и в этот час, получает ответ: «Я слышал голос ваш». А ведь он действительно слышал голос хозяина! Только из комнаты Софьи, а не при возврате с прогулки возле своего «чуланчика» за парадной лестницей: оттуда хозяйский голос (к тому же Фамусов приглушал его, чтобы не разбудить Софью) никак нельзя было бы расслышать.
О нестыковках нужно сказать потому, что они есть, но ничуть не с целью уязвить писателя за художественное несовершенство его пьесы. Грибоедов учитывает повышенную условность драматического сочинения: на сцене действие развертывается несколько иначе, нежели в жизни. Соответственно скорректируем исследовательский принцип: уловить авторскую логику важнее, чем сравнивать изображение с натуральностью фактографии. Жизнеподобие достигается и даже доминирует. А потребовалось художнику, чтобы действие шло возле дверей девичьей спальни, он устанавливает соседство спальной и гостиной, ничуть не подсказывая специалистам именно такое архитектурное решение при сооружении барских особняков. Художник, в отличие от одиозного персонажа комедии, смеет свое суждение иметь. Оно важнее фактографии.
О несогласованностях постановок обобщенно писал Н. К. Пиксанов: «если художественное создание прекрасно в основном, такие несообразности только оттеняют глубокую правдивость целого произведения. Художественная культура зрителя состоит в том, чтобы не шокироваться трепещущей от толчка декорацией, изображающей гранитную стену, входить в условности актерской игры, воспринимать известные данные не по грубой их реальности, а как условности, как символы. Однако та же художественная культура позволяет более чутко воспринимать и недостатки пьесы, что не вредит, а только интимнее делает понимание творчества. …несообразности не так существенны. Они не нарушают ни психологической правды, ни логической композиционной схемы»63.
Топонимических ремарок не имеют второй и третий акты – и, вероятно, со смыслом: действие продолжается на той же сценической площадке; это приводит к новым накладкам. По логике вещей действие второго акта должно было бы начинаться в кабинете Фамусова, где под рукой надлежит быть календарю (слуге дается распоряжение: «Достань-ка календарь…», а не «сбегай за календарем»; здесь он и достает календарь, скажем, из сумки). Но распоряжения «домашнему» секретарю хозяин переносит в гостиную (присматривая и за дверью в комнату Софьи?)64. Докладывается о прибытии Скалозуба. Полковник что-то мешкает (хотя ему должно быть указано, где хозяин). Фамусов спохватывается: «А! знать, ко мне пошел в другую половину». Отлучается и приводит Скалозуба сюда, хотя никакого желания знакомить с ним Чацкого у него нет. После, недовольный Чацким, объявляет: «Сергей Сергеич, я пойду / И буду ждать вас в кабинете» (где бы и должно было диктовать слуге деловые записи. Там же продолжит принимать Скалозуба, но после того, как представит его Чацкому – и публике, конечно, в первую очередь). Скалозуб только успел невпопад отреагировать на монолог Чацкого – вбежала Софья с криком «Упал, убился!» (выяснится – речь идет об упавшем с лошади Молчалине). Тут логично: сцена происходит у дверей в Софьину комнату, куда девушка недобежала. Огорченный холодностью к нему Софьи Чацкий в конце второго действия уходит, не прощаясь, чтобы вскоре (после антракта) возвратиться к тем же самым дверям.