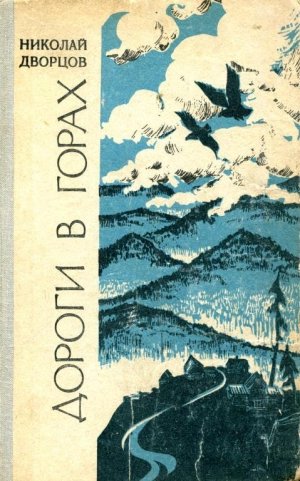
Часть первая
Глава первая
Время возникновения села Шебавина бесследно потерялось в прошлом. Даже самые древние жители его не могут сказать ничего определенного. Они лишь смутно припоминают рассказы, из которых можно понять, что когда их дедушки босоногими ребятишками лихо гарцевали на палочках, здесь уже стояли закопченные, похожие на стожки сена аилы и несколько рубленных из звонкой лиственницы изб. А кругом, как и теперь, были горы, одетые в хвойную шубу лесов. Как и теперь, металась стиснутая каменными берегами Катунь. Вот только тракта тогда не было. А сейчас он, плавно извиваясь, подходит вплотную к селу. День и ночь мчатся по нему два встречных потока автомашин.
Впрочем, поднимись дедушки нынешних дедушек от вечного сна, они удивились бы не только тракту и машинам. Многое изменилось с тех пор. Ровные ряды изб и домов встали на месте аилов. Хотя кое-где во дворах можно еще увидеть и аилы, но живут в них редко, только летом, и стоят они забытые, больше как дань прошлому. Да что там село! Сами люди стали не похожими на прежних. Смотришь на иного человека — лицо скуластое, глаза узкие, но голубые, говорит по-русски и по-алтайски.
Да, многому удивились бы дедушки нынешних дедушек.
…Сегодня Шебавино выглядит оживленней обычного. С самого утра, едва из-за гор показалось солнце, отовсюду неприметными таежными тропами потянулись всадники к двухэтажному зданию райкома и райисполкома. Коней привязывали к заборам, деревьям, воротам. Разных мастей и статей, они звенели удилами, били копытами.
Позднее, откуда-то прямо с гор, из чащи леса, вкатились в село неказистые, но юркие «газики», а за ними, плавно покачиваясь, важно проплыла центральной улицей совхозная «Победа».
Председатели сельских Советов и колхозов, секретари партийных организаций, заведующие фермами, лучшие доярки, телятницы, чабаны, скотники съезжались, чтобы решить на районном совещании неотложные вопросы зимовки скота.
Сегодня по горло выпало работы мастерам парикмахерской. Вот, сняв большую нагольную шубу и шапку, искусно составленную из лапок рыси, в кресло опустился известный сарлычник[1] Сенюш Белендин.
— Что прикажете? — спросил его парикмахер.
— Все делай. Голова стриги, борода брей.
Закутав Сенюша в белое, мастер принялся бойка лязгать ножницами. Старик, опираясь на подлокотники, сидел важно. Смежая веки, он порой улыбался, мысленно представляя, как придет домой. Ведь Келемчи, пожалуй, не узнает его. Скажет: кто это такой молодой? Неужели муж? Колька тоже удивится.
А мастер старался изо всех сил. Еще не закончив стрижку, он громко крикнул в маленькую комнатушку:
— Прибор!
Сбрив редкую бороду, парикмахер положил на коричневое морщинистое лицо Сенюша компресс, потом схватился за одеколон.
— Э, зачем так? — Сенюш предостерегающе поднял руку. — Я охотник… Зверь испугается, стороной пойдет. У него дорог много.
…Совещание началось во второй половине дня в районном Доме культуры. Председатель райисполкома Петр Фомич Грачев докладывал о положении в животноводстве. Высокий, с солидным, свисающим через ремень брюшком, он отрывался от разложенных на трибуне записей лишь для того, чтобы отхлебнуть из стакана воды да вытереть платком лицо.
— Наш район животноводческий, горный. Скот — наше основное богатство. О нем надо проявить максимум беспокойства. Наш долг — спасти скот, не допустить падежа. И не только это. Мы должны бороться за повышение продуктивности. Она в первой половине декабря упала на двадцать три и семь десятых процента и теперь составляет…
В зале, тускло освещенном несколькими горевшими не в полный накал лампочками, первое время было тихо. Потом ворохнулась одна белая нагольная шуба, другая. Кто-то громыхнул стулом, а кто-то гулко и надсадно закашлял. После этого опять установилась тишина. И вдруг в задних рядах поднялся человек. Пригибаясь, он прокрался к выходу. За ним последовал второй, а третий, осмелев, шел не пригибаясь.
Встревоженный докладчик покосился влево, где за красным столом сидели члены президиума. Председательствующий поднялся:
— Товарищи, прошу прекратить хождение. Решаем важный вопрос.
— Покурить надо, — донеслось из зала.
— Будет перерыв для этого.
Секретарь райкома Хвоев сердито постукивал портсигаром по красному сукну. «Ну как можно! Сушь… Ведь говорили на бюро. Неисправим… Вот и расходятся… Кому интересно такое слушать? Сыплет цифрами…»
Небольшое фойе постепенно заполнялось народом. Прикрыв за собой дверь, одни набивали трубки, другие крутили цигарки. Выдыхая струи сизого дыма, перебрасывались замечаниями:
— Надолго, видать, завел.
— Грачев коротко не умеет.
— Да, время идет, свечи горят, а молитва не подвигается.
После перерыва начались прения.
— Прошу, товарищи, — обратился председатель. — Кто смелый?
Зал молчал. Немного выждав, председатель постучал карандашом по графину с водой:
— Так что же, товарищи? Давайте не тянуть время. Вопрос важный. Кто желает?
— Разрешите? — послышалось вдруг в тишине.
— Пожалуйста… Слово имеет… — он в замешательстве наклонился к одному соседу, потом к другому и наконец объявил: — Слово имеет товарищ Гвоздин, наш новый председатель райпотребсоюза.
Зал следил за Гвоздиным. Когда он, невысокий, проворный, выбежал на сцену, по рядам прошел говор:
— Гвоздин? Верхнеобский?
— Он самый…
Тем временем Иван Александрович встал на трибуну. Опустив глаза, задумался.
— Откровенно говоря, доклад мне не понравился. Кажется, товарищ Грачев начал не с того конца. Ведь главное — не в скоте. Главное — в людях. С людей и надо было начинать…
В зале стих шепот, прекратились шорохи. Иван Александрович кинул быстрый взгляд на первые ряды, потом в сумеречную глубину…
— Сейчас создалась сложная обстановка. Сильные ветры забили долины снегом. Пасти скот нельзя, а запасов кормов мало. Единственный выход — подниматься выше. В горах снега меньше, а пастбища лучше. Все это понимают, но скот остается в долинах, худеет и гибнет. Почему такое происходит? Чтобы ответить на этот вопрос, надо изучить обстановку в каждом колхозе, понять каждого чабана, скотника, доярку. Например, в колхозе «Кызыл Черю» скот ушел на летние выпасы невзвешенным, и пастухи за нагул ни копейки не получили, остались, как говорят, на бобах. Теперь они в горы идти не хотят. Нет интереса. А мы доказываем им, что скот — наше главное богатство, что наш район животноводческий… — иронически протянул Иван Александрович. — Да разве они не понимают?
В зале засмеялись, а кто-то простуженным голосом крикнул:
— Правильно! Не дети малолетние!
— Мы привыкли много агитировать, — продолжал Гвоздин. — Это хорошо, конечно. Но агитация бывает сильной, когда она отвечает интересам народа. Об этом мы иногда забываем. Вот и теперь товарищ Грачев забыл.
— Правильно! Забыл!.. — послышалось опять из зала.
Закончив выступление, Иван Александрович, бледный и потный от волнения, поспешно прошел на свое место.
— О, теперь заговорят, — услышал он у себя за плечом, но не обернулся, а лишь поморщился от неприятного запаха перегара табака.
Выступающих оказалось много. Председатели колхозов, заведующие фермами, чабаны, пастухи, доярки — все рассказывали о неполадках, требовали вмешательства и помощи.
В перерыве, когда Иван Александрович курил в фойе, к нему подошел Хвоев. В темно-синем, уже изрядно потертом костюме, он боком осторожно протиснулся между людьми, кашлянул и потер ладонью блестевшую под электрическим светом голову.
— Хорошо выступили. Расшевелили людей. Да… Хорошо. Кстати, как вы устроились? С семьей как?
— Никак еще, Валерий Сергеевич. Живу в кабинете. Все решается вопрос с квартирой.
Хвоев опять потер голову.
— Жить без семьи — не дело. Вы зайдите завтра. Попробуем решить поскорее. Заходите с утра, а то уеду.
— Спасибо, зайду.
В фойе вошла стройная высокая женщина. Окунаясь в сизое облако колыхавшегося дыма, она поморщилась.
— Душегубку устроили. Разве можно так?.. Себя не бережете.
Женщина окинула взглядом толпу. Заметив Хвоева, подошла к нему.
— Вы тоже усиленно глотаете дым? — укоризненно покачала она головой. — Вот пожалуюсь Вареньке. Влетит вам… Петра Фомича не видели?
— Он, кажется, в зале, Татьяна Власьевна, — сказал Хвоев.
Она пошла в зал. Когда дверь захлопнулась, кто-то, отвечая, очевидно, на вопрос, бросил:
— Жена Грачева. Врач… Видная женщина.
Глава вторая
Кончились зимние каникулы.
Клава Арбаева, увидев вышедшую из переулка одноклассницу Нину Грачеву, окликнула ее. Та оглянулась, помахала желтым изящным портфелем и замедлила шаги, а потом вовсе остановилась.
— Доброе утро!
— Да не совсем доброе. — Нина, глубоко вздохнув, улыбнулась. — Ох, и лентяйкой я стала, Клава! Насилу поднялась.
— Что делала? — спросила Клава. — Я собиралась к тебе зайти, да пожар на ферме случился. Слыхала? Два дня там прожила. Избенку для доярок ставили.
— Папа говорил… Вашего председателя ругал.
— Это почему же?
— Очень мне нужно знать… Вот погода сегодня отвратительная. И все каникулы так было. Пошла как-то в кино, а там морозище! Вся передрогла.
У Клавы не проходила обида за Кузина. Ведь председатель ночи не спит, старается. А, Нинка все равно не поймет…
— Приехал новый председатель райпотребсоюза, — как бы между прочим сообщила Нина. — Его сын будет в нашем классе учиться. Кажется, Игорем звать. Я его вчера видела. Интересный. Одет шикарно.
Клава, занятая своими мыслями, ничего не ответила. Она даже не поняла как следует, о чем говорит Нина.
Они поднялись на крыльцо школы, Нина постучала о стенку ботами, сбивая с них снег, а Клава обмела пимы растрепанным веником-голиком.
— Что-то никого не видно. Неужели опоздали? — Нина без особого беспокойства смотрела на Клаву. — Чей первый урок? Гусака? Ни за что не пустит!
Нина хотела открыть дверь, но она не поддавалась. Клава, чтобы помочь ей, тоже взялась за ручку. Вдруг плотно сдавленный снежок ударился в косяк, осыпав лица девушек мокрыми крошками. Второй — угодил Нине в шею, а третий — Клаве в плечо. У Нины выпал портфель. А Клава растерялась лишь на секунду, ее черные глаза загорелись.
— Мальчишки! Они там, за сараем. Бежим!
Бросив портфель, Клава помчалась туда, захватывая на бегу пригоршню вязкого податливого снега. Навстречу девушке вылетел залп снежков, а потом из-за угла сарая выскочил смеющийся Колька Белендин.
— Испугались! Выходи, ребята!
Десятиклассники столпились у крыльца.
— Ва-а-рварство, — тянула Нина, расстегнув дошку и вытряхивая из-за ворота снег.
— Нет, вы все-таки испугались? — допытывался Колька Белендин, щуря от удовольствия узкие глаза.
— Может, вон Нина, а я ни капельки даже… Я, кажется, только раз в жизни испугалась. С медведем столкнулась…
…Прошлое лето Клава работала учетчицей молочной фермы в урочище Тюргун. Как-то она пошла за ягодой. Набрав полный туесок малины, возвращалась на ферму. Солнце стояло высоко, но в густом кедраче было сумеречно, тихо и поэтому жутковато. На опушке девушка нарвала цветов и, скользя по траве, побежала вниз, к реке. В это время из-за большого обомшелого камня неторопливо, вразвалочку вышел медведь. Клава остолбенела. Мелькнула мысль: надо бежать… Да разве убежишь от медведя? Медведь тоже остановился, фыркнул, и с его морды посыпались серебристые капли воды. «Пить приходил», — машинально подумала Клава и попятилась. Шаг, другой… Маленькие глазки зверя блеснули. Грозно рявкнув, он двинулся на девушку.
— Ой!
Туес и цветы выпали из рук Клавы. Не помня себя, она бросилась наутек. Спотыкалась, падала, расцарапала в кровь руки, ноги, порвала платье… А медведь и не подумал гнаться. Он съел ягоды и ушел.
Все это Клава теперь рассказывала одноклассникам, явно иронизируя над собой. Рассказ вызвал много смеха, и никто не заметил, как к крыльцу подошел новенький.
Все каникулы Игорь думал о своем первом появлении в школе. Думал и волновался. Ведь там, в Верхнеобске, он учился с первого класса. Там его все знали и он всех знал. А как тут? Ни одного знакомого лица. Сегодня, когда настало время идти в школу, это волнение возросло. Не привыкший подниматься рано, Игорь проснулся, когда не было еще семи часов.
И только сейчас, слушая рассказ Клавы, шутки и смех ее товарищей, он понял: волновался напрасно. Эти десятиклассники, должно быть, все очень простые и хорошие. Ему вдруг захотелось сразу завладеть вниманием веселой компании, сразу показать себя. Решительно подступая к крыльцу, он громко сказал:
— А вот бежать-то и не следовало бы.
Все с любопытством повернулись к высокому пареньку в темно-синем пальто.
— Летом медведи миролюбивые. Он бы сам ушел. Это точно, — Игорь чувствовал, что волнуется и говорит не очень убедительно.
Ребята переглянулись. Кто он, откуда?
— Новичок… Из Верхнеобска… — шепнула Нина, прихорашиваясь.
Мальчишкам захотелось осадить незнакомца. Подумаешь, смельчак нашелся! Особенно было затронуто самолюбие тех, кто вырос в тайге, уже не первый год добывал белку, глухаря, рябчика, знал, как старшие охотятся на медведя, и сам мечтал о единоборстве с этим сильным и опасным зверем.
— Э-э, — с ехидцей протянул Колька Белендин, — вот тут, около школы, совсем не страшно. А там, на ее месте?..
— Не побежал бы! Не считаю себя трусом. — Игорь решительно тряхнул головой.
Мальчишки засмеялись.
— А я побежала, — виновато сказала Клава. — Может, и не следовало бы, но знаете как страшно…
— Да и этот смазал бы пятки. Думаете, нет? — Колька обернулся к товарищам.
— Конечно…
— Хвастается, а медведя живого не видал.
— В зверинце-то, наверное, видал, за железной решеткой. Там его можно не бояться.
Игорь открыл рот, чтобы что-то сказать, но вдруг насупился, повернулся и пошел в школу.
— Нехорошо… Новичок ведь, — сказала Клава.
— Что? Да ты понимаешь — он заноза! — кипятился Колька. — В учительскую отправился. Храбрец нашелся…
…В класс, небольшую, уютную комнату, глядевшую окнами на Чуйский тракт, Игорь зашел после звонка вместе с преподавателем физики. Пока классный руководитель здоровался и спрашивал, как прошли каникулы, Игорь занял свободную парту и сидел, ни на кого не глядя.
— Примите в свою семью нового товарища. Игорь Гвоздин. Как говорят, прошу любить и жаловать.
В классе задвигались, стали переглядываться, кто-то хихикнул.
— В чем дело? — спросил преподаватель.
— Мы уже немного знакомы, — пригибаясь над партой, бросил Колька Белендин и, снизив голос, добавил: — Известный медвежатник…
Преподаватель, седой, с бугристыми морщинами на лбу, не расслышав последних слов Кольки, улыбнулся:
— Вот и хорошо, что познакомились.
Он достал из кармана маленький истертый блокнот, заглянул в него и, кашлянув, сказал:
— Начнем урок.
В перемену Игорь вышел в коридор и угрюмо прислонился к стене. Он ждал, что кто-нибудь из ребят заговорит с ним. Игорь охотно рассказал бы о себе.
В Верхнеобске он учился в такой школе! Четырехэтажная, каменная… Лучшей в городе считалась. А какие там преподаватели!.. И конечно, никто из здешних не был в музее, планетарии или на оперетте. Однако ребята не подошли ни в первую перемену, ни во вторую, ни в третью. Правда, Игорь несколько раз ловил на себе взгляд черноглазой девушки, которая гуляла с подругой по коридору. Подруга что-то говорила и кокетливо смеялась, а чернявая больше молчала. Это она испугалась медведя. Из-за нее все произошло. А чего, спрашивается, набросились? С медведем он в лесу не встречался, но если бы встретился, как та девушка, — не убежал бы. Игорь сам мог взять медведя на испуг…
После уроков десятиклассники опять собрались во дворе. Солнце к тому времени прожгло пелену облаков, и все ослепительно засверкало.
Школа стояла на крутом взгорке, подножье его охватывал полукругом тракт. Снег на тракте превратился в бурую кашицу, сквозь которую местами проглядывал асфальт. Сразу за дорогой толпились на поляне березы. Кажется, им хотелось забежать в село, но они страшились то и дело сновавших автомашин. И точно на помощь нежным красавицам, с гор спускались в белых халатах мощные сосны и кедры. А с горных вершин бесстрастно взирали на все могучие лиственницы.
— Братва, чем бы отметить сегодняшний день? Знаете что, двинем на лыжах в лес? — предложил Колька Белендин. — Ух, хорошо там! Я вчера ходил. Клава, пошли? Понимаешь…
— Нет, отставить лыжи до выходного. Лучше коллективно в кино.
Мнения разделились. Каждый, стараясь, чтобы его услышали, повышал голос. В это время мимо прошел Игорь. Все как-то невольно притихли, а Игорь вскинул голову и, покачивая широкими угловатыми плечами, начал спускаться по деревянным ступенькам со взгорья. Когда исчезла круглая каракулевая шапочка, Колька ядовито бросил:
— Герой! Медвежатник!
И опять зашумели:
— Лыжи!..
— Кино!..
Но девочки, оказывается, шумели по иной причине. Их весь день возмущало такое отношение к новичку.
— Нехорошо. Это все вы!.. — наступала на мальчишек Клава.
— Ва-ар-вары! — певуче протянула свое любимое слово Нина, опуская черные длинные ресницы.
— Да при чем тут, понимаешь, мы? Он первый начал хвастаться, — оправдывался Колька. — Несправедливые нападки. Так нельзя. Он хвастается, а мы виноваты.
— Ну и пусть… Ну и пусть первый… А что он такое сказал? Подумаешь, затронул ваше самолюбие. Может, он в самом деле не испугался бы. Откуда вы знаете? Вот завтра чтобы помирились.
— Ладно, — неохотно согласился Колька. — Так и быть, помиримся.
— Подумаешь, одолжение делают. Вы еще извиниться должны. Грубияны! — Клава, не попрощавшись, побежала к лестнице.
— Клава! — Колька Белендин двинулся вслед, но вскоре остановился, развел руками: — Вот, понимаешь, и сходили коллективно в кино.
Клава, нагнав Игоря, некоторое время шла за его спиной. Потом поравнялась с ним. Игорь шагал неторопливо, чуть покачиваясь, и делал вид, что не замечает Клавы, или в самом деле, занятый своими мыслями, не замечал ее. Тогда Клава, смущенно прикашлянув, спросила:
— Вы обиделись?
Игорь шире обычного взмахнул портфелем и не обернулся, а лишь слегка покосился на Клаву.
— А как вы думаете? Такая встреча…
— Да они хорошие, вот только с вами не так обошлись. А знаете, почему? Ведь ребята считают себя таежниками. Вот и досадно стало…
— Дикари, — пренебрежительно бросил Игорь.
Девушка будто споткнулась.
— Ну уж слишком!.. — Клаве хотелось сказать Игорю что-то резкое. Но таких слов не находилось. Они пришли на ум, когда Игорь уже скрылся. А Игорь, направляясь к дому, думал о Клаве. Зря он так поступил. Девушка, кажется, добрая. Поговорить хотела. Ведь догнала даже… Ну и денек сегодня! Сплошные неудачи. Я вот им покажу… Они, видно, тут слабаки. Получу пятерку-вторую, тогда узнают.
…На следующий день Игорь, зайдя в класс, вместо приветствия буркнул что-то себе под нос. Уселся за парту, вынул из портфеля книгу. В ней рассказывалось, как советский ученый восстанавливает по черепам облик когда-то живших людей.
Найдя страницу, на которой он накануне остановился, Игорь прочитал абзац, второй и ничего не понял. Написано, кажется, просто, а понять невозможно. Игорь прочитал снова, и наконец стало ясно, что он не может сосредоточиться. Игорь старается казаться безразличным, а на самом деле отношение ребят беспокоит его. Читая книгу, он напряженно прислушивается к происходящему вокруг. Вот зашли несколько человек, остановились, перешептываются. Игорь еще ниже склонился над книгой, но буквы прыгают, а строчки сливаются.
— Гвоздин, вы… ты комсомолец?
Игорь нехотя, как бы досадуя на то, что его отрывают от чтения, поднял голову. Опять этот узкоглазый. Он вчера первый начал придираться.
— Комсомолец… — «О чем еще спросит? Что вообще ему надо?»
— Хорошо… Я комсорг класса. — Колька замялся, оглянулся на товарищей. — А что читаешь?
Игорь молча показал обложку книги.
— «Из глубины веков»… Должно, интересная?
— Да… — Игорь намеревался опять уткнуться в книгу и показать, что разговор окончен. Пусть проваливают, не очень он в них нуждается. Однако вдруг спросил: — Андрей Боголюбский погиб в 1175 году?
— Правильно, — согласились ребята, — в 1175…
— Почти восемьсот лет прошло, — продолжал Игорь. — Портрета его не осталось. А вот ученый Герасимов создал точный скульптурный портрет по черепу. Потом изображение Боголюбского нашли в соборе. Смотрите. — Игорь торопливо залистал книгу. — В точности…
Ребята были удивлены. Игорь еще более ободрился. Его парту постепенно окружали заходившие в класс ученики.
Раздался звонок. Игорь недовольно поморщился.
— Ладно, — сказал он, — в перемену…
— Хорошо, хорошо, — согласился Колька Белендин и, садясь за парту, шепнул товарищу: — А я читал эту книгу.
— Да? А почему не сказал?
— Так… Ведь дали же девочкам слово… Надо помириться.
Игорь каждый раз возвращался из школы с твердым намерением заниматься. Пообедав, он, действительно, брался за книги. Но проходило полчаса, самое большое час, и желание опередить всех в учебе и этим самым доказать свое превосходство постепенно гасло. Игорь бесцельно слонялся по дому, выходил на крыльцо, а потом спускался к реке. Вот они горы, Катунь. И ничего нет в них хорошего. Возможно, летом все будет красивым…
Зато назавтра, в школе, Игорю стало не по себе, когда выяснилось, что многие знают пройденный материал не хуже, а лучше его. Правда, Игорю удавалось иногда получить пятерку по литературе, истории, географии, но и другие тоже их получали. «Зубрят, определенно зубрят. А я, можно сказать, совсем не готовлюсь», — думал Игорь, и эта мысль доставляла ему удовольствие.
Все чаще он стал ловить себя на том, что не слушает преподавателя, а смотрит на окно, у которого сидит Клава Арбаева. Он отворачивался, но, и не видя Клавы, продолжал думать о ней. А потом Игорю стало ясно: ему приятно думать о Клаве, а еще лучше смотреть на нее. Ведь Клава красивее всех! И добрая. Вот тогда в первый день занятий, она догнала его и хотела поговорить. Больше-то никто этого не сделал. А он заупрямился. Балда!..
Вскоре Игорь неожиданно открыл, что это из-за Клавы он за целых полчаса приходит в школу, из-за нее в перемены толкается по коридорам, стараясь попасть ей на глаза. Странно только одно: Игорь никогда не считал себя робким, никогда не лез в карман за словом. Там, в Верхнеобске, он мог просто вести себя с одноклассницами, а вот с Клавой так не может. Стараясь привлечь Клавино внимание, Игорь задевал Нину всякими шутками, колкими и остроумными, по его мнению. Однажды даже назвал Нину долбежной машиной. Клава вступилась за нее. Игорю следовало бы смолчать. Но он, как говорится, закусил удила и, недолго думая, бросил:
— А сама-то лучше, что ли? Тоже такая…
Ребята возмутились, а на глазах Клавы блеснули слезы. Колька Белендин тут же отозвал Игоря в темный угол коридора:
— Понимаешь, ты брось эти штуки. Хочешь, чтобы на комсомольском собрании проработали?
— Странно! Какие штуки? Говори конкретней. За что меня прорабатывать?
— Считаешь, не за что? Тогда я свои меры приму, индивидуальные! — Дрожа от негодования, Колька сунул кулак под нос Игорю. Тот невольно отодвинулся.
— Но-но, ты не очень… Комсорг тоже…
Случилось это во второй половине февраля, когда время шло к весне и солнце стало чаще наведываться в класс, делая его веселей и уютней. Прямые золотистые полосы рассекали от стены к стене комнату и незаметно передвигались по рядам парт. От ласкового тепла ребята довольно щурились и теряли всякую власть над своими мыслями. Хочешь или нет, а мысли уносились к реке, на поля, в лес или, вызывая тревожное биение сердец, в здания институтов… Ведь считанные месяцы остались до того дня, когда десятиклассники навсегда встанут из-за парт и разойдутся своими дорогами…
Да, волнующее, неповторимое наступало время, однако в классе оживления не чувствовалось. Игорь понимал, что всему причиной он.
Неизвестно, сколько бы продолжалась «холодная война» и чем бы она кончилась, если бы не Колька, которого особенно тяготила такая обстановка в классе. Однажды перед началом занятий Колька с таинственным видом подошел к Клаве и что-то горячо, вполголоса начал говорить. Игорь отвернулся. А когда вновь посмотрел на них, Клава улыбнулась и согласно закивала головой. Потом она крикнула:
— Ребята, сюда! Коля интересное предлагает.
Игорь, насупясь, пошел из класса, но в дверях оглянулся. Девочки, окружив Кольку, смеялись, а Нинка даже подскакивала и хлопала в ладоши:
— Вот здорово!
Когда окончился последний урок, Колька, поспешно поднявшись из-за парты, объявил:
— Не расходиться! Небольшое собрание.
Выйдя к учительскому столу, Колька предложил поставить одноактную пьесу и тут же выхватил из портфеля потрепанную книжку.
— В библиотеке нашел. Интересная… Давайте почитаем. К Восьмому марта мы ее, как пить дать, осилим. Пусть, понимаешь, помнят наш десятый!
Начались репетиции. Накануне Восьмого марта все разговоры вертелись вокруг спектакля. Обсуждали, как устроить из столов сцену, где взять занавес.
Зрителей собралось столько, что позавидовал бы иной профессиональный театр. Пришло много колхозной молодежи, да и родителям тоже хотелось посмотреть на «своих артистов». В первом ряду, на принесенных из учительской стульях, сидели Колькин отец Сенюш Белендин, мать Игоря Феоктиста Антоновна и мать Клавы Марфа Сидоровна.
…После спектакля начались танцы. Кольки не было видно. Игорь подошел к Клаве и пригласил ее на вальс. Кружась, он сказал:
— Прости, Клава… Я все понимаю… Обижаешься… Тогда случайно получилось. Очень трудно объяснить… В общем, наверное, я дурной. Разреши тебя проводить. Я все расскажу. Это очень сложно… Хорошо, Клава?
— Зачем остановился? Танцуй! На нас смотрят.
Больше Клава ничего не сказала. Вот и кончился танец. Выводя девушку из круга, Игорь не удержался:
— Провожу, Клава?
— Ладно, — сухо бросила она.
Игорь обрадовался, но оказалось, что преждевременно. Клава пошла домой с Ниной. Всю дорогу девушки перешептывались и громко смеялись, а Игорь злился. Злился на недогадливую Нинку, на свою робость и еще неизвестно на что.
— Вот я и дома, — сказала Клава, останавливаясь у калитки. — Игорь, проводи Нину, а то она боится. Спокойной ночи!
«Очень мне нужна такая нагрузка», — подумал Игорь, но все-таки пошел вслед за Ниной.
А Клава, закрыв калитку, некоторое время прислушивалась к скрипучему хрусту снега под ногами Игоря и Нины. «Зачем я его отослала? — подумала девушка. — И вообще, зачем я так?..»
Из-за белесого облака выглянула круглая большая луна. С вечера на жесткий наст выпал легкий, похожий на лебяжий пух, снежок. Теперь он заискрился, засверкал.
Мысли Клавы снова вернулись к Игорю. Какой-то он не как все. Особенный… Не похож на шебавинских мальчишек. Клава тихо засмеялась…
Глава третья
Варя Хвоева вычерчивала поперечный профиль реки. На зеленоватой бумаге-миллиметровке черная линия карандаша, круто изломившись, опускалась в воду. А на другом берегу линия опять круто поднималась.
Для всякого человека линия профиля была кривой, изображающей какую-то местность, и только. А Варе каждый пикет, каждая плюсовая точка говорили о многом. Профиль снимался поздней осенью. Солнце то пряталось за облаками, и тогда все вокруг покрывалось мрачными тенями, то опять выглядывало, холодно и будто насмешливо улыбаясь. Снизу по долине напористо и неудержимо летел ветер. Он гнул и трепал вершины стройных деревьев, бурунил зеленоватую воду, жег лица, делал непослушными руки. Варя и молодой рабочий выбивались из сил, но никак не могли зайти на лодке в створ, чтобы сделать промеры глубин. Варя кусала губы, сердилась на себя и рабочего. А седые струи неистово бились о лодку и гнали ее туда, где среди навала камней вода, казалось, по-настоящему кипела.
Зато как приятно было закончить работу. В затиши, под скалой, они развели костер и вскипятили чай. Налив себе в жестяную кружку, Варя долго грела о нее красные пальцы, потом осторожно отхлебнула. Для иззябшего и усталого человека что может быть приятнее горячего чая? Рядом, внизу, по-прежнему бушевала река, бросая из стороны в сторону зеленые валы, вскипая на камнях, которые сверху покрылись белой коркой льда. Покоренная река уже не страшила. Не страшило и то, что облака, сомкнувшись, осели на склоны гор и в воздухе вместе с жухлыми листьями замелькали редкие, но крупные снежинки.
А еще лучше вспоминать все это теперь, в теплой комнате, когда с улицы к окнам прильнула непроглядная темнота и ветер тонко посвистывает в ветвях тополей.
Сегодня днем, идя по улице, Варя впервые почувствовала запах талого снега. Крыши строений еще в белых шапках, еще не звенит капель и нет сосулек, но талым снегом определенно запахло. Значит, весна подступает.
Домой Варя вернулась возбужденная, с румяными щеками. Сняв пуховый платок и легкую шубку, она подхватила на руки дочку и закружилась с ней по комнате:
— Леночка, весной запахло! Весна!.. Тепло!..
Девочка, упираясь ручонками в грудь матери, принялась допытываться:
— Мама, а если весной запахло, значит, снега не будет?
— Скоро не будет.
— Ждите, — отозвалась из кухни свекровь. — Февраль-то отпустит, а март подберет.
— Как ни подбирай, а март — весенний месяц, — возразила Варя.
— Мама, снега не будет — я поеду на велосипедике?
— Поедешь, дочка.
— А ты в горы поедешь?
— Поеду.
— Будешь по камням лазить?
— Обязательно.
— Будешь лазить, пока не сверзнешься?
— Сверзнусь? Слово-то какое выкопала. — Варя расхохоталась, подбросила дочку. — От бабушки слышала или от папы?
— От бабушки, — девочка обхватила шею матери. А та с хохотом опять закружилась по комнате. Свекровь смотрела из кухни на сноху и внучку с лаской в глазах. Потом зашла в комнату, осторожно спросила:
— Ты и впрямь собираешься в горы?
— А как же, мама? — удивилась Варя. — Ведь изыскания под электростанцию не закончены.
Старуха тяжело вздохнула и ушла с обиженным видом в кухню.
За работой Варя не заметила, как стемнело. Бабушка накормила ужином внучку и уложила спать, легла сама. Согрелась около теплой стенки печки и сладко, с храпом, заснула.
В одиннадцать часов Варя забеспокоилась. Почему нет Валерия? Обещал к десяти приехать. Уж не случилось ли чего? Дорога опасная, ночь… Варя долго и настойчиво крутила ручку телефона, стараясь дозвониться до колхоза, в который поехал Валерий Сергеевич. Вот наконец в трубке послышался приглушенный сонный голос. Он ответил, что собрание давно закончилось и Хвоев уехал.
Работать Варя уже не могла. Она бродила ко комнатам, прислушивалась, заглядывала в темные окна. Поправив на спящей дочке одеяло, зашла в кухню. На плите остывал ужин.
…Варя прилегла на диван и незаметно задремала. Очнулась она от хлопка двери.
— Валерий! — Варя выглянула в полутемную переднюю и отшатнулась. Там, заслонив всю дверь, стоял человек в лохматой козьей дохе. Растирая ладонью лицо, он спросил:
— Не спите?
— Да кто это? А, Сенюш! — Варя включила в прихожей свет. — Что так поздно?
— Дело такое… Беда пригнала. Чма наша… Рысь, однако, сильно подрала.
— Рысь! Да как все случилось?
— Так и случилось. Рысь на овечку упала. Чма ее палкой. Вот и случилось. Она там, в санях…
— Так зачем ты ее сюда привез? Скорей в больницу!
— Да как сразу в больницу? Ночь… Примут ли? Вот и завернул…
— Конечно, примут. Вези скорей!
В спящем доме резко затрещал телефон. Петр Фомич, рассерженный тем, что сломан первый сон, пробирался в потемках к столу. Больно ударясь коленом о стул, он окончательно потерял самообладание.
— Да! Грачев слушает! — рявкнул Петр Фомич в трубку. — Кто? Ты, Тоня? В чем дело? Гм… Вот и действуй без оглядки. Надо не людей беспокоить, а инициативу проявлять. Да, да, побольше инициативы. Не студентка теперь…
Неизвестно, сколько бы продолжались эти сердитые поучения, если бы Татьяна Власьевна не выхватила у мужа трубку.
— Тоня, что случилось?
— Татьяна Власьевна, — слышался в трубке взволнованный голос, — чабана Чму Ачибееву привезли. Рысь разорвала ей щеку и руку. Большая потеря крови. Я так растерялась, не знаю, что делать. Слабая она. Я понимаю — нехорошо беспокоить. Извините…
— Это Петр Фомич спросонья. Не обращай внимания. Я сейчас приду. Готовь больную к операции.
Петр Фомич забрался под одеяло, а Татьяна Власьевна, включив свет, принялась торопливо одеваться.
— Черт знает, — проворчал Грачев, глядя в потолок, — редкая ночь спокойно пройдет. Надоело все…
— Как тебе не стыдно? — укорила мужа Татьяна Власьевна. — Для тебя сон дороже человеческой жизни!
— При чем тут человеческая жизнь? Я говорю, осточертела такая канитель. Не могу больше. Понимаешь? Все время фронтовая обстановка.
Когда она надела пальто, муж предложил:
— Проводить? Время позднее.
— Спи.
…Операция затянулась. Только в пятом часу Татьяна Власьевна пришла в свой кабинет. Во всем теле чувствовалась усталость, но было приятно оттого, что все хорошо кончилось, и человек будет жить. А пройди еще полчаса — пропала бы Чма… Не побоялась рыси. Настоящий героизм. Но, если сказать об этом Чме, она удивится: «Кто побежит, когда зверь овцу рвет?»
Тоня Ермешева осторожно открыла дверь и шепотом сообщила:
— Спит.
— Она и должна спать, сил набираться.
— Там дедушка Сенюш сидел. Я его проводила, сказала — все хорошо.
Тоня присела напротив Татьяны Власьевны. Смуглое лицо девушки было бледным, а черные, чуть раскосые глаза блестели. Тоня с восхищением глядела на Татьяну Власьевну, следила за каждым ее движением, ловила каждое слово.
— Я так переволновалась. Чму у смерти отобрали. Может быть, вы привыкли, а для меня это настоящий праздник.
— К такому, Тоня, не привыкнешь. Я тоже радуюсь.
— Я так и знала, что радуетесь. Татьяна Власьевна, хотите, кофе принесу из кухни? Там в термосе осталось.
Татьяна Власьевна устало кивнула.
Тоня только вышла в коридор, как раздался телефонный звонок. Татьяна Власьевна схватила трубку. «Петя… Неудобно стало. Совесть заговорила!» — подумала она, но ошиблась… Хвоев интересовался состоянием Чмы.
— Татьяна Власьевна, извините за беспокойство. Как она? Ведь лучший чабан в районе. Золотые руки. С палкой бросилась на рысь…
— Чма чувствует себя хорошо. Извините, я очень устала.
Татьяна Власьевна бросила трубку. Хвоев, Сенюш, Тоня — все беспокоятся за судьбу человека. Почему же Петр безразличен? Что с ним? Ведь раньше он не был таким. Вот тогда, в совхозе… Правда, это было почти двадцать лет назад. Она только что окончила медицинский техникум. Петр работал управляющим первого отделения. Его уважали рабочие и ценило руководство. Веселый, деловой… Таня сразу обратила на него внимание. Через пять месяцев состоялась свадьба. Татьяна Власьевна и сейчас помнит каждую минуту того дня. С самого утра разыгрался буран, а к вечеру уже трудно было перебраться из дома в дом. Но что значит буран для людей, которые справляют свадьбу?! Гости пили, кричали «горько», плясали. В самый разгар веселья в избу ввалился мужчина, с головы до ног засыпанный снегом. Как-то сама собой замолкла гармонь, а разошедшийся плясун еще топал «всухую».
— Кажись, не ко времени угодил, извиняйте… С женой у меня неладно. Разрешиться не может. Другие сутки мучается.
Татьяна Власьевна растерянно посмотрела на жениха. А тот решительно поднялся.
— Поехали. А вы, дорогие гости, гуляйте!
…Тоня принесла термос и два стакана. Подавая Татьяне Власьевне кофе, она сказала:
— Спит. Крепко спит.
А Татьяна Власьевна думала о своем. Бывает, люди расходятся. О них говорят, что не сошлись характерами. А ведь дело, пожалуй, не в этом. Дело в том, что у одного из двоих изменился характер, сердце обросло скорлупой, стало глухим.
Глава четвертая
В апреле весна двинулась в решительное наступление. Игоря удивило солнце. Оно было совсем иным, чем там, в Верхнеобске. Здесь пылало, кажется, не одно, а пять или даже десять солнц. «Неужели оттого, что Шебавино на каких-то пятьсот метров выше Верхнеобска?» — недоумевал Игорь, млея на крылечке от приятного тепла. В такие минуты пропадало желание не только готовить уроки, но даже не хотелось пальцами шевелить.
В два-три дня улицы покрылись кашицей из снега и воды. Попасть в школу можно было только стежками, которые ловко пробирались вдоль заборов, сворачивали на огороды и в переулки.
Ночью, точно таясь от людей, взбунтовалась Катунь. Вздохнула и поднялась, с треском и звоном разбрасывая толстенный лед. А утром, когда встали люди, река гнала, кружила, поднимала льдины, называемые в здешних местах крыгами.
А потом одевались деревья посверкивающей на солнце листвой, расцвечивались горы кострами огоньков, благоухала черемуха, покрывались распаханные поля изумрудными всходами, поднимались на лугах буйные травы… Но все это для Игоря проходило, как мимолетный сон. Последние месяцы в школе. Напряженная пора. Свободного времени — в обрез.
И вот закончились экзамены, наступил выпускной вечер. Игорь возлагал на него большие надежды. Ведь на вечере можно серьезно поговорить с Клавой, подумать вместе с ней о будущем. Хорошо бы в один институт…
Однако, как и зимой, никакого разговора не состоялось. Игорь не решался подойти к Клаве, потому что рядом все время крутился Колька. А когда закончился вечер, Клава ушла с подругами. Ночь была лунная. Игорь долго следил с крыльца школы за девушками. Вот они скрылись в переулке. Глупо, ужасно глупо все получилось! Ведь он был у дверей, когда Клава вышла. Игорь задохнулся от волнения и стоял, как пригвожденный, а надо было выскочить за ней и сказать: «Клава, на минуточку»… Она бы остановилась. А возможно, сказала бы, что некогда: подруги уйдут. Нет, нет… Он, Игорь, просто трус. А в этих делах надо быть решительным. Но как стать решительным? А что, если завтра зайти к ним домой? Мать по целым дням на ферме. Да если и дома беды нет. Мало ли зачем можно зайти к однокласснице?
А Клава, распрощавшись с подругами, села на лавочку. Мысль о том, что она теперь не ученица, показалась странной. После танцев слегка кружилась голова, было почему-то грустно и чего-то жаль…
Из-за палисадника вынырнула человеческая фигура, Клаве вдруг стало душно. Игорь? Он? А человек подходил все ближе и ближе. В пяти шагах от себя Клава узнала Кольку.
— Клава?
— Ты чего бродишь, полуночник?
— Помешал? Мысли всякие, вот и хожу.
— Да что ты? — изменила тон девушка. — Думаешь, как жить начинать? Задача с несколькими неизвестными…
Колька сел на лавочку.
— Нет, я уже все надумал. Пойду в МТС. А потом что нам думать. Восемнадцать лет, аттестат зрелости в руках. Отец вон рассказывает, они жизнь начинали в семь-восемь лет. А ты что решила? — Колька подвинулся к Клаве, заглянул ей в лицо. — В сельскохозяйственный?
— Не знаю еще. — Клава незаметно отодвинулась от Кольки и деланно зевнула. — Спать хочется. Что-то устала… Пойдем по домам.
— Клава, — жалобно сказал Колька, — понимаешь…
— До свидания, Коля. — Клава направилась к калитке.
Колька догнал девушку, схватил за руку.
— Знаешь!.. — выдохнул он, а больше ничего не сказал. Махнул рукой и, круто повернувшись, зашагал в противоположную сторону.
Утром Игорь проснулся с мыслью о Клаве. Обязательно надо ее увидеть. Игорь надел шоколадного цвета брюки, голубую тенниску и украдкой от матери сбрызнул себя дорогими духами.
Из дому Игорь вышел полный решимости, но уже на полпути шаг его начал непроизвольно укорачиваться. Казалось, каждый встречный, угадывая его намерения, ехидно улыбался. Вот показался небольшой рубленый домик Клавы. Игорь прошел мимо него быстро-быстро, чуть не бегом.
Остановился он в конце улицы. Поправил растрепавшийся чуб и тяжело вздохнул. Нет, не зайдет он к Клаве. Нечего и пытаться. А возвращаться старой дорогой нельзя: люди всякое могут подумать.
Игорь спустился в березничек, затем к реке. Здесь они и встретились. С ведрами в руках Клава так разбежалась сверху, что чуть не наскочила на Игоря. Они коротко взглянули друг на друга, потупились и долго молчали. Клава смущенно одернула узкое и очень короткое ситцевое платьице.
— Огород поливаешь? — спросил Игорь лишь для того, чтобы нарушить неловкое молчание.
— Поливаю. Дождя нет. А ты?..
— Я? Так… Вот к Кольке заходил.
— К Кольке? — переспросила Клава и засмеялась. — Разве он в березник переселился? Да и зачем ты к нему? Вы не особенно дружите.
— Просто так… Его дома не оказалось… Я потом в березник. Делать-то теперь нечего.
— Да… — согласилась Клава. Они опять долго молчали.
— Ну что же, надо идти, — сказала девушка.
Игорь встал на тропинку.
— Ты куда, Клава, думаешь поступать? В сельскохозяйственный, кажется?..
— В сельскохозяйственный.
— Я тоже решил, — сказал Игорь, хотя на самом деле ничего не решил. — Поедем вместе?
Игорь испугался своего предложения. Разве Клава согласится? Конечно, нет. Но девушка ответила просто:
— Ну что ж, поедем. Веселей будет.
Обрадованный Игорь осмелел:
— Клава, сегодня в клубе танцы. Приходи.
— Если время будет, приду.
Игорь не помнил, как оказался дома. Перемахнув одним прыжком три ступеньки крыльца, он закричал из коридора:
— Мама! Мам!..
— Что случилось? — Феоктиста Антоновна, положив вышивание, поднялась с дивана. — Что, сынок, случилось?
Игорь, запыхавшись, переступил порог.
— Мама, окончательно решил… Поступаю в сельскохозяйственный.
— Откуда ты явился такой? — Феоктиста Антоновна окинула его с головы до ног холодным взглядом. — Посмотрись в зеркало. Что за вид? И почему вдруг ты решил идти в сельскохозяйственный?
— Понимаешь, мама… Отец давно говорит… Все идут, я тоже решил…
— Кто это — все?
— Да все… Клава Арбаева и другие.
Феоктиста Антоновна понимающе кивнула.
— Отец прав, мама… Кинематографический институт — напрасная мечта. Туда не попадешь. Один на всю страну.
Игорь говорил быстро, взахлеб, стараясь как-то обосновать свое решение и замять нечаянно сорвавшееся с языка упоминание о Клаве.
— Ты одно, время хотел стать археологом.
— Раздумал, мама. Слишком далеко от наших дней. Зоотехником интересней. Честное слово…
— Сыночка, тебе очень нравится Клава?
Игорь глянул на мать и покраснел.
— Скажи откровенно, не стесняйся.
— Она хорошая, очень хорошая. А почему ты спрашиваешь?
Феоктиста Антоновна встала и подошла к сыну:
— Хотя бы потому, что она вовсе тебе не пара. Надо знать, с кем дружить! Вот тянешься за ней в институт…
Игорь выскочил из дому и долго ходил по улице. «И зачем я ей сказал?.. Надо было отцу… Он все время настаивает на сельскохозяйственном. Какая все-таки мать странная…»
Игорь спустился к реке, смутно надеясь опять встретить там Клаву.
Вот тропинка, на которой она стояла. Стояла, а теперь ее нет… До вечера еще далеко… Да и придет ли Клава на танцы? Может не прийти.
Игорь сел на камень.
Цепляясь за вершины гор, грузно наплывали темно-синие глыбы туч. Они закрывали солнце, и воды Катуни темнели, стали казаться тяжелыми и холодными. Из распадка вырвался и бешено промчался по вершинам кедров и елей ветер. Точно откликаясь на глухой шум и стон тайги, Катунь яростно забилась в своем тесном каменном ложе.
Еще зимой, с самого приезда в Шебавино, Игорь обратил внимание на огромную скалу. Она возвышалась посреди Катуни в том месте, где обрывистые берега близко подходили друг к другу, сжимая реку. Скала напоминала голову гигантского быка с круто выставленным лбом. Впоследствии Игорь узнал, что скала с давних времен именуется Бычьим лбом.
Весной, как только Катунь взломала лед, Игорь стал чаще выходить на берег. Вид скалы наводил его на раздумья. Невольно казалось, что гигантский бык вступил с рекой в единоборство. Гневно клокочет Катунь и тщетно бьется о несокрушимый каменный лоб. Прошли столетия, тысячелетия, а победить никто не может.
Сегодня этот поединок был особенно яростным. Река с налета билась о скалу так, что белые брызги достигали почти самой вершины, на которой испуганно дрожала одинокая тоненькая березка. «Как ты туда попала?» — Игорь, зябко вздрагивая, поднялся, чтобы уйти. Но в это время из-под причудливо нависшего над рекой бома выплыл маленький плотик, на котором маячили два человека. Какую-то секунду плот задержался, будто раздумывая, что ему делать, и, подхваченный стремнинным течением, помчался к Бычьему лбу.
«Что они делают? Разобьются!» — с ужасом думал Игорь, подступая вплотную к воде. Но плотовщики, казавшиеся издали маленькими, беспомощными, спокойно держались за рулевые весла. Возможно, они не замечали смертельной опасности. Игорь крикнул, замахал руками, — его голос потонул в бурном шуме реки. Тем временем плот влетел в водоворот, закачался на волнах, зарылся в белые гребешки. Те двое налегли на весла, стараясь изо всех сил не позволить реке развернуть плот боком и ударить о скалу. Плот, не слушаясь, плясал, прыгал…
Так прошло несколько томительных секунд, и вдруг плот сорвался с места, скрылся за скалой, а потом показался ниже ее.
— Вот как надо! — воскликнул Игорь. Ему стало легко и радостно. Было такое ощущение, будто и он находился там, на плоту, подвергался смертельной опасности, боролся с ней и победил.
Игорь взбежал наверх, обернувшись, посмотрел на хмурую недовольную реку и зашагал в село, насвистывая что-то бодрое.
В таком настроении он зашел в кабинет отца. Иван Александрович оторвался от бумаг.
— Ты что? — спросил он, сосредоточенно думая о чем-то своем. — Перепало от матери? Звонила она… Тоже, ни за что ни про что отчитала. — Иван Александрович рассмеялся, отодвинул папку с бумагами.
— Папа, по-моему, ничего смешного нет, — возмутился Игорь. — В чем я виноват? Ну, скажи, в чем? В том, что ей не нравится сельскохозяйственный? И почему она судит о людях с пренебрежением?
Игорь сел. Иван Александрович согнал с лица улыбку, в душе был очень доволен: наконец-то сын становится на его сторону.
— Правильно решил. Специалисты сельского хозяйства теперь в почете. А на мать не обращай внимания. Подавай заявление, а ей не говори. Придет вызов — шум окажется бесполезным.
— Зачем же так? Надо поговорить с ней, убедить.
Иван Александрович сморщился, как будто у него нестерпимо заболели зубы.
— Ты убедил ее сегодня? Не все можно взять в лоб.
Глава пятая
Районный магазин, или, как его все называют, раймаг, разместился в одном из самых больших зданий Шебавина. Белое, с толстыми кирпичными стенами, под железом, оно прочно встало на углу центральной Партизанской улицы и Лесного переулка. На фасаде — большая вывеска, а под ней — зеленая двустворчатая дверь. С утра до вечера толпится в магазине народ. В переулке останавливаются машины, подводы и всадники. Отсюда, красные и потные, покупатели выносят и вытаскивают свои приобретения: кровати, диваны, швейные машины, радиоприемники, велосипеды, мотоциклы и еще многое другое, чем обзаводятся теперь скотоводы.
Иван Александрович пришел в магазин, когда на дверях за стеклом висела дощечка: «Закрыто на обед». Гвоздин побарабанил пальцами в стекло, стукнул в филенку. Видя, что не открывают, он пошел в переулок к выходной двери. Там, держась за дверную ручку, толстая женщина загораживала дорогу:
— Закрыто на обед! Обед, говорят!
Но вдруг, увидя Гвоздина, она с неуклюжей услужливостью так отмахнула дверь, что чуть его не ударила. Иван Александрович смешался с покупателями. А когда последний из них вышел, сказал подбежавшему заведующему магазином:
— Не умеешь ты, Иванов, торговать.
— Как?! — удивился тот. — Сами знаете наш процент выполнения плана. Хвалили…
— Э, разве дело только в плане? — перебил Иван Александрович. — Культуры нет. Понимаешь, культуры торговли.
Иванов, склонив голову, молча ждал, когда начальство разъяснит, в чем именно отсутствует культура.
Гвоздин зашел за прилавок.
— Кто так располагает товар? Вот платье. Смотрите! Красивое, материал дорогой. Все измято, болтается на гвозде. Товар должен кричать, звать покупателя. А у вас настоящая свалка!
— Это правильно. Отгладим, — согласилась высокая с завитыми волосами девушка, которая, расстелив на прилавке газету, ела бутерброд, запивая его молоком.
Иван Александрович зашел в кабинет заведующего, по-хозяйски сел за стол, просмотрел разбросанные бумаги. Заведующий некоторое время растерянно топтался у двери, потом, настороженно косясь на Гвоздина, тоже присел.
— Не работаешь с коллективом.
Иванов привстал.
— Правильное замечание, Иван Александрович. Ничего не скажешь. Есть упущение. Постараемся в кратчайший срок исправить. Наведем культуру.
В руках Иванова неизвестно когда и как появился сверток. Осторожно, точно по льду, он приблизился к Гвоздину, положил сверток на стол.
— Утром ваша супруга была. Просила оставить отрез на костюм. Хороший материал. Давно такого не получали.
Иван Александрович, не глядя, ткнул в пепельницу папиросу, развернул бумагу. Взглянув на материал, он оттолкнул сверток.
— Где ручка? Приказ напишу об увольнении. Да, да, не удивляйтесь. Позволь еще раз… Старался бы, как лучше массового покупателя обслужить. А жены начальства без тебя обойдутся.
— Да я ведь что, Иван Александрович… — весь бледный, бормотал Иванов. — Только для вашей супруги исключение сделал. А так никому… Жена Валерия Сергеевича совсем у нас не бывает. Не интересуется, да и некогда, видать, Татьяна Власьевна заходит иногда. Все ковры ждет.
…Из магазина Иван Александрович пошел обедать. Он с удовольствием ел окрошку, когда в столовую вошла Феоктиста Антоновна с пачкой газет в руке.
— Почта! — обрадовался Гвоздин. — Давай-ка сюда.
— Ух, невозможно… Дышать нечем. — Разомлевшая Феоктиста Антоновна подала мужу вскрытый конверт: — Игорю…
Иван Александрович вынул из него бумажку в четверть листа.
— Ну вот, допустили к экзаменам… Где он?
— А ты думаешь, я знаю… На реке пропадает. С самого утра ушел.
Иван Александрович спокойно вложил в конверт извещение и принялся за окрошку. Хлебнув несколько раз, он сказал, не поднимая головы:
— Так говоришь, будто сама молодой не была. Вспомни-ка…
— При чем тут сама? — вспылила Феоктиста Антоновна. — Я не о том совсем… Пусть ходит, даже за этой Арбаевой ухаживает. Я смирилась… Но он ведь совсем не готовится. Сегодня книжки в руки не брал.
— Надо заставить. Я поговорю… А больше что?.. Не поеду я за него сдавать. Если бы даже хотел — не сдам, не смогу.
Эти сказанные в шутку слова вызвали на лице Феоктисты Антоновны выражение обиды и скорби. Отвернувшись, она сказала дрожащим голосом:
— Игорь тебе сын или кто? Неужели душа не болит? Я ночи не сплю. Что будет, если не сдаст?.. Куда мальчишке деваться? А ты можешь помочь, только не хочешь. Из упрямства не хочешь. И не говори мне!..
Иван Александрович не раз вспоминал одного знакомого в сельскохозяйственном институте. Только скажи — все устроит. Обязательно устроит, потому что чувствует себя в большом долгу… Но так думал Иван Александрович до этого, а сейчас бросил со злом на стол ложку, вскочил со стула.
— Даже поесть не даст. Куда меня толкаешь? Опять эти… — Иван Александрович замысловато покрутил пальцами перед лицом жены. — Не выйдет! Да, да! И в магазинах нечего делать. Ходит!..
Феоктиста Антоновна не успела ничего сказать — Иван Александрович сорвал с вешалки фуражку и вышел из дому.
В последние дни Игорь зачастил на Катунь. И каждый раз река встречала его по-разному. Она то сердилась, гнала от себя, то была ко всему безразличной, то ласковой. А сегодня Катунь смеялась. Смеялась молодо, приветливо. От берега до берега на широкой поверхности, залитой щедрым солнцем, — ни ряби, ни единой морщинки. Лишь на самой стремнине протянулась бугристая полоса, напоминая зимнюю дорогу.
Игорь и Колька Белендин сидели на высоком, плоском, как стол, камне. Будто в почетном карауле, замерли за их спиной молодые березки.
Колька задумчиво смотрел на реку.
— Счастливый ты, — сказал он, не глядя на сидящего рядом Игоря.
Игорь резко отличался от Кольки телосложением: более высокий, но тонкий, узкогрудый и немного нескладный, с длинными руками. От солнца тело Игоря не потемнело, не приняло красивого оттенка бронзы, а стало розовым. На груди, шее и спине между лопатками кожа шелушилась, отделяясь тонкой, похожей на папиросную бумагу, пленкой.
— Это почему же я счастливый? — спокойно, даже с оттенком безразличия спросил Игорь, точно разговор шел не о нем, а о ком-то постороннем.
— Сам удивляюсь… Везет, понимаешь, тебе… — Колька будто ненароком покосился вправо на кусты, за которыми купались Клава и Нина с подругами. Девушек не было видно. Лишь цветисто пестрели развешанные на кустах платья да слышались всплески и визг. Громче всех визжала, конечно, Нинка.
Колька бросил в воду гальку. Внизу колыхнулись березки, колыхнулся камень, на котором они сидели.
Колька звучно втянул в себя воздух и положил на колени голову. Вот уже второй месяц он живет у брата Андрея в МТС. Приказом директора его зачислили штурвальным на прицепной комбайн. Да, живет Колька там, готовится к уборке, а сердце здесь, в Шебавине. И как ни крепился Колька, как ни старался не обращать внимания на сердце — не выдержал: отпросился на два дня домой. Отпросился для того, чтобы еще раз увериться в отношении к нему Клавы. Это он организовал сегодня коллективное купание. Хотя лучше было не приезжать, не собираться на реке… Оказалось, все думы о Клаве напрасны. Она предпочитает Игоря. По всему видно. А почему Игорь? Сколько лет они вместе, а этот только приехал…
— Вот поедете в институт… — сказал Колька, поднимая голову.
— Нашел счастье, — удивился Игорь. — Кто же тебе не велит поступать в институт?
— «Не велит, не велит», — рассердился Колька. — Что ты понимаешь? Живешь, как у Христа за пазухой. У меня родители старые. Мать совсем плохая. Бросить, что ли?.. А потом я хочу стать хорошим специалистом… поработать надо. — Колька вдруг оживился, глаза заблестели. — Прикрепили меня к дяде Андросу. Ух, зверь! Учит, понимаешь, с одного взгляда все схватывать. Пятнадцать лет на комбайнах. Трактористом работал, шофером…
— Да… — Игорь не скрывал своего безразличия к рассказу.
А Кольке, очевидно, надоело сидеть на камне. Он встал, потянулся, похлопал себя по груди, по бедрам:
— Прыгнем?
Игорь вздернул плечами:
— Отсюда? Высоко. Под водой могут быть камни. Убьешься.
— «Убьешься…» — презрительно бросил Колька. — Мы отсюда тысячу раз прыгали.
Колька отступил, потом рванулся, мелькнул в воздухе и через секунду ловко ушел в воду. Вынырнул Колька метрах в пятнадцати. Оглянулся на Игоря и крупными саженками поплыл.
Игорь возвращался с реки под вечер, голодный, усталый. Около дома он вспомнил о матери. Рассердится. Весь день не готовился. И вчера почти то же. Нехорошо…
Мать поливала во дворе цветы. Игорь с виноватым видом подошел и взялся за лейку.
— Мама, дай я полью.
Но Феоктиста Антоновна отвела руку с лейкой.
— О чем ты думаешь?
— Я, мама… — пробормотал Игорь, а больше не нашелся, что сказать.
— Извещение из института прислали, а ты…
— Где? — Игорь бросился со всех ног в дом.
— На комоде! — крикнула вдогонку Феоктиста Антоновна.
Игорь читал извещение, когда пришел отец.
— Значит, во второй поток? — он удовлетворенно потер сухие маленькие ладони, подмигнул Игорю. — Вот видишь, вышло, как я говорил…
Ужин проходил в тягостном молчании. Мать напоминала черную грозовую тучу. Она так сердито размешивала чай, что стакан звенел на весь дом. Отец несколько раз бросал на нее умоляющие взгляды, морщился, но ничего не говорил. Игорь тоже молчал, зная, что причиной всему извещение.
После чая Иван Александрович сразу ушел в кабинет. Закурил, достал из стола плотную глянцевую бумагу и, затягиваясь дымом, надолго задумался. Потом написал: «Уважаемый Сергей Борисович!» Иван Александрович поскреб концом ручки висок с короткими серебристыми волосами и, взяв новый листок, написал:
«Дорогой Сергей Борисович!
Здесь, в глуши, часто вспоминаю знакомых и первым — Вас. Простите за откровенность, но люди Вашего склада бесконечно дороги мне. Чувствую себя глубоко удовлетворенным, когда вижу, что хоть немного похожу на Вас. Вот тогда, решая судьбу Вашей работы о Тихомирове, я пошел напролом, не посчитался ни с чем. Впрочем, зачем об этом теперь вспоминать… Кажется, становлюсь болтлив — верный признак старости.
Пишу Вам потому, что хочется мне залучить Вас к себе. Природа здесь бесподобная, и Вы прекрасно отдохнете. Приезжайте, дорогой, без всякого стеснения. Отведем душу в разговорах. Нам есть о чем поговорить.
Письмо Вам передаст мой сын Игорь. Он окончил десятилетку и живет мечтой о Вашем институте. Надеюсь, если у него возникнут трудности при поступлении, Вы поможете.
Заранее благодарен Вам, И. Гвоздин».
Иван Александрович, держа наготове ручку, прочитал письмо и недовольно поморщился: «Не то. Надо как-то тоньше».
С кандидатом сельскохозяйственных наук Сергеем Борисовичем Баталиным Гвоздин впервые столкнулся, когда работал инструктором.
Баталин принес рукопись, в ней подробно описывалась многолетняя работа опытника-мичуринца Тихомирова. Автор, о котором Иван Александрович был уже наслышан, оказался простодушным, увлекающимся. Он восторженно рассказывал о значении выведенного стариком-селекционером сорта эспарцета.
— Правда, не все со мной согласны. Скептически относится к Тихомирову наш уважаемый Петр Васильевич Долинский.
При упоминании имени известного профессора Иван Александрович насторожился, вскинул на Баталина глаза.
— Вот в брошюре-то я как раз и доказываю, что Петр Васильевич не прав.
— На авторитет, так сказать, покушаетесь? — не то с одобрением, не то с недоверием заметил Иван Александрович.
— Всякому человеку свойственно ошибаться.
Иван Александрович, ничего не сказав, уткнул нос в рукопись, начал ее быстро листать.
— Хорошо, я прочитаю.
Рукопись понравилась Ивану Александровичу, но профессор Долинский дал о ней резко отрицательный отзыв. Второй ученый ходил вокруг да около.
Гвоздин, ничего не говоря автору, отправил рукопись в сельскохозяйственную академию имени Тимирязева. Ответ оказался неожиданным. Ученый с мировым именем высоко оценил брошюру, рекомендовал опубликовать ее. Озабоченно потирая лоб, Иван Александрович долго ходил по кабинету, затем позвонил в сельскохозяйственный институт.
Не более как через полчаса Баталин сидел перед Иваном Александровичем. В его глазах чувствовалось настороженное ожидание. Гвоздин достал из стола рукопись и местные рецензии.
— Сергей Борисович, от души хотел порадовать вас, но нечем. Честное слово, такая, понимаете, досада… Вот что пишет о вашей брошюре Долинский…
— Мнение Петра Васильевича мне известно. Я говорил вам…
— Да, но нельзя, Сергей Борисович, обойти такой авторитет. Вот рецензия вашего коллеги Хмелева. Тоже неутешительная, вернее — неопределенная.
Быстро прочитав рецензии, Баталин раздраженно бросил их на стол.
— Не согласен! Нет, нет! Чепуха… — Он застегивал дрожащими пальцами пиджак. — Отвергаете? Я пойду…
— Сергей Борисович, не надо горячиться. И выше ходить нет смысла. Я уже звонил в издательство. Сказал… Они подпишут с вами договор.
Баталин некоторое время молчал, потом шагнул к столу.
— Спасибо, Иван Александрович, — он крепко сжал узкую ладонь инструктора. — Не забуду.
…Этой весной, во время командировки в Верхнеобск, Иван Александрович встретил Баталина на Первомайском проспекте. Ученый издали заулыбался, протянул руку:
— Иван Александрович! Куда вы, дорогой, запропастились?
Гвоздин, стараясь показать, что очень обрадован встрече, долго жал и тряс ладонь Баталина и даже слегка хлопнул его по плечу.
— Я, Сергей Борисович, перебазировался в горы. В Шебавине живу.
— В Шебавине? Что так? Занесло куда…
— Со здоровьем неважно. А потом, откровенно говоря, Сергей Борисович, трудно с моим характером иногда бывает. Не всем нравится прямота.
— Да, да… Есть еще Беликовы. Как бы чего не вышло… А я вот, Иван Александрович, позиций не сдаю. Все воюю.
— В ваши годы и я не сдавал позиций, а теперь… — Иван Александрович страдальчески сморщился, — печень пошаливает. Чуть что — и разыгрывается.
— Это плохо. Со здоровьем надо считаться.
Они проговорили около получаса. Прощаясь, Баталин дал Ивану Александровичу свой адрес и телефон.
Глава шестая
Сборы Игоря нарушили спокойную жизнь дома. Целую неделю домработница Нюра и Феоктиста Антоновна покупали, стряпали, стирали, гладили, штопали.
Накануне отъезда Игоря Нюра принесла в комнату большой желтый чемодан.
— Вот сюда, к дивану… — показала рукой Феоктиста Антоновна. — Игорек, придется тебе еще один чемодан взять, тот, с которым отец в командировки ездит. Он приличный.
Игорь запротестовал. Он вообще не переносил возню с вещами в дороге, а на этот раз большой багаж мог просто скомпрометировать его в глазах девушки. «Как спекулянт какой! Таскаться с двумя огромными чемоданами, стеречь их. Очень нужно!» Но что сказать матери? Раньше, совсем недавно, Игорь говорил то, что думал. Но постепенно, чтобы избежать лишних неприятностей, он, сам того не замечая, стал хитрить.
— Мама, а зачем мне забирать все теперь? Потом пришлете. Ведь часто ездят.
— А почему не взять? Шофер поможет сесть в вагон, а в Верхнеобске возьмешь такси.
— Я поеду автобусом. Отец говорил, что машина неисправна, — неожиданно для себя солгал Игорь, беспокойно думая о том, что как-то надо успеть предупредить отца, иначе попадешь впросак. А Клава в легковой машине не поедет, постесняется. Он уже делал намек — Клава удивилась: «Что ты, Игорь? Нет, нет, я только автобусом, а ты как хочешь. Можешь на легковой. Твое дело…» Игорю и теперь стыдно, что он затеял этот разговор.
— Отцов чемодан ты возьмешь! Нюра, он в кладовой, за дверью. Только протри его! — приказала Феоктиста Антоновна и, проводив девушку строгим взглядом, добавила: — Деревенщина, ничего не соображает.
— Мама, ведь в один можно все уложить. Книги я оставлю. Они не нужны, просто хотел почитать, — Игорь схватил со стола высокую стопку книг. — А зачем мне столько белья? Двух пар хватит. И продуктов гора. Не на Северный полюс еду.
— Собираетесь? — Иван Александрович переступил порог комнаты.
Феоктиста Антоновна подняла склоненную над раскрытым чемоданом голову:
— С какой стати ты идешь сюда в грязных ботинках?.. Что там у тебя стряслось с машиной?
Иван Александрович глянул на ноги и, не проходя дальше, бросил на стол папку с бумагами.
Игорь повернулся к этажерке, всячески проклиная себя за ложь. И дернуло его!
— Вечно с этой машиной истории. Как нарочно все получается.
— У тебя, Фека, просто страсть к обобщениям. Всегда машина была исправной, а сегодня перетяжку подшипников начали делать.
Игорь удивленно поднял голову, посмотрел на отца. Какой он догадливый, все понимает.
— Но ведь можно обратиться в райисполком, райком. Не откажут. Сам говоришь — Хвоев уважает тебя.
— А зачем обращаться? — сказал Игорь. — Я поеду автобусом.
— Ну и пусть едет, — поддержал его Иван Александрович. — Автобус ходит регулярно, а я буду просить в райкоме машину. Барством сочтут. Злоупотреблять хорошим отношением Валерия Сергеевича нельзя.
Феоктиста Антоновна, нахмурясь, молчала. Иван Александрович торжествовал.
Вскоре он в пижаме и домашних туфлях уже сидел на диване и давал советы, как лучше уложить, что обязательно следует взять, а что можно пока оставить. Отец согласился с Игорем — одного чемодана вполне достаточно. Вскоре он, Иван Александрович, поедет в Верхнеобск на совещание и привезет все, что нужно на зиму.
Говорил Иван Александрович осторожно, даже вкрадчиво, но в голосе, в осанке, во всех жестах и движениях отца Игорь угадывал еще не растаявшее чувство торжества. Игорю доставляло удовольствие украдкой от матери переговариваться с ним взглядами. «Видишь, как ловко я тебя выручил, — говорил взгляд отца. — Иначе ты пропал бы». «Конечно, нехорошо бы получилось», — благодарно соглашался Игорь, устанавливая обратно на этажерку книги, которые он раньше думал взять с собой.
Иван Александрович поднялся с дивана и, искоса поглядывая на сына, прошелся по комнате раз, второй. Чувствовалось — ему нужно что-то сказать Игорю, но он еще не знает, с чего и как начать разговор.
— Хочу поговорить с тобой, как со взрослым. Ведь ты аттестат получил, да и вообще большой уже. — Остановившись против сына, Иван Александрович солидно прикашлянул, расправил плечи. Но плечи у него были узкие, обвислые, а сам он тщедушный, маленький, значительно меньше сына… — Вот собираем тебя. Сколько хлопот, расходы немалые, а ты уверен, что сдашь?
— Почему же нет?
— Наплыв большой.
— В сельскохозяйственный-то?.. Не может быть!
— И в сельскохозяйственный наплыв. Ты что, ничего не видишь? Все учатся. И все стремятся в институты. Разве хватит мест?
Игорь на секунду задумался, потом решительно тряхнул головой.
— Ну что же, буду сдавать, — сказал он с присущей молодости беспечностью. — Ведь я готовился.
— А другие, думаешь, не готовились? Еще больше твоего.
— Не пойму, что ты от меня хочешь? Гарантий, что ли, каких? — спросил Игорь, раздражаясь.
— Хочу, чтобы ты понял, что поступить в институт не просто. А если не сдашь, тогда что? В МТС пойдешь?
Игорь молчал. О работе в МТС он никогда не думал, да и думать не собирался. Какая необходимость? Вон Колька пошел, и ладно. А ему в МТС нечего делать. Отец просто умышленно сгущает краски. Но зачем?
Отец пошел в свою комнату. Игорь слышал, как он выдвинул ящик стола, как, закуривая, чиркнул спичкой. И вот он появился в дверях с зеленым конвертом в руке.
— Передашь Сергею Борисовичу Баталину. Он кафедрой в институте заведует. Как приедешь, сразу передай, не забудь смотри! Поможет.
Игорь взял конверт с неохотой, прочитал адрес, подумал, затем неторопливо подошел к столу и так же неторопливо положил конверт.
— Не возьму!..
На большее у Игоря спокойствия не хватило. Он начал говорить взахлеб, беспорядочно жестикулируя:
— Зачем эти привилегии? Я хочу, как все… Нечестно так. Понимаешь, папа… С какими глазами я пойду к Баталину? Нет!
Иван Александрович, хотя и ожидал сопротивления, но не такого отчаянного, и поэтому в первое мгновение растерялся. Его беспомощный взгляд остановился на жене, которая, сидя на диване, делала вид, что занимается укладкой багажа, а на самом деле внимательно следила за разговором.
— Мать, ты слышишь?
— Он превратился в невозможного грубияна. Родителей считает за каких-то врагов. Убежден, что мы хотим ему плохого. Я понимаю, откуда это идет: от хороших знакомств.
— При чем тут знакомства?
— Тише! — Иван Александрович покосился на открытую в кухню дверь.
Феоктиста Антоновна поднялась и сердито ее захлопнула.
— Посмотри, как он разговаривает с родной матерью!
— Ладно, давайте все обсудим спокойно, — предложил Иван Александрович, закуривая новую папиросу. — Я уже говорил тебе, Игорь: не все можно взять в лоб. Надо уметь заходить и с фланга и с тыла. Иначе пропадешь, как щенок в зимнюю стужу.
— Отец, не то говоришь! И сам знаешь, что не то. Ведь знаешь!..
— Вот и возьми его! — Иван Александрович окончательно растерялся.
— Игорь, как тебе не стыдно! — укоряюще сказала Феоктиста Антоновна. — Другой бы на твоем месте благодарил отца.
Игорь, потупясь, молчал.
Глава седьмая
Девочка с белыми пушистыми волосами и большим голубым бантом на макушке вскарабкалась на стол, потянулась к настенному календарю.
— Бабушка! Бабушка! Красный день! Посмотри!
— Ну что раскричалась? — отозвалась из кухни старуха.
— Иди сюда! Скорей, бабушка!
Бабушка, держа в руках сито, вошла в комнату.
— Слезь, Леночка, со стола. Слезь, дорогая. Там у папы бумаги…
— Красный день, бабушка! Вот он! Скоро мама приедет!
— Знаю, приедет наша блудящая.
— Мама не блудящая! — девочка сердито топнула ногой, а вслед за этим хитро заулыбалась. — Я поеду с мамой встречаться. Вот… Папа возьмет.
— Знамо, возьмет. Только со стола слезь. Испортишь бумаги — попадет нам.
А вечером, после ужина, когда Леночка безмятежно спала, мать советовалась с сыном:
— Блинчиков, что ли, завести? Она любит их.
— Любит, — согласился Валерий Сергеевич. — Только Варя на этот раз не приедет.
— Почему так? Иль что случилось? — испугалась старуха.
— Ничего не случилось. Мы к ней с ночевкой отправимся. Там хорошо. Отдохнем, порыбачим…
— И Лену возьмешь?
— А что же? Пусть едет.
— Да ты что! — замахала руками мать. — И не думай. Не отпущу! Там комары заедят. Да и ночи свежие. Дожди часто перепадают…
— Ничего, мама, не случится. В сохранности привезу. Ей полезно. Да… Я вот до сих пор помню, как ездил с отцом на ярмарку. Такой же, наверное, был?..
— Не больше… Смотри, Валерий… А почему заранее не упредил, что поедете?
— Вот и говорю заранее. Целые сутки впереди.
— Управиться бы…
Вся суббота прошла в хлопотах. Карповна стряпала и следила за внучкой, которая все время рвалась за ворота встречать отца. А когда ребенок на улице, разве будешь спокойным? Там машины снуют, на лошадях ездят, собаки бродят, гусаки щипучие… Проглядишь, а потом век будешь каяться… Вот и металась она из кухни во двор, на улицу и обратно. А когда передала в машину кастрюлю с блинчиками, криночку с оладьями в сметане, бидон с домашним квасом, сверток с пирожками, корзиночку свежих огурцов со своего огорода, одежду и обувь для внучки на случай дождя и холода — почувствовала, что ноги вконец отказали.
— Ох, больше не могу… — Она села на лавочку и оттуда продолжала напутствовать: — Не гоните, а то все растрясете да побьете. Бидон с квасом, Валерий, возьми на руки. Блинчики и оладьи сразу отдайте, чтобы горячих поела. За Ленкой следите — там река.
— Мы ведь, мама, не маленькие. И едем не на год. Да… Давай, Миша.
Шофер, молодой, румяный до самых ушей, с черной полоской модных усиков, понимающе улыбнулся и нажал стартер.
Когда машина скрылась, Карповна посидела несколько минут, потом, опираясь на руки, поднялась, с охами и вздохами побрела во двор. Около крыльца мирно бродили куры. У порога, греясь на солнце, растянулся кот. В горнице посреди пола валялась с поднятыми руками впопыхах брошенная кукла. На стуле лежали Леночкины носки. Тихо и пусто в доме, тихо во дворе. Никто не гоняется за курами, они не кудахчут, не мяукает кот оттого, что его дергают за хвост, никто не топает по полу, не двигает стулья, не пристает с расспросами… Все это показалось непривычным. Карповна подсела к столу, подперла ладонью щеку и задумалась.
А машина тем временем выскочила за околицу села. С пригорка бросились навстречу ей березы, сосны, кедры. Они становятся все больше, бегут все быстрей, потом враз исчезают. А спереди набегают новые.
Валерий Сергеевич опустил в дверце стекло и повернулся к шоферу:
— Как, Миша, подготовился?
— Порядок, Валерий Сергеевич. Червей полная банка. Пшеницы напарил. Крючков запасных прихватил. Удилища на месте срежем. Это все для рыбы. А для себя взял одну штучку. Без нее рыбак не рыбак.
— Понятно… Теперь рыба, наверное, места себе не находит.
— Это уж определенно предчувствие имеет, — с деланной серьезностью согласился шофер. — Такая сила надвигается. Конечно, у них там полнейшая паника.
Валерий Сергеевич рассмеялся, потом смущенно попросил:
— Может, разрешишь? С поворота. Там глухо…
— Можно, — шофер по-прежнему смотрел вперед. — Дорога глухая. А потом, доверяю не кому-нибудь, а начальству.
Валерий Сергеевич вел машину с навыком, смело, но не лихо. Он вовремя убирал газ, переключал скорости, и машина, плавно покачиваясь, точно приседая, перебиралась на тихом ходу через трудное место, а затем с новой силой устремлялась вперед. Когда стрелка спидометра передвигалась за пятьдесят, лицо Хвоева будто каменело, но глаза становились задорными, даже по-мальчишески озорными.
— Хорошо! Вот так! — приговаривал он.
— Любите быструю езду… Я вот учился на курсах. Преподаватель у нас был. Пожилой, серьезный… Так он говорил: «Любой из вас садись за руль, а я рядом… За десять минут весь характер обрисую. За рулем человек становится вроде стеклянным, насквозь его видно». А у вас вот несоответствие получается. За рулем вы иной. В жизни-то спокойней.
— Знал бы ты, как я раньше на мотоцикле… Не ездил, а летал. Теперь не смогу. Постарел…
Машина обогнула болотце, сплошь заросшее кустарником, и остановилась. Открыв дверцу, Валерий Сергеевич смотрел на всадника, который спускался извилистой тропинкой. Мелкорослый конек со свободными поводьями, прежде чем шагнуть, осторожно выбирал место. В седле, опираясь о луку, сидела Марфа Сидоровна Арбаева в стареньком, выбеленном дождями и солнцем плаще. На дороге конь перешел на мелкую рысь.
— Марфа Сидоровна! — крикнул Валерий Сергеевич, вылезая из машины. — Спешите?
— Нельзя не спешить. Коню тоже не терпится избавиться от меня, — женщина улыбнулась обветренными губами, пожала протянутую Хвоевым руку. — Хлопот дома не оберешься. Дочку до экзаменов допустили, собрать надо.
— В сельскохозяйственный?..
— Ну да, на зоотехника… Давнишняя думка у нее. Сколько лет твердит…
— Будем ждать зоотехника!
— Э, Валерий Сергеевич, еще на воде вилами писано, что оно будет… Сумеет ли поступить? Девка-то старательная, охота, чтобы человеком стала. Мы-то дедовским умом живем, без знаньев на котят слепых похожи, бродим в потемках, на ощупь. Много ли толку от этого? А время теперь не то.
— Правильно, Марфа Сидоровна, — согласился Хвоев. — Только и опытом нельзя пренебрегать. Сколько лет в животноводстве?
— Счет потеряла… Да стой ты! — крикнула Марфа Сидоровна на коня, который, отражая осаждавших оводов, бил ногами и просил поводья. — Как себя помню, все время около коров.
— Ну вот, это немало значит. Да…
Марфа Сидоровна ослабила платок, концом его вытерла с лица пот.
— Парит… К дождю, что ли?
— Из Тюргуна едете? Как там? С телятником как?
— Все так же, как было. Видно, сгниет недостроенным. На диких плотниках обожглись, а своих нет. Кузин с ног сбивается. Бросил людей на сенокос, теперь вот овес подошел. Строительство тоже… Хоть на части разрывайся.
— А пшеница налилась? — спросил Хвоев.
— Неважно. Соломой на лес похожа, а колос пустой. Она вот тут, за сопкой. Если охота, сами поинтересуйтесь.
— Ладно. Не буду задерживать, Марфа Сидоровна.
Хвоев вернулся к машине и несколько секунд стоял, задумчиво глядя в одну точку.
— Садись, Миша, за руль. К сопке надо проехать, пшеницу посмотреть. Доберемся?
— Время… — шофер взглянул на часы.
— Успеем, рыба не уйдет.
Хвоев поднялся на пригорок, где среди травы и кустарника выделялась луковой зеленью небольшая круговина пшеницы. Высокий, грузный, в шелковой рубахе с закатанными рукавами, он тяжко отдувался и приподымал кепку, обнажая круглую голову.
День выдался тусклый. Вязкая, похожая на туман, мгла затянула от края до края небо. Опускаясь все ниже и ниже, она нагнетала парную удушливую жару. Окутанные дымкой горы, кажется, осели и задремали в истоме. Да и все кругом, разомлев, задремало. Даже неугомонные жаворонки, и те пели мало и неохотно.
Хвоев, дойдя до края пашни, сорвал крупный колос, тщательно растер его, провеял. Раздвигая доходящие до плеча стебли, пересек посев. Опять он срывал колосья, растирал их, отвеивал мякину. И каждый раз на широкой ладони оставалось несколько тощих зерен. Они казались жалкими, сиротливыми. Хвоев бросил зерна в рот и, медленно разжевывая их, думал: «Да… Белки рядом. Вот они… Какой тут урожай. Жаль… А сеять только ради соломы какой смысл?»
Глава восьмая
Игорь сбросил с себя одеяло, сел, опустив босые ступни на коврик. Затем нащупал на спинке стула пиджак, засунул руку в карман. Вот оно, письмо! Порвать, сейчас же порвать. А вдруг завтра спросят? Зачем рвать? Пусть лежит, он все равно им не воспользуется.
Игорь опять лег. В открытую форточку ночь заплескивала прохладу, смешанную с бурливым шумом реки. Чтобы скорее заснуть, Игорь закрыл глаза и попытался ни о чем не думать. Но не тут-то было! Мысли не воробьи, их не отпугнешь. Вспомнился почему-то отъезд из Верхнеобска. Шебавино манило его Катунью, горами, тайгой, но когда поезд медленно тронулся, ему до слез стало жаль уплывающий город, школу, ребят, с которыми учился… Он даже жалел о своем дворе, ничем, впрочем, не примечательном.
А вот с Шебавином он расстается безо всякой жалости. Как будто и не жил здесь. Это, наверное, потому что Клава тоже едет. А что, если бы Клава узнала о письме?» — подумал вдруг Игорь и, стиснув зубы, уткнулся в подушку.
Автобус проходил Шебавино в шесть утра. Мать разбудила Игоря в пять. Отец поднялся тоже. Засунув руки в карманы пижамы, ходил по комнате, курил и кашлял.
Мать приготовила чай.
Игорь сел за стол, а самому не терпелось вырваться из дому, увидеть Клаву.
— Кажется, пора, — сказал он, взглядывая на стенные часы и отодвигая недопитый чай. — Пока дойду…
— Ну что же, — встал отец. — Счастливо! Пиши чаще. Провожать не пойду.
— А я провожу.
— Зачем, мама? Спи.
Мать не успела ничего ответить, как Игорь ткнулся губами в ее пухлую щеку, затем в сухую, колючую — отца и схватил увесистый чемодан.
— Деньги потребуются — не стесняйся. Письмо передай. Брось эти амбиции. Для тебя стараемся…
— Хорошо, хорошо…
Мать и отец что-то говорили вслед, но что — Игорь уже не разбирал. Мать упоминала про колбасу. Кажется, съесть ее надо в первую очередь, а то испортится. Это можно…
Сгибаясь от тяжести чемодана, Игорь по доскам пробежал небольшой, наполненный росистой свежестью двор. В калитке бросил на родителей короткий и совсем не грустный взгляд.
— Вырвался, — сказал Иван Александрович, зябко вздрагивая. — Молодость петушистая.
Игорь пришел на остановку первым. Поставил около зеленой скамейки чемодан и взглянул на центральную улицу. Ближние дома стояли около самого тракта, а отдаленные поднимались на взгорок и, скрываясь за ним, спускались к реке. На этой улице находились здания райкома партии и райисполкома, Дом культуры, магазин. По дороге с утра до ночи сновали грузовые и легковые автомашины, трусили верховые алтайцы. Но сейчас улица, прикрытая легкой дымкой тумана, будто дремала. Даже окна домов казались заспанными.
Игорь отыскал глазами Клавин дом под высокими тополями. Почему ее нет? Полчаса осталось. А ведь автобус может и раньше прийти. Проспала? Или, чего доброго, раздумала сегодня ехать? Нервничая, Игорь походил вокруг лавки и решил, что, если Клава сегодня не поедет, он тоже останется.
Постепенно начали подходить пассажиры: пожилая женщина с мешком и корзиной, две не знакомые Игорю девушки и кривоногий степенный Сенюш Белендин с суковатой палкой и заплечным мешком. Девушки, нахохлясь, дремали на лавке. Старик же хоть и молчал, но его маленькие глазки покоя не знали. Они пытливо исследовали каждого спутника, потом перескочили на вершину горы, озаренную лучами невидимого солнца, проводили пролетевшую мимо автомашину.
— Ишь, как ладно поют, ага… — старик хитровато посмотрел на Игоря.
Не понимая, о чем идет речь, Игорь пожал плечами.
— Да ты что, оглох, уши-то ватой заложены? — старик кивнул на стоявшие за дорогой березы. Оттуда доносилось шумное щебетание птиц. — Эх вы, половины не замечаете того, что есть на свете. Как пни, живете… — Сенюш сердито постукивал палкой.
Девушки неожиданно захихикали.
«Сумасшедший этот Колькин отец», — Игорь беспокойно поглядывал на переулок, из которого, по его расчету, должна была выйти Клава. Вот показались двое. В зеленой косыночке, с чемоданчиком, конечно, Клава. Игорь устремился навстречу, но через несколько шагов остановился в нерешительности. А кто с ней? Наверное, мать? Ну, конечно, она, больше некому!
Игорь вернулся к лавке, сел. А Клава все ближе и ближе. Идет, как-то очень мило приподнимаясь на носках, точно вспорхнуть хочет. Ее смуглые щеки разрумянились, черные глаза блестели. Рядом с дочерью мать выглядела совсем невыгодно. Лицо и шея у нее были морщинистые и задубелые, как старый износившийся кожух.
— Доброе утро! Не приходил еще? Дедушка Сенюш, вы-то зачем сюда? — Клава украдкой взглянула на Игоря. «Вот я и пришла. Заждался?» — сказал Игорю ее быстрый радостный взгляд.
— Клавдюнька! — старик, ткнув в землю палкой, живо поднялся. — Сынка хочу навестить. Прихворнул, говорят.
— Никак, Марфуша? — певуче протянула пожилая женщина. — Здравствуй, подружка. Далеко собралась?
— Да вот дочку провожаю. В институт едет на экзамены.
— Давно не видала ее. Какая она… Цветок настоящий.
— Что ты, Ириша, самая обыкновенная… Может, рядом со мной такой кажется?
Старик заулыбался.
— Значит, как и думала, в зоотехники?.. Это для тебя подходяще.
На увале, у подножия крутобокой горы, показался автобус. Блеснув стеклами, он заспешил к остановке. Девушки вышли на обочину дороги. Клава взяла обеими руками большую, с корявыми негнущимися пальцами ладонь матери.
— Мама, не беспокойся. Я каждый день буду писать, хоть несколько слов.
Она крепко поцеловала мать. Игорь отвернулся, потом, спохватясь, поспешно заскочил в автобус, занял места для себя и для Клавы.
Шофер дал сигнал отправления. Припав к окну, Клава смотрела на стоявшую у автобуса мать, которая помахивала дочери рукой и улыбалась, хотя в глазах у нее стояли слезы.
За селом дорога почти вплотную подходила к реке. Между соснами то и дело мелькали пенистые буруны. Под крутым откосом возвышались над камнями зеленые шапки кустарника, увешанные клочьями и нитями тумана.
У небольшого мостика автобус, сторонясь встречной автомашины, легко коснулся развесистых ветвей березы, и сейчас же на стекла, сверкая, посыпались крупные капли росы. А через несколько минут мотор напряженно зарокотал — автобус начал взбираться на увал. Клава окунулась в ласковый поток солнца, прищурилась и беззвучно рассмеялась. Всю ее переполняло непонятное чувство. В общем, это было, наверное, счастье. Похожее Клава пережила в детстве, когда отец в первый раз посадил ее с собой на коня. Она радовалась, с удивлением глядя на далекую землю. Но вот конь побежал, и Клава судорожно вцепилась в гриву, сжалась и завизжала. Отец поспешно остановил коня.
— Боишься?
— Боюсь… Еще, пап, так…
Вот и теперь Клава радовалась, как задушевной подружке, каждой подбегавшей березке, а глубоко в подсознании эта радость связывалась с тем, что она едет поступать в институт и что рядом сидит Игорь. Клаве захотелось открыто посмотреть на него, сказать что-нибудь, но впереди лицом к ним сидел Сенюш. Он будто дремлет. Но время от времени дед встряхивается, открывает глаза.
— Приедем в восемь, — Игорь краснеет от мысли, что сказал чепуху: время прихода автобуса Клаве давно известно.
— В восемь? — Клава живо оборачивается, их взгляды встречаются. Игорю теперь все понятно. Однако через несколько минут ему кажется, что он ошибся. Клава к нему безразлична. Затем снова вспыхивает надежда…
На станции Устье поезд должен был стоять около часа. Клава с Игорем прошли по перрону, потом выбрались из людской сутолоки на небольшую площадь, окруженную новыми большими домами, частью еще недостроенными. За маленьким сквером с запыленной листвой оказался базарчик. На длинном дощатом столе возвышались кринки со свежим и квашеным молоком, четверти с квасом, лежали, похожие на спасательные круги, калачи, горки помидоров, огурцов, а в самом конце стола пожилая женщина продавала желтые дыни.
— Покупайте, молодые люди… Новый сорт, настоящий мед.
Игорь взял самую большую дыню, понюхал ее и передал Клаве, а сам, не спрашивая цены, небрежно бросил на стол хрустящую бумажку.
Отсчитывая сдачу, женщина полюбопытствовала:
— Видать, только поженились? Дай бог счастья!
Клава вся вспыхнула и заспешила уйти.
— Клава! — Игорь догнал ее в скверике. — Подожди… Что ты обращаешь внимание? Вот тоже… Присядем.
— Пойдем в вагон.
— Там духота. Успеем. Ведь целый час… Садись, дыню разрежем.
— Неудобно, — нерешительно сказала девушка. — Люди ходят…
— А что нам люди? Мы сами — люди. Тут не Шебавино. Кто нас знает? Да и что особенного?
Клава осторожно опустилась на край лавочки. Игорь сел рядом, достал из кармана газету и складной нож…
— Пожалуйста, — Игорь подал Клаве большой ломоть дыни.
Клава неуверенно протянула руку.
— Взбрело тетке в голову. Впрочем… — Игорь склонился над дыней. — Впрочем, я бы очень хотел, чтобы слова тетки сбылись. А ты?
— Игорь, я сейчас уйду. Честное слово. Ну к чему? — смуглое лицо девушки порозовело, но в черных глазах, кроме смущения и укора, была радость. Правда, Игорь ничего этого не заметил. Он сам смутился и растерянно сказал:
— Прости, Клава… Немного зарвался…
Клава отвернулась.
Чтобы нарушить неловкое молчание, Игорь спросил:
— Тебе очень хочется стать зоотехником?
— А как же? Конечно…
— А мне, признаться, не очень.
— Зачем же ты едешь? — удивилась Клава.
— По одной причине.
Игорь не назвал причины, но Клава поняла его.
— Ты, Игорь, смешной и… глупый, — девушка рассмеялась.
Этот смех, ласковый, душевный, показался Игорю музыкой. Веселея, он будто на крыльях взлетел.
— Я мечтал стать киноактером. У археологов тоже интересная работа.
— Ну, знаешь, киноактер — заоблачная мечта… Способности большие нужны. А потом, зоотехником ничуть не хуже. Честное слово… Мне хочется жить обязательно в своем колхозе. Зоотехнику дел там по горло. Послушал бы ты мою маму! Тебеневка[2] во многом виновата. Правда… Вот в совхозе кормовую базу создают, а тебеневка вспомогательная. И нам так надо…
Разговор о коровах мало интересовал Игоря, но он не сводил с девушки удивленного взгляда. Говорила Клава, конечно, со слов матери, но как убежденно, с каким жаром! Возрази ей, не согласись, и Клава ринется в спор, будет доказывать, что она права.
Клава, внезапно смолкнув, откусила дыни, потом, привстав, сказала:
— Привыкла я к горам. А тут куда ни глянешь — все какая-то пустота. Вон дом огромный, а за ним пусто на десять километров. А тебе горы нравятся?
— Да, привык. Нравятся.
— Вот Гуркин… Ты знаешь Гуркина?
— Гуркина? — переспросил Игорь так, что Клава сразу поняла — не знает. И подскочила.
— Наш знаменитый художник! Любимый ученик Шишкина! У него есть картина «Озеро горных духов». Так хочется взглянуть! Говорят — немеешь… Такое величие…
— Подожди! Подожди! — перебил Игорь. — «Озеро горных духов» не видал. А вот «Катунь» видал. В верхнеобском музее… Вода бирюзовая, бурлит на камнях. Кажется, прикоснись пальцами — намокнут.
— Вот! — с гордостью выдохнула Клава.
— Бери дыню. Что же не ешь?
Клава отказывалась, но Игорь настоял, чтобы она взяла новый ломоть.
В это время послышался сиплый гудок паровоза.
— Ой, наш! — Клава побледнела.
Игорь взглянул на часы.
— Бежим!
Мысль о том, что поезд уйдет, гнала без передышки. Как только выбежали из узкой аллейки, Клава поравнялась с Игорем, и они бросились к перрону. Мимо все быстрей и быстрей пробегали вагоны. Клава устремилась к видневшейся впереди цифре шесть. Легко догнала седьмой вагон. Еще немного… Вот и шестой. Осталось каких-то два метра, но Клава никак не могла их преодолеть. Уйдет. Ой, уйдет! Клава рванулась из последних сил, вцепилась правой рукой в поручень, а левой — в чью-то протянутую руку. Ноги подкосились, и она больно ударилась коленями о нижнюю ступеньку. Дальше Клава какое-то время ничего не помнила. Кажется, она очень долго висела на руках. Потом ее подняли в тамбур. Мелькнула черная курчавая борода, взволнованное лицо. Кругом слышались голоса, но девушка не понимала, что говорят. Потом, будто очнувшись, она удивленно посмотрела на всех и закрылась ладонями…
Клава стояла у окна, когда за спиной появился Игорь.
— Сумасшедшая, — зашептал он, — зачем тебе потребовалось непременно догонять свой вагон? Жить надоело?
— Молодец, девушка, не растерялась. Другая обязательно отстала бы, — заметил из прохода плотный мужчина с курчавой бородкой.
Клава благодарно улыбнулась ему.
— Если бы не вы, я, наверное, разбилась…
Игорь, мрачнея, опустился на лавку, отодвинулся в самый угол.
Глава девятая
Город оглушил Клаву. Девушка то и дело приостанавливалась, крутила во все стороны головой, а глаза ее разбегались, как у ребенка, который впервые попал в магазин игрушек. Клаву удивляло все: доносившаяся со станции голосистая перекличка паровозов, звон трамваев, потоки автомашин и люди. Как много людей! Кажется, Клава за всю жизнь не видела столько… Все куда-то спешат, снуют…
Игорь шел рядом, посматривая на спутницу. В своей растерянности Клава стала казаться ему смешной и немножко жалкой. «Деревня сказывается…» — Игорь снисходительно улыбнулся. Он встретился с городом, как со старым другом. Приятно было окунуться в эту большую жизнь, отметить все перемены. А Клава уставилась на длинный пятиэтажный дом. «Вот громадина! Весь наш колхоз можно вселить», — и рассмеялась, увидев рядом деревянную избушку. Дряхлая, с гнилыми углами и просевшей крышей, она зарылась по самые оконца в землю.
— Смотри, Игорь! Откуда такая? — вскрикнула она так, что проходившая женщина оглянулась.
— Не успели убрать. Снесут… От царских времен осталась. Раньше город весь деревянным был. Сколько раз горел… Купцы да пимокаты жили… Пойдем на трамвайную остановку. Тебе на Бахметьевскую, а мне в противоположную сторону. Проводить? — Игорь с досадой покосился на свой объемистый чемодан. Клава заметила это.
— Ладно, Игорь, доберусь.
— Да ничего сложного… Я посажу в трамвай, расскажу… В три часа приходи в институт… Он там рядом…
Клава долго блуждала по Бахметьевской улице, пока нашла знакомых матери. Они жили в маленьком особняке, стоящем в глубине двора. По скрипучим ступенькам Клава поднялась на крылечко. «Кажется, здесь?» На ее робкий стук вышла толстая старушка с добрым, в мелких морщинах лицом.
Клава объяснила, кто она.
— Марфы Сидоровны дочка?.. Как же, знаю… Мать жива-здорова, значит?.. Сколько лет по соседству жили. И отца твоего знала. Хороший был человек. Да и тебя теперь припоминаю. Губастая была, черная, а теперь, поди ты, какая стала. Да что же мы стоим? — спохватилась старушка и распахнула дверь. — Проходи. Милости прошу.
Пока Клава умывалась, хозяйка стояла за спиной, расспрашивала о жизни, о знакомых. Некоторых уже не оказалось в живых, а некоторых Клава совсем не знала, очевидно, они давно уехали из села.
— Да-а… за четырнадцать лет воды немало утекло. А ты в институт думаешь? Сказывают, нелегко теперь попасть. Не знаю, как в сельскохозяйственном, а вот девушка с нашего двора подала в медицинский, так там на каждое место десять охотников. В грамотных везде большая нужда. Я газеты читаю, знаю.
Разговорившаяся женщина не сразу заметила, что Клава, опустив намыленные руки, задумчиво смотрит на старенький умывальник.
— Да ты что, девка? — обеспокоилась хозяйка.
— Я думаю — наверное, и в нашем институте, как в медицинском… Работы я не боюсь. Только зоотехником больше бы пользы принесла.
— Дай бог, чтобы обошлось все по-хорошему. Попей с дороги чайку. Я сейчас плитку включу.
Но Клаве было не до чая. Ей не терпелось скорее попасть в институт, выяснить обстановку.
Клава шла Первомайским проспектом. Вот белое с колоннами здание. Институт? Конечно, он… Здесь решится ее судьба. Или она получит интересную специальность, или… Нет, нет, об этом лучше не думать!.. Лучше надеяться, верить. Другие же поступали в институты. Где только не учатся шебавинские! Чем же она, Клава, хуже? Тоже поступит.
С такими мыслями Клава вошла в просторный вестибюль. Здесь тоже были колонны, около них толпилась молодежь. А у самой стены бледный высокий паренек листал учебник химии. Клава с беспокойством подумала о том, что и ей надо еще раз просмотреть химию.
У входа в коридор стояла группа девушек. Проходя мимо, Клава невольно услышала их разговор и сразу заинтересовалась.
— Девочки, в первом потоке ужасно много засыпалось. Режут беспощадно. Пять человек на одно место…
— Ой, ужас!
— Выходит, пока не поздно, надо подаваться в педагогический. Там, говорят, меньше…
— Только говорят, а сунься — не поступишь.
— Ну что же, не сдадим — пойдем на токарей или экскаваторщиков.
— Очень нужно, — презрительно фыркнула девушка с белыми кудряшками. — Да я лучше дома буду сидеть. Или, — приглушив голос, блондинка доверительно сообщила, — замуж выйду. А что?.. И не смейтесь, пожалуйста…
Клава круто повернулась и пошла по длинному темному коридору. Скорей бы Игорь приходил! Уже двадцать минут четвертого. Вместе зашли бы в канцелярию, узнали… Пять человек на одно место. Клава оглянулась на девушек. Их шесть. Значит, поступит только одна.
Игорь пришел в четыре. Увидев Клаву в глубине коридора, он, улыбаясь, направился к ней. Еще издали заговорил:
— Я задержался. Родные, понимаешь… Чай там и все прочее… Ну, как тут? Чем пахнет?
Беспечный вид и тон, которым говорил Игорь, раздражали и без того расстроенную Клаву. Сердито хмурясь, она бросила:
— Пахнет вином… Кажется, мы договорились на три часа?
Игорь смутился.
— Пришлось немного выпить. Никуда не денешься, такое дело. А ты сегодня не в духе. Придираешься.
— Была нужда!
— Ладно, зачем ссориться, — глухо сказал он.
— Я и не собиралась… Только нельзя быть таким беспечным. Я слышала — на каждое место пять заявлений.
— Да? — Игорь отвел в сторону взгляд. — Вот не думал…
Он говорил еще что-то, но Клаве казалось, все это для того, чтобы скрыть какое-то непонятное смущение.
— Ну что же… Будем сдавать! Ты просто расстроилась! Сдадим! — бодро сказал Игорь, но и бодрость его казалась неискренней, напускной. — А сегодня побродим по городу, в кино сходим.
— Ты с ума сошел! Надо готовиться. Не на экскурсию приехали. Давай узнаем, когда первый экзамен. Не понимаю тебя.
— Хорошо, хорошо… Сдаюсь. Сегодня же начнем повторять. Пойдем узнавать.
Попрощавшись с Клавой, Игорь сделал несколько шагов и живо обернулся, затем запустил руку во внутренний карман пиджака, достал оттуда изрядно помятый конверт и медленно, но решительно разорвал его пополам, на четыре части, потом еще и еще. «Вот так… Чтобы никаких преград между нами не было. Будь что будет…» — Игорь вскинул руку, и в спокойном солнечном воздухе закружились, оседая, зеленые и белые кусочки бумаги.
Дома Игорь сразу принялся за повторение грамматики, к которой никогда не питал расположения. Писал он сравнительно грамотно, а правила осилить не мог. Но теперь, чтобы не «срезаться» на устном, приходилось учить. Повторяя окончания глаголов, Игорь думал: зачем ему долбить «ут» — «ют» и «ат» — «ят»? «Коровы пасутся» или «кони бегают» — это он без правил правильно напишет, а иного зоотехнику писать не придется. Если бы он поступал на факультет журналистики или языка и литературы — там в тонкостях надо грамматику знать. А здесь…
Дверь с шумом распахнулась. Игорь вздрогнул. Шаткой походкой вошел его дальний родственник Аркадий, долговязый, вялый, с заспанным лицом.
— Да ты, кажется, учишь? Грамматику? Брось чепухой заниматься! Я на твоем месте вообще не держал бы экзаменов. Отца все знают. Слушай, пойдем в парк, прогуляемся.
— Учить надо, — неуверенно проговорил Игорь.
— Опять за свое… Я никогда не учил, а вот, слава богу, на третий курс перебрался.
Игорь молчал. Ему нравилось, что Аркадий держит себя с ним, как с равным. Раньше этого не было. Еще прошлым летом Аркадий считал Игоря зеленым мальчишкой, не удостаивал его словом. К тому же сидеть над грамматикой никакого желания не было. «Проветрюсь, а потом опять засяду», — решил Игорь.
Но засесть за грамматику в тот день Игорю больше не пришлось. Как только вошли в парк, Аркадий с необычной живостью и энергией потянул Игоря в ресторан.
— Пиво есть! Черт возьми! У нас летом пиво — редкость, прямо роскошь. Давай местечко присмотрим.
Когда стол загромоздили пустые бутылки, Аркадий сказал:
— Слушай, рассчитываться сегодня тебе. Мать отказала в кредите.
— Ладно, — Игорь неизвестно чему рассмеялся и полез в карман.
— Ого, да у тебя до черта денег! Пойдем на концерт!
— Я пойду заниматься! — Игорь, опираясь о стол, попытался встать.
— В таком виде? Бесполезно… Пошли!
Утром, собираясь в институт, Игорь брезгливо косился на грязные, высунувшиеся из-под одеяла ноги Аркадия. В голове чувствовалась неприятная тяжесть и шум. Что в этом пиве хорошего? Горькое, противное… Подготовился, называется. Нет, хватит! Сегодня написать сочинение — и за грамматику…
Игорь вспомнил Клаву. Хотелось скорее увидеть ее, и в то же время было стыдно. Клава беспокоится о нем. Первые слова будут: как занимался? А что говорить? Врать? Игорь крякнул и крутнул толовой. Сегодня же он засядет…
Вечером Аркадий предложил пойти в оперетту.
— Иди сам, — буркнул Игорь, еще ниже склоняясь над грамматикой. И, чтобы окончательно отделаться, неохотно добавил: — Если нужны деньги, я дам.
— Как я ошибся в тебе, — огорченно вздохнул Аркадий. — Думаешь, я подмазываюсь? Плевал я на деньги. Для меня дружба дороже.
Игорь растерялся.
— Почему ты так понял? Я просто… Знаю, что у тебя нет.
— Если так — иное дело, — сразу успокоясь, сказал Аркадий. — В таком случае я не прочь перехватить у тебя… Значит, не пойдешь? Смотри, тебе видней. Подзубрить эту чертову грамматику, конечно, не мешает.
Игорь молча наблюдал, как Аркадий надел шелковую рубаху, обильно смочил одеколоном волосы.
— Помыл бы ноги, — посоветовал Игорь.
— Под носками не видно.
Оставшись один, Игорь вновь принялся за учебники. Упорно, слово за словом, он твердил правила, но в голову шло совсем другое. Сначала ему было приятно сознавать, что он выдержал напор Аркадия — не пошел с ним. «Выходит, есть у меня настойчивость, сила воли. Деньги Аркадий, конечно, не отдаст. Ну и пусть, подумаешь! А сила воли определенно есть. Иначе я не порвал бы письмо».
Стремясь во что бы то ни стало сосредоточиться, Игорь закрыл ладонями уши, но ничто не помогало. И чем больше он себя заставлял учить, тем сильнее было отвращение к грамматике. Наконец Игорь прилег на раскладушку, долго смотрел в потолок и незаметно заснул.
Глава десятая
Сдав экзаменационные листы, Игорь и Клава вышли из института. Молча постояли и так же молча пошли по проспекту.
День был переполнен солнцем, но оно не жгло, а приятно ласкало. В неподвижном прозрачном воздухе четко выделялся старинный деревянный дом с затейливыми башенками. Мимо него, рассыпая на все стороны веселые звонки, мчался трамвай.
Клава, чуть приотстав, время от времени поглядывала на Игоря. Наклонив голову, он шагал, погруженный в свои думы. Тонкие черные брови сошлись над переносьем, отчего на белом лбу вспухла бугристая складка.
— Игорь, что ты прежде времени отчаиваешься? Ведь никто как следует не знает, какие проходные баллы. А потом, наверное, учтут, что грамматика не решающая дисциплина для зоотехника. Да и вообще, говорят, мальчишкам будет предпочтение.
— Напрасное утешение! Ведь известно — зачислять будут с шестнадцатью, а не с пятнадцатью баллами. — Лицо Игоря дрогнуло.
Разговор больше не клеился. Клаве очень хотелось ободрить Игоря, но она не знала, как это сделать. Веских доводов, которые могли бы укрепить веру в то, что его зачислят, не находилось.
Свернув с проспекта, они пошли в тени тополей и остановились около ворот Клавиной квартиры. Клава подала Игорю руку.
— До завтра. Мне кажется, все обойдется. Зачислят. Вместе будем…
— Опять утешаешь. Ладно, Клава, отдыхай… Вот как все получается. Думали, как Юлий Цезарь: приедем, сдадим, поступим… Да… Отдыхай, завтра зайду.
— Буду ждать.
Игорь вернулся на проспект, к трамвайной остановке. Посидел от нечего делать на скамейке. Без особого желания выпил газированной воды. Выходит, отец был прав… А Клава… Что, если узнать, с какими же баллами будут зачислять? Есть надежда или никакой? Ведь скажут? Конечно, должны сказать.
Игорь поспешно направился к институту.
Секретарь приемной комиссии сухо ответила:
— Зачисляем с шестнадцатью баллами.
— И никаких исключений?
— Как посмотрит комиссия.
— Спасибо.
Игорь уже был у дверей, когда женщина окликнула его:
— Молодой человек, вы Гвоздина случайно не знаете?
— Гвоздина? — удивился Игорь. — Я Гвоздин.
— Нет, серьезно? Игорь Гвоздин? Так что же молчите? Я вас с утра ищу. Пойдемте скорее! — Она схватила растерявшегося Игоря за руку и увлекла в коридор. Там, отпустив его, женщина пошла вперед, рассыпая по паркету гулкую дробь каблуков.
В небольшой комнате она сказала:
— Подождите минуточку. Я узнаю… — И осторожно открыла высокую, обитую черным дерматином дверь.
Игорь не успел прийти в себя от неожиданности, как она снова выпорхнула из-за дверей:
— Сергей Борисович приглашает. Заходите.
Игорь переступил порог и остановился на почтительном расстоянии от большого массивного стола, за которым сидел солидный человек с вьющимися, но уже редкими волосами.
— Пожалуйста… Пожалуйста… Ох, какой молодец! Садитесь.
Игорь осторожно опустился на край глубокого кресла, а Сергей Борисович смотрел на него с приветливой улыбкой.
— Я знаком с вашим отцом. Беспокоится Иван Александрович. Два раза звонил. Как успехи?
— Не совсем хорошие. По русскому тройка. Пятнадцать баллов… Пишу я грамотно, а вот устный… Мне кажется, это большого значения не имеет. Правила зоотехнику вряд ли потребуются.
Баталин глянул на Игоря похолодевшими глазами.
— С пятнадцатью баллами не пройдете. И потом, странное у вас понятие… Зоотехник может быть неграмотным?
Игорь молчал.
— Знаете… — Баталин шевельнулся в кресле, его чисто выбритое лицо порозовело. — Иван Александрович очень просил за вас. Вы-то как на это смотрите? Не заговорит совесть, если потесните кого-нибудь? Ведь некрасиво, правда?
— Извините, — жалко пробормотал Игорь. — Я согласен… Очень нехорошо… Я даже спорил с отцом… Извините…
— Куда же вы? Минуточку… — поспешно сказал Сергей Борисович, видя, что Игорь порывается выбежать из кабинета. — Хорошо, что вы все понимаете… Это важно. Вас зачислят.
Игорь не помнил, как вышел из кабинета и как очутился на высоком берегу Оби.
Река грелась под ласковым солнцем. Из-за острова выплыл похожий на дом белый пассажирский пароход. За штабелями бревен, подчеркивая дремотный покой, мерно рокотала самоходная баржа.
Перешагивая через какие-то трубы и толстые ржавые тросы, Игорь спустился к воде и сел в пустую лодку… «Зачислят… Буду учиться вместе с Клавой», — подумал он и тут же, представив, как он стоял в кабинете Баталина, содрогнулся от унижения. Лучше работать в МТС, ходить в мазуте, чем с глупым видом говорить не то, что думаешь, соглашаться, что ты подлец. Противно, невозможно противно…
Мелкие волны, сверкая под солнцем, с мягким шелестом закатывались на песок, чуть слышно плескались о корму лодки. Игорь долго смотрел в подернутую серебристой дымкой водную даль.
Почему-то он вспомнил Катунь, до жалкого маленький плот, стремительно несущийся на каменный лоб Быка, и тех двоих… Они не испугались опасности, не растерялись…
…Утром Игорь проснулся в восемь часов. У печки, зарывшись лицом в подушку, противно храпел Аркадий. Спать не хотелось, но и вставать тоже — ничего не хотелось.
Проснулся Аркадий, хрипло начал рассказывать что-то. Игорь не слушал, но голос Аркадия раздражал его.
— Брось бубнить! Противно…
— Тебя что, шмель укусил? — удивился Аркадий.
Игорь встал, неохотно умылся и вышел. Направился к Клаве, но дорогой раздумал. Нет, лучше сначала в институт. Узнать все.
Придя домой, Клава первым делом бросила на стол конспекты. Теперь они не нужны. Свободна… Свободна, а только вчера дорожила каждой минутой, недосыпала. Но как с Игорем? Пролентяйничал, конечно. Только сейчас у ворот она, Клава, уверяла, что его обязательно зачислят, а сама этой уверенности не чувствовала. С пятнадцатью баллами могут не принять. А какой он грустный, как смотрит. Приехал из-за меня.
Клава бесцельно прошлась по маленькой уютной комнате, взяла с комода зеркало. Из узорчатой рамки глядели усталые запавшие глаза. Румяные щеки поблекли, а нос обострился. «Ничего, отдохну, — подумала девушка, — зато шестнадцать баллов получила. Это не совсем хорошо, но могло быть хуже». Как она ни готовила химию, а на экзамене чуть не провалилась. Спасибо — преподаватель оказался добрым. Расспросил, откуда она, как живет, пожалел, что не был в горах.
— Вы не были? У нас так красиво. А на Телецком озере еще лучше. Мы ходили туда всем классом. Ой, интересно.
Преподаватель внимательно выслушал Клаву, потом сказал:
— А теперь вернемся к химии.
И задал вопрос. Клава опять растерялась, но спокойные глаза преподавателя, казалось, говорили: «Я вижу, что вы знаете. Отвечайте». И Клава ответила.
Завтра в два часа дня они с Игорем узнают результаты. Если примут — можно шикнуть (Клава давно это задумала): есть до отвала мороженое, сходить в кино. А теперь надо отоспаться.
Клава легла и, кажется, только заснула — кто-то толкает. Открыла глаза — хозяйка.
— А? Что? Разве уже вечер?
— Не вечер, милая, а утро, одиннадцатый час.
— Не может быть. Тетя Полина, вы шутите? — Клава посмотрела на окно, в которое вливалось солнце, потом — на часы. Правда…
— Будила тебя ужинать, да где там… Спала, как убитая. Старик говорит, не тронь ее, измучилась девка.
— Значит, уже утро? — Клава соскочила с кровати, оправляя помявшееся платье. — Хотела немного поспать.
После завтрака девушка, несмотря на возражения хозяйки, взялась энергично управляться по дому: перемыла посуду, полила цветы, вытрясла половики, натаскала полную кадку воды.
Управясь с домашними делами, Клава включила утюг и достала из чемодана голубое крепдешиновое платье, которое сшила к выпускному вечеру. Много было хлопот с этим платьем, зато на вечере все подруги завидовали ей, говорили, что Клава в нем восхитительна. Такой ей хотелось быть и сегодня. Ведь придет Игорь, да и вообще особенный день… Только бы приняли Игоря. Почему его так долго нет? Уже десять минут третьего. Клава взглянула в зеркало. Вот и усталости как не бывало. Глаза стали опять лучистыми и щеки посвежели.
Зашла хозяйка. Разговаривая с ней, Клава то и дело посматривала на часы. Двадцать минут третьего. Он не придет, что ли? Клава вышла к воротам, вернулась и опять вышла. Три часа. Значит, не придет. Что с ним? А как в институте? Сердце сдавило беспокойство. Девушка заспешила к трамвайной остановке.
После яркой солнечной улицы институтский коридор показался совсем темным. Клава бежала по нему, как слепая. Игоря не видно, нет… Она повернула за угол. Доску объявлений плотно обступили юноши и девушки. Задние приподнимались на цыпочки, жадно вглядываясь в списки.
— Есть! — радостно вскрикнул кто-то. — Зачислили!
Клава начала бесцеремонно проталкиваться к доске. На нее недобро покосились, заворчали, но Клава ничего не замечала и не слышала. Ее взгляд впился в напечатанные на машинке списки. Андреева… Авдюничева… Антонова… Артамонова… Ганина… Гвоздин… Игорь! Зачислили! Значит, и ее, Клаву, зачислили. Но где?.. Андреева… Антипова… Не может быть!.. Да как же так?
Клава еще и еще раз прочитала списки с начала до конца. Нет…
Выбираясь из толпы, Клава наткнулась на девушку, вытиравшую тонким платочком заплаканные глаза.
Клава шла по улице какой-то деревянной, не своей походкой. Когда за спиной, совсем рядом, со скрежетом заскрипели тормоза грузовой автомашины, она оглянулась. Шофер с бледным перекошенным лицом грозил из кабины кулаком и ругался. Девушка безразлично посмотрела на него…
Утром Клава наскоро побросала в чемодан свои вещи и поехала на вокзал. Сыпал мелкий холодный дождь.
Часть вторая
Глава первая
Более двадцати лет назад молодая сельхозартель «Кызыл Черю» приобрела в соседнем районе шестнадцать сарлыков. Полудиких животных с трудом отбили от основного стада. Когда поднялись на перевал, старый сарлык с длинными, свисавшими чуть не до земли космами на животе решительно устремился обратно в родную долину, где среди кустарника виднелись горбатые спины его собратьев.
— Куда? — закричал Сенюш Белендин, поспешно разворачивая коня.
Сарлык тряхнул кудлатой головой и побежал еще быстрей. Сенюш машистым галопом помчался ему наперерез. Сарлык, видя, что от преследователя не уйти, пустился на хитрость — начал ловко увертываться. Приостановясь, он пропускал мимо себя разогнавшегося всадника и нырял за деревья и камни. Но Сенюш не отступался, тут же, развернув коня, пересекал путь сарлыку. Неудача вызвала ярость сарлыка. Глаза его налились кровью, из горла вылетал угрожающий рев.
— Берегись! — закричали товарищи Сенюша, замирая в тревожном ожидании, а один сорвал с плеча ружье. Но Сенюш, кажется, ничего не слышал.
Сарлык остановился, пригнул голову, выставил кривые рога. Секунда, и он распорет коню живот, растопчет седока.
— Назад! Назад! — яростно закричал Сенюш.
Сарлык неожиданно сдался, повернулся и неохотно зашагал на перевал.
Как только сарлыков пригнали на место, заговорили о пастухе. Охотников взяться за непривычное дело не находилось.
— Звери… Волков легче пасти, — сказал колхозник, участвовавший в перегоне сарлыков. — Шибко дикие. Как тигры…
— Так уж и звери, — усмехнулся председатель. — Волки… Тигры… Сам слаб в поджилках. Так, что ли, Белендин?
— Ай, зачем тигры?.. Привыкнут… И понимать их надо, ага…
Сенюш упрямо смотрел на лампу, которая непрерывно мигала, будто задыхалась от едучего табачного дыма. Больше Сенюш ничего не сказал. Этой же ночью он повесил за спину ружье, сумку с продуктами и отправился в горы.
С тех пор Сенюш бывал в селе наездами. Летом, когда под палящим солнцем сохла трава, а неподвижный воздух кишел слепнями, Сенюш поднимался с сарлыками к белкам. В подоблачных высях трава была сочной, голубоватые ледники дышали прохладой. Но уже в августе клыки горных вершин начинали куриться снежной дымкой, а утрами на траву ложился искристый хрупкий иней, и Сенюш постепенно спускался с гор. В это время он чаще, чем когда-либо, навещал дом. Приезжал пастух обязательно в субботу, чтобы угодить на первый пар в баню. Мылся он долго, в старой шапке и рукавицах по нескольку раз взбирался на полок и немилосердно хлестал себя веником. После бани старик выпивал две-три чочойки араки[3], и его узкие глаза оживлялись, морщинистое темно-коричневое лицо, похожее на кору лиственницы, молодело, разглаживалось. Касаясь ладонью черных голов обступивших его внучат, Сенюш, довольно покрякивая, говорил:
— Не пойму, как мы раньше обходились без бани. Какая жизнь, а?..
— И теперь есть люди, которые боятся воды, — замечал Колька, младший, любимый сын Сенюша. — Говорят, вода счастье уносит.
— У них головы хуже бараньих. Как вода унесет счастье, а? Вода силу и молодость дает. Вот я. Помылся, легко стало, все равно что добытого курана[4] с плеч свалил, ага.
— Тебе, отец, только агитатором быть. Убедительно получается, — замечал Колька.
Сенюш довольна хлопал себя по колену, глаза его смеялись.
— А что, я могу. Десятилетку не видал, а учился. Все учили… Поп учил, бай Антурак учил, наш красный партизан учил, солнце учило, ветер, буран…
Аппетитно глотая жирный соленый чай, Сенюш подробно выспрашивал домашние и колхозные новости, перевертывал непослушные страницы дневника сына, внимательно присматриваясь к каждой отметке.
— Вижу, стараешься, сынок. Твоя учеба лучше моей. Моя длинная… По кривым дорогам долго водила… — Старик поднимался: — Подай шубу. В контору схожу.
В кабинете председателя Сенюш неторопливо, с достоинством пожимал всем руки, усаживался на широкую сосновую лавку и заряжал трубку. Окутываясь клубами дыма, он рассказывал о своих делах, которые, как правило, шли хорошо.
К вечеру Сенюш начинал чувствовать что-то похожее на усталость. От многочисленных разговоров, галдежа и возни внучат начинало шуметь в голове, и он раздраженно кричал:
— Тохто, балам![5]
Сенюш все чаще вспоминал оставленных без присмотра сарлыков. «Как бы чего не случилось», — думал он, хотя знал, что случиться за какие-то несколько часов ничего не может. Да и сарлыки — не бараны, если что, сумеют постоять за себя. Однажды от стаи волков отбились. К тому же время для нападения волков теперь неподходящее. Звери любят темную ночь, туман. Вот тогда гляди да гляди.
Утром Сенюш поднимался с мыслью отправиться после завтрака к стаду. Но, зная, что семьи непременно станет возражать, сообщал о своем намерении осторожно, издалека:
— Барс, однако, всю ночь скулил под дверями.
— Да ты и сам всю ночь ворочался, — недовольно говорила старая Келемчи. — Кажись, раза три курил.
— А Барс со всеми собаками успел передраться, — сообщал Колька. — Никому спуску не дает.
— Он такой!.. Уступать не умеет. Скучно ему без стада. Однако пора нам отправляться, ага.
— Что ты, отец? — удивлялся Колька. — Поживи.
Келемчи укоризненно качала головой:
— Совсем отбился от родного очага. Попроси у Григория Степаныча замену. Хоть недельку поживи…
— Э, зачем просить? — отмахивался Сенюш. Или сила кончилась?
Возвратясь в тайгу, Сенюш долгое время припоминал в мельчайших подробностях разговор в семье, в конторе, с соседями. Во многих сказанных ему словах он открывал теперь иной смысл. Как-то он долго размышлял над вопросом председателя: «Как здоровье, Сенюш? Ведь тебе, кажись, за седьмой десяток перевалило?»
«Правда, за седьмой, — удивлялся Сенюш. — Три года за седьмой… Однако при чем тут годы? Вон иное дерево молодым повалится, а лиственница с годами только крепнет, любую непогодь выдерживает».
В конце концов Сенюш утвердился в мысли, что председатель Григорий Степанович не имел тайного намерения посадить его, пастуха, навсегда к очагу. Он успокоился и начал думать о другом. Взяло сожаление, что не всех, кого хотел, смог повидать. Со старым дружком Санышем следовало посидеть за чочойкой араки, вернуть в беседе далеко ушедшие годы. Плохой стал Саныш, совсем плохой, куска баранины не найдет в чашке. Порой Сенюшу становилось жаль старуху жену, внучат. Не так он с ними обошелся. Надо было поласковей. Да и с отъездом поспешил. Ничего не случилось бы, если бы еще день побыл дома.
Немало размышлений у Сенюша вызвала его поездка к старшему сыну Андрею, который работал в МТС. Их разделяло каких-то пятьдесят километров, но старик не видел сына больше пяти лет. Мать наведывалась к нему часто. В свободное от школы время гостил у брата Колька. Андрей тоже несколько раз приезжал вместе с семьей в родное Шебавино, но Сенюш в это время, как на грех, находился далеко в горах. И вот две недели тому назад приехал колхозник и передал, чтобы Сенюш сейчас же отправлялся домой: председатель требует. Больше колхозник ничего не сказал, а в ответ на вопросы пожал плечами:
— Видать, нужно…
Сенюш тогда рассердился на колхозника, счел его в душе бестолковым, а теперь старику смешно за свою досаду; посыльный, конечно, знал об умысле председателя, но намеренно не выдал его.
Сенюш, удобно поджав ноги, сидит под высокой в зеленоватых прожилках скалой. Рядом лежит Барс. Его настороженные уши улавливают малейший шорох спокойной тайги. Сверху Сенюшу хорошо видно мирно пасущихся среди тарнача[6] сарлыков. Старик довольно смотрит на кудрявый белесый дымок маленького костра и вспоминает, как он пришел к председателю…
— Эзендер!
— Здравствуй, здравствуй, Сенюш!
— Зачем звал, Григорь Степаныч?
— Да ты садись… У тебя, наверное, табак хороший? Угости…
Старик положил на стол потертый кожаный кисет, но сам закуривать не стал. Присел на скамью, нетерпеливо выжидая, когда председатель откроет причину столь необычного вызова.
— У тебя старшего сына как звать?
— Григорь Степаныч, как не помнишь Андрея? — с обидой спросил в свою очередь Сенюш. — Он бригадиром у тебя работал, в правлении состоял.
Председатель отмахнул от себя клубы сизого дыма.
— Я-то не забыл, а вот ты забыл, кажется… Пять лет не виделся с сыном. На что это похоже? Вчера звонил Андрей. Говорит, хоть под конвоем, но посылайте ко мне отца. И не пробуй возражать. Сегодня автобус уже ушел, а завтра я сам посажу тебя в него. Вот так.
Сенюш, чтобы сдержать вспыхнувшее раздражение, сунул в рот пустую трубку. Его так и подмывало заявить, что слова председателя плохие. Он, Сенюш, отвечает за сарлыков. Перед всем колхозом отвечает. А сын никуда не денется. Подумаешь, пять лет… Молодой, ничего с ним не станется. Только лежебока может сменять работу на чай и араку. Но Сенюш ничего не сказал своему старому дружку Григорию Степановичу. Он лишь тяжело вздохнул и набил трубку. Раскурил ее, прижимая закопченным до черноты пальцем взбугрившийся табак. Когда после нескольких затяжек на душе отлегло, Сенюш, глядя вниз, заметил:
— Хитришь ты, Григорь Степаныч, вроде лисы. Раньше таким не был, ага…
— По нужде, Сенюш… Иначе с тобой ничего не получится. Ты на медведя стал похож, так бы и сидел в тайге. Келемчи вот говорила… Вижу, не хочется тебе ехать. А почему? Забудь на это время сарлыков. Не твоя забота.
— Зачем так сказал, председатель? А если что случится — чья беда? Разве мое сердце не должно болеть о колхозных делах? Ты сам об этом говоришь на собраниях.
Кузин поскреб рыхлую щетинистую щеку, с досадливым удивлением покосился на старика. Вот пристал, не отвяжешься. Ему лучше стараешься сделать, а он виноватого ищет.
— Человек за тебя остался надежный. Все хорошо будет. Утром отправляйся, — улыбкой председатель постарался скрыть нотки раздражения в голосе. — Счастливо.
Старик пожал руку председателя и ушел с чувством обиды в душе. С этим чувством и отправился утром к сыну.
В автобусе Сенюш увлекся созерцанием родных, известных с далекого детства мест. Каждый лог, ручеек, дерево наводили на волнующее воспоминание. «На этом склоне стоял березник, — думал он, — густой березник. А вот там, под горой, увидел в первый раз Келемчи». Сенюш, стараясь отчетливей представить прошлое, прикрыл глаза, потом открыл и их и незаметно взглянул на сидевшую напротив девушку. Она чем-то напоминала утреннюю росу, озаренную первыми лучами солнца. Вот и Келемчи была такой. И если бы тогда сказали, что у нее одрябнут щеки, выпадут зубы, а черные густые волосы станут похожи на истертую мочалку, — они долго бы смеялись над таким человеком. Тогда им казалось, что дряхлая старость не пристанет к ним, они всегда будут красивыми и сильными. А она пришла так, как приходит после лета зима, и хотя он, Сенюш, бодрится, но прежнего не воротишь.
Старик опять взглянул на девушку, вспомнил Клаву, и в нем проснулась и заговорила затаенная думка — увидеть Клаву в своем доме. Счастье сына, красота и теплое сердце невестки разве не согрели бы старой жизни его и Келемчи? Только, кажется, не бывать этому: Колька, кроме тракторов, знать ничего не хочет.
За перевалом открылась просторная долина с пологими, уходящими в синеватую даль холмами. Старик смотрел в окно и не верил себе. Почему здесь все иначе, чем было даже тогда, когда он ездил в Верхнеобск на большое собрание животноводов? Откуда пшеница взялась? Зыбко колышется, ходит золотыми волнами… Глазом не окинешь. Сроду ее тут не было. А вон идет крылатая машина, которую называют комбайном. Еще две… Ячмень косят, хороший вырос, однако, много доброго толкана[7] будет. А дальше, у реки, дома появились. Их тоже не было. Старику захотелось расспросить обо всем кого-нибудь из спутников, но никто из них не обращал внимания на Сенюша. Пассажиры со сдержанными улыбками слушали женщину с морщинистым лицом и бойкими, живыми глазами.
— Теперь темный человек в два счета впросак попадет. В третьем годе построили у нас электростанцию. Вечером пустили свет, я пришла в конторе убирать. Мою пол, а председатель говорит: «Пошел, Марковна, ты управишься — потуши свет». Прибралась я и давай свет тушить. Дула, дула на лампочку — не гаснет. А уйти боюсь, как бы пожар не случился. Так и сидела всю ночь в конторе.
В автобусе захохотали.
«Глупая баба, — сердито подумал Сенюш, отворачиваясь к окну. — Кто же на лампочку дует? Надо было просто нажать на пуговицу, она выключателем называется».
…Пять дней прожил Сенюш у сына. Андрей водил отца в мастерскую, и старик, как завороженный, смотрел на работу токарных, сверлильных и шлифовального станков, долго вертел в руках «нож», который, как осину, резал холодное железо. В большом амбаре они посмотрели «каменную муку», от которой много ячменя и пшеницы родится. Сенюш мял ее на ладони, нюхал и даже хотел лизнуть, но сын не разрешил.
В машине с деревянной будкой, на которой написано «Техническая помощь», они ездили по полям. На току Сенюш заинтересовался зернопультом. Казалось, сам злой Эрлик[8] дул в железную трубу, далеко разбрасывая зерна. Потом они налаживали самоходный комбайн. Собственно, налаживал Андрей с комбайнером, а Сенюш стоял в стороне. Его маленькие глаза, лицо цвета закопченной бронзы и вся осанка выражали высшую степень гордости за сына. Когда завели мотор и комбайн тронулся, отец и сын долго смотрели ему вслед. Сенюш сказал:
— Андрей, помнишь, как пришла к нам первая машина? Однако ты маленький был, не помнишь, ага…
— Нет, отец, помню. Хорошо помню. Со страха я забился в аил. А когда машина остановилась, вышел, но близко не подходил. Да и все боялись, издали разглядывали. Шофер был в очках, говорили, что у него стеклянные глаза.
Отец и сын рассмеялись.
— Кажется, я совсем состарился. Голова как прогорелый казан[9] стала.
— Почему так говоришь, отец?
— Как же… За что я, дурной, осерчал на Григорь Степаныча, когда он гнал к тебе? Большое спасибо ему надо сказать. И я скажу. Завтра скажу, ага…
Сын улыбнулся:
— Что спешишь, отец? Так долго не был…
Старик вернулся в тайгу, и она показалась ему совсем иной, чем была раньше. Дремотная жизнь уже не радовала. В ушах стоял шум машин, а перед глазами колыхались нивы, шуршало зерно. Сенюш и раньше знал об этой большой жизни, но тогда ему казалось, что она где-то очень далеко, а она, оказывается, пришла совсем близко. А почему она сюда не идет? Андрей говорил, что есть пшеница, которая быстрей ячменя вырастает. Надо ее сеять. Пусть в нашей земле много камня и песка, пахать ее трудно. Но ведь есть трактора, есть «каменная мука». Теперь у человека все есть, и все он может. Он может привести большую жизнь на горы, к самым облакам.
Старик поворошил палкой костер, огляделся. Вершины гор еще освещало солнце, а здесь, в ковшеобразной долине, уже смеркалось. В прохладных сумерках таяли камни, кустарник и сарлыки. Сенюш встал, потоптался, разминая онемевшие после долгого сидения ноги. Барс тоже встал, позевывая, посмотрел на хозяина, будто спрашивая: «Что, разве пора к реке?»
— Пора, ага, — сказал Сенюш. — Заночуем у доярок. Глядишь, и Марфа Сидоровна туда завернет. Без дочки дом не манит.
Старик не сказал другу, почему он сегодня изменил своей излюбленной привычке — ночевать в лесу. Разве плохо сидеть с Барсом у костра, пить чай и слушать, как, ломая кусты и фыркая, пасутся невидимые в темноте сарлыки, как над головой дремотно шепчет что-то старый кедр и нет-нет да и уронит липкую смолистую шишку? Хорошо, очень хорошо ночевать в тайге, но сегодня пастуху захотелось побыть среди людей.
Глава вторая
На станциях и разъездах в вагон, где сидела Клава, поспешно втискивались отягощенные багажом пассажиры. Чем ближе к конечной станции, тем их больше. Давно уже не стало свободных мест, а народу все прибывало. Многие запросто устраивались в проходе на своих чемоданах, мешках и узлах.
— Недалеко, доедем.
Беззастенчиво притиснутая в угол толстой женщиной, Клава не могла пошевельнуться. Вокруг шумно разговаривали и смеялись, но о чем говорили и над чем смеялись — Клава не понимала. Ей было невыносимо душно. Хотелось оттолкнуть бесцеремонную тетку, выскочить из вагона и бежать, бежать неизвестно куда. Однако, когда поезд остановился и все пассажиры, задевая друг друга вещами, устремились к выходу, Клава осталась на месте. Будто очнувшись, она впервые подумала: «Почему я не зашла в приемную комиссию? Надо было узнать. Хотя что узнавать? Бесполезно… Документы пришлют. Плохо, что Игоря не увидела. Вот как получилось: утешала его, а сама…»
Клава взяла чемодан и вышла. Ветер и мелкий, сеющий дождь приятно освежили лицо.
На маленькой замощенной камнем площади у вокзала стоял автобус. Клава попыталась в него войти, но свободных мест не оказалось. Отойдя в сторону, она тупо смотрела, как мелкие капли дождя кропят черную обивку чемодана.
Автобус ушел. С чемодана сбегали струйки воды. «Почему он вчера не пришел? Или ему все равно? Самого приняли… Хотя он не такой… Не такой? Откуда это известно? Я очень мало знаю Игоря. Нет, что случилось? Почему он все-таки не пришел?» — мучилась Клава в раздумье. Девушке казалось, что, если она решит этот вопрос, ей будет легче.
— Клава, что ты тут мокнешь? Опоздала в автобус? Как съездила?
Клава, подняв голову, увидела своего соседа Федора Балушева.
— Да вот… не могла… Мест не было… — сказала девушка и подумала: «Все теперь будут спрашивать: «Как с институтом? Сдала? Зачислили?»
Но Федор ничего не спросил. Он поднял ее чемодан, взял девушку за локоть и повел к стоявшей за сквером грузовой автомашине.
— А мы за товаром приезжали. Боря, принимай гостью! — крикнул Балушев шоферу. — В середку, Клава, теплее будет.
Федор бойким многословием старался отвлечь Клаву от горьких дум, развеселить. Захлопнув дверцу кабины, он подтолкнул девушку локтем, указал ей взглядом на верхний угол, где качалась привязанная вниз головой игрушечная корова.
— Чистопородная симменталка. Приходи теперь за молоком. Иринка отпустит, сколько душе желательно.
Клава кивнула и ничего не сказала.
Федор тоже замолчал. В молчании проехали город.
На мокром, плавно извивающемся тракте машина, набирая скорость, свистяще запела. Закружились, как в хороводе, березки, придорожные кусты.
Клава почувствовала — ей надо что-то сказать Федору, но решительно не могла ничего придумать. Как бы очнувшись, она вдруг заметила, что дождь уже прошел и солнце, разорвав облака, хлынуло ослепительным потоком на мокрую землю.
— Дождь-то перестал, — проговорила Клава.
— Давно… С полчаса как перестал, — отозвался шофер.
Федор молчал.
Клава, глядя вперед на дорогу, вспомнила своего отца. Ей шел тогда седьмой год. Отец все время лежал на кровати, подолгу мучительно кашлял. Его высохшее тело утопало в перине, и девочке казалось, что у отца нет ничего, кроме головы. От этой мысли Клаве становилось страшно.
Порой отец слабым голосом говорил:
— Дочка, подойди ко мне.
Прозрачной ладонью он гладил ее голову, щеки, а она упрямо смотрела в пол и думала, как бы поскорее улизнуть на улицу. Глупая, глупая… Почему она не сказала ему ничего ласкового? «Папа, дорогой, мы скоро пойдем с тобой в лес. Ты посадишь меня на коня».
…Когда спустились к Большому распадку, Клава сказала:
— За мостиком остановитесь. Пойду на ферму. А чемодан, Федор. Александрович, оставь у себя. Я потом зайду.
Тропинка светлым ручейком ловко обежала обомшелые, будто выросшие из земли камни, пересекла чистую затененную полянку и потерялась надолго в кустах.
Клава сначала шла неторопливо, помахивая зажатой в руке косынкой. Потом заспешила. На озаренный солнцем пригорок она вбежала, задыхаясь от усталости. «Куда я?» — удивилась девушка.
Спешить в самом деле было некуда и незачем. Она даже не знала, почему не поехала в село. Мать дома, ждет ее, и конечно, волнуется, переживает. Вот поэтому-то, пожалуй, она и вышла из машины. Ей хочется оттянуть встречу, еще раз наедине обдумать все, набраться решимости. Ох, как тяжело это, как тяжело…
Что делать теперь? Куда деваться? Жить на иждивении матери? Нет, этого она не может. Но что же?..
Клава сорвала листик с гибкой березки, приложила к щеке, губам. Он был влажный и душистый…
Скользким травянистым откосом девушка спустилась в глубокий распадок. Высоко над головой воздух пронизывали красные нити солнечных лучей, а здесь уже кралась отовсюду ночь. Высокая росистая трава, смыкаясь над тропинкой, хлестала по коленям. Низ платья намок и неприятно липнул к ногам, а в туфлях хлюпала вода. Вдруг где-то слева, совсем близко, раздались рычание и лай. Девушка, как бы защищаясь, подняла руки, попятилась и… радостно вскрикнула:
— Барс!
Разъяренная собака мчалась крупными прыжками, выныривая из высокой травы и скрываясь в ней.
— Барс! — вновь крикнула девушка. — Ты сдурел?
Барс, узнав Клаву, виновато крутил хвостом.
— Шальной! — укоряюще сказала она. — Перепугал насмерть.
Последние два метра Барс полз на брюхе.
В это время из-за навала камней, сплошь заросших маральником, выскочил на коне Сенюш. Заметив внизу человека, он беспокойно закричал:
— Барс, сюда! Ко мне!
Собака оглянулась на хозяина, а затем, изловчившись, подпрыгнула и лизнула Клаву в щеку.
— Пошел! Хватит!
Торопя коня, подскочил Сенюш.
— Клава? — удивился он и спешился, — Когда приехала? Дьякши ба?[10]
— Да так, ничего дедушка! Я у мостика слезла. На ферму иду.
— Ты скоро совсем уедешь от нас?
Клава потупилась.
— Не знаю… Меня не приняли… — Клава крепилась, чтобы не расплакаться.
— Э, зачем печалишься? Думаешь — счастье только там, в этом институте? Десять классов — много дорог. Вон мой Колька сам не пошел в институт, на тракторе хочет работать. Счастья теперь всем хватит. Я одну зиму учился у попа Афанасия, а живу без нужды, на красную доску все время записывают, ага…
— Конечно… Я на ферму пойду, — сказала девушка, чувствуя, что ей будет очень трудно решиться на это. Она любит животных, прошлое лето работала на ферме. Но тогда она знала, что это временно, что потом она вернется на ферму зоотехником. А теперь идти навсегда дояркой или телятницей. Стоило ли сидеть ночи над учебниками? Да и стыдно, смеяться станут, скажут, выучилась…
Сенюш будто угадал ее мысли:
— Зачем на ферму идти? Корову доить, навоз убирать?.. Ты в контору пойдешь, ага… В детский сад можно. А потом, — Сенюш мечтательно прищурился и понизил голос, — любовь придет. Хорошего человека полюбишь — большое счастье.
Клава смутилась и зябко вздрогнула.
— Старый дурак! — спохватился Сенюш. — Разговорился, а словом человека, однако, не укроешь. Тебе холодно?
Клава не успела ничего сказать, как пастух сбросил на траву продымленный и прожженный в нескольких местах дождевик, а ватную фуфайку накинул на плечи девушки.
— Садись на коня!
— Спасибо, дедушка, я пойду. Тут ведь близко.
Сенюш проводил Клаву на ферму. Когда в дверях низенькой крытой дерном избушки показалась мать Клавы, он звонко, совсем не по-стариковски крикнул:
— Марфа Сидоровна, принимай дочь! Я спешу сарлыков поить.
Он ловко вскочил на коня и пустил его с места в галоп.
— Мама! — голос у Клавы дрогнул и прервался.
Бледнея, Марфа Сидоровна прислонилась спиной к притолоке. Она, все поняв, сникла, на лице резче проступили морщины.
Из избушки гурьбой выскочили доярки. Эркелей, стройная, красивая, с черными блестящими глазами, бросилась со всех ног к девушке и расцеловала ее.
— Клава, дорогая! Рассказывай, ну, скорей же рассказывай! Там, говорят, дома больше наших гор? Ты в таком доме теперь жить станешь? Вот бы мне побывать в городе.
— Смешная ты, Эркелей. — Клава упорно не поднимала глаз.
— Эркелей! Ну что ты привязалась? — укорила старшая доярка Чинчей. — Побольше бы старалась. Глядишь, и сама бы съездила. Она вон в Москве была.
— Заходи в избу, мокрая вся, простудишься, — угрюмо предложила дочери Марфа Сидоровна.
— А нам пора на дойку, — напомнила Чинчей. — Собирайтесь!
— Такая роса… Я даже не думала… — сказала Клава.
— Надень мое платье, только что сшила, — радостно предложила Эркелей. — Скажешь, хорошо ли.
Эркелей схватила Клаву под руку и повела в избу.
— Ты какая-то сонная. Не выспалась, что ли?
А Клава в это время думала о матери: «Молчит… Лучше бы она отругала».
…После дойки все пили за низким столиком чай. Клава сидела на коротком чурбачке и пила чашку за чашкой. Щеки ее разрумянились, а черные глаза повлажнели. Слушая безумолчную болтовню Эркелей, она порой улыбалась, но, взглянув на мать, сразу мрачнела.
— Язык у тебя, Эркелей, как озорной жеребенок. Места себе не находит, — сказала Чинчей. — Помолчи немного, дай всласть чаю попить.
— Если бы у тебя руки так работали, как язык, — заметила Марфа Сидоровна. — А то руки-то частенько ленятся. Сегодня снова меньше всех надоила.
Эркелей обиженно надула красивые губы, а потом вдруг тряхнула головой и беспечно улыбнулась:
— Я же говорила, что у меня телята слабые. Пусть окрепнут на молоке.
Доярки добродушно заулыбались. К этой красивой девушке здесь относились, как к шаловливому ребенку, многое прощали.
В люльке завозился пятимесячный сынишка Чинчей.
— Эх, не вовремя ты, дорогой, проснулся. — Чинчей вытерла концом фартука раскрасневшееся потное лицо. — Хотела еще выпить.
— Пей, — сказала Марфа Сидоровна, тяжело поднимаясь. — Я забавлю.
Она развернула черноголового скуластого мальчонку, дала ему самодельную погремушку, называемую у алтайцев шах-трах. Чинчей говорила, что этой игрушкой забавлялся еще ее дедушка. Отец дедушки, нанизывая на узкие ремни кости кабарги и тайменя, хотел, чтобы его сын стал охотником и рыбаком. И желание его сбылось. Игрушка перешла к новому поколению, и опять из детей выросли охотники и рыбаки. Да и кем еще могли стать тогда бедные алтайцы? Разве батраками бая? А вот теперь сколько из алтайцев вышло всяких ученых людей! Только ее дочь останется на полдороге… Глаза Марфы Сидоровны затуманились, и она склонилась над ребенком.
Спать легли поздно. Мать с дочерью устроились в телеге на душистом разнотравном сене. Было темно и тихо. Лишь в загоне сытно кряхтели телята да откуда-то из низины доносилось чуть слышное бряканье ботал. Марфа Сидоровна лежала на спине и смотрела в густую синеватую россыпь звезд. Клава нащупала под козьей дохой большую, шершавую ладонь матери и прижала ее к своей щеке. Так она всегда делала в детстве, когда хотела приласкаться и утешить мать.
— Мама, ты молчишь. Я старалась…
— Знаю, дочка, ты старательная, — мать тяжело вздохнула. — Надеялась на тебя… А теперь вроде и жить незачем. Замуж и без меня сумеешь выйти.
— Мама! — Клава подняла голову.
— Ладно, давай спать. Утро вечера мудренее.
Но уснуть Марфа Сидоровна не могла. Смежив веки, она впадала в забытье и вдруг вздрагивала, как от внезапного толчка. Из бездонной глубины неба равнодушно подмигивали звезды, временами надрывным детским голосом вскрикивала сова, брякали боталы. И опять наступала глухая сонная тишина. Казалось, вся жизнь застыла и ночи не будет конца. Марфа Сидоровна ворочалась с боку на бок, а сон все не шел. Вместо него наваливалось прошлое. В памяти женщины вставала вся ее многотрудная жизнь с большими надеждами и маленькими островками радости…
Она работает у кулака. Мечется с темна до темна: стряпает, моет, доит коров. При окриках хозяйки испуганно вздрагивает. Особенно не по себе ей от похотливого взгляда хозяйского сынка. Этот раскормленный верзила часто загораживает дорогу.
— Чего боишься, дура? Другая бы радовалась…
Она понимала, что все это кончится нехорошо, что надо уходить. Но куда пойдешь? Отец у нее повешен атаманом Сатуниным, мать умерла, сестры так же, как она, батрачат. Кто ей рад, куда приклонишь голову?
Однажды, когда она доила Пургу, молодой хозяин, появившись в дверях коровника, сказал с довольной ухмылкой:
— Теперь ты никуда не денешься.
Опрокинув ведро с молоком, она вскочила, прижалась к яслям. Хотела закричать, так чтобы слышало все село, но голос перехватило. Все-таки она крикнула.
— Не дури… Денег дам…
— Э, зачем трогаешь девушка? — Алтаец-батрак решительно выставил на хозяина вилы. Она бросилась к нему, как к родному, уцепилась за рукав.
— Вася!
Хозяин отступил к двери и оттуда зло заорал:
— Что тебе надо, собака? Твое дело — за коровами ухаживать. За это деньги получаешь.
— Бедную девушку обижаешь — не мое дело? Мы в волость пойдем. Думаешь, похвалят тебя? Уходи! Распорю живот, как бешеному волку.
Эту ночь Марфа Сидоровна провела в дымном аиле Василия Арбаева. Мать Василия, радушно угощая девушку, виновато говорила:
— Нет чая, шанду[11] заварила… Однако не нравится?
— Ничего, мать, — убежденно сказал Василий. — Скоро у нас много будет чая. А шанду Бычковы пусть пьют.
— Заставишь ты их… — усомнилась старуха.
— Заставим. Советская власть не балует таких.
Назавтра к вечеру в аил с трудом втиснулась хозяйка. Брезгливо морщась, сказала:
— Вот где ты приют нашла? Тут сытней, лучше, чем у нас?
— Зачем пришла? — зло спросил Василий.
Хозяйка притворно улыбнулась.
— Поговорить по-доброму. Ты, девка, на нас можешь обижаться. Парень он молодой, здоровый. И мы тоже были молодыми… Пурга обревелась, никого на дух не допускает. К ней с ведром, а она ногами бьет. Побойся бога, пропадет ведь корова…
— Я пойду, — сказала Марфа Сидоровна.
— Правильно, пойдем, — согласился Василий. — Нам сегодня в волости сказали — скот баев скоро будет наш, общий. Зачем ему пропадать?
Василий оказался прав. Осенью семью Бычковых отправили куда-то далеко на север, а их двор отвели под молочнотоварную ферму сельхозартели «Кызыл Черю». Василий и Марфа к тому времени поженились. Они жили в маленьком домике, стоящем у самого леса над Катунью. Василий заведовал молочнотоварной фермой, а Марфа Сидоровна работала дояркой. Родилась Клава, а через три года — Антон. Вместе с детским лепетом в дом вошло большое счастье. Но началась война… В 1943 году Василий пришел с фронта больной туберкулезом. Ему не помогли ни санаторий, ни настои трав. Умирая, он просил довести до дела детей, выучить их.
— Не беспокойся, Вася… Себя не пожалею, — говорила Марфа Сидоровна.
Василий умер, а через полгода мальчика задушила дифтерия. Осталась одна Клава. Заменив мужа на ферме, Марфа Сидоровна целыми днями ездила по многочисленным стоянкам и все думала о дочери. Они уже твердо решили, что Клава станет зоотехником. И всякий раз, когда Марфа Сидоровна чувствовала, что дела на ферме идут не так, что у нее не хватает знаний, сил и настойчивости, она говорила себе: «Ничего, скоро дочка заменит меня. Она сделает…»
И вот сегодня все рухнуло.
Марфа Сидоровна с тяжелым вздохом приподнялась на локте, пристально всматриваясь в лицо дочери. За деревьями на горе показалась большая луна. Ее бледный свет скользил по небу, растворяясь в алом сочном свете занимавшейся зари. Отгорев, угасали звезды.
Веки Клавы вздрагивали. «Не спит, беспокоится…» — подумала Марфа Сидоровна и большой шершавой ладонью осторожно прикоснулась к волглым волосам дочери. Клава открыла глаза.
— Мама, ты совсем не спала? Я тоже почти не спала. Я твердо решила: пойду на ферму. Учетчицей или дояркой — все равно. А на будущий год попытаюсь еще раз поступить в институт. Ты только успокойся, мама. Все будет хорошо.
— Нет, на ферму ты не пойдешь, — качая головой, задумчиво сказала Марфа Сидоровна. — Не для того я себя работой изматывала. Да и на людей будет стыдно глядеть.
Глава третья
Пожалуй, никогда Клава не чувствовала себя такой одинокой, как теперь, после возвращения из Верхнеобска. Мать больше молчала, или говорила такое незначительное, пустячное, что Клаве становилось до слез обидно. «Как к больной относится», — думала она. Клава знала, что теперь, накануне зимы, на ферме особенно много хлопот. Прошлые годы в это время мать вечерами рассказывала, как они сами утепляли телятник, перекладывали печь, подвозили сено. Теперь она, зайдя в избу, опускалась сразу у дверей на лавку и долго сидела, не шевелясь и ничего не говоря. Клава с виноватым видом снимала с матери тяжелые, грязные сапоги, доставала с печи валенки.
Еще хуже было, когда Клава оставалась в доме одна. Она не находила себе места. Что делать? В школе были друзья, преподаватели. Теперь же приходилось полагаться только на себя. Как хочешь, так и поступай. Тяжело…
Одолеваемая тоской, она стала чаще заходить к Балушевым. Зина, жена Федора, невзрачная, с лицом, усыпанным мелкими веселыми веснушками, показалась Клаве очень душевной. Зина умела сказать теплое слово и так улыбнуться, что становилось сразу веселей. Клава привязалась к Зине и с нетерпением ждала, когда та вернется из детсада, где работала воспитательницей. Лишь только мелькнет за плетнем знакомая косынка Зины, Клава выскакивает на крыльцо, бежит к Балушевым. Она была уверена, что Зина смотрит на жизнь просто, всем довольна. И это нравилось Клаве. Зачем думать, переживать? Так легче… У Зины хороший муж, они любят друг друга. И работой Зина довольна. Что же еще? О чем ей думать? Вот так бы жить!
Однажды Зина сказала:
— Нам воспитательница требуется. Сходи в районо.
— Куда ты ее тянешь? — возмутился Федор. — Тихая заводь… Ваш сад, наша контора — разницы нет. Одинаково…
Зина строго посмотрела на мужа, сказала с укором:
— Опять свое. Надоело мне, Федор, честное слово.
Федор смущенно заморгал и отвернулся.
— Мне-то что… О ней вон беспокоюсь, — он кивнул на Клаву. — Работу найти проще пареной репы, не в Америке живем. А будет лежать душа к этой работе? Вот в чем вопрос. Я вот тоже работаю… Сижу каждый день, чтобы зарплату получать. Никакого удовлетворения. А труд должен быть радостью, большой радостью. Иначе жить нет смысла.
Зина всплеснула руками.
— Беда с тобой. Снова старое запел. Ну кто тебе виноват? Кто? Сколько раз говорила — найди другую работу, чтобы по душе была.
— Виноват, виноват… — Федор тяжело вздохнул, засунул в карманы руки. — Многое бывает виновато, а больше всего, конечно, мы сами, неопытность наша или наше малодушие. Вот ты подбиваешь ее и можешь оказаться виноватой. Откуда ты знаешь, на какой работе она найдет свою радость?
— Я не подбиваю, а предлагаю. Ее дело. Ей лучше знать…
Клаву заинтересовал этот разговор. Федор прав. Надо искать работу, чтобы душа к ней лежала.
Клава не знала, сможет ли она стать воспитательницей и понравится ли ей это, но опостылело сидеть дома, хотелось быть около Зины, и она решила сходить в районе. Мать охотно согласилась:
— Вижу, что сидеть тебе одной дома невмоготу. Сходи. А уж если ничего не выйдет, я сама постараюсь найти тебе место.
И Клава утром сходила. Ответ был коротким:
— Нет, девушка, нам нужны воспитательницы со специальным образованием или со стажем работы.
Клава вышла на крыльцо. Над Катунью клубился туман. За рекой, в зеленых от кедрача и ельника распадках, плавали лохматые клочья тумана. А над ними сверкали белки. «Там зима, метели… — подумала девушка, спускаясь по ступенькам. — Почему я все близко к сердцу принимаю? Другие не расстраиваются. Нинка в медицинский тоже не прошла, а танцы, говорят, без нее не обходятся. Каждый вечер в Доме культуры…»
Около магазина Клава неожиданно повстречалась с Колькой Белендиным. Заметив ее, он будто споткнулся. Ему давно хотелось увидеть Клаву, поговорить, но что толку… А потом отец… Как-то совсем недавно он заявился поздно вечером среди недели. Даже одно это показалось всей семье необычным, но отец сказал, что ничего не случилось, заехал просто проведать. А потом оказалось, что не только проведать.
Попив торопливо чаю, Сенюш начал расспрашивать сына, как он работал на комбайне и сможет ли теперь справиться с трактором. И хотя Колька все это уже рассказывал отцу, пришлось повторить еще раз.
— Значит, на свои ноги становишься? Хорошо, сынок… Знаешь, дочка Марфы Сидоровны приехала из города. Перед вечером ее повстречал. Не поступила в институт. Шибко расстроилась. Хорошая девушка, сердце у нее, как весеннее солнце, однако. Сам подумай, разве девушка с холодным сердцем скажет старику: «Дай постираю твою рубашку?» А она сказала, когда на стойбище жили. Ты понимай, что говорю, не маленький теперь. Такую девушку упустить — счастье потерять, ага…
Колька чувствовал, как у него горят уши. «Не сказал ли отец что Клаве? Он может».
Эта мысль пришла в голову и теперь, когда он увидел Клаву. Колька хотел свернуть в первый попавшийся двор, но Клава уже заметила его.
— Коля!
Девушка старалась держаться как можно беспечнее, хотя в душе чувствовала себя очень неудобно. Она рада была бы встрече со школьным товарищем, но только не теперь. Вот если бы она поступила в институт… Поспешно подавив невольный вздох, Клава улыбнулась и заговорила быстро-быстро, стараясь опередить Кольку в расспросах.
— Где ты пропадаешь? Ведь мы с лета не виделись. Помнишь, купались? Ты, говорят, настоящим механизатором стал?
Колька смущенно хмыкнул:
— Да нет, какой из меня еще механизатор.
— Ну как же? На комбайне работал.
— Штурвалил. Всего полмесяца. Понимаешь, Клава, прицепные комбайны не идут в нашей местности: громоздки. Даже самоходные…
Клава успокоилась: Колька сел на любимого конька и теперь не скоро остановится. Но она ошиблась. Колька замолчал, переступил с ноги на ногу и несмело спросил:
— А у тебя как дела, Клава?
— Да так… Плохо… По конкурсу не прошла. Теперь вот как неприкаянная.
— Понимаешь, Клава, я ведь тоже думал пойти в сельскохозяйственный, на факультет механизации. Потом… В общем, Андрей и еще один механик рассоветовали. Говорят, учиться с твоими годами не опоздаешь.
Колька рассмеялся, отчего глаза у него стали похожи на щелки, а скуластое лицо округлилось.
«Ой, Колька, какой ты смешной и хороший», — подумала Клава и тоже от души рассмеялась.
— Коля, а помнишь, как мы чуть не утонули?
— Это когда? А… как же… Конечно, помню… Ты домой, Клава? Пойдем, провожу.
И они пошли, вспоминая недавнюю школьную жизнь и друзей. Невысокий, коренастый Колька уверенно ступал своими чуть кривыми ногами. Тоненькая, стройная Клава шагала легко, приподымаясь на носки.
— Клава, сегодня танцы. Сходим?
Клава с удивлением вскинула на Кольку глаза. До танцев ли ей теперь? Но тут же подумала: «А почему бы и не сходить? Что я, старуха, что ли?»
— Пожалуй, можно, — неуверенно сказала она.
— Конечно, можно, — обрадовался Колька. — Обязательно приходи. Хорошо?
Клава надела лучшее платье, туфли, сложила короной черные косы. Осмотрев себя в зеркало, осталась довольна. Вот бы Игорь увидел. Что он теперь делает? Наверное, и не вспоминает о ней. Хотя бы написал… «Ну и пусть… Не очень нужен. Пойду и буду веселиться. В институте девушек много… Нечего думать…»
Увидев освещенные окна Дома культуры, в которых мелькали тени танцующих, Клава заволновалась.
В фойе толпились незнакомые парни. Они громко хохотали и, увидев Клаву, с откровенным любопытством повернулись к ней. Клава, вскинув голову, прошла в зал. От яркого света и танцующих пар у нее зарябило в глазах. Клава не успела прийти в себя, оглядеться, как к ней подошел Колька. Он ничего не сказал, а только крепко сжал ее руку. В темно-синем костюме и галстуке он казался солиднее, но явно робел: то и дело передергивал плечами, крутил головой.
Оркестр заиграл вальс.
— Станцуем? — предложил Колька.
Клава утвердительно кивнула и положила ему на плечо смуглую, обнаженную до локтя руку. Как только они закружились, Клава забыла обо всем на свете, даже о себе. Ее лицо разрумянилось, глаза, полуприкрытые черными ресницами, заблестели…
Не успела Клава присесть и обмахнуть платочком разгоревшееся лицо — к ней подошел завмаг Иванов. Почтительно склоняясь, просто, как давно знакомый, сказал:
— Клава, бронирую вас на следующий танец.
— Я… — Клава больше ничего сказать не успела: она оказалась в крепких объятиях Нины Грачевой. Нина будто с потолка свалилась. В мгновение забросала Клаву бесчисленными вопросами:
— Ну, как ты живешь? Не устроилась в институт? А Игорь? Он поступил, учится? Мы, кажется, сто лет не видались. — Нина, не добившись от Клавы вразумительных ответов, принялась рассказывать о себе. Она тоже не устроилась в институт. Чуть не полдня ревела, а потом махнула рукой. Какие еще годы, успеется… Надо повеселиться, а то поздно будет.
— Толька, что ты таращишь глаза? — неожиданно прервавшись, спросила она Иванова.
Тот осклабился, шаркнул ногой:
— Пригласил Клаву на танец. Я жду, Клава.
Нина с лукавой усмешкой погрозила ему пальцем.
— Глаза разгорелись? Знаю… Дай нам поговорить.
Анатолий неохотно отошел, а Нина с ужимками и смешками рассказала, как приходила к ним Феоктиста Антоновна.
— Ей ужасно хочется, чтобы Игорь и я поженились. Прямо так и сказала маме. А та, конечно, нахмурилась. Знаешь ведь, какая она… Сейчас ей не нравится, что я сижу дома. Странные эти старики. Правда? Во всякое дело нос суют…
Клава искала глазами Кольку. Куда он делся? Откуда этот Анатолий знает меня? Вот он опять идет.
— Так станцуем, Клава? — Иванов улыбнулся, старательно показывая белые ровные зубы.
Клаве совсем не хотелось танцевать с ним, но, чтобы избавиться от трескотни Нинки, она согласилась.
Клаве было неприятно ощущать на своем лице дыхание партнера. Она сказала:
— Я устала.
Анатолий посадил Клаву на одну из придвинутых к стене скамеек, сам тоже сел рядом.
— Нет ли желания подышать свежим воздухом? Могу составить компанию.
Клава, точно очнувшись, испуганно спросила:
— Как? Что вы сказали?
— Ничего особенного… На улице лучше. Пойдем.
Клава поспешно встала:
— Я пойду с Колей. Мы вместе учились…
Она вошла в круг, отыскивая Кольку. Увидев его, обрадованно подбежала.
— Коля, пойдем отсюда!
— Только растанцевалась. Танцуй… — зло сказал Колька, глядя в сторону.
— Хорошо… — Голос у нее дрогнул. Она выбежала из зала.
С разбегу нырнув в густую темноту, Клава оторопело остановилась.
— Клава!
— Оставь!
Ничего не видя, она пошла наугад.
— Куда ты? Вот тропинка. — Колька взял Клаву за локоть.
Извилистой серой лентой тропинки они вышли на дорогу.
— Понимаешь, этот завмаг, говорят, когда женился на Ленке, то первым делом купил штопор.
— Сплетни, — заметила Клава. — Мне Анатолий нравится. Красивый, вежливый…
Колька ничего не сказал, но отпустил Клавин локоть.
— Раз такое дело… — Колька остановился. — Может, вернешься? А я домой пойду.
Клава расхохоталась:
— Я же пошутила, Коля.
— Я так и подумал, что ты шутишь, — встрепенулся Колька. — Иначе как же… Да нет, не может он тебе понравиться. — Колька точно убеждал самого себя. — Понимаешь, Клава, тяжело, когда теряешь веру в человека. А в тебя я верил, считал не такой, как все…
— Ну, это ты зря. Я самая обыкновенная… Даже хуже, чем обыкновенная. Вот в институт поступить не смогла.
— Институт ни при чем. Игорь пишет? Как он живет?
— Нет, не пишет. Да и с какой стати?
Клава старалась говорить как можно беспечнее, хотя ей стало очень грустно. «Значит, мамаша намеревается женить Игоря на Нинке? Конечно, там такая семья…»
Колька достал из кармана папиросы.
— Ты курить стал?
— Балуюсь иногда.
Они подошли к дому Клавы и остановились около палисадника.
Прикурив, Колька осветил спичкой Клаву и так пристально и многозначительно посмотрел на нее, что девушка, смущенно засмеявшись, отвела руку Кольки со спичкой в сторону.
— Спокойной ночи!
— Что спешишь? Знаешь, Клава, я все время думаю о тебе. Хотелось поговорить. Поэтому и приехал…
— Лучше в другой раз, Коля… Сегодня я все равно ничего не пойму.
— Ну что же, ладно, иди… — Колька так сжал ей ладонь, что девушка охнула.
Заходя осторожно в дом, Клава подумала, что Колька — хороший человек, чем-то похожий на Федора Балушева. Такой же горячий. Только Федор недоволен, ищет своего места в жизни, а этот еще в школе нашел, все свободное время в техническом кружке проводил. А у Нинки ветерок заиграл в голове. В школе она будто такой не была. Невеста…
Клава включила свет в кухне.
— Ты, дочка?
— Я…
На шестке чайник.
Клава прошла в горницу.
— Времени-то, наверно, уже много?
— Одиннадцать. — Клава сняла платье, присев на сундук, сбросила туфли. На прохладном полу освобожденным ногам стало так приятно, что Клава, шевеля пальцами, закрыла от удовольствия глаза.
В кухне она взяла из шкафчика стакан, чтобы налить чаю.
— Да, я совсем забыла… Письмо тебе.
Клава вздрогнула. Стакан выскользнул из рук и разбился.
— Что такое?
— Ничего, — Клава старалась говорить спокойно, но голос перехватило. — Стакан нечаянно уронила. Где письмо?
— Что же так неосторожно? Письмо на комоде. Забыла… Еще в обед почтальонша отдала.
Выждав немного, Клава подошла к комоду, нащупала в темноте конверт. На большее выдержки не хватило. Она выскочила в освещенную кухню. От него, Игоря. Сердце не обмануло… Клава начала вскрывать конверт, а пальцы дрожали, не слушались.
Письмо Игоря было теплым и немного грустным. Он писал, что больше месяца работал на уборке урожая, а теперь вернулся в Верхнеобск. Начались занятия, но он этому не особенно рад. Не рад потому, что нет с ним ее, Клавы. А как хотелось быть вместе! Вот и сейчас он сидит за письмом, а перед глазами встреча у ворот. Чертовски жаль, что она оказалась последней. В общем, тогда Клава, утешая его, сказала правду: мальчикам при зачислении делали предпочтение. Вот поэтому-то он и прошел… Прошел, и ему стыдно.
«В тот день я не мог смотреть тебе в глаза, — писал Игорь. — Понимаешь, Клавочка, не мог… Было ужасно досадно, что так глупо рухнули наши мечты, и мне казалось — причиной всему я. Ведь я сдал хуже тебя, а прошел… Я думаю, ты поймешь мое состояние и простишь. Я приходил к тебе на второй день, но ты уже уехала. Я так жалел! Ты была, наверное, ужасно расстроена, а теплого слова сказать некому.
Как чувствуешь себя теперь? Что думаешь делать? Не собираешься ли на ферму? Откровенно говоря, мне не особенно хочется, чтобы ты там работала. Можно найти более подходящее место. На будущий год надо приложить все усилия, а в институт поступить.
Пиши обо всем откровенно».
«Смешной, — думала Клава, снова и снова перечитывая письмо. — Конечно, надо было прийти. Считает себя виновным. Уж видно, не суждено нам вместе учиться».
Утром Клава написала ответ. Она подробно рассказала, как пришла с танцев, как разбила стакан, как дрожащими пальцами вскрыла конверт. Но потом спохватилась: «Зачем? Чересчур прямо. Еще подумает, что я без него жить не могу. Он ведь такой».
Клава порвала письмо и вынула из тетради новый лист. На этот раз ей показалось, что письмо получается сухим, почти официальным. Игорь может обидеться и совсем не ответить.
И только третьим вариантом Клава осталась довольна. Она написала — Игорь сглупил, что не пришел тогда к ней. И какая может быть обида? Конечно, очень досадно: так надеялась… Но при чем здесь он? Уж не думает ли Игорь, что она завистница? Наоборот, она очень рада за него. А ей, наверное, не придется осуществить свою мечту. Дедушка Сенюш сказал, что счастье не только в институте… Как видно, придется искать его здесь, в Шебавине.
«О работе думаю, но пока ничего не решила. Ужасно скучно. Вчера в первый раз за все время ходила с Колей Белендиным на танцы.
Часто вспоминаю, как мы ели в садике дыню. Счастливое время. Как оно скоро прошло!
Желаю тебе успехов в учебе и вообще в жизни, думаю, что ты не скучаешь, ведь Верхнеобск — не Шебавино, к тому же родной тебе…»
…Опустив в почтовый ящик письмо, Клава бесцельно зашагала по улице. Солнце смотрело на землю с ласковой материнской улыбкой. Тончайшие нити паутины серебрились в прозрачном неподвижном воздухе.
Она пришла на реку. Ей казалось, что повеселевшие горы дружно надвинулись на Шебавино. На склонах, среди сочно-зеленого ельника, неприветливого кедрача и кряжистых лиственниц то здесь, то там буйными кострами пылали осины, рдели березы.
Клава долго любовалась осенней тайгой, а потом вдруг рассмеялась и пошла в детский сад.
Зина сидела на лавочке, подставив солнцу лицо. Увидев Клаву, она не удивилась и ничего не сказала, а только улыбнулась и подвинулась, освобождая место на коротенькой лавочке.
Ласковое тепло не располагало к разговору. Они молчали, наблюдая за играющими в песке детьми.
Так прошло несколько минут.
Подбежала лобастая девочка лет шести.
— Зинаида Степановна, а у Москвы лицо есть?
— Что? Лицо? — Зина немного задумалась. — Нет, Света, Москва — город…
— А почему Москва улыбается нам? По радио так поют…
— Света, Москва — очень большой и красивый город. В нем весело жить. Вот поэтому и говорят, что Москва улыбается нам.
Девочка, сосредоточенно думая, медленно отошла. Зина проводила ее взглядом, потом обратилась к Клаве:
— Не поняла?
— Не знаю. Пожалуй, нет…
— Нет, конечно… Ну, а как объяснить? А у тебя произошло что-то хорошее?
Клава смутилась.
— Почему так думаешь?
— Я сразу заметила. Скажешь — нет?
— Не знаю… Возможно, погода хорошая, поэтому…
Ее так и подмывало сказать: «Правда, Зина, правда, дорогая… Я получила от Игоря письмо. Ты не представляешь, какая это радость». Но она ничего не оказала.
Где-то над головой курлыкали журавли.
— А я перед твоим приходом о Федоре думала, — Зина смахнула с лица осевшую паутину. — Вчера зашел в колхозный свинарник и накричал там. Говорит, как можно дойти до такого: свиньи по уши в грязи. Дома весь вечер махал руками… Потом ушел в правление. Вернулся и опять шумел! Все доказывал нам, что такое отношение к животным — преступление. Беда с ним.
— Разве это плохо? — удивилась Клава. — Мне нравятся такие люди. Я сама хотела бы быть такой, только, кажется, не смогу. У меня ведь душа заячья. Зина, ты очень любишь Федора Александровича? Вы хорошо с ним живете?
— Люди думают, что хорошо. — Зина поднялась. — Скоро ребятам по домам.
— Я тоже пойду. Надо ужин готовить.
— Заглядывай вечером, — сказала на прощание Зина.
Дома Клава еще раз прочитала письмо Игоря и принялась готовить ужин. Чистя картошку, она вполголоса напевала, потом включила радио.
Приходу матери Клава обрадовалась, а та разговаривала с дочерью, кажется, больше обычного. За ужином мать, тая на морщинистых губах улыбку, рассказывала:
— Удивительное дело… Заведующий раймагом никогда со мной не здоровался. А сегодня так разлюбезно раскланялся! С чего бы это?
Клава, краснея, уткнулась в тарелку. Мать, будто ненароком покосясь на нее, неторопливо взяла ломоть хлеба.
— Он неженатый, кажись?
Клава пренебрежительно хмыкнула:
— С Ленкой Звягиной и трех месяцев не прожил…
— Ну, Лена сама ветреная. А муж, я тебе скажу, от жены зависит. При доброй жене муж добрый бывает.
— Мама, к чему ты завела этот разговор?
— Так просто, к слову пришлось… Ты же теперь не маленькая…
И принялась за суп.
Когда пили чай, Марфа Сидоровна сказала:
— Разговаривала утром с кумом Прокопием Поликарповичем. Обещал пристроить к себе в контору. Говорит, если будет стараться, я из нее быстро человека сделаю.
— В контору?
— Ну да.
— Не знаю, как… А дома надоело. — Клава положила в стакан сахару и, размешивая его, несмело предложила: — А может, лучше на ферму пойти? Я привыкла там.
Марфа Сидоровна строго поджала губы.
— На ферму? Хватит того, что я свою жизнь там оставила… Чувствую себя плохо. Износилась, видать…
— Что ты, мама? — Клава села рядом, припала щекой к материнской ладони. — Ведь ты еще не старая. Подумаешь, пятьдесят четыре года…
— Что считать годы, дочка? Год на год не приходится. Иной за десять обойдется. А у меня таких немало было. — Марфа Сидоровна скорбно качнула головой, взгляд ее затуманился.
— Не то досадно, дочка… Больше десяти лет я заведовала фермой, а добрым словом помянуть не за что. Многое силилась сделать, да не смогла. Вот это хуже всего… Получается, вроде впустую жизнь прожила.
— Как же впустую, мама? Столько работала…
— Работа работе рознь. Давай на покой. Поясницу что-то опять подламывает. К дождю, должно. — Поднимаясь, Марфа Сидоровна охнула и, не распрямляя согнутой спины, прошла в горницу.
Клава поспешно разобрала постель, помогла матери укрыться и остановилась посреди комнаты.
— Мама, тебе свет не мешает?
— Нет.
— Я почитаю.
Клава разделась и, взяв из стопки книг на столе томик Тургенева, поспешно нырнула под одеяло. Постель оказалась прохладной, и она, натянув до подбородка одеяло, дождалась, когда по телу разольется ласковое тепло. Затем раскрыла книгу.
Клава любила Тургенева, большой отрывок из «Дыма» читала со сцены, но сегодня страницы книги дышали чем-то далеким-далеким. Даже трагедия Ирины на этот раз не тронула ее. Пробегая глазами строки, она думала о своем. «В контору пойду. Игорь будет доволен. Ведь он не хотел, чтобы я на ферме работала».
…От стука упавшей на пол книги Клава очнулась. Что такое? Почему так темно? И только когда услышала торопливое тиканье ходиков и ровное дыхание матери, поняла, что спала, а за это время погас электрический свет. Значит, уже за полночь. Опять поплыли мысли. Клава думала, а за стеной слышался робкий шорох. Казалось, кто-то осторожно ощупывал дом, шарил по окнам: «Ветер, что ли? — Клава повернулась на другой бок. — А может, дождь? Неужели?.. Днем такая погода стояла». Она открыла окно. В лицо пахнуло теплым настоем сырой земли, прелью трав и еще чем-то приятным, древним. Мелкий неторопливый дождь шуршал в палисаднике, булькала редкая капель.
Облокотись на подоконник, Клава думала о том, что лето невозвратно ушло. Теперь настанет пора невылазной слякоти, а потом ударят морозы, выпадет снег… Что станет с ней? Как плохо — нельзя заглянуть в будущее. Возможно, она всю свою жизнь будет сидеть в конторе. А возможно… Кто знает, что может случиться…
Клава посмотрела вдаль. Где-то там, за невидимыми сейчас горами, раскинулся Верхнеобск. Там тоже, наверное, дождь…
Глава четвертая
Великая Отечественная война застала Геннадия Васильевича Ковалева на третьем курсе сельскохозяйственного института. Слушая лаконичные сводки Совинформбюро об ожесточенных боях и отходе наших войск, он чувствовал, что не может больше сидеть за книгами.
И он одним из первых в институте ушел добровольцем на фронт. Он смотрел на события трезво, понимал: может случиться так, что он сделает очень мало или вообще ничего не сделает, но ему хотелось быть там, бороться вместе со всеми.
Еще в эшелоне он впервые познал, как жутко бывает, когда увидишь рядом с собой смерть, почувствуешь ее холодное дыхание.
…Ковалев лежал под откосом насыпи, а в глубоком чистом небе коршунами кружились «юнкерсы». Вой, страшный, ни с чем не сравнимый… Он буравом ввертывался в затылок, от него внутри то цепенело, то неудержимо начинало дрожать… Ковалев всеми силами прижался к теплой родной земле, а она дрогнула, всколыхнулась…
В этот день, стоя над телами товарищей, Ковалев сделал для себя открытие. Оказывается, смерть человека на войне, если она принята честно, никогда не бывает никчемной. Пусть вот эти погибшие люди ничего не успели сделать для победы, но, погибая, они накалили ненавистью тех, кто остался в живых, кому предстояло встретиться с врагом лицом к лицу.
Впоследствии, попав в окружение, скитаясь по оккупированным деревням и селам, он видел тысячи смертей, и оттого ненависть к врагу еще больше распалялась, вытесняя в нем все остальное, превращаясь в ярость. Ему порой казалось, что он — это уж не он, что никогда не было мирной жизни, светлых институтских аудиторий, беззаботного смеха…
Пробираясь в леса Белоруссии, Ковалев по пути вынужден был заходить на хутора и в деревни. Местные жители кормили его, чем могли, предостерегали от опасностей. Однажды в надежде утолить мучительный голод он подошел к небольшой деревушке. Из кустов около реки были хорошо видны бревенчатые избы. В позолоте закатного солнца они казались особенно приветливыми. Улица была пустынной.
— Зорька… Зорька… — слышался где-то певучий женский голос, от которого у Ковалева больно сжалось сердце, а перед глазами встала окруженная горами родная деревня.
Все дышало тишиной и беспечным спокойствием, но Ковалев знал, как обманчиво это теперь. И, затаясь в кустах, он терпеливо ждал, когда какая-нибудь хозяйка пойдет к реке за водой. Так прошел час, второй…
Уже впотьмах Ковалев зашел в крайнюю хату. В переднем углу под висячей лампой сидел благообразный старик с седенькой бородкой. Держа на растопыренных пальцах блюдце, он звучно втягивал в себя чай, после каждого глотка блаженно закрывая маленькие глазки. Лоб старика и покрытая зеленоватым пушком лысина блестели испариной. Когда Ковалев призраком появился у порога открытых дверей, хозяин вздрогнул, из блюдца плеснулся на цветастую скатерть чай.
— Кто такой? — Старик проворно вскочил, оглянулся на кровать, над которой висела на гвозде винтовка.
— Кто такой, говорю?
— Не бойтесь… Свой… — Ковалев тянулся жадным взглядом к столу, на котором возвышалась початая буханка пышного белого хлеба, лежали масло и яйца. Хозяин, видя, что грязный, оборванный пришелец еле держится на ногах, ободрился, глаза стали злыми.
— «Свой…» — презрительно хмыкнул он. — Много вас своих шляется. Как волки голодные, рыщите. К Сталину иди, пусть он накормит. Понял? А я тебе своим никогда не был.
Хозяин неторопливо повернулся, чтобы снять со стены винтовку. В это мгновение Ковалев стремительно прыгнул и вцепился в его жирную шею. Старик, хрипя, заметался, беспорядочно бил кулаками, потом рухнул. А Ковалев все сильнее и сильнее вдавливал в горло пальцы, чувствуя, как что-то под ними хрустит.
Когда по телу хозяина прошла последняя волна судорог, Ковалев поднялся, плюнул красной слюной в его страшное с выпученными глазами лицо, схватил со стола буханку хлеба и, пьяно качаясь, вышел в густую темноту. Проходя двором, он слышал, как дзинькали о ведро струи молока.
— Иди, порадуйся! Гады! У меня еще хватит сил, — шептал Ковалев. — И как тебя до сих пор свои деревенские не придушили!
Поздней осенью Ковалев набрел в белорусских лесах на партизанский отряд, а спустя полгода командовал им.
После войны Геннадий Васильевич носил по партизанской привычке маленькую курчавую бородку, и все однокурсники называли его в шутку батькой Ковалем. Хотя в то время ему было всего тридцать лет, но он в самом деле мог сойти за отца этих свеженьких беззаботных юношей. Морщины иссекли его лоб, залегли под глазами, а седина побелила виски. Серебряные струйки путались в черной бороде и поредевшем чубе.
В первое время Ковалева раздражало беспечное веселье студентов, но постепенно он отошел, стал улыбаться и шутить.
Институт Геннадий Васильевич окончил с отличием, и его направили главным зоотехником в райсельхозотдел, а через три года предложили место заместителя начальника по животноводству в краевом управлении. Здесь Геннадий Васильевич скоро понял, что мягкое кресло в большой конторе — не его стихия. Возможно, потом, когда состарится, а теперь — нет!..
Ковалеву совсем стало не по себе, когда заговорили о распашке целинных просторов, когда заснеженные улицы Верхнеобска начали сотрясаться от гула тракторов, от скрипа и лязга плугов, сеялок, культиваторов, а мрачноватые коридоры управления забила молодежь. Юноши, громыхая обмерзшими ботинками, врывались в тихие кабинеты, требовали…
Проходили недели, месяцы… Затихли улицы, опустели коридоры управления. Весну сменило лето. Геннадий Васильевич каждое утро садился за обширный стол и открывал толстую папку с бумагами.
«Разъясняем, что кормовая база является основой в деле повышения продуктивности животноводства…»
К горлу подступило что-то, похожее на тошноту. «Что же там, дураки сидят?» — думал он, зачеркивая раз и второй слово «разъясняем».
Ковалев с досадой захлопывал папку, подходил к стене и долго рассматривал карту края. Пашут… День и ночь пашут… Дома строят, скотные дворы… Он прикрывал ладонью глаза, и ему отчетливо представлялись необъятные степи, тракторы, вагончики, запыленные и почерневшие от солнца люди. И его с неудержимой силой потянуло к этим людям.
В один из осенних дней, когда пронзительный ветер гонял по улицам ржавые листья кленов, Ковалева вызвал к себе начальник:
— Геннадий Васильевич, вас не было… Звонили из крайкома. Просят зайти. — Начальник взял тонкими длинными пальцами розовую ручку из плексигласа, покрутил ее и положил на место. — Полагаю, что хотят вам предложить место председателя.
— Да?
— Так мне кажется…
— Возможно… Я подавал заявление…
— Значит, на передний край потянуло? Завидую. Эх, если бы можно было сбросить лет двадцать! Я тоже не сидел бы. А с такими годами нечего соваться. Одышка берет… — Начальник поднял от бумаг серое лицо с дряблыми щеками. — Честное слово, завидую, Геннадий Васильевич.
В этот день Ковалев пришел домой в восьмом часу. Посреди комнаты валялись перевернутые стулья, игрушки, а трехлетний виновник всего этого оглушительно стучал под столом. Его десятимесячная сестренка стояла, держась за ножку кровати. Пахло пеленками. Геннадий Васильевич быстро разделся и, потирая красные застывшие руки, весело сказал:
— Катя, проголодался я здорово.
Жена, стоя над плитой, не повернулась и ничего не ответила, а лишь передернула узкими плечами. Это был явный признак дурного расположения, но сейчас Геннадий Васильевич ничего не замечал. Наконец-то он схватился за живое, зримое дело. Пусть не степи, не целина, а горы. Придется засучить рукава выше локтей, ночи не спать. Но почему он ничего не сказал Кате, когда подал заявление? Не надеялся, что пошлют, или побоялся возражений и решил поставить жену перед фактом? Пожалуй, побоялся… А сейчас он ее ошеломит. Понравится или не понравится, но деваться некуда.
Геннадий Васильевич присел на корточки перед дочкой, поманил ее, но она никак не решалась оторваться от ножки кровати. Тогда Ковалев схватил дочку на руки, припал губами к ее мягкой атласной щечке. Девочке было щекотно, и она звонко смеялась.
— Володя, хватит трудиться, вылезай. Мой руки, есть будем.
— Где же ты пропадал? — сердито спросила Катя, доставая из буфета тарелки.
— В крайкоме, Катюша, в крайкоме…
— Ведь неправду говоришь, Геннадий. После шести нигде не работают.
Геннадий Васильевич удивленно вскинул глаза. Что за подозрения? И опять на ней этот кургузый, грязный халат. А дырявые чулки сморщились гармошкой. Радость сама собой потухла.
За обедом он вспомнил, как познакомился с Катей. Это произошло в районе, в первый год после окончания института. Она работала директором Дома культуры. Геннадию Васильевичу в то время доходил тридцать третий год — возраст, в котором оставшиеся в холостяках мужчины смотрят на женитьбу осторожно, даже опасливо. В институте он два года дружил с однокурсницей, дочерью видного инженера-конструктора, был радушно принят в их доме. Все думали, что свадьба не за горами, самое позднее — сразу после получения диплома. Но предположения не сбылись. Геннадий Васильевич, убедившись, что любимая им девушка до невозможности избалованна и, как все избалованные люди, легкомысленна, решительно порвал с ней.
Иначе получилось с Катей. Он увидел ее на вечере художественной самодеятельности. Колыхаясь, раздвинулся малиновый занавес. Ярко освещенная сцена некоторое время оставалась пустой. Потом из-за кулис появилась она. Тонкая, стройная, подошла к рампе, ясным взором окинула зал и спокойно, как в домашней обстановке, сказала:
— Добрый вечер, дорогие товарищи! Начинаем концерт нашей художественной самодеятельности.
Катя улыбнулась непринужденно, подкупающе. Геннадий Васильевич двинулся на стуле и незаметно для себя тоже улыбнулся.
Трое парней в расшитых косоворотках что-то пели, а он нетерпеливо ждал, когда окончится номер и опять появится она.
Геннадий Васильевич не любил танцы, считал их пустой тратой времени, но в этот вечер он остался на танцы, рассчитывая познакомиться. И познакомился.
Чем больше Ковалев узнавал Катю, тем сильнее она нравилась ему. Она не была красавицей. Самое обыкновенное лицо с тонким, чуть вздернутым носиком. Катя одевалась скромно, но все что она носила, было сшито со вкусом, всегда хорошо отглажено. Она не красила губ, даже пудрой, кажется, не пользовалась. В тот первый вечер она была в серой шерстяной юбке и белой шелковой блузе с отложным воротником.
Как-то после кино Катя пригласила Геннадия Васильевича в свою маленькую избушку. Их встретила мать Кати, еще бодрая, подвижная старушка с ласковыми, хитроватыми глазами.
— Пожалуйста, проходите в горницу. Я сейчас угощу вас чаем с вареньем. Катя сама варила…
В горнице было очень чисто и так уютно, что Геннадию Васильевичу не захотелось уходить в свою холостяцкую комнатушку, в которой валялись под кроватью грязные сапоги, а на столе — зачерствелый хлеб, ржавая селедка. В этот раз Геннадий Васильевич окончательно утвердился в мысли, что Катя — девушка умелая, аккуратная и, должно быть, экономная.
Они поженились. Мать Кати вскоре уехала к сыну-полковнику во Владивосток, и после этого стало постепенно открываться, что Катя совсем не умелая, не аккуратная и не экономная. Она даже не могла вовремя приготовить завтрак, и Геннадию Васильевичу зачастую приходилось уходить на работу голодным.
Еще хуже пошло дело, когда родился ребенок, а потом и второй. Катю мучила ее беспомощность, неумение управиться с детьми, с делами по дому. Она ходила постоянно угрюмой, перестала следить за собой. А Геннадию Васильевичу казалось, что его жена — это не та Катя, с которой он когда-то познакомился в Доме культуры.
Он понимал, что ей трудно, и поэтому старался ободрить ее, помочь. Он колол дрова, носил воду, забавлял детей и, вспоминая партизанскую жизнь, занимался поварскими делами. Глядя на него, Катя тоже загоралась, хлопотала изо всех сил. А когда засыпали ребята, они садились на маленький диван, черный дерматин которого Володька во многих местах ухитрился прорезать. Глядя друг другу в глаза, они говорили о том, как дальше жить. Катя соглашалась, что Володьку можно устроить в садик, что соседская старушка не откажется, пожалуй, изредка посидеть с детьми, а они тем временем сходят в кино или театр.
А через несколько дней все снова шло по-старому. Катя мрачно заявляла, что Володьку никому не доверит, что ей не до кино и не до театра, вот даже пол вымыть некогда. И он стал ощущать, что недовольство и глухое раздражение, разрастаясь, как сорняки, глушат в нем теплые чувства к жене. После работы иной раз ему не хотелось возвращаться домой. Не так он думал устроить свою жизнь, совсем не так… Другие тоже имеют детей, а живут по-иному.
И теперь Геннадий Васильевич колебался: говорить о своем решении или повременить. Поймет ли Катя его?
А вдруг категорически заявит: «Не поеду, и все!» Что тогда? Этот вопрос мучил его и во время ужина и позднее, когда Геннадий Васильевич, похлопывая прильнувшего к коленям сынишку, просматривал газеты. Время от времени он косился на жену, укачивающую дочку. Когда дочка уснула, Геннадий Васильевич решительно отодвинул газеты.
— Катя, меня посылают в Шебавино председателем колхоза. Что ты скажешь?
— Председателем? — ее лицо оживилось.
— Да, председателем. — Геннадий Васильевич нетерпеливо приподнялся со стула. — Как ты на это смотришь?
Катя, укрывая дочь, склонилась над качалкой.
— Ну что же, поедем! — сказала она после минутного молчания.
Геннадий Васильевич довольно заулыбался. Все сомнения показались напрасными. Ведь Катя хорошая. Конечно, теперь ей трудно, но подрастут дети, и жизнь наладится. Все будет хорошо.
Глава пятая
В группе из тридцати двух человек оказалось только трое парней: Игорь, Олег Котов и Сергей Филонов. В первый же день занятий Сергей Филонов сказал:
— Вот попали в цветник. Соотношение… Заклюют, — Сергей смущенно заморгал, а бледное лицо его стало розовым.
— Испугался? — иронически спросил Олег Котов, доставая из кармана железную коробку с махоркой…
— Да нет, я просто сказал…
Игорь, внимательно присматриваясь к новым знакомым, отметил, что Сергей щуплый, у него очень тонкая шея и он постоянно смущается. Какое слово ни скажет, пусть самое незначительное, обязательно покраснеет и тут же начнет охорашиваться: поправит галстук, смахнет с бортов пиджака соринку. Зато Олег Котов — полная противоположность ему. Около двух метров ростом, с крутыми широкими плечами, Олег нетороплив и уверен в движениях. На окружающий мир он смотрит, словно хозяин на домашнюю обстановку: все его и для него. Олег в первый же день запросто перезнакомился в группе со всеми девушками, так же непринужденно заводил в перерывах между лекциями разговор с преподавателями. На занятия он неизменно приходил в гимнастерке, туго перетянутой солдатским ремнем. Как узнал впоследствии Игорь, Олег до поступления в институт отслужил положенный срок в артиллерии, после заведовал в колхозе молочнотоварной фермой.
Не сговариваясь, студенты избрали Олега старостой группы. Он не удивился, не пытался отказываться, а принял это как должное.
— В армии не столько дел было — справлялся, — сказал он Игорю, с которым сидел за одним столом.
Каждое утро Олег, пожимая руку Игорю, спрашивал:
— Слушал сегодня радио? Газету тоже не читал? Тяжелая обстановка складывается на фронтах уборки. Столько техники нам подбросили, а дождь не дает развернуться. Небо, что ли, прохудилось? Льет и льет без конца. Урожай пропасть может. Как думаешь?
Игорю было стыдно признаться, что он ничего на этот счет не думает. Он слышал — весной распахали сколько-то тысяч гектаров целины, теперь вырос на этой целине большой урожай, а весь его уберут или какую-то часть — это Игоря не беспокоило. А вот Олега беспокоит. Почему так? Почему Олегу до всего дело есть, а он, Игорь, похож на экскурсанта? Такие мысли порождали зависть и желание найти в Олеге недостатки.
Однажды Олега вызвали в деканат. Он вернулся с деловым и решительным выражением на лице. Прошагав к кафедре, расправил под ремнем гимнастерку.
— Садитесь! Разговоры! Разговоры прошу прекратить! Важная новость! Короче говоря, нам разрешили поехать на уборку. Поможем хлеборобам, — Олег потряс над кафедрой большими сильными руками.
Группа будто онемела. Девушки обменивались взглядами. Сергей, весь красный, поправлял очки. А Игорю стало не по себе оттого, что Олег ведет себя в группе, как в армии, где командовал отделением.
— Строем отправимся, что ли? — зло крикнул Игорь. Он ожидал, да ему, собственно, и хотелось, чтобы Олег растерялся или пусть даже рассердился. Но ничуть не бывало. Олег ответил спокойно:
— Как потребуется, так и отправимся. А почему не слышу аплодисментов?
К девушкам начал постепенно возвращаться дар речи. Одна тонким голосом пропищала:
— Нет, как же на уборку? Ведь мы зоотехниками станем. При чем тут уборка? А потом мама ни за что не отпустит.
— Доказательства веские, — с деланным сочувствием сказал Олег, и всем стало смешно.
Игорю казалось странным, ему просто не верилось, что всего каких-то пять месяцев назад здесь была глухая степь, степь, которая всю свою долгую жизнь не знала плуга, не видела хлебного зерна. А теперь всюду пшеница. Не участки, не поля, а бескрайние, уходящие за горизонт массивы. Катятся, набегая друг на друга, золотистые волны. Дороги в хлебах напоминают глубокие траншеи. По ним со всех концов спешат на ток автомашины. Льются, журчат потоки зерна. А в ста метрах белеют, перемежаясь с зелеными вагончиками, палатки. Чуть подальше, за дорогой, становятся в стройную шеренгу щитовые сборные дома.
На току столько машин, что Игорь не может понять назначение каждой. Он размеренными движениями подгребает зерно к желобообразной ленте транспортера. Лента, скользя по роликам, принимает на себя пшеницу, уносит ее вверх, сбрасывает. Тяжелый, золотой, как само солнце, ручей падает на вершину огромной пшеничной пирамиды. Это глубинка, странное и тоже не совсем понятное Игорю слово.
Рядом с Игорем орудует деревянной лопатой Сергей, а напротив — Рая Чумакина. Это она говорила, что мама ни за что не отпустит ее на уборку. Рая не подгребает зерно, а беспорядочно тычет в него лопату, рассыпая под ноги брызги. Девушка то и дело останавливается, смотрит на свои узкие, с белыми тонкими пальцами руки, дует на них. В глазах при этом столько обиды и боли, будто она отбывает тяжелое и унизительное наказание. Игорь понимает — Рае хочется вызвать сострадание товарищей. Но Игорь не чувствует этого сострадания. Его увлекла работа. Он сбрасывает куртку и еще прилежней налегает на лопату. Солнце пригревает шею, спину, а Игорь увлеченно гонит и гонит волны зерна к транспортеру. Коротко мелькнувшая мысль о том, что он боялся уборки, вызывает улыбку. Так хорошо и совсем, оказывается, нетрудно. А пирамида зерна под транспортером все время растет. Здорово! И почему он недолюбливал Олега? Хороший парень!
Сергей старается не отставать, хотя ему явно не хвастает силы и сноровки. Он тоже сбросил, куртку, и под линялой голубой майкой усиленно движутся его острые лопатки. Усердие выгнало на бледное лицо Сергея капли пота. Одна из капель повисла на самом кончике носа. Но Сергей тоже, как Игорь, увлекся. Он лишь время от времени поправляет очки.
— Сними ты их, — советует Игорь. — Мешают…
— Если бы можно… Не вижу…
По всему току рассыпано толстым слоем зерно. Увязая в нем по щиколотки, Олег подходит к ребятам. С минуту смотрит на них, берется за Раину лопату.
— Отдохни, Рая…
Он примеривается к лопате и начинает подгребать. Игорю кажется, что Олег совсем не прилагает усилий, а двигает лопатой ради забавы. Между тем зерно так и плещется, так и хлещет на транспортер. Рядом с ним Игорь чувствует себя слабым, беспомощным, хотя старается изо всех сил. Олег работает, не разгибая спины, до тех пор, пока его не зовут к зернопульту.
— Так держать! — шутливо говорит он, передает Рае лопату и, взглянув на небо, добавляет: — Эх, постояла бы погодка. Только, кажется, не удержится…
Рая, опираясь на лопату, неохотно поднимается, с сожалением и завистью смотрит в широкую спину уходящего Олега. «Понравилось…» — с неприязнью думает Игорь, бросая зерно на опустевшую ленту транспортера. Сергей, а за ним и Рая помогают Игорю.
А солнце становится с каждым часом, с каждой минутой все жарче и беспощадней. Оно уже не греет, не припекает, а жжет. Ветерок, свежий и приятный утром, теперь спал, обленился. А если и пролетит иногда, то такой, будто его в духовке накалили. Зной приглушил голоса людей, говор моторов, но не остановил жизни в степи. Наоборот, она стала еще деятельней, кипучей. Над дорогами повисли похожие на дымовую завесу бурые шлейфы пыли. Ее подняли автомашины, которые спешат с наполненными зерном кузовами. Не успеет с платформы весов сойти машина, не успеют студенты ее разгрузить, как выныривает из пыльного облака, вторая, третья… И так без конца…
Золотой покров на току все время разрастается, становится толще. Люди напрягают все силы, стараясь справиться с этим неукротимым потоком. Пшеницу, пропустив через зернопульты, отправляют на элеватор, засыпают в глубинку. Но ее становится все больше и больше — так щедро расплачивалась за труд с людьми целинная сибирская земля.
И будто наперекор людям солнце еще усерднее нагнетает зной. Воздух делается настолько горячим, что обжигает легкие.
Рая все чаще втыкает в зерно лопату и уходит к бочке пить. Она размотала и бросила на ворох клетчатый платок, которым старалась сохранить от загара белое нежное лицо.
Игорь тоже все время наведывается к бочке, пьет теплую безвкусную воду. И чем больше пьет, тем сильнее разгорается жажда, сильнее пробивает пот и неприятно липнет к телу одежда. Он чувствует, как тяжелеет взмах от взмаха лопата, как толще и непослушней становятся пальцы, как горят ладони, на которых вспухли и уже прорвались пузыри мозолей. Увлечение работой давно сменилось равнодушием, а затем отвращением. Он задыхается, в нем иссякают силы, у него дрожат руки, коленки. И от этого Игорь загорается безрассудной ненавистью к транспортеру, лента которого ничего не хочет признавать. Она, скользя, движется по роликам, требуя зерна, чтобы отнести его и сбросить в эту чертову глубинку… Вот обеда никак не дождешься. Осталось около часа, но какой он мучительно длинный!
Игорь, покачиваясь, уходил с тока. Почти около самого вагончика его догнал Олег. Хлопнул по плечу так, что Игорь болезненно поморщился.
— Осторожней можно?
— Пошли купаться, — весело предложил Олег. — Пот и усталость смоем.
— В луже? Нет, спасибо. Иди… — Игорь не скрывал своего желания отделаться от старосты. Хотелось поскорее добраться до вагончика и лечь.
— Да ты совсем раскис. — Олег заглянул в серое, покрытое пылью лицо Игоря.
— Тебе не все равно? — Игорь облизал кончиком языка сухие губы.
— Ладно, не петушись, — примиряюще сказал Олег, отворачиваясь.
Солнце, большое и красное, само разомлевшее от жары, задержалось на кромке далекого горизонта, окинуло мир прощальным взглядом и поспешно скрылось. И сейчас же всю степь застлали прохладные лиловые тени. Опять, как и утром, звонкими стали голоса работающих людей, зарокотали моторы. Где-то в стороне пруда послышалась песня. Девичьи голоса взлетали, а низом плыл солидный мужской басок:
Игорь открыл дверь вагончика, и горячий спертый воздух пахнул в лицо. Волоча ноги, он добрел до лавки и упал. Все мускулы болели, будто его целый день безжалостно били и топтали. К тому же эта пыль, раскисшая в липком поте. От нее стали черными руки, она чувствуется на лице, на волосах, всюду… Игорь брезгливо морщится. Он противен себе. Заодно ему противен и ненавистен весь мир. Этот Олег ходил, конечно, в деканат и все время навязывался поехать на уборку. Поехал весь институт, но инициативу проявил определенно Олег. Все ему надо. Вот мучайся теперь. Завтра нужно подгребать зерно, послезавтра тоже… Настоящая мука, каторга… Плюнуть бы на все и уехать домой.
Игорь заснул сразу, будто провалился в черную пропасть небытия. А когда проснулся, в вагончике было прохладно и почти совсем темно. Игорь долго не мог понять, где он находится. К действительности его вернули голоса, которые слышались за дверями вагончика. По тонкому плаксивому Игорь сразу узнал Раю, а второй принадлежал студентке Тамаре Иовлевой.
— Мама не разрешала мне пол мыть, а тут целый день… Не могу я так… Я все руки изуродовала, лицо сожгла. Притронься, как в огне. В зеркало боюсь взглянуть. Честное слово. Дура я, что поехала. Мама говорила… Я хочу работать, только не могу.
— Вот и учись. А ты думала, как?.. И нечего плакать. Привыкла за мамину спину прятаться. Думаешь, всем легко, одной тебе трудно? Слышала, что вчера Борис Власов рассказывал? Они зимой в палатках жили, трактора на морозе ремонтировали… Возьмешься, говорит, за деталь, а пальцы пристынут к ней.
— Я понимаю, Тамара, но не могу, хоть убей.
— Слушать не хочу! — рассердилась Тамара. — Человеком себя не считаешь, да?
— Я завидую новоселам, уважаю их, — сказала Рая.
— Ты побольше себя уважай, — посоветовала Тамара, — лучше будет. Вот кто-то идет.
Девушки замолчали, а через некоторое время Сергей Филонов спросил:
— Кто тут? Игорь не встал?
— Нет… Он разве в вагончике? — удивилась Рая. — Спит?
— Еще как спит… На ужин не могли добудиться.
Игорь слышал, как Сергей поднимался по ступенькам, как возился около стола, как искал на стене выключатель.
— Игорь, вставай! Вот ужин тебе принес!
Игорь повернулся со спины на бок, притворно хмыкнул и открыл глаза. В черном проеме дверей показалась голова Олега.
— Встал? Зря не пошел купаться. Я воды холодной принес. Иди умойся.
Игорь, взлохмаченный, с грязным, помятым лицом, посидел некоторое время на лавке, потом лениво вышел из вагона, огляделся. Степи уже не было. Темнота, будто полая вода, затопила все. Вверху, над головой, черный бархат неба густо дырявили звезды. Часть звезд, кажется, упала и теперь двигалась во всех направлениях в ночной степи. Огни приближались, скрывались и вновь вспыхивали. И все они, казалось, тянулись на ток. Там, как и днем, двигались люди, гудели машины, журчало зерно. И вся степь, скрытая пологом ночи, жила молодой, неугомонной жизнью.
Прошло трое суток. Предположения Олега, кажется, не оправдались. Погода стояла сухая и невыносимо жаркая. Все эти три дня Игорь упорно воевал с транспортером. Борьба велась с переменным успехом. С утра Игорь с помощью Сергея и Раи добивался явного превосходства: они нагребали к транспортеру целую гору зерна.
— Вот так! — радовался Игорь. — Теперь можно не спешить, Хватит ему…
А бесконечная лента, скользя по роликам, двигалась, уходила вверх, неся на себе золотую россыпь. Двигалась она ровно, неторопливо, и эта неторопливость таила много коварства. Уже к одиннадцати часам, когда солнце до предела накаливало степь, гора зерна таяла. Игорь, Сергей и Рая, задыхаясь, выбивались из сил, но не могли насытить прожорливую ленту. Ручей зерна над глубинкой то и дело прерывался: лента ходила вхолостую. При этом она подрагивала, гремя роликами, будто насмехалась над незадачливыми работниками. Тогда Игорю хотелось, чтобы этот проклятый транспортер поломался. Они сели бы на ворох и всласть отдохнули… Но транспортер не ломался, а требовал, требовал зерна.
— К черту! — Игорь отбросил лопату. — Надо попросить у старосты еще человека. Так невозможно.
— Не даст Олег, — возразила Рая, осторожно проводя ладонью по потному сожженному лицу. — Людей не хватает. Тамара говорит, у нас самая легкая работа. Там еще трудней.
— Конечно… Давайте не просить, — Сергей, протирая подолом майки очки, густо покраснел. — Неудобно… Сами как-нибудь справимся.
— Что же, справляйтесь. — Игорь отступил в сторону, отвернулся. Стало до злости досадно, что эти два хлюпика работать ни черта не могут, а за авторитет беспокоятся. Боятся, как бы плохо о них не подумали… Игорь сел на ворох, запустил руку в зерно, потом несколько хрустких зерен бросил в рот.
А лента транспортера, не получая зерна, трепыхалась, гремела роликами. Сергей, налегая на лопату, стрельнул поверх очков в Игоря сердитым взглядом, но тут же, смутясь, отвернулся. Игорь сделал вид, что не заметил этого красноречивого взгляда. Зацепив зерна, Игорь пересыпал его из ладони в ладонь. «Попыхтите, может, сговорчивей станете».
— Сережа, постараемся, пусть он отдохнет, — оказала Рая и этим обезоружила Игоря. Ему стало стыдно. Товарищи работают, а он дурака валяет. Игорь схватил лопату и встал рядом с Раей.
…Третий день оказался не менее знойным, чем два предыдущих. Но Игорь уже не страдал так от жары, не ходил без конца к бочке пить теплую безвкусную воду. И ладони не жгло, как раньше. Они загрубели, кожа стала толстой и светлой. Сергей и Рая, кажется, тоже втянулись в работу.
Вечером Игорь впервые пошел купаться. До этого он видел пруд издали, но не ошибся, назвав его лужей. Это была вода, в которой снуют стада больших и маленьких букарашек-многоножек. И тут же колышется какая-то зеленая слизь. Берег пруда исковырян, весь в ямах, буграх и бороздах. На плотине валяются бревна, рыжий от ржавчины обрывок троса, то там, то здесь торчат из глины концы досок. Дрогнув от брезгливости, Игорь хотел уйти. Однако Олег, забравшись на середину пруда, с наслаждением плещет на себя воду, фыркает и трясет головой подобно белому медведю. Сергей у самого берега намыливает голову. Игорь разделся и, осторожно ступая по кочкам, направился к воде.
— Хорошо освежились, — говорил Олег, когда возвращались на усадьбу. — Приятно. А вода холодная…
— Сентябрь… — робко заметил Сергей. — Хотя жарко, а все равно…
— Ты с неродной матерью рос? — неожиданно спросил его Олег.
— С родной. А что?
— Так просто спросил. Очень уж ты не смелый.
— Это есть, — согласился Сергей и, краснея, добавил: — Сам не знаю, почему.
На плотине встретился секретарь комсомольской организации совхоза Борис Власов. Перехватив в левую руку сверток, он поздоровался с каждым в отдельности. Ладонь у него широкая, жесткая, сильная, а сам он чернявый, с короткими вьющимися волосами, так загорел, что смахивает на негра.
— Уже искупались? А я только освободился. Как наш пруд? Нравится?
— Ничего, — сказал Олег. — На безрыбье и рак — рыба.
— Вот именно… — засмеялся Борис. — Уберем хлеб — займемся прудом. Плотину метра на два поднимем. Хлам этот уберем, берега очистим. И насадим деревьев. Тут в два ряда тополей… — Борис махнул вдоль плотины. — А внизу над водой — ивы плакучие. По берегам можно березы пустить. И клумбы… — Борис прищурился, потом прикрыл ладонью глаза. — Вижу парк. Не хуже шереметьевского будет, честное слово.
Олег улыбнулся.
— Ты, Борис, оказывается, мечтатель.
— Без этого нельзя. Сразу скиснешь.
— По-моему, он немного рисуется, — заметил Игорь, провожая Бориса взглядом.
— Борис?! — удивился Олег. — Нет, ты зря. Парень настоящий. Дай бог каждому таким быть. Жизнь делает…
Игорь не возражал, а когда, поужинав, улеглись спать, он почему-то снова вспомнил об Олеге, Борисе и всех новоселах. Они действительно делают жизнь. Ведь это здорово! Не ждать готовенького на тарелочке, а самому делать… Только очень трудно. Не каждый к этому подготовлен. Взять хотя бы Раю или Сергея. Разве смогут они что-нибудь сделать? А вот Клава сможет. Она, пожалуй, любому целиннику не уступит.
— Подъем! — Олег тряс Игоря за плечо. — Живо на ток! А ты, Сергей, почему копаешься?
— Очки не найду. Куда-то положил и не найду.
— Плюнь ты на них… Быстрей!
— В чем дело? Что случилось? — Игорь испуганно таращил заспанные глаза.
— Туча находит. Да побыстрей ты! По-военному…
— Я не служил в армии.
Ветер бешеным конем мчался по степи. Сырой, холодный, он ударил Игоря в лицо, грудь. Игорь упрямо зашагал на ток. Там ветер раскачивал железные абажуры электрических фонарей. В зыбком желтоватом свете суетились люди, двигались тени. Со стороны эта суетня показалась Игорю жалкой и ненужной. К тому же неодолимо клонило в сон.
А с запада плыла тяжелая черная туча, заслоняя рваными краями испуганно мигающие звезды. Время от времени мгновенные росчерки молнии кромсали тучу, и она, раздражаясь, рычала. Игорь подошел к похожему на жирафу транспортеру. Заведующий глубинкой, Рая, Сергей и еще несколько человек отвоевывали у ветра брезент, которым надо было укрыть зерно.
— Игорь! Сюда! — крикнула Рая.
Игорь схватился за край брезента, а тот, как живой, дрожал, рвался из рук.
— Прижимай книзу, не пускай под него ветер!
Но ветер уже забрался под полотнище, надул его парусом. Еще порыв, и угол, который держал Игорь и Рая, выскользнул и крылом взвился над головами.
— Держите! Какого черта, растяпы! — взорвался заведующий глубинкой.
Игорь бросился на ворох, но сейчас же увяз по колено в зерне, а угол брезента, точно издеваясь, больно хлестнул его по лицу.
— Ложись на него, придавливай коленками! Натягивай!
Наконец огромный, в несколько тысяч центнеров, ворох зерна оказался закрытым. На брезент набросали доски.
— Так… Теперь не сорвет.
Не успели все облегченно вздохнуть, как ослепительно сверкнула молния и так грохнуло, будто на току разорвалась бомба. Испуганно приседая, Игорь увидел в мертвенном свете степь, одиноко застывшие комбайны, дорогу, дома, свой вагончик. Но такое длилось только мгновение, а в следующее Игорю показалось, что он окунулся с головой в деготь.
— В электростанцию ударило…
— Товарищи, сюда! Помогите заворошить… Дождь хлынет.
— Пошли, — сказала Рая, и вокруг затопали, спеша на зов.
— Сюда! Вот лопаты!
Лопаты вперебой зашоркали, заскребли, зазвенело зерно.
— Скорей! Круче, чтоб вода стекала!
Игорь греб, не чувствуя ни ударов крупных капель дождя, ни коварных наскоков ветра.
Хлынул дождь. Но хлеб успели заворошить.
Игорь вместе со всеми пошел к вагончикам. Лил дождь, но он был не страшен, как не страшен поверженный враг.
Глава шестая
Главный бухгалтер Прокопий Поликарпович Лукичев отвел Клаве место в углу, за шкафами, на которых громоздились кипы перевязанных шпагатом бумаг. Каждое утро в девять часов Клава, получив задание, садится за шаткий облезлый столик. Сегодня ей поручили переписывать колонки цифр с маленьких затертых листочков на большой. Клава старается, чтобы цифры выходили как можно красивее. Но что означают цифры, что кроется за ними — она не знает, поэтому переписывать их неинтересно. Девушка все чаще посматривает на большое окно, за которым падает снег. Первый… Крупные мохнатые снежинки гоняются друг за другом, образуя густую подвижную сетку, сквозь которую смутно проступают очертания гор. Клаве представляется лес, засыпанный мокрой порошей. Она мысленно бредет снежной целиной, спотыкаясь о невидимые коряги и пни. В березнике белизна снега сливается с белизной стволов. А ели, взбежав на пригорок, торжественно держат огромные пригоршни искристого серебра. Кругом светло, празднично, только под хвойными лапами таятся синеватые тени…
Спохватясь, Клава опять начинает старательно выводить цифры, но через несколько минут засматривается на главного бухгалтера. Он уткнулся в бумаги, а пальцы порхают над счетами, как будто ради забавы разбрасывая костяшки.
— Ишь как получается, — озадаченно говорит он. — Ну что же, зайдем с другого конца. — Лукичев ребром ладони решительно сдвигает костяшки, и опять все начинается сначала. Клаве кажется, что угрюмое, с тяжелой челюстью лицо бухгалтера становится моложе. «Как пианист», — восхищается она. А на столе Федора Балушева раскрытые папки, счеты уже добрых полчаса ожидают хозяина. В приоткрытую форточку Клаве слышно, как Федор перебрасывается словами с конюхом.
В тишине, нарушаемой лишь щелканьем да шуршанием бумаг, прошел час, второй.
Перед обедом появился Гвоздин, в желтом кожаном пальто и пушистой пыжиковой шапке, осыпанной снегом. Он сказал: «Здравствуйте», а главному бухгалтеру подал лопаткой ладонь. Пожимая ее, Лукичев приподнялся.
— Иван, Александрович, вам два раза из райкома звонили. Просили зайти к Хвоеву.
— Знаю… Был сейчас у него. — Гвоздин достал из кармана пачку «Казбека», взял папиросу, предложил Лукичеву. Тот неловко запустил в коробку желтые от никотина пальцы.
— Давайте, побалуюсь.
Затягиваясь пахучим дымком, Прокопий Поликарпович кивнул на окно:
— Погодка-то, Иван Александрович, будто по заказу охотников. Зайца теперь хорошо брать. Разве махнем, Иван Александрович?
— Да оно не плохо бы, но дела. Дыхнуть некогда. Вот опять выезжать: поручили одно дело подготовить на бюро. Если к выходному управлюсь, съездим. Можно Валерия Сергеевича пригласить. Он заядлый охотник.
— Да? — удивился Лукичев. — Вот не знал.
— Ну как же… Мы с ним не раз ездили… Хотя теперь, пожалуй, не поедет. Жена у него разбилась, в больнице лежит.
— Вот ведь несчастье…
Иван Александрович поговорил еще несколько минут и ушел в свой кабинет, а угрюмое лицо Лукичева долго после этого светилось улыбкой.
В час, когда все собрались на обед, зашла Феоктиста Антоновна. Клаве стало не по себе. Надевая коротенький плюшевый жакет, она покраснела, отвернулась. А Феоктиста Антоновна остановилась посреди комнаты.
— Мне, дорогая, поговорить с тобой надо. Подожди минуточку, я сейчас.
Феоктиста Антоновна ушла в кабинет мужа, а Клава с бьющимся сердцем думала: «Зачем я ей потребовалась? Неужели об Игоре?..»
Клава не ошиблась.
— Я знаю, вы переписываетесь с Игорем, и вообще мне все известно. Знаю, почему он поступил в этот сельскохозяйственный институт, хотя ему там совсем не место, — говорила Феоктиста Антоновна, с напускной важностью глядя в затканную снежинками даль. — Ты не понимаешь по молодости, но вы совсем… м… разные. Он тебе не пара. И ты, пожалуйста, не надейся… Этого никогда не будет. Я не позволю. Игорь такой чуткий, способный, вообще необыкновенный. Он очень скоро в тебе разочаруется. Люди должны дополнять друг друга. А ты вот бумаги переписываешь…
Они шли по шоссе. Скованная робостью, Клава шагала неуверенно, приотставала. Но когда Феоктиста Антоновна начала рассчитанно хлестать словами, Клава, вздрогнув, прибавила шагу и поравнялась с Феоктистой Антоновной.
— Вы изо всех сил стараетесь меня обидеть. Что я такого сделала? Зачем усиленно доказывать, что Игорь хороший, а я плохая? Пусть… Какое вам дело до меня?
Феоктиста Антоновна круто обернулась. Их взгляды встретились. Через секунду Феоктиста Антоновна, отвертываясь, процедила:
— Вот ты, оказывается, какая. Я так и думала. Я хочу, чтобы ты поняла…
— А я поняла! — крикнула Клава и побежала к дому. В голове все путалось, кружилось, лицо горело, всю ее колотила дрожь. Опомнилась она только во дворе. «Что я наделала! Еще нажалуется. Выгонят… Ну и пусть выгоняют! Подумаешь… Не пропаду!»
Открывая замок, Клава подумала, что, возможно, за дверями лежит брошенное почтальоном письмо от Игоря. Надо ему сообщить обо всем. Как он отнесется к выходке мамаши?
За порогом действительно белел прямоугольник конверта. Клава торопливо схватила его. Нет, не от Игоря. Кто же пишет? Знакомый почерк. «Училище механизации сельского хозяйства. Н. Белендин».
— Колька… — разочарованно прошептала Клава.
Глава седьмая
С наступлением холодов Марфа Сидоровна стала настаивать, чтобы перевести слабых коров в село, на старый двор. Он с годами сильно обветшал, но до сих пор оставался в колхозе наиболее теплым, удобным. Кузин долго возражал, доказывал, что при плохих зимних пастбищах вокруг села колхоз быстро израсходует все небольшие запасы сена и соломы. И только когда выпал небывало глубокий снег, а старики в один голос стали утверждать, что зима будет лютой, Кузин скрепя сердце согласился:
— Ладно, но не больше полста голов… Самых слабых отберите.
Марфа Сидоровна осмотрела пустовавший несколько лет двор. Под навесами и в пригоне высились кучи перегнившего навоза, заплоты похилились, а кровля во многих местах провалилась, зияла дырами. Чтобы привести все в порядок, потребовалось больше недели. Крышу ремонтировали в последнюю очередь. Колхозник из полеводческой бригады забивал дыры соломой, а сверху присыпал сухим перегноем. Марфе Сидоровне казалось, что он делает все без старания, для вида.
— Не так, Карлагаш. У тебя руки, как отсохлые. — Марфа Сидоровна сама взобралась на крышу.
Над долиной, цепляясь за острые выступы скал, плыли мрачные лохматые облака. Они крошились снежной крупой, которая колко била в лицо, а порывы жгучего ветра толкали то в бок, то в спину.
Работая, Марфа Сидоровна пожалела о том, что не надела утром полушубка. Фуфайку ветер насквозь пронизывает, так недолго и застудиться.
Когда Марфа Сидоровна слезла с крыши, губы у нее посинели, и она с трудом выговаривала слова.
Дома она сразу забралась на большую русскую печь. Протопленная еще утром, печь хорошо сохранила тепло, а на середине была горячей, но Марфа Сидоровна никак не могла отогреться. Тело все время передергивала знобкая дрожь. Прикрывшись старой фуфайкой, Марфа Сидоровна беспокойно думала о завтрашнем дне. С утра надо удостовериться, нарядил ли Кузин людей за кормом. Может случиться — пригонишь коров, а они будут стоять голодными. Все-таки пятьдесят голов — маловато… Но двор такой, что больше не втиснешь, да и с кормами действительно плохо. Можно было заготовить, да не постарались летом.
— Мама, иди ужинать, — позвала Клава.
Марфа Сидоровна не знала, хочется ей есть или нет. Пожалуй, можно бы и поесть, но жаль расставаться с ласковым теплом печи.
— Ужинай, дочка, я потом… Отогреюсь как следует, — сказала она, смежая веки. Где-то совсем рядом монотонно скрипел сверчок, нагоняя дремоту. Ветер, успокаиваясь, беззлобно подвывал в трубе. Марфа Сидоровна заснула, а когда проснулась, ощутила боль в пояснице. Похоже было, что ее кольнули десятки иголок. Никак нельзя было досыта вдохнуть воздуха. Она попробовала повернуться и охнула. «Да что же это такое? Как я поеду за коровами? Да мне и на лошадь не сесть… Вот беда-то…»
Она долго лежала с открытыми глазами, стараясь унять тревожный трепет всего тела, привести в порядок взбудораженные мысли. Потом разбудила дочь:
— Разбери постель да помоги мне слезть.
— Мама! Что с тобой? — сонная Клава беспомощно суетилась по комнате.
— Занемогла.
— Ой, мама!
«Останется на полдороге. Пропадет. Глупая еще…» — Марфа Сидоровна почувствовала, что веки у нее стали горячими, а горло будто сильная рука сдавила. С усилием она поборола волнение и спокойно сказала:
— Пройдет. Отлежусь. Ой, осторожней!.. Подставь к печи скамейку.
Остаток ночи Клава провела без сна, а когда неторопливое декабрьское утро выгнало из дома темноту, дочь собралась за врачом.
— Зайди сначала к Григорию Степановичу. Как бы он не забыл за кормом подводы отправить. Скажи, что на ферму не могу поехать. Пусть кого-нибудь пошлет. Ох, не сумеют они отобрать… Пригонят, какие попадутся под руку.
— Хорошо, мама, все скажу. А ты не беспокойся. Сделают. Я сейчас.
Марфа Сидоровна смотрела в потолок. На одной из досок виднелся черный сучок. Вспомнила, что заметила его, когда после вселения сюда делала первую уборку в доме. В распахнутые окна смотрел тогда веселый май. Май… Не зря старые алтайцы называют его месяцем кукушки… Она мыла потолок, а Клава ползала около стола. Василий стучал топором во дворе. Давно это было и, кажется, совсем недавно. Вроде не жила, а жизнь кончается… Неужели кончается? Как же так?..
Она обрадовалась, когда под окнами послышались голоса и шаги; Вошла Клава, а с ней — врач Тоня Ермешева. Она была своя, сельская. Марфа Сидоровна знала ее с пеленок и не раз ругала за поломанные в палисаднике георгины. Теперь — врач! А Клава вот без пристанища…
— Здравствуйте, Марфа Сидоровна! Что это вы надумали болеть?
Врач внимательно осмотрела больную, прослушала легкие, сердце, измерила температуру.
— Страшного ничего нет, но придется полежать. Выпишу порошки и натирания, а потом посмотрим… Возможно, в больницу положим.
Марфа Сидоровна тяжело вздохнула.
— Вы не беспокойтесь, все будет хорошо. Обязательно поставим вас на ноги.
— Когда же это будет? Не скоро?
— Не быстро. Болезнь запущена.
Присев к столу, Тоня попросила чернила и ручку, чтобы написать рецепт. Она старалась держаться солидно, соответственно своей профессии. Составляя рецепт, глубокомысленно задумалась, нахмурила тонкие черные брови, отчего на переносье смешно набежали легкие морщинки. Марфа Сидоровна устало улыбнулась. Тоня напоминала ей ребенка, который силится изобразить взрослого.
Проводив Тоню, Клава стала собираться.
— Я, мама, в аптеку и на работу забегу. Попрошу Прокопия Поликарповича, он отпустит.
— Ну, иди! И так опоздала. — Марфа Сидоровна глубоко вздохнула и устало прикрыла ладонью глаза.
Пролежав в тишине несколько часов, Марфа Сидоровна почувствовала тягостное одиночество. Болезнь, точно волна Катуни, выбросила ее на берег. Она лежит, а рядом бурливо течет жизнь. И Марфа Сидоровна может только думать об этой жизни, а это еще больше обостряет чувство собственного бессилия. Ей казалось, что до обеда, когда придет Клава, она ни за что не выдержит. Хотя бы кто-нибудь проведал.
И желание Марфы Сидоровны сбылось. Пришел Кузин. Черный поношенный полушубок на нем, как-всегда, распахнут, а руки засунуты в косые карманы у груди.
Он окинул исподлобья Марфу Сидоровну тяжелым взглядом, ничего не говоря, взял стул, сел около кровати.
— Самая зимовка, отел, а она на боковую…
— Разве я по своей воле, Григорий Степанович.
— Конечно, по своей. Кто тебя гнал на крышу? Молодка какая…
— Не думала, что так получится. Хотела как лучше.
— Думать надо. — Кузин закинул ногу на ногу, а коленку прикрыл барашковой шапкой-ушанкой. — Утюгом не пробовала поясницу разогревать? Попробуй. Меня в третьем году вот так же сковало, не ворохнуться. Жена два раза поутюжила — помогло.
— Кто поехал за коровами? — спросила Марфа Сидоровна.
— Пиянтина пришлось отправить.
Кузин достал из кармана кисет, бумагу, спички и неторопливо начал крутить цигарку.
— Боюсь, Григорий Степанович, хватим мы в этом году горя со скотом. Снег-то вон какой выпал. А если еще оттепель? Пропадем.
— Может случиться. — Кузин чиркнул спичкой, затянулся и разогнал рукой дым. — Как с дровами? Не нуждаешься? Ну, я пойду, некогда. Поправляйся. Будет время — еще загляну…
Прошло четыре дня. Марфа Сидоровна испытала на себе все средства — прописанные Тоней порошки и натирания, горячий утюг, распаренный березовый лист, а облегчения почти не почувствовала. Правда, боль в пояснице, кажется, немного улеглась, но ноги по-прежнему оставались непослушными и сердце все время давало о себе знать.
— Завтра отправляй меня…
— В больницу? — Клава побледнела. — Как же это, мама? Я одна останусь?
— А что ж такого? Не маленькая.
— Да я ничего…
— Надо лечиться, а то всю зиму можно пролежать.
— Конечно, надо… Я ведь так просто… Пройдет, думала.
Клава ушла в кухню. Намереваясь помыть посуду, взяла тарелку и, будто застыв, долго стояла с ней.
Глава восьмая
Геннадий Васильевич Ковалев вышел от Хвоева расстроенным, с досадой, что получается все не так, как он думал. Он ехал сюда с одной нетерпеливой мыслью: скорее принять колхоз, привезти семью. А теперь оказывается, что к настоящему делу его допустят не скоро. Да и допустят ли?
Хвоев встретил Ковалева настороженно. Правда, пожал ему руку, даже улыбнулся, но Геннадий Васильевич сразу понял, что все это ради приличия.
— По какому вопросу к нам?
Ковалев вместо ответа достал из кармана направление, развернул его и протянул Хвоеву. Тот прочитал бумагу, посмотрел на Ковалева, потом опять на бумагу и заулыбался, на этот раз совсем иначе — приветливо, всем лицом.
— А я, признаться, подумал — вы с проверкой, — Хвоев, оставив кресло, подсел к Геннадию Васильевичу на диван.
— Знаете что? В «Кызыл Черю» заведующая фермой заболела. Большая труженица, но малограмотная. Не замените ли ее? Познакомитесь с людьми, с хозяйством, а потом посмотрим, решим с товарищами. Согласны? Обратите внимание на Кузина. Председатель колхоза… Любопытный человек.
Геннадию Васильевичу ничего не оставалось, как согласиться. А теперь, направляясь в контору колхоза, он беспокойно спрашивал себя, к чему это. Неужели Хвоев метит его в заведующие фермой? Он, конечно, не против, но обидно, если чувствуешь, что способен на большее.
Ковалев повернул к новому, на каменном фундаменте, дому с распахнутыми воротами и коновязью около палисадника. Прочитав небольшую аккуратную вывеску и осмотрев дом, двор, Геннадий Васильевич с удовлетворением отметил, что Кузин, должно быть, неплохой хозяин.
Когда Геннадий Васильевич вошел в кабинет, Кузин в полушубке и надвинутой на самые брови шапке, писал, грузно налегая грудью на стол. Окинув Ковалева коротким тяжелым взглядом, он опустил голову и, пока шел разговор, смотрел вниз или в сторону. Говорил Кузин так, будто отгораживался от Ковалева высоким забором.
— Я… — начал Геннадий Васильевич, намереваясь объяснить, кто он и зачем пришел.
— Знаю. Звонили уже… — оборвал Кузин. — Какой колхоз хотят тебе дать?
«Боится за свое место», — подумал Ковалев и почему-то смутился.
— Не знаю… Неизвестно… Колхозы не дают.
Наступило неловкое молчание. Не дождавшись приглашения, Геннадий Васильевич осторожно присел на диван, окинул беглым взглядом кабинет. Кремовые стены с высокими под масляной краской панелями, крашеный пол, новая мебель, раскидистый фикус — все это как-то противоречило виду Кузина. В поношенном полушубке, в шапке, с обветренным лицом, изрядно заросшим седой щетиной, он казался здесь скорее случайным пришельцем, чем хозяином. «Конторская жизнь во мне сказывается, — мысленно укорил себя Геннадий Васильевич. — Человек куда-то собирается. Что ж тут особенного? И потом, Хвоев как-то не так поступил. Сразу подозрение…»
— Заведующая МТФ у меня заболела. С самого начала коллективизации на ферме, — глухо, будто рассуждая сам с собой, сказал Кузин.
— Слышал.
— Марфу Сидоровну только что в больницу отправили… Вот и занимайтесь ее делами для практики.
— Я не против, но мне, Григорий Степанович, хочется окунуться в жизнь, побывать на стоянках…
— На стоянках? — Кузин хмыкнул. — Их у нас двадцать девять. До Верхнеобска легче добраться, чем наши стоянки объехать, Но коль такое желание, пожалуйста… Только самому мне некогда, провожатого дам.
Пять дней Ковалев провел в седле. Последнюю ночь он коротал в аиле чабана, который почти ни слова не знал по-русски, но радушно потчевал приезжих бараниной и чегеном[12].
На усадьбу колхоза Геннадий Васильевич возвращался грязный, пропахший дымом, разбитый верховой ездой и угнетенный. Скот бродил по горам, а пастухи присматривали за ним. Какая уж тут продуктивность? Но главное, что удивило Ковалева, — люди. В глуши, окруженные горами и лесом, они месяцами не мылись в бане, не видели газет, не слушали радио и были довольны. Все хвалили председателя.
— Григорь Степаныч — хороший человек. Правильно руководит.
Спускаясь крутой тропой в урочище Тюргун, они встретили Сенюша.
— Дьякши ба, Сенюш!
Старик, узнав провожатого Ковалева, приветливо заулыбался, остановил коня.
— Дьякши! Дьякши! Хорошо!
Они поговорили по-алтайски, затем провожатый обратился к Ковалеву:
— Это наш сарлычник. Однако больше двадцати лет сарлыков пасет. Приглашает чай пить. Тут недалеко…
Сенюш утвердительно закивал головой в круглой меховой шапке.
— Совсем близко — вот там, за скалой.
Усталость вызывала у Ковалева желание скорее добраться до усадьбы. Но Сенюш, принимая обязанности проводника, уже повернул коня. В длинной нагольной шубе, туго перетянутой опояской, старик плотно, как впаянный, сидел в седле, чуть покачиваясь в такт ходу лошади.
За молодым ельником показались пасущиеся вразброд сарлыки. Они вскинули лохматые заиндевелые головы, с диковатой опаской косясь на всадников.
— Ух, какие!.. — удивился Геннадий Васильевич. — Не доите?
— Как его будешь доить? Совсем дикий, — сказал провожатый.
— Вообще-то их доят. Молоко жирное…
Прислушиваясь к разговору, Сенюш оглядывался через плечо. Его сухие обветренные губы растягивались в иронической улыбке. Смешной этот приезжий! Сарлычек доить? Когда их доили?
Ветхий, зияющий черными щелями аил стоял на круглой поляне. С ветреной стороны его надежно прикрывала скалистая гора.
— Так все двадцать лет и живете в аиле? — спросил Ковалев, неловко спешиваясь и высвобождая из стремени носок пима.
— Нет, зачем в нем? — старик рассмеялся. — Я, как бай, живу. У меня пять аилов. Вот тут… Там… и там есть, — Сенюш указал рукавицей в низкое, седое, осыпающееся мелкими снежинками небо. — У самых белков аил… Тот совсем плохой, однако от непогоды спасает.
— Избу надо. Что за житье в аиле!
— Пять изб одному человеку как построишь? — ответил вопросом старик, услужливо распахивая косую дверь. — Заходите. Огонь не потух, однако.
За чаем разговор стал совсем непринужденным. Сенюш вспомнил старое время, когда он воевал в партизанском отряде.
— Кабарга, однако, не знала троп, по которым Сенюш водил партизан. Григорь Степаныч тоже воевал вместе… Ему и двадцати тогда не было. Я тоже еще молодой был. Силы много, и глаз далеко видел. А теперь кругом туман. Плохо, когда старость приходит… — Сенюш грустно задумался, отхлебнул из чашки жирного горячего чая. — Григорь Степаныч правильный человек, очень правильный… Только зачем он много сеять не хочет? Вот тут совсем близко много сеют, а он не хочет.
— А что сеять? — Ковалев, как и алтаец, сидел, поджав под себя ноги, но с непривычки ноги ломило, и они все время разъезжались. Легкий ветерок, проникая в щели, развевал по аилу дым, который лез в нос, ядовито щипал глаза.
— Как — что сеять? — вскинулся старик. — Все надо сеять. Пшеничку, рожь… Все надо…
— Пшеница-то, кажется, здесь не вызревает?
— Зачем не вызревает? Мой сын Андрей МТС работает. Он говорит, есть такая пшеница — скоро поспевает. Каменная мука есть, навоза много…
— Это верно, скороспелые сорта пшеницы выведены, только пойдут ли они здесь? Ведь никто не проверял. — Ковалев озабоченно взглянул на часы и сказал проводнику: — Нам пора. Поздно приедем. Ведь сегодня, кажется, суббота?
— Суббота, — подтвердил Сенюш. — Баня будет. Я тоже потом поеду…
Покачиваясь в седле, Геннадий Васильевич думал о Сенюше. Старик, вероятно, прав. Больше сеять — кормовая база окрепнет, увеличатся надои молока, настриг шерсти прибавится. Почему не понимает этого Григорий Степанович?
Кузин, как и первый раз, принял Геннадия Васильевича холодновато, с заметным недоверием. Быстро окинув его с ног до головы испытующим взглядом, спросил:
— Ну как? Не понравилось?
Ковалев от такого прямого вопроса растерялся, передвинулся на диване, запустил в бороду пальцы.
— Откровенно говоря, да… Не понравилось.
Кузин шевельнул седыми бровями, достал из кармана старый засаленный кисет и начал неторопливо мастерить самокрутку. Потом пододвинул кисет и бумагу на угол стола, поближе к Геннадию Васильевичу. Тот, чтобы поддержать компанию, тоже закурил махорки. Выпустив густую струю бурого дыма, Григорий Степанович поднял на Ковалева усталые глаза:
— Сын у меня инженером на большом заводе. Когда в школе учился, принес книжку про какого-то витязя. Вслух нам с матерью читал. Запомнились мне такие слова:, «Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны».
— Знаю такие слова, — сказал Геннадий Васильевич, чувствуя, как им овладевает обида.
— Еще лучше, если знаешь. — Кузин так налег грудью на стол, что он скрипнул. — Со стороны оно, конечно, видней. Только трудности со стороны не приметишь. Надо самому в дело впрячься. — Кузин побарабанил пальцами по столу. — Я вот когда принял колхоз — люди на трудодень несчастные копейки да граммы получали. Чего там говорить, одной охотой перебивались. Ну, огороды — тоже подспорье. Только у нас много на огороде не вырастишь: камень. А в прошлом году трудодень обошелся в четыре рубля и полкило хлеба. В этом — шесть рублей, пожалуй, перетянет…
— Это хорошо, Григорий Степанович. Я понимаю, напрасно ты думаешь, что я не понимаю… Колхозники уважают тебя неспроста. Но ведь животноводство у вас — основа всего хозяйства. Его надо как-то организовать, тогда доходы еще выше поднимутся.
— Вот, выходит, и не понимаешь, если так говоришь, — сказал Кузин.
Он изо всех сил старался сдержать раздражение, но не смог. Мысль о том, что какой-то горожанин, изучив по книгам сельское хозяйство, пытается поучать, взорвала Григория Степановича. Он выпрямился и, целясь в Ковалева холодным взглядом, начал рассчитанно бить тяжелыми словами:
— У нас на каждого трудоспособного колхозника приходится больше ста голов скота. Да, больше ста. Вот и организуй, повышай продуктивность. Средства теперь есть, рад бы построить коровник, кошары, но кто будет строить? Вон телятник затеяли, два года пурхаемся, а конца не видать. Нет людей, хоть плачь. Десятилетку окончил, уехал учиться, считай, дело с концом, не вернется в колхоз. В армию призвали — тоже пропал для колхоза.
— Бесплатно работать мало, конечно, охотников найдется, — заметил Геннадий Васильевич.
— В этом-то и дело… Я пришел к разбитому корыту. А теперь все-таки хозяйство… Двадцать домиков на стоянках построили, кое-что подремонтировали, сеять понемногу начали, сено косить. — Кузин покосился на приоткрывшуюся дверь: — Кто там? Ты, Бабах? Заходи.
Коренастый алтаец средних лет несмело переступил порог, стянул с головы шапку.
— Что скажешь? В сельпо, что ли, работаешь?
— В сельпо малость работал, а теперь не работаю, — алтаец, подступая к столу, широко и радостно улыбался. — Григорь Степаныч, принимай в колхоз. Чабаном буду…
Председатель хмыкнул, отвел в сторону глаза.
— Ишь ты, опять на баранину потянуло. Закуска неплохая. Нет, Бабах, не нужен ты мне.
Алтаец продолжал еще улыбаться, а брови его поднялись, глаза расширились.
— Почему так говоришь, Григорь Степаныч?
— Сам знаешь, почему… Воспитывать тебя еще надо — пьешь без просыпу.
— Эх, Григорь Степаныч… Пьешь… Пьешь… Вот тут, — он ткнул кулаком в грудь, — больно. Ой, как больно… — Голос у Бабаха дрогнул. Он повернулся и чуть не бегом выскочил из кабинета.
— Колхозник тоже нашелся… — бросил в сторону Геннадия Васильевича Кузин. — В тюрьме сидел, а теперь пьянствует. Когда я принял колхоз, вот таких тружеников человек пятнадцать было. Свита старого председателя, собутыльники… Насилу избавился от них. Несколько человек и сейчас еще треплются, как конский хвост на ветру.
— Возможно, Бабах изменился? — Геннадий Васильевич встал. Ему захотелось непременно поговорить с алтайцем. Он поспешно вышел из кабинета.
Бабах стоял около похожий на бум коновязи. Заметив на крыльце Геннадия Васильевича, он отвернулся, неторопливо зашагал вдоль улицы.
— Бабах, подожди! — крикнул Ковалев.
Бабах, не оборачиваясь, нехотя замедлил шаг. Ковалев нагнал его, и они некоторое время шли молча.
— Куда идешь? — спросил Геннадий Васильевич.
— Куда глаза глядят. Денег нет, а то бы пьяным напился.
— Какой интерес?
Бабах, не поворачиваясь, метнул в Ковалева злой взгляд.
— Когда человек места своего не найдет, что он должен делать, а?
— Искать это место. И не пить, конечно… Какой толк от этого?
— Э, хорошо говорить…
— За что в тюрьме-то сидел? Рассказывай. Возможно, и помогу.
Бабах начал рассказывать сначала неохотно, скупо, потом разоткровенничался. Когда-то уже давно, Бабах украл в колхозе барана. Его осудили. Пока отбывал срок, сынишка умер, а жена вышла замуж за другого. Бабах потерял от горя голову, запил. Он понимал, что поступает не так, что надо расстаться с водкой, взяться за дело, но не хватало сил. Бабах скитался по селу, подряжаясь на случайные работы, заработанное сразу пропивал. Хорошая женщина пожалела его. Она чабан, живет за пятнадцать километров отсюда, на стойбище. Бабах должен вступить в колхоз и переехать к ней. Он хочет жить по-новому, как все люди. Ему сына надо, а если дочка будет — тоже хорошо. Бабах станет много работать, чтобы в семье все были сыты и довольны.
Рассказ о простой, но нескладной жизни алтайца взволновал Ковалева. Искренность намерений Бабаха не вызывала сомнений. Бабах, конечно, всей душой стремится исправиться. Но его надо поддержать, иначе он опять свихнется. Непременно свихнется. Хорошо бы поговорить с женщиной, на которой Бабах хочет жениться. От нее многое зависит. Но в первую очередь надо поговорить с Кузиным. Нельзя так к людям относиться.
— Не горюй! — Геннадий Васильевич хлопнул Бабаха по плечу. — Все будет хорошо! Точно говорю!
Ковалев направился опять в контору, но Кузин уже стоял посреди двора, окруженный колхозниками. Говорили обо всем, значительном и незначительном. Заведующий овцефермой Пиянтин сообщил, что в третьей отаре у двух овец обнаружили чесотку.
— Убай, да ты знаешь, чем дело пахнет? — рассердился Кузин. — Помнишь, как мы маялись с этой заразой? И какой настриг получили? Надо немедленно отбить этих овец. Ветсанитара туда. Обследовать отару. Всех подозрительных выделить!
— Этих двух мы сразу отбили, а больше не заметно…
Геннадий Васильевич слушал, и на душе его вскипела горькая досада. Выходит, об овцах Кузин умеет заботиться, а судьба человека его не беспокоит. Почему это? Говорит Бабаху: «Воспитывать тебя еще надо». А кто же должен воспитывать, если ты первым отталкиваешь его?
— Сегодня же суббота! — вспомнил Кузин и обернулся к Ковалеву: — Пойдем, вынужденный холостяк, мыться. Правда, баня у меня черная, но пару за глаза.
— Спасибо. Я с удовольствием, — сказал Геннадий Васильевич, радуясь, что представляется удобный случай обстоятельно поговорить о Бабахе. Да и помыться не мешало.
Баня действительно оказалась тесной, закопченной, но жаркой. Григорий Степанович плескал на камни квас. Камни ядовито шипели, испуская клубы жаркого духовитого пара. Кузин, крякая от удовольствия, немилосердно хлестал себя веником по бокам, спине и плечам. А Ковалев сидел на корточках у порога и жадно глотал в приоткрытую дверь струю свежего воздуха.
— Ну и парщик из тебя!.. — смеялся с полка невидимый в пару Кузин. — Наш Васятка и то выносливей.
— Отвык. Давно в деревне не живу, — виновато оправдывался Геннадий Васильевич.
— А я вот еще поддам…
Когда, красные, утомленные, они пришли в дом, на столе уже весело посапывал самовар.
— Папа, а почему меня не взяли? — Черноглазый, скуластый мальчонка бросился со всех ног к Григорию Степановичу, схватил за рукав.
— Да тебя же не было, сынок, — Кузин сбросил накинутый на плечи полушубок и повалился на кровать, а Геннадию Васильевичу показал на диван. — Пойдешь с матерью. На первый пар тебе рано.
— Не рано! Не рано! — затопал ногами мальчишка.
— Как же не рано? Сколько тебе лет?
Мальчик на секунду задумался и поднял вверх четыре пальца.
— Вот сколько. Не пойду с бабами.
— У меня тоже такой… Что-то опоздали вы с ним?
— Пойди, Вася, узнай, собрала ли мама на стол. — Проводив его взглядом, Григорий Степанович приглушенным голосом сообщил: — Приемный… Мать лесиной придавило, а он остался сиротой. Двух лет не было.
— Вот как! — удивился Геннадий Васильевич.
Вернулся Вася.
— Все готово. Мама говорит — пусть садятся.
За столом Григорий Степанович сказал что-то жене по-алтайски. Полная седая женщина недоверчиво покосилась на Ковалева.
— Давай! Давай! — потребовал Кузин. — Суббота… Баня…
Жена неохотно достала из настенного шкафчика пол-литра спирта.
— Пьешь? — спросил Григорий Степанович.
— В партизанах был, значит, пью. Немного, конечно…
— А много и не дам.
Кузин выпил полстакана неразведенного спирта и, быстро захмелев, стал непохожим на самого себя. Он как-то обмяк, распустился и говорил без умолку.
— Тохто! Перестань! — одергивала его жена и виновато пояснила Ковалеву: — Ему нельзя пить. Сразу раскиснет. Противно глядеть. А вы… Геннадий Васильевич, не стесняйтесь. Ешьте досыта. Вот сало. Давайте еще чаю налью… Перестань, говорю, болтать!
— Что ты, Анисья, меня одергиваешь? — вскинулся Григорий Степанович. — Что я болтаю? Меня все колхозники уважают, а она, старая карга, кричит. Хм!.. Да без меня колхозники пропали бы, как цыплята-поздныши. Девятнадцать председателей было. Все растащили, пропили. Колхозники должны на меня молиться.
Геннадию Васильевичу хотелось скорее встать из-за стола и уйти. Но делать это было неудобно, и он попросил еще чаю.
— Ты ешь, как дома. — Кузин поднял отяжелевшую голову. — Значит, не понравилось на стоянках? Где же понравится. Ты зоотехник, а мы с церковноприходским образованием.
— Ни вы, ни я в этом не виноваты, — Ковалев опустил в стакан сахар. — Я о другом хотел… Об отношении к людям.
— Люди на меня не обидятся, — перебил Кузин. — За тружеников душу отдам. А лодыри… Лодырям я, конечно, не по вкусу. Спуску не даю!
— Вот, Григорий Степанович, оступится иногда человек, наказание понесет, вину осознает, а доверия к нему нет. Так и ходит годами запятнанный, косятся на него. А бывает, люди хуже в десять раз, в него же первые тычут пальцами. Ведь тяжело такому человеку, очень тяжело. Сила нашего строя в доверии к людям, а мы не всегда проявляем это доверие.
— Подожди! Подожди! Как ты сказал? — По лицу. Кузина было видно, что он усиленно думает. — Сила… в доверии к людям. Это правильно. Хорошо сказал. Только кого ты имеешь в виду?
— Я о Бабахе…
— О Бабахе! — Кузин расхохотался и махнул рукой. — Пропащий человек. Толку не будет. Ты его раз увидел, а мне он все глаза промозолил. Я думал — о ком добром ты…
Геннадия Васильевича оставили ночевать. От беспокойных мыслей он долго ворочался на диване. В окна смотрел с горы шар луны. Ее бледные лучи, с трудом пробивая густую листву расставленных на подоконниках цветов, кропили пол светлыми пятнами. Кузин храпел так, что в груди у него булькало. Геннадий Васильевич прислушивался к этому храпу, им овладевали противоречивые мысли. Кузин благодетелем себя в колхозе чувствует, но… Мальчишку усыновил и, кажется, любит его. А о Бабахе и говорить не стал. Странно…
Проводив мужа, Катя Ковалева несколько дней по-настоящему блаженствовала. Отпала необходимость подыматься затемно, чтобы приготовить мужу завтрак. Теперь она нежилась в постели до десяти-одиннадцати часов. Приоткрыв заспанные глаза, смотрела, как занимается за окнами мутное зимнее утро, как, прильнув к ней, сладко посапывает дочурка, мягкая, теплая, бесконечно дорогая, и опять засыпала.
— Мама, кушать, — тянул из своей кроватки неугомонный Володька.
— Возьми, сынок, сушку в буфете. Стульчик подставь…
Слышалось хлопанье дверей. Соседи уходили на работу, в магазины, на рынки, а Катя, находясь во власти сладкой дремоты, думала о том, что ей спешить некуда. Она может лежать столько, сколько ей хочется. Еще она думала о том, что живет в городе последние дни. Катя ясно не представляла, как будет там, в деревне, но во всяком случае лучше, чем здесь. Ведь жена председателя колхоза… Все станут ее уважать… А здесь, прожив несколько лет, она осталась неприметной. Ее никто не знает, и она никого не знает.
Как-то Катя пошла за молоком. Около магазина толпились женщины, ожидая, когда кончится обеденный перерыв. Катя заняла очередь. Стояла, прислушивалась к разговорам. И о чем только не говорили! Сгорбленная старушка рассказывала, как она домашними средствами избавилась от ревматизма.
— Аню давно не видела? — спрашивала, очевидно, у подруги молодая женщина в модной шляпке. — Виктор бросил ее. Да, да… А ты не знала? Поехал в командировку и там познакомился… Какая-то лаборантка. А девчонка у Ани такая забавная…
Получив молоко, Катя заспешила домой. Шла, натыкаясь на встречных. Дома бросилась к почтовому ящику. В нем лежали газеты, но письма не было. Почему? Сколько дней, как он уехал? Пять… Нет, уже шесть. Это неспроста. Определенно. Там сразу набросятся. Приехал такой видный мужчина.
И кончилась спокойная, полная тихого блаженства и радужных ожиданий жизнь Кати. Теперь она не находила себе места. Мысли, одна нелепей другой, мучили ее.
Вечером, когда уснули ребята, Катя достала из комода альбом с фотографиями. Вот Катя на сцене. Она руководила хором, сама пела, мечтала об известности… Геннадий около коня, на котором разъезжал по колхозам… А вот они вместе около реки, фотографировались еще до женитьбы…
…Захлопнув альбом, Катя взялась за письмо Геннадию. Писала много, все от души. А когда закончила, прочитала — порвала письмо в мелкие клочья.
Через два дня Катя получила от мужа весть. На маленьком листочке Геннадий Васильевич наспех сообщал, что временно работает заведующим фермой. Поэтому с переездом придется повременить…
«Повременить», — думала Катя, вся холодея. Кажется, предчувствие не обмануло ее. Катя, уронив на стол голову, заплакала.
Глава девятая
— Мама, я вот тут принесла плюшек и коржиков. Сама пекла, не знаю, как получились.
Клава сидела на краешке белого табурета, растерянно искала места для внушительного свертка. В большой комнате было, как в лесу после первой пороши, тихо, светло и строго. В этой непривычной обстановке мать казалась совсем иной, чем дома, чужой, далекой.
— В тумбочку положи, — сказала Марфа Сидоровна. — Зина-то заходит?
— Бывает.
— Как они живут?
— Ничего живут…
Марфа Сидоровна высвободила из-под простыни большие костлявые руки с густыми веточками темных вздувшихся вен.
— Ну, а с работой как?
— Работаю… Делаю, что заставят.
Клаву тянуло открыться матери, сказать, что работа ей уже опротивела. Надоело с утра до вечера переписывать непонятные цифры, линовать бумагу, а другого интересного, Прокопий Поликарпович почему-то не поручает. Не доверяет, что ли? Но Клава ничего не сказала. Мать и так осунулась, морщин заметно прибавилось. Зачем лишнее беспокойство?
— Мама, тебе полегчало?
— Искололи всю… Будто лучше немного. Как там на ферме? Не слыхала?
— Нет… Собираюсь все сходить, да некогда.
По тому, как мать отвела в сторону глаза, стало понятно, что она недовольна. «Сходить надо. Сегодня же схожу», — мысленно решила Клава и вдруг, нарушая строгую тишину, радостно вскрикнула:
— Да, совсем забыла! Эркелей недавно встретила. Смеется, как всегда… Серьги новые, большущие. Она теперь тут, на старом дворе. Приглашала на Ласточку полюбоваться.
— Я наказывала Чинчей, чтобы Ласточку пригнали… Слабая… Отелится скоро. Ну, еще что наговорила Эркелей? — Марфа Сидоровна, морщась от боли, повернулась на бок, подвинулась ближе к дочери.
— Еще?.. Еще, говорит, у них новый заведующий. Практику на председателя проходит. Черный, говорит, с бородкой, Эркелей, конечно, в него влюбилась. Знаешь ведь, какая она. В каждого нового человека влюбляется.
— Смешная девчонка. — Марфа Сидоровна улыбнулась, оживилась. — В руках ее надо держать.
Разговор пошел непринужденней.
Клава провела у матери около часа. Выйдя из больницы, она нерешительно остановилась. Что делать? Сидеть остаток выходного дома — скучно. Не лучше ли теперь же сходить на скотный двор? Посмотреть на дела, поболтать с Эркелей. Она обязательно насмешит.
…Скотный двор был закрыт решетчатыми воротами. Коровы, толкаясь, ели разбросанную кучами солому. Клава остановилась, отыскивая Ласточку. Но ее не было. Девушка открыла ворота и прошла под навес. Ласточка одиноко стояла в углу, опустив голову, будто о чем-то сосредоточенно думала.
— Ласточка!
Корова посмотрела на Клаву и замычала.
— Узнала… — обрадовалась девушка. — Ты что же не ешь? Матерью скоро станешь, дуреха. — Клава почесала Ласточку за ухом. Заметив остро выпиравшие из-под кожи ребра, сокрушенно покачала головой: — Ну и худущая ты. Плохая из тебя мать будет.
— Клава!
Девушка обернулась. К ней в радостном возбуждении бежала Эркелей. Обняла, поцеловала в одну щеку, потом, отпрянув, посмотрела на подругу сияющими глазами и чмокнула во вторую.
— Пришла! Вот хорошо!
Клава, улыбаясь, смотрела на Эркелей и думала: «Какая она все-таки хорошая, и настоящая красавица».
— Пойдем! Пойдем! — Эркелей схватила Клаву за руку. — Пойдем, покажу тебе своих телят.
— Каких телят? — удивилась Клава. — Ты разве уж не доярка?
— Нет… Я телятница. Наш новый заведующий, — Эркелей вздохнула, заводя под лоб черные озорные глаза, — наш новый заведующий Геннадий Васильевич сказал, что я очень люблю телят. А я правда их люблю, только не замечала… Пойдем! Восемь телят… Скоро еще будут.
— Пойдем, — согласилась Клава.
Позади послышалось призывное мычание. Ласточка, вытянув шею, смотрела на Клаву с укором, точно хотела сказать: «Зачем ты уходишь?»
Эркелей привела подругу в большой приземистый сарай. Сообщила со смешной важностью на лице.
— Мы телят выращиваем в неотапливаемом помещении. Смотри…
Привыкнув к полумраку, Клава увидела клетки. В них на толстой подстилке лежали телята с накрытыми мешковиной спинами.
— Хорошие? Нравятся тебе? — тормошила подругу Эркелей.
— Справные телята, — согласилась Клава.
Похлопывая их по курчавым лобикам, Эркелей переходила от клетки к клетке. Внезапно лицо ее омрачилось, губы скорбно перекосились.
— Этот уже пять дней хворает. Ветеринар давал лекарство — не помогает. Я знаю… Бабушка говорила… — Эркелей, взяв Клаву за ворот жакета, таинственно зашептала: — Все проделки Эрлика. Злой, не хочет, чтобы у меня были хорошие телята. Клава, ты помоги мне, дорогая. Надо обмануть Эрлика. Давай выпустим телят на прогулку. Ты погонишь четырех в одну сторону, а я в другую. Эрлик запутается, потеряет след. Обязательно потеряет!
Эркелей говорила убежденно, горячо дыша в щеку подруге. Клава громко рассмеялась.
— Эркелей, как тебе не стыдно? Ты же комсомолка!
Эркелей вспыхнула, смущенно забормотала:
— Я нисколечко не верю… Но ведь попробовать можно. Беды нет. Все равно, телят гоняю на прогулку.
— Ой, уморила!.. До чего же ты смешная.
Черные узкие глаза Эркелей наполнились слезами.
— Клава, ты никому не говори, а то все смеяться станут.
— Хорошо, не скажу. Только глупостями голову больше не забивай. — Клава вышла из сарая. Вслед шла недовольная Эркелей.
Холодное, будто остывшее солнце, утопая в белесой мути, поспешно спускалось за гору. В ущельях уже сгущались сумерки, окутывали лес, плыли в долину. Заметно крепчал мороз. В стылой тишине совсем близко, по-особенному бодро тяпал топор, его перебивал молоток.
— У вас, что ли, плотничают?
— У нас. Ясли делают. — Эркелей оживилась: — Геннадий Васильевич сам плотничает, а Бабах помогает. Знаешь Бабаха? Да знаешь, конечно! Пьяный все время шатался по селу. А теперь не пьет. С самого утра приходит к нам и сидит. Трубку курит да с Геннадием Васильевичем разговаривает. Ходит за ним, как теленок. Сегодня ясли помогает делать. Не колхозник, а работает. — Эркелей вздрогнула. — Я замерзла… Пойдем погреемся.
— Да мне домой, кажется, пора.
— Пойдем. Надоест еще дома одной.
— Это правда, — согласилась Клава, наблюдая за дымком. Он пушистым столбом поднимался из трубы дома, заманчиво напоминая о тепле.
Они подошли к покосившемуся крыльцу. В это время из-за угла вышел. Ковалев. Увидев его, Эркелей смущенно прикрыла рукавицей лицо, хихикнула. Клава, взглянув на Ковалева, почувствовала, что где-то видела его. Где? А Ковалев будто запнулся, снял с рукава полушубка стружку.
— Я вас где-то видел.
— Я тоже… — несмело сказала Клава, — но не вспомню.
— Вспомнил! — обрадовался Геннадий Васильевич. — В поезде!
— Ой, правда!..
— Спасителя своего забыла. Ай-ай-ай, нехорошо. — Ковалев, усмехаясь, укоризненно покачал головой. Девушка упорно смотрела на носки своих пимов.
— Бы, кажется, ехали тогда поступать в институт? Что же?
— Не прошла по конкурсу. — Клава, обойдя подругу, поднялась на крыльцо.
— Вон как получилось, — Геннадий Васильевич запахнул полушубок. — Теперь сидите дома?
На смуглых щеках Клавы проступил румянец.
— Почему так думаете?
— Потому что многие так делают. Сидят… Ждут, как говорится, у моря погоды.
— Я работаю в райпотребооюзе.
— Клава — Марфы Сидоровны дочь, — объяснила Эркелей.
— Дочка Марфы Сидоровны? Вот не знал! Давно собираюсь побывать у нее, да все время никак не выкрою. Как она себя чувствует?
— Спасибо, — смягчилась Клава. — Как будто немного получше стало. Проведайте. Мама обрадуется. Она в третьей палате.
— Я тоже проведаю, — сказала Эркелей.
Девушки вошли в дом. В большой квадратной комнате с неровным затоптанным дочерна полом и закопченными стенами было тихо. Ржавый, похожий на старинный пятак, маятник поспешно метался из стороны в сторону, бросая тиканье в устоявшуюся тишину. Эркелей сдернула рукавицы, протянула над плитой ладони с негнущимися пальцами.
— Разошлись все. Иди, грейся!
Клава тоже протянула к плите руки.
— Понравился наш заведующий? — с лукавыми искорками в глазах спросила Эркелей.
Клава нахмурилась:
— Ты какая-то восторженная и непостоянная. Просто удивительно! Тогда на стойбище шофер агитбригады у тебя с языка не сходил. Раз увидела и обмерла… Нельзя так! А теперь с заведующего глаз не спускаешь. Даже неудобно. Он же в два раза старше тебя, семейный, конечно… Забиваешь попусту голову, как Эрликом.
Эркелей, обиженно надув губы, подумала, что с Клавой, оказывается, нельзя откровенничать. Ей нравится Геннадий Васильевич, и нет ей никакого дела до того, что он в два раза старше и женатый. А Клава говорит так потому, что сама, похоже, влюбилась в Геннадия Васильевича. Еще там, в поезде, когда ездила в город.
— Чем думать о пустяках, лучше бы прибрали в комнате. Смотреть противно. Новый заведующий скажет, неряхи какие-то.
Эркелей улыбнулась, довольная, что разговор уходит от неприятной для нее темы. Да и обижаться она долго не умела, особенно на Клаву.
— Это правда. Чинчей тоже говорила — побелить надо. Да известки нет. Я два раза на складе была. Мне для клеток надо. Геннадий Васильевич хотел…
— Много тут известки потребуется! — перебила Клава. — У нас, кажется, есть. Приходи.
— Ой, какая ты молодец! — Эркелей схватила подругу за локоть. — Сегодня же приду. Нет, завтра, пожалуй. — Девушка вдруг задумчиво прищурилась и тихо сказала: — А у нас ведь тоже есть известка. Почему я не догадалась?.. Я лучше принесу из дому.
Зашел Ковалев, следом — Бабах в распахнутой фуфайке, из карманов которой торчали небрежно засунутые рукавицы. Развалисто ступая, он неторопливо, с достоинством пересек комнату и опустился на лавку. Вид у него был разморенный, но довольный, как у человека, который много и ладно потрудился и все сделанное радует, веселит его душу.
— Бабах, я даже не думал, что ты мастер по плотницкому делу, — сказал Геннадий Васильевич, присаживаясь к шаткому сосновому столу.
— Все понемножку можем… — Бабах достал из кармана коротенькую трубку. — Теперь меньше корма потребуется. Коровы не будут его затаптывать.
Приход Геннадия Васильевича насторожил Клаву, Боясь, что Ковалев опять начнет неприятный для нее разговор, она, поправляя мелкими торопливыми движениями цветной полушалок, сухо бросила:
— Мне пора!
— Ты, Клава, одна теперь живешь? — запросто спросил Геннадий Васильевич, будто давно знал девушку.
— Одна…
— Да… — Ковалев вздохнул. — Незавидные дела… Что говорят врачи? Долго пролежит Марфа Сидоровна?
Клава сдержанно ответила, но Геннадий Васильевич задавал все новые и новые вопросы. При этом он смотрел на девушку тепло, заметно тронутый ее участью, и Клава, сама не замечая как, разоткровенничалась, рассказала, что все время мечтала стать зоотехником, работать в родном колхозе, но ничего не вышло. А теперь еще мать заболела, и жизнь, действительно, оказалась несладкой.
— Зоотехник колхозу нужен, очень нужен. Без зоотехника не делается самого необходимого. — Геннадий Васильевич помолчал, теребя пальцами курчавую бородку. — И не только зоотехник требуется колхозу, а вообще люди, особенно грамотные. Почему пошла в райпотребсоюз?
— Я… Я хотела на ферму устроиться, а мама не разрешила, — сказала в замешательстве Клава и тут же, спохватись, подумала, что ответила опрометчиво, по-детски, даже глупо. Досадуя, она решительно повернулась к двери.
Геннадий Васильевич поднялся.
— Будет, Клава, свободное время — заходи. У нас веселее, чем в конторе. Живое дело.
Глава десятая
В понедельник Клава, придя в контору, впервые заметила, что загроможденная столами комната мрачная и насквозь пропитана тошнотворным махорочным дымом.
— Клава, перепиши-ка вот эту ведомость. Только без ошибок и поаккуратней! — Лукичев внушительно смотрел поверх очков.
Она взяла ведомость и будто невзначай покосилась на часы. Пятнадцать минут десятого… «Ой, как долго до обеда. А шести, кажется, и не дождешься вовсе».
Переписывая цифры, Клава вспомнила Ласточку. «Сколько времени не видала меня, а сразу узнала. Стоит в углу, как сиротка. Так индивидуалисткой и осталась». Клава беззвучно рассмеялась. Ей пришло на память, как Эркелей намеревалась обмануть злого бога Эрлика.
В обеденный перерыв сотрудники поспешно разошлись кто домой, а кто в чайную.
— Федор Александрович, что это вы сегодня не торопитесь? — спросила Клава, надевая жакет.
— Решил почитать. Перекусить я с собой прихватил. — Балушев достал из стола толстую книгу и сверток с едой. — Почему вчера не заходила?
— Вчера на ферме была. Мама интересуется, а я ничего не знаю… Вот и ходила.
— Ковалева видела?
— Видела.
— Зоотехник, важный пост занимал в Верхнеобске. По своему желанию к нам приехал.
Клава вспомнила вчерашний разговор с Ковалевым, и ей стало не по себе. Стараясь не показать смущения, она, накидывая полушалок, спросила:
— Что читаете? Романом увлеклись?
— Увлекся, но не романом, — Федор показал заглавие книги.
— «Организация животноводства в колхозах». Зачем это вам? — удивилась Клава.
— Любые знания не бывают лишними. На днях должен состояться Пленум ЦК по животноводству. Много нового будет. Вот и читаю… Клава! Я думаю: почему ты заочно в институт не поступила?
— Сама не знаю. Я тогда так растерялась, что ничего не соображала. Даже документы не взяла. После прислали. А потом нет особого желания. Говорят: курица не птица, заочник не студент.
— Ну, это для красного словца говорят. А учиться надо. При желании заочно можно получить не меньше. Иди, а то не успеешь пообедать.
«Маме надо сказать о Пленуме. Обрадуется она», — думала Клава, и сама ощутила радость. Ей казалось, что ее серая, однообразная жизнь чем-то нарушилась, что-то сдвинулось в ней, оживилось. Но чем нарушилась и что сдвинулось — Клава не понимала. Она чувствовала только, что настает какое-то пробуждение, ею овладевают беспокойство и нетерпеливое ожидание. «Возможно, это потому, что скоро Игорь приедет. В феврале каникулы. Он писал», — думала Клава, но тут же убеждалась, что не только потому. Есть что-то еще не осознанное. Приезду Игоря она, конечно, очень рада, ждет его с нетерпением. Клава, волнуясь, не раз представляла себе встречу с ним. Интересно, какой он теперь? Изменился, наверное… А мамаше Игоря их встреча, конечно, не понравится.
…Клава стала наведываться на скотный двор. Ее тянуло повидаться с Эркелей, посмотреть на свою любимицу Ласточку, узнать, что нового на стоянках. Но за этими простыми причинами крылась еще одна, порожденная любопытством и настороженным чувством. Ей хотелось знать, как работает Ковалев, что он сделал такого, что не делала ее мать.
Вначале она не заметила никаких изменений. Все шло, как при матери. Правда, комнату побелили и по стенам развесили красочные плакаты. В них рассказывалось о правилах дойки коров, о том, как собирать шерсть-линьку, как приготовлять для скармливания грубые корма. Потом Клава узнала, что Ковалев организовал зоотехническую учебу. Эркелей с восхищением рассказывала, как хорошо он объясняет: «Все, все понятно». Слушая подругу, Клава с горечью думала: «Мама тоже говорила об учебе. Только сама она не могла. Ждала, когда я зоотехником стану. И о яслях все время беспокоилась. Но Григорий Степанович говорил, что нет плотников».
В один из выходных дней Клава, идя на ферму, издали заметила столпившихся в пригоне людей. Среди них девушка узнала Ковалева, Кузина, Чинчей и Эркелей. Что там случилось? Охваченная предчувствием недоброго, она ускорила шаги. Клава была совсем близко, когда из ворот пригона поспешно выскочила Эркелей. Клава окликнула ее, но та отмахнулась: дескать, не до тебя теперь. И Клава еще больше прибавила шагу. Она почти бежала. Еще из ворот девушка заметила лежавшую на снегу корову. Впереди стояли люди, корова была плохо видна, но по золотистой масти Клава сразу догадалась, что это Ласточка.
— Ой, что с ней?
Люди мельком оглянулись на девушку, но никто не проронил ни слова. Клава подошла ближе. Ласточка лежала, тяжело поводя боками, бессильно уткнув морду в грязный истоптанный снег.
— Кажется, отравление, — сказал Геннадий Васильевич.
— Мы не ветеринары, — буркнул Кузин. — Ветеринар и то не всегда определит. — Он помолчал и мрачно добавил: — Прирезать надо. Пропадет.
— Как это прирезать! — возмутилась Клава. — Да вы что, Григорий Степанович? Самая хорошая телка… Она симменталка, скоро отелится.
— Выходит, если симменталка, так пусть подыхает?
— А может, она поправится, — Клава склонилась над коровой, похлопала ее по холке, погладила: — Ласточка, что с тобой? Захворала?
Но корова была ко всему безучастной. Она даже ухом не повела, не приоткрыла мутные глаза.
Прошло еще несколько минут, и все тело Ласточки забилось в судорогах. Корова тяжело и жалобно стонала, а ноги выпрямлялись, становясь похожими на палки.
— Все ясно! — встрепенулся Геннадий Васильевич. — Отравление. Мы ее спасем.
— Спасете? — с недоверием протянул Кузин. — Чинчей, приготовь нож!
— Да подождите с ножом, Григорий Степанович, — сказал Ковалев. — Я говорю, что спасем! Надо парного молока. Чинчей… И угля древесного… — Ковалев обернулся к Клаве: — Раздобудь. Забеги в ближайшие дома. Там же истолки его в порошок. Поскорей только!
В пригон вбежала запыхавшаяся Эркелей.
— Ветеринар белковать уехал. Дедушка Сенюш дома. Сейчас приедет.
— Это хорошо. Старик понимает не меньше нашего ветеринара. — По голосу Кузина чувствовалось, что он решил отойти в сторону. Пусть делают, что хотят. В душе он, пожалуй, был не прочь, чтобы Ковалев оконфузился. Конечно, жаль, если телка подохнет, но зато спеси у Ковалева поубавится. А то куда тебе, все знает!
Пока Клава, бегая из дома в дом, искала древесный уголь и толкла его в порошок, приехал верхом Сенюш. Наскоро привязав к ограде коня, он валкой походкой прошел к корове. Все почтительно расступились.
— Эзен! — бросил старик, устремляя взгляд на Ласточку. — Чем кормили?
— Сеном, — ответил Геннадий Васильевич.
— Сеном, — кивнула Чинчей. — Вчера привезли.
Сенюш, ничего не говоря, пошел из пригона. За ним двинулись Ковалев, Чинчей, Кузин и все остальные. Сняв рукавицу, старик выхватил из кучи сена пучок, долго разглядывал его, выхватил другой.
— Курон! — убежденно сказал Сенюш… — Вот… Зеленые листочки… Шибко дурная трава.
— Ведь не одну кормили. Всем коровам давали, — заметил Кузин.
— Старая корова понимает. Она не кушает курон. А эта молодая, голодная… Вот и нахваталась. Парное молоко помогает. Угля подмешать. Пройдет. Только скорей. Плохо — стельная она. Как бы не скинула…
Клава засуетилась, радуясь надежде на выздоровление Ласточки и тому, что прав оказался Геннадий Васильевич, а не Кузин. Зарезать-то проще всего…
Ласточке вливали из бутылки составленное Сенюшем лекарство. Спустя полчаса глаза коровы заметно оживились. Она подобрала под себя ноги и стала изредка приподымать голову.
— Пройдет! — убежденно заявил Сенюш. — К вечеру поднимется.
Все ободрились и начали постепенно расходиться. Клава задержалась. Ее беспокоило, что Ласточка, долго лежа на снегу, простудится. Она набрала объедков и натолкала их под бока корове.
— Так-то лучше, теплее, — удовлетворенно сказала Клава.
Девушка вышла из пригона, потом вернулась и, вздрагивая от пробиравшего ее холода, долго еще наблюдала за любимицей.
В доме Клава застала Ковалева и Сенюша. С трубкой в зубах старик сидел около печки, в которой бурно гудело пламя. Наслаждаясь теплом, он, кажется, впал в приятную дремоту. Но как только Клава переступила порог, Сенюш открыл глаза, встряхнулся.
— Как живешь, дочка? Ты разве на ферме работаешь?
— Нет, в конторе я… Просто так пришла.
Сенюш довольно кивнул, улыбнулся.
— В конторе хорошо… Всегда тепло и руки чистые. Помнишь, я говорил — в конторе работать станешь. По-моему вышло.
Клава хотела возразить: она вовсе не рада этому. Но ничего не сказала. Старика вряд ли убедишь, только нанесешь обиду.
Расспросив Клаву о Марфе Сидоровне, Сенюш исподволь повел разговор о сыне, многозначительно посматривая на девушку маленькими, упрятанными в морщины глазами…
— Колька в брата пошел, на механика учится. Все машины знать хочет.
— Да… Я слышала… У него склонность к технике. Способный… Геннадий Васильевич, сено-то из яслей убрать надо. Как бы остальные не отравились.
Ковалев встревоженно поднялся.
— А разве не убрали? Совсем забыл в этой канители. Конечно, надо убрать.
Ковалев поспешно вышел, громко хлопнул дверью, Сенюш пододвинул к себе табурет.
— Садись, Клава, погрейся…
Наедине старику хотелось поговорить с девушкой более определенно, выведать ее отношение к Кольке. Они, молодые, на телят похожи. Будут бегать, выбрыкивать, а друг к другу не подойдут.
— Садись, Клава, — повторил старик, хлопая ладонью по табурету.
Но девушка, угадав его намерения, уклончиво сказала:
— Спасибо, дедушка. Я уже отогрелась. Побегу.
— Будь здорова! — обронил Сенюш и, чмокая сухими губами, жадно затянулся трубкой.
Ковалев, увидев Клаву, задержался у крыльца:
— Хороший старик, а рассуждает странно. Сын учится на механика — он доволен, гордится… А вот девушка почему-то обязательно должна сидеть в конторе. Не понимаю… — Ковалев, задумчиво прищурясь, смотрел вдаль, туда, где заснеженные вершины гор сливались с пеленой облаков. — А не сказывается в таких рассуждениях прошлое алтайцев? Знаешь ведь, как они раньше относились к женщинам.
— Не знаю, что сказывается… Мама тоже так рассуждает. Она не алтайка…
— Мать — иное дело, понятно. Родители стремятся устроить своего ребенка лучше, счастливее. Стремление неплохое, только счастье зачастую понимают по-обывательски, с пренебрежением к физическому труду. Считают, что хорошую жизнь можно найти только с институтскими дипломами или в конторе. Это, пожалуй, идет от старого, когда интеллигенция жила в довольстве, а простой народ нужда колотила. Теперь рабочий и колхозник могут жить не хуже инженера или агронома… Все от самого зависит. А потом, дело не только в материальном обеспечении. Труд должен приносить удовлетворение, радость. Я, например, не чаял вырваться из конторы, а получал там куда больше.
— Как наш товаровед Балушев… Тоже ненавидит контору. Говорит, каждый человек должен найти такую работу, чтобы душа радовалась.
— Я и не думал, что Балушев такой. Интересно…
— Смотрите! Смотрите! Ушла!
Ковалев не сразу сообразил, о ком говорит Клава. Но, посмотрев на пригон, догадался: Ласточки на прежнем месте не было.
Ковалев и Клава зашли под навес. Ласточка стояла, прислонясь к стене. Колени у нее дрожали, но смотрела она бодро и даже попыталась приветствовать Клаву мычанием. Вышло не совсем ладно.
— Вот видишь… — взволнованно сказал Ковалев. — Спасли… И в каждом деле так… есть линия наименьшего сопротивления. Удобная, но вредная линия.
— Может, напоить ее надо?
— Можно попробовать, — согласился Геннадий Васильевич. — Только подогретой водой… Я скажу Чинчей, она сделает…
Ковалев сбоку, осторожно, будто невзначай, взглянул на Клаву. Ее смуглое лицо было бледно и неподвижно, точно застыло на морозе, а черные с косиной глаза рассеянно блуждали, ничего не замечая и ни на чем не задерживаясь.
— У матери была?
Вздрогнув, Клава посмотрела так, точно очнулась. Геннадий Васильевич повторил вопрос.
— Нет, не была еще. Как бы не опоздать!
Клава поспешно вышла из пригона, но вскоре замедлила шаги, а потом и вовсе остановилась. Казалось, скрип стылого снега под ногами мешал ей разобраться в вихре мыслей и впечатлений.
Геннадий Васильевич затронул своим разговором наболевшее, то, над чем она все последнее время много и мучительно думала. А решать надо теперь, иначе потом будешь метаться, как Федор. Где ее радость? Неужели на ферме, около Ласточки? Хорошо бы посоветоваться, открыть свою душу. Но с кем? Мать на все смотрит по-своему. Геннадия Васильевича она стесняется. Вот только Игорь… Он хороший, чуткий. Поймет… Скорей бы приезжал!
Глава одиннадцатая
Клава спросила по телефону, скоро ли выпишут мать. Татьяна Власьевна сказала, что полежит еще с недельку. А если подоспеет путевка, то ее сразу отправят на курорт. С опечаленным видом Клава повесила трубку, постояла и только направилась к своему столу, телефон дребезжаще зазвонил.
— Да… Балушев? — Клава посмотрела на Федора. — Здесь.
Федор, громыхнув стулом, быстро встал и взял из рук Клавы трубку.
— Я слушаю. Здравствуйте. Сейчас? Хорошо.
Федор не сложил, а скорее сгреб в ящик стола бумаги, надел свою куртку с косыми карманами и, снимая с полочки шапку, бросил, ни к кому не обращаясь:
— Я в райком… Вызывают.
Когда дверь за Балушевым закрылась, Лукичев, отрываясь от бумаг, хмыкнул:
— Рад стараться… Помчался.
«Что делать, если вызывают? Не идти, что ли?» — Клава холодно посмотрела на главного бухгалтера…
Принесли почту. Клава развернула «Комсомольскую правду», в глаза бросился крупный заголовок: «Молодежь — на фермы!» Под заголовком — портрет девушки. Пышноволосая, она весело смотрела на Клаву, будто на что-то подзадоривала. Клава прочитала ее выступление. Оказывается, девушка работала мастером на кондитерской фабрике, а теперь едет в колхоз, чтобы стать дояркой. Она писала:
«Я знаю, что первое время мне будет нелегко. Придется встретить немало трудностей и в работе, и в быту. Но трудности меня не пугают. Ведь долг молодежи, комсомольцев — быть в первых рядах строителей счастливой жизни, идти туда, где больше всего требуется кипучая энергия, молодые силы!»
Прикрыв ладонью глаза, Клава думала о том, что не известная ей Лара — решительная. Оставить, родных, город, квартиру… И все же решилась. А она, Клава, не может решиться, хотя чувствует, что не найдет своего места в конторе, не лежит у нее к этой работе душа.
Этот день показался Клаве неимоверно длинным. Один тягостный час сменялся другим, еще более тягостным. Весь день она просидела над бумагами, делая вид, что работает, а на самом деле ничегошеньки не сделала. Все так надоело, опротивело, глаза бы не глядели. Вот осталось каких-то пятнадцать минут, и никак не дождешься, когда они кончатся.
Потеряв терпение, Клава осторожно подошла к вешалке, оделась и, не прощаясь, как бы ненадолго, вышла. Улица, дома и окрестные горы, утопая в загустелых сумерках, стали бесформенными, черными. Привычно пробираясь извилистой тропинкой вдоль домов, Клава сначала слышала тугой скрип снега, голоса, а потом уже начинала различать силуэты прохожих.
Клава выбрилась на дорогу. От свежего морозного воздуха на душе стало спокойнее. «Почему я весь день не в себе? Сердце так болит. Ведь ничего особенного не случилось».
Дом стоял тихий, с черными до жути окнами, и у Клавы сразу пропало желание заходить в него. Немного подумав, она решила завернуть сначала к Балушевым, узнать новости и пригласить кого-нибудь к себе ночевать.
Мать Федора месила на столе тесто. Зина тут же толкла в чугуне картошку, от которой столбом валил пар, а Иринка, преследуя кошку, забралась под стол. Клава поздоровалась и, пройдя, присела на ящик.
— Раздевайся, — предложила Зина. — Скоро пирожки будут. Вот Федор придет…
— Его нет? — удивилась Клава. — И в конторе не было. Как ушел в райком, больше не приходил.
— Куда же он делся? — забеспокоилась Зина.
— Значит, дела, — заметила свекровь. — Придет.
Зина отодвинула от себя чугунок.
— Пойду-ка я…
— Куда ты пойдешь? — спросила ее свекровь. — Не хватало чего… Придет!
И действительно, вскоре хлопнула калитка.
— Идет! — Мать поставила на плиту сковородку с пирожками. Иринка, бросив кошку, выскочила на середину кухни и нетерпеливо уставилась на дверь. Как только она открылась и в черном проеме показался Федор, девочка метнулась к отцу, закричала:
— Папа! Папа! Что принес, папа?
Федор, сняв рукавицу, погладил дочку по голове.
— Новости, Ирочка, а больше ничего.
— Давай! — притопывая от нетерпения, дочка запустила ручонки в карман отца. — Хочу новости!
— Да подожди, дочка. Возможно, не понравятся?
— Понравятся! Понравятся!
— Не приставай, Ира! — прикрикнула на внучку бабушка. — Дай папе раздеться. Зина, в буфете, кажись, конфетки остались. За большим блюдом…
Когда Федор разделся, мать предложила:
— Ну, давай теперь новости.
— Да ничего особенного, — Федор повел глазами в сторону Клавы. Она поняла, что Федор стесняется при ней говорить, встала.
— Домой пойду.
— Да сиди! Куда же ты пойдешь! — сказала Зина. — Что дома-то делать?
— Сиди, — не очень энергично поддержал жену Федор. — В колхоз мне предлагают… Заведующим свинофермой. Это все Гвоздин предобрый устроил. Я знаю… Он свинью подложил. Ненавидит меня…
— А чего ты сердишься? — удивилась Зина. — Сам все время рвался из конторы. Вот и иди…
— Иди… Легко сказать…
— Смотри сам, где способней, — сказала мать.
— Это конечно… — буркнул Федор и взволнованно забегал по тесной кухне. — Тут надо подумать. Не так-то это просто. Со здоровьем у меня неважно.
Клава смотрела на Федора с недоумением. Что с ним? Он возмущался порядками на свиноферме, поссорился с Кузиным, жаловался в райисполком. В последние дни у него, кроме как о Пленуме, разговора не было. Читал книжку по организации животноводства, а контору все время проклинал. Да Федор ли это?
Внезапно пришел Ковалев.
— Тонкий нюх у тебя на пирожки. Снимай свою шубу, будь как дома. Без семьи-то плохо, — с напускной бойкостью тараторил Федор.
— Проходите в горницу, — предложила Зина.
— Меня ведь в райком вызывали, — сообщил Федор.
— Знаю.
— Уже? Я, конечно, подумаю. Животноводство — дело нужное… Но… Здоровье. Сердце у меня… Вот на месте Клавы я не колебался бы.
— А я не колеблюсь! — резко бросила девушка.
Соскочив с ящика, она вышла из дома.
— Ух, какая… Фыркнула… Сказать ничего нельзя…
Федор переводил растерянный взгляд с жены на Ковалева. Но Зина, потупясь, молчала, а Ковалев забарабанил пальцами по столу.
— Такая обстановка… — Он потянулся к подоконнику за шапкой. — Самое трудное время… В свинарнике два человека осталось. Потом все наладится… Будут люди. Уверен! А вот теперь…
…Клава поспешно прошла двор и только за воротами остановилась.
— Ну вот и все, — сказала она себе, пытаясь понять, хорошо или плохо она поступила. Но сразу так и не поняла. Было до слез досадно, что ошиблась в Федоре. Каким болтуном оказался! А она, Клава, не отступится. Сказала — все. Ведь главное — решиться. Вот так бывает, когда купаешься. Топчешься на берегу, а в воду прыгнуть страшно. Когда прыгнешь — замрет от холода сердце, захватит дыхание… Но только на какую-то секунду, а в следующую все пройдет. Потом даже смешно станет, что боялась.
Часть третья
Глава первая
В начале февраля морозы неожиданно спали, установилась теплая безветренная погода. Григорий Степанович воспользовался ею и объезжал животноводческие стоянки. Сам не зная почему, он на этот раз не выбирал кратчайших, но опасных тропинок, не скупился на посторонние разговоры, не отказывался от чая и ночевок.
Надолго задержался Кузин у Сенюша Белендина. В разговоре вспоминали прошлое.
— А ведь если бы не ты, Сенюш, ухлопал бы меня бандит. Помнишь? Теперь бы и косточки сгнили.
— Да, ловко он тогда наскочил… — Сенюш неожиданно двинулся к председателю, заглянул в его морщинистое, продубленное солнцем, дождями и морозными ветрами лицо. — Григорь Степаныч, оставайся ночевать, дров много, сухие… Оставайся, а… Поговорим…
Кузин видел: откажись он — Сенюш кровно обидится. «Надоедает одному… Надо уважить…» — решил Григорий Степанович, чувствуя, что и самому не хочется садиться в настывшее скрипучее седло и ехать на ночь глядя.
— Можно и заночевать — согласился он. Обрадованный Сенюш засуетился, принес дров, затем большую охапку свежих еловых веток.
— Не хуже перины… — приговаривал он, разравнивая вокруг костра ветки.
Но спал Григорий Степанович плохо. Сначала, когда пламя с треском грызло крепкие лиственничные сучья, ему нестерпимо припекало бок, а второй нестерпимо стыл. Он то и дело поворачивался. Позднее холод атаковал со всех сторон. Сонный Григорий Степанович подтягивал чуть не к подбородку колени, укрывал голову воротником полушубка…
Очнулся Кузин от дрожи, колотившей все тело. На месте костра то там, то здесь вспыхивали и гасли, будто перемигиваясь, искры. Внизу на стенах аила проступил куржак, а в черное дымовое отверстие с холодным равнодушием заглядывали звезды. Где-то по другую сторону костра сопел и сладко причмокивал невидимый Сенюш. «Спит, хоть бы что… А я отвык, изнежил себя». — Григорий Степанович пополз на четвереньках по аилу, отыскивая на ощупь дрова.
Пока костер, дымя, набирал силу, Кузин сидел, нахохлясь, засунув руки в рукава. Подумал: как теперь дома? Васятка спит. Набегался… Канительный мальчишка. За целый день секунды не посидит.
Затем его мысли перешли на колхозные дела. На каждой стоянке он замечал — люди смотрят на него так, будто ждут больших перемен. Некоторые жаловались на плохое жилье, на отсутствие радио и газет, а доярка, бойкая девушка, негодующе спросила: «Когда мы не будем морозить пальцы?» Тогда Григорий Степанович постарался отделаться шуткой. Он сказал: «Немного осталось, скоро весна…» Да… Вот и Сенюш опять заводил разговор о пшенице. Далось чудаку… Надоел с ней. Григорий Степанович понимал, что все это следы Ковалева. Разбередил людей, а за него расхлебывайся. Разбередить нетрудно…
Костер разгорелся, взметая султан золотых искр к черному своду аила. От треска и щелканья дров темнота, вздрагивая, то опадала, то поднималась. Отвалясь от жаркого огня, Григорий Степанович сказал себе: «Пусть покрутятся без меня. Может, скорее поймут…»
…Утром Кузин направился к последней стоянке, на которой много лет жила со своей отарой Чма Ачибеева, а помощником к ней переселился Бабах. Его все-таки приняли в колхоз, хотя председатель упрямо возражал. «Не послушали… Умниками стали, — раздраженно думал теперь Григорий Степанович. — Посмотрим… Если что, я с этим пьяницей нянчиться не стану».
Тропа петляла между камнями по дну глубокого, похожего на коридор ущелья. Справа и слева поднимались все в шишках и морщинах каменные стены, на которых, поблескивая игольчатым инеем, чудом держались елки, березки, осинки. Некоторые, точно озорничая, бесстрашно наклонились, заглядывая сверху на проезжающего всадника, временами сыпали серебристые струи пыли. Каменные стены ущелья часто сдвигались, сгущая морозную дымку, затем вновь расходились, и тогда дымка, редея, рвалась, висла клочьями на хрупких до звона ветках кустарника.
Но вот ущелье кончилось, и перед Григорием Степановичем открылся совсем иной мир — просторная долина, похожая на огромную чашу с пологими краями, переполненная солнцем. Все здесь, от острых изломов гор и угрюмых бесстрастных лиственниц до засыпанной наполовину снегом сухой былинки, купалось в еще холодном, но ослепительно ярком свете.
Веселея, Григорий Степанович пожевал настывшими губами, смахнул с воротника иней. Конь ободрился, громко фыркнул, выдувая из ноздрей длинные струи белесого воздуха.
Григорий Степанович подъехал к реке. Неприметная в межень, она от осенних дождей вспухла, раздалась вширь, затопив прибрежные кусты. После морозов вода сбыла, и лед возле берегов стал похожим на стеарин, он просел, а около кустов проломился, поблескивая гранями.
Григорий Степанович, проехав берегом, отыскивал полоску голубого, подпертого водой льда. Избочась в седле, он огляделся. До его слуха долетел негромкий, но уверенный, деловитый стук, а потом он уловил тонкий запах дыма. Кузин удовлетворенно хмыкнул и пустил коня. Тот, всхрапнув, ступил на лед осторожно, почти не сгибая ног в коленях.
Крупная лобастая собака, машисто выскочив из кустов, облаяла Григория Степановича. Будто не замечая ее, Кузин направил коня к низенькой избушке с плоской земляной крышей, на которой уныло торчал сухой бурьян. Он не успел еще спешиться, как из-за угла появился Бабах с рубанком в руке. Увидев председателя, он растерялся, побледнел.
— Здравствуй, Григорь Степаныч! — Бабах завел руку с рубанком за спину, потом зло цыкнул на все еще лаявшую собаку.
— Здорово! — буркнул Кузин.
Бабах шагнул вперед, намереваясь по правилам гостеприимства принять от председателя поводья, но тот, неловко ступая на одеревеневших ногах, сам повел коня к пригону из березовых жердей, на которых то там, то здесь белели маленькие клочья овечьей шерсти.
— Что мастеришь? — спросил Григорий Степанович, привязав коня и отпуская седельные подпруги.
— Так… Ничего не мастерим.
— Как же ничего? Я пока не ослеп и не оглох.
Кузин зашагал к избушке. Бабах, приотстав, следовал за ним.
За углом Григорий Степанович наткнулся на детскую качалку из золотистой лиственницы. У качалки еще не было боковин и дна, но уже сейчас было видно, что Бабах делает ее любовно, тщательно выстругивая и подгоняя каждую планочку.
— А говоришь, ничего… — Председатель придирчиво осмотрел качалку, потрогал ее. — Да…
Подняв глаза, он увидел Чму. Она шла со стороны ельника, с хрустом подминая кирзовыми сапогами сухую траву. Ее плоское лицо с розовой полоской шрама на правой скуле выражало тревогу. Еще издали она взглядом спросила мужа: «Что тут у вас?..» Бабах потупился, а Чма перевела беспокойный взгляд на председателя.
— А, Чма!.. — Григорий Степанович шагнул ей навстречу, подал руку. — Как живешь?
— Ничего, живем… хорошо. — Чма заправила под шапку с меховой оторочкой черные, блестящие пряди волос. — Вот ветки ломала… — и показала Григорию Степановичу ладони, все в липких смоляных пятнах.
— Ветки? Зачем они тебе потребовались? — Председатель постарался изобразить на лице приветливую улыбку.
Бабах, стегнул жену предостерегающим взглядом.
— Вижу, какие-то тайны завелись. Не доверяете?.. — Кузин недовольно скривил губы.
— Э, зачем так говоришь, Григорь Степаныч? — подаваясь вперед, с обидой сказал Бабах. — Камень за пазуху не прячем. Ветки для овечек. Хорошо кушают. Геннадий Василии говорит — посмотри совхозе. Там всю зиму кормят. Я ходил туда.
— Хорошо… — перебила мужа Чма. — Ягнята здоровые, поноса нет. Всего четыре пропало. Сам погляди.
— Самовольничаете, — мрачно заключил Григорий Степанович. — А если бы падеж случился? Кто в ответе? Геннадий Васильевич?
— Зачем? Я совхоз ходил. Там давно овечки кушают ветки. Не подохли…
— Совхоз, совхоз… — проворчал председатель. — Пошли к отаре.
Стадо паслось за молодым ельником, на пологом пригретом солнцем склоне. Увидев подходивших людей, овцы неторопливо двинулись вниз, где между кустами поблескивал лед речки. Белоснежные ягнята, резвясь, подскакивали, точно резиновые.
Войдя в стадо, Григорий Степанович некоторое время молча присматривался к овцам. — Что у той с глазом?
— Гноится… — сказала Чма.
— Так промыть надо.
— Промывали.
— Еще надо… Ждете, пока окосеет?
Григорий Степанович ловким и неожиданным броском поймал овцу за заднюю ногу. Прощупал ей ребра, потом раздвинул руно, обнажив густые бело-золотистые волокна. Отделив на ладонь прядь, он старался найти на тончайших волокнах перехваты, которые образуются при плохом кормлении.
— Справный овечка. Все справный, — сказал Бабах.
— Вижу… Что ты мне нахваливаешь, как на базаре?
Отпустив овцу, Григорий Степанович по укоренившейся привычке отвернул полу полушубка, тщательно вытер о шерсть руки. Потом, не спуская с Чмы строгого взгляда, кивнул на Бабаха:
— Пьет?
— Он?.. — на желтоватом скуластом лице Чмы выступили багровые пятна. — Нет, не пьет. Пить станет — жить не будем. Так договорились.
— И вдобавок из колхоза выгоним. Пьяницы мне не нужны. Вот так… — заключил Григорий Степанович и совсем некстати усмехнулся: — Чай-то есть?
— Конечно, — встрепенулась Чма. — Чай всегда горячий.
Подойдя к избушке, Кузин задержался около качалки.
— Значит, готовите? Ну что ж, хорошо, — сказал он и вспомнил Васятку. — Живите…
Бабах и Чма, смущенные, заулыбались. А Кузин тем временем думал: «И как я сам не догадался насчет веток. Конечно, польза. Корм сухой… Да, грамота — большое дело. С ней бы и я не таким был. Надо всем чабанам сказать, чтобы ветками подкармливали. Ушлый этот Геннадий Васильевич. И когда успел заметить?.. Я не меньше его бывал в совхозе».
…На пути домой Григорий Степанович встретился с Гвоздиным. Проворный «газик» с брезентовым верхом бесшумно выкатился на повороте из леса. От неожиданности конь испуганно вскинул голову, метнулся на обочину дороги, чуть не выбив из седла всадника, погруженного в неясные, но тягостные думы. Припадая к луке и схватываясь за отпущенные поводья, Григорий Степанович бросил исподлобья злой взгляд на автомашину, которая, чуть проскочив, враз остановилась. Распахнулась дверка, и Гвоздин направился к Кузину.
— Привет Григорию Степановичу! — обрадованно сказал Гвоздин и протянул руку.
— Здорово, торгаш! — Григорий Степанович неторопливо снял большую меховую рукавицу и пожал узкую твердую ладонь Гвоздина.
— Торговлей-то мало приходится заниматься. Больше поручениями… Вот в МТС еду — готовить вопрос на бюро. Ну, а ты как? В седле живешь?
— Наше дело такое.
— Да… — Иван Александрович сочувственно вздохнул. — Знаю, беспокойный… А вот не все это понимают. — Гвоздин подался вперед, задрал голову, доверительно заглядывая в лицо Григория Степановича. — Хозяин не совсем доволен тобой. Думает заменить. Я уважаю Валерия Сергеевича, умный человек… Но тут он, кажется, ошибается. Такие кадры у нас на вес золота. Ковалев, конечно, с дипломом, но разве в этом дело.
Григорий Степанович, смотря вдаль, слушал с обычным мрачноватым выражением на лице, а конь наклонился к кусту, хрустко перекусил крупными зубами оледенелую ветку, потом, отставляя ногу, потянулся к присыпанной снегом траве.
— Ну, ты! Оголодал! — Григорий Степанович так рванул повода, что конь взвился и по-заячьи скакнул в сторону. Кузин ожег его плетью и, не оглядываясь, скрылся за поворотом.
Глава вторая
Игорь бухнул на пол туго набитый учебниками и конспектами портфель и, как был в пальто и шапке, повалился на койку, закинул ноги на грядку. Все! Отмучился! Две недели свободы. Теперь домой. Как там? Сомкнув веки, он попытался представить Клаву. В институте девчат навалом, есть куда красивее Клавы, а она все равно лучше.
Игорь вскочил, пробежал по комнате. Конечно, лучше! Такая светлая, чистая. И он откроет ей всю душу, расскажет все-все, даже тот пакостный случай при зачислении в институт. Пусть знает. Она должна знать все. Домой! Сегодня же!
…Поезд уходил ночью, в двенадцать с минутами, но Игорь вышел из дома в десять.
Стояли жестокие морозы. Днем при солнце было еще терпимо. Но к вечеру температура начинала стремительно падать до сорока. Земля окутывалась седой дымкой, и все, настывая, замирало в безмолвии. Даже воздух становился до осязаемости колючим.
На остановке Игорь долго топтался около чемодана, раздраженно, с нетерпением посматривая в глубину улицы. Там, в туманной темноте, должны были показаться огни трамвая. «Почему не заказал такси?» — укорял он себя, чувствуя, как в тонких перчатках деревенеют пальцы. Игорь сжал их в кулаки, но и от этого не становилось легче. Мороз настойчиво пробирался под пальто, за поднятый воротник, щипал и колол уши. Игорь с завистью подумал о людях, которым не надо никуда ехать. Сидят себе в тепле, читают романы, слушают музыку.
Наконец подошел и с пронзительным скрипом и визгом остановился трамвай. Закоченевший Игорь с трудом втиснулся в вагон, и под ногами опять пронзительно заскрипело и завизжало.
На вокзале Игорь побежал в зал ожидания. Открыл непослушную дверь, просунул вперед себя чемодан.
— Нельзя, молодой человек! Назад!
— Как? — Игорь недоуменно смотрел на женщину с красной повязкой на рукаве.
— Сдайте багаж в камеру хранения.
Все время, пока он стоял в очереди в камере хранения, сдавал чемодан, получал квитанцию и возвращался, в нем, не переставая, кипело раздражение. Безобразие! Формализм, только формализм…
Зал оказался забитым до отказа. Старые и молодые, мужчины и женщины густо облепили диваны, стояли в проходах. Подумав, Игорь предпринял отчаянную попытку пробиться к билетной кассе. И оттого, что его все время бесцеремонно толкали, оттесняли в сторону, оттого, что в зале стояли гул голосов и кислая духота, раздражение перешло в злость. Сцепив зубы, он начал энергично работать плечами.
Более получаса Игорь стоял у барьера, дожидаясь начала продажи билетов. Он то и дело запускал руку во внутренний карман пиджака, нащупывал там деньги и студенческий билет. Одиннадцать. Еще несколько минут и откроют. И вдруг откуда-то с потолка послышался хриплый голос:
— Граждане пассажиры, поезд номер пятьдесят шесть опаздывает на два часа. Повторяю…
«Пятьдесят шесть… Пятьдесят шесть… Это же мой!» — Игорь почувствовал, что у него сильно устали ноги, сам он тоже устал и им владеет единственное желание — где-то присесть: «Вот чертовщина, как назло… Еще три с лишним часа. На ногах ни за что не выдержать. Что же делать?» — терялся он в догадках.
По радио объявили о прибытии ташкентского поезда, и в зале поднялась суета. Многие пассажиры устремились к выходу. Заметно попросторнело. Игорь, вытирая ладонью потное лицо, тоже вышел. В стылой тишине громко и, казалось, дерзко гудели паровозы, лязгало железо, слышались торопливые голоса.
Чтобы скоротать как-то время, Игорь пересек несколько раз площадь, остановился около распахнутых решетчатых ворот, из которых густым потоком выливались сошедшие с поезда пассажиры.
— Игорь!
Он обернулся. К нему, сияя улыбкой, поспешно проталкивался Аркадий. Маленькая кепочка сдвинута на затылок, легкое потертое пальто распахнуто.
— Ты зачем сюда? Меня встречать? — Аркадий небрежно пожал руку Игоря, поставил около ног небольшой чемодан. — Вот здорово получилось! Откуда узнал, что приеду? Классно!..
— Да ниоткуда не узнал…
«Подвернуло тебя», — думал он с досадой. Угрюмо смотря в сторону, повторил:.
— Ниоткуда не узнал… Домой вот собрался…
— Домой! И охота тебе по такому морозу? — Аркадий запахнул пальто, попробовал отыскать скрюченными пальцами пуговицы, но вместо них висели только хвостики ниточек. — На несколько дней. Была нужда. Здесь-то лучше отдохнем. Тебе ведь еще машиной много ехать?
— Около трехсот километров… — Игорь понял, что у него давно пропало желание ехать, только он не хотел признаться себе в этом. Но, стараясь бодриться, он сказал:
— Ничего, съезжу. Надо побывать…
— Да брось! Зачем это нужно? На каток не ходишь? Там у меня знакомая. Такая высокая, черненькая, в зеленой шапочке… Не встречал? Пальчики оближешь.
— Не хожу на каток.
— Ничего, вместе сходим. А какая у нее подруга! Закачаешься… Подожди, какого черта мы стоим? Ждем, когда в сосульки превратимся? Зайдем в ресторан. Ты не думай, что я уговариваю тебя остаться. Дело хозяйское. Смотри… Только погреемся.
Игорь почувствовал, что после жаркого душного зала опять промерз до костей. Опять начали деревенеть пальцы, и он послушно последовал за Аркадием, который очень ловко сумел занять столик и, потирая довольно руки, взялся за меню.
— Сейчас мы… Коньячку хочешь? По стопочке? Стипешку получаешь? Счастливчик. У вас не институт, а какой-то собес, дом отдыха. За тройки стипендию платят. В пору к вам перебраться, — тараторил Аркадий, то и дело посматривая на официантку.
От тепла и коньяка Игорь быстро расслаб. Облокотись на стол, он лениво ковырял вилкой винегрет. Мысли тоже были ленивыми. Наблюдая исподлобья, как жадно насыщается Аркадий, Игорь думал, что не надо было выходить из зала. Тогда он не встретил бы Аркадия и определенно уехал. А теперь, пожалуй, не уедет. Да и смысла нет — на несколько дней. Клаве он напишет. А вот Олег укатил. Сдал первым и помчался на вокзал. Откуда такая прыть? Хотя чего равнять? Олег спешит заготовить старикам дров, сена привезти. «А мои ни в сене, ни в дровах не нуждаются». — Игорь рассмеялся и бросил на стол вилку.
— Заказывай еще коньяку!
Глава третья
«Сама… Ой, справлюсь ли?» — в беспокойстве Клава не заметила, как миновала село. Когда последняя, до крыши заваленная снегом избенка бесследно утонула в темноте, ей вдруг стало страшно. Она приостановилась, чувствуя, как отдаются в висках учащенные толчки сердца. Кругом ни звука, ни скрипа, ни огонька… Хоть бы собака гавкнула. Ночь, непроглядная, промерзлая, и она, Клава, один на один… Как слепая… Только пригнувшись можно различить чернеющий слева кустарник. Это здесь в прошлом году волки задрали теленка. Уж не вернуться ли? А как же дойка? А потом, все ходят, все доярки… Не боятся, наверное? Хотя, возможно, и боятся, но ходят, потому что надо. Значит, и ей надо идти.
И она пошла, стараясь смотреть только вперед, на дорогу, и не думать об этом черном кустарнике, в котором, может, притаились волки. Чтобы ободрить себя, Клава кашлянула, потом вполголоса запела. Пела хрипло, первое, что пришло на ум. Вскоре сверкнул золотой искрой огонек дежурки. «Вот и дошла… — Клава оборвала песню и облегченно вздохнула. — Надо договориться с Эркелей — ходить вместе».
Как только девушка открыла обросшую куржаком дверь, морозный воздух седыми, похожими на дым клубами ворвался в тепло. Сидевшая около печки с трубкой во рту Чинчей глянула через плечо на Клаву.
— Шибко холодно?
— Да ничего… — Клава сняла варежки и принялась растирать настывшие щеки. Пламя в лампе то и дело вытягивалось, точно намеревалось выскочить из обколотого, закопченного стекла, отчего на потолке и стенах дрожали тени. И невольно казалось, что дрожит весь дом. Зато в печке огонь с веселым гулом беспощадно расправлялся с дровами, накаляя до красноты плиту.
— Такой мороз плохо доить, — бесстрастно, как о чем-то постороннем, сказала Чинчей, не отрывая взгляда от бушевавшего пламени.
Клава, подступая к плите, заглянула в стоявшие на лавке ведра.
— Подоим. Вот только воды надо нагреть. Я принесу. Отогреюсь немного и принесу.
— Прорубь теперь замерзла. Потом принесем, когда светло будет. Ковалев по такому морозу рано не придет.
— Так разве мы для Ковалева все делаем? Интересно!..
Чинчей, будто не слыша Клавы, продолжала с бесстрастным видом сосать трубку.
Зашла Эркелей, села на табурет около плиты, устало откинулась к стене.
— Ох, и спать хочется! Несчастные мы… Вставай каждый день ни свет ни заря.
Аппетитно зевнув, она смежила веки.
Клава, сдерживая раздражение, схватила ведра и вышла, нащупала за дверью пешню.
Когда она поставила на плиту полные ведра, в которых поблескивали ребристые осколки льдинок, Чинчей выбила о пристенок потухшую трубку:
— Пойдемте корм давать.
Эркелей лениво приоткрыла глаза:
— Да подождите вы. Успеем… Подремать не дадут.
— Эркелей, ну и лентяйка ты! — укорила подругу Клава. — Пошли! Коровы голодные.
…Над вершинами гор темноту точно разбавили молоком. В долине тоже заметно посветлело, проступили расплывчатые силуэты строений, деревьев. В селе засветились огни. Коровы жалко ежились, выгибая заиндевелые спины. Увидев доярок, они забеспокоились, некоторые протяжно замычали, а Ласточка, вынырнув из темного угла навеса, смело пошла навстречу Клаве.
— Проголодалась? — Клава похлопала корову по загривку и направилась к яслям, чтобы выгрести из них объедки.
А Чинчей уже несла охапку смешанной с сеном соломы. Толкаясь, коровы жадно набросились на корм. Ласточка тоже попыталась протиснуться к яслям, но пестрая корова угрожающе махнула на нее кривыми рогами, и та сразу отступила, будто жалуясь, посмотрела на Клаву.
— Обижают? Сейчас еще принесем, — девушка заспешила из пригона.
Вчера вечером Клава приняла от старой, ушедшей на отдых доярки двенадцать коров. Из них доились теперь только семь, а остальные ходили в запуске. Ласточку и еще двух первотелок по требованию Ковалева приучили с самого начала доиться без телят. Остальные же четыре старые коровы не подпускали доярку до тех пор, пока не видели около себя теленка. Привязанный к ограде, теленок рвется изо всех сил к вымени. Мать ласкает его языком, а доярка спешит взять молоко, потом пускает теленка. Это и называется дойка с подсосом, метод древний, оставшийся в наследство от кочевой жизни дедов и прадедов. Клава еще вчера, принимая группу, решила во что бы то ни стало избавиться от него.
— Эркелей, к моим коровам не води телят.
— Почему? — удивилась девушка. — Сперва первотелок подоишь? Да?
— Нет, без телят буду доить.
— Да ты что?! Не дадут молока. Только зря намучаешься. Мы уже не раз пробовали… Это же старые коровы. Нет, нет, не получится… Вот посмотришь.
— Посмотрим! — сказала Клава, уверенная в себе.
Она начала с Буланки, коровы спокойной и даже флегматичной. Девушка, щедро награждая Буланку ласковыми эпитетами, привязала ее к яслям, погладила и, сняв варежки, взяла прикрытое полотенцем ведро с теплой водой.
— Буланка! Стой, дорогая.
Пока Клава обмывала и массировала вымя, Буланка спокойно ела.
— Вот и хорошо! Умница… — Клава сменила ведро с парящей водой на подойник и не успела подсесть под корову, как та рванулась так, что чуть не опрокинула ясли.
— Буланка! Стой же!.. — закричала Клава, испуганно отскакивая. — С ума сошла?
Буланка, уставясь на сарай, в котором находились телята, требовательно замычала.
— Вот видишь? Я же говорила… — сказала Эркелей, явно довольная тем, что она оказалась права.
— «Говорила, говорила…» Говорить проще всего. Сразу не приучили, а теперь мучайся.
— Чудная ты, Клава. Злишься, а кто виноват? Я, что ли? Когда Буланка была первотелкой, мне одиннадцатый год шел. Я еще под столом бегала.
Эркелей вдруг звонко захохотала. Клава, покосясь на подругу, подумала: «Чего смешного нашла? Как глупая». Она опять подступила к Буланке. Но та уже не стояла на месте.
— Брось, — посоветовала Эркелей. — Они хитрые… Все понимают…
— Веди теленка! — Клава принялась дыханием согревать руки.
Ласточку Клава доила предпоследней. Вороша солому, корова старательно выискивала клочки сена, аппетитно заминала их в рот. А Клава чувствовала, как пальцы ее, деревенея, выходят из подчинения. Она старалась по всем правилам зажимать в кулак маленькие тугие соски, а пальцы не гнулись, их нестерпимо ломило. В довершение Ласточка, испугавшись соседки, рванулась и опрокинула подойник.
— Да что ты делаешь! Зараза!
Голос у Клавы дрогнул, и она заплакала. Заплакала от горькой досады и боли в пальцах. А у ног валялся подойник, окруженный подстывающей с краев лужей молока.
— Что? Руки? — опросила подбежавшая Эркелей. — Снегом растирай. Обморозишь.
— Я каждую зиму морожу, — спокойно, как о чем-то самом обыкновенном, сказала Чинчей и подняла подойник. — Каких не подоила? Кукушку? Я подою. Иди в избу.
Бывают времена, когда человеку кажется, что его жизнь окончательно зашла в тупик. Окружающий мир, большой, многообразный и яркий, покрывается мрачными тенями, становится ненавистным, постылым. Не находя себе места, человек терзается мучительной мыслью — зачем жить, если завтра, через месяц и год будет так же нестерпимо тяжело, как и сегодня? К чему такая жизнь? Да, к чему? Но что сделаешь? Что можно сделать? Выхода нет.
Вот так случилось и с Клавой.
Обессиленная, прозябшая, она не помнила, как добрела в вечерних сумерках до своего дома. Не раздеваясь, упала на кровать.
— Ой, мама родненькая! Куда мне деваться?
Содрогаясь всем телом, долго плакала, но слезы не приносили облегчения. Сердце по-прежнему ныло от щемящей боли, будто кто-то взял его большой грубой рукой и безжалостно сдавил.
— Провались все коровы! Не пойду! Не пойду! Пусть как хотят…
Клава оторвала от мокрой подушки лицо. Ну не пойдет она, а дальше что? Дома отсиживаться или вернуться в контору?
Клава встала, бесцельно прошлась по комнате, включила свет. Заметив, как струится выдыхаемый воздух, подумала о том, что в доме настыло. Утром не протопила печь. Надо топить. А надо ли? Скорей бы уж мама приезжала… Одичаешь одна. Да, приезжала… Скажет, самовольничаешь, так и надо тебе.
Все-таки она пошла за дровами. Смахнула с поленницы пухлый снег, взяла звонкое полено.
— Клава!
Вздрогнув, девушка обернулась на голос. В темноте над пряслами, смутно чернел силуэт человека.
«Зина! Что ей надо? Вот уж некстати!..» Прижимая к груди полено, Клава неохотно направилась по сугробу к пряслу.
— Ты что же это носа не кажешь? Обиделась, что ли?
— На что мне обижаться. — Клава старалась говорить как можно спокойнее.
— Как Марфа Сидоровна? Когда приедет? — Зина легко перескочила утонувшее в сугробе прясло.
— Завтра или послезавтра… Сначала хуже было. А теперь, пишет, полегчало. Даже на Церковку ходила. Гора так называется…
— Вон что! Хорошо.
Они набрали по охапке дров и зашли в дом.
— Да у тебя, как на улице! — удивилась Зина. — Замерзнешь. Утром не топила, что ли?
— Когда же? В пять на ферму ушла.
— Группу приняла? — опросила Зина.
— Приняла… — У Клавы дрогнул голос. Она отвернулась.
— Тяжело в такие морозы, — сочувственно заметила Зина. — Как дела-то идут?
— Да никак! Пальцы обморозила! — зло выкрикнула Клава, но тут же, устыдясь своей горячности, покраснела и опять отвернулась. А Зина, кажется, ничего не заметила.
— Сильно обморозила? Гусиным салом надо… У нас есть, я принесу… — Зина направилась к двери, но у порога приостановилась: — А может, тебе лучше в контору опять попроситься? Зиму поработаешь, а там видно будет. В институт поедешь.
— Вот и буду метаться. Не могу я так…
Зина печально качнула головой.
— Да, а вот Федор может. Я ведь понимаю… Шумит, кричит, а все без толку. После самому стыдно. Как я ни старалась — ничего не получается. Ковалев-то больше не заходит. Да и ты вот тоже… Обижаетесь?
— Не нравятся мне такие люди, — сказала Клава.
— Мне тоже не нравятся. А чего поделаешь? Такая она, Клава, жизнь… Да что говорить, придет время, сама все узнаешь… Ладно, сбегаю за гусиным салом.
Оставшись одна, Клава долго стояла у стола. Затем принялась укладывать в печь дрова. Положит полено и задумается. «Любит Федора, все прощает ему. Я на ее месте не простила бы. А возможно, тоже простила бы? Вот если бы Игорь так поступил?..»
Глава четвертая
Дверь в просторную приемную секретаря райкома то и дело открывалась. Поодиночке и группами в два-три человека заходили секретари партийных организаций, председатели колхозов, агрономы, зоотехники.
Прямо у порога они снимали поседевшие на морозе тулупы, развязывали шапки-ушанки и, растирая настывшие руки и лица, здоровались с теми, кто приехал раньше.
— Не замерз, Константин Иванович? — спросил Хвоев главного агронома МТС Маркова, пожилого человека с продолговатым лицом и маленькими живыми глазами.
— Они на «газике» прикатили. А вот в седле до костей пробирает, — вмешался коренастый алтаец, постукивая ногой об ногу. — Застыл…
— Да, эту зиму дед-мороз систематически перевыполняет норму. — Марков снял пальто.
— Константин Иванович, пока народ собирается, поговорим. — Хвоев открыл дверь кабинета. Но Марков не торопился.
— Как живете, Валерий Сергеевич? С женой как?
— Плохо. — Хвоев, опуская голову, слегка подтолкнул Маркова к двери.
Тем временем в приемную вошел Кузин. Мельком взглянув на него, Хвоев подумал о том, что Григорий Степанович за последнее время сильно сдал. Он ссутулился, плечи обвисли, а лицо, заросшее чуть не вершковой щетиной, обрюзгло. Кузин, окинув всех недоверчивым, даже подозрительным взглядом, не здороваясь, бросил на стол шапку, снял и туда же бросил свой старый полушубок. «Переживает старик. Надо решать с ним. Потрудился немало», — подумал Хвоев, входя вслед за Марковым в кабинет.
В приемной обменивались новостями, шутили. Кузин, ко всему безучастный, присев на подоконник, мастерил козью ножку. Подошел Гвоздин.
— Почтение Григорию Степановичу, — заулыбался он, протягивая руку.
— Обойдусь и без твоего почтения, — Кузин отвернулся.
— Странный ты человек. Григорий Степанович. К тебе всей душой…
— Не надо ко мне с такой душой. Я ее насквозь вижу.
— Дело хозяйское. — Гвоздин старался держаться спокойно, а сам, сжимая в карманах кулаки, думал: «Какой еж! Подожди, еще попляшешь, придешь на поклон. Не век мне сидеть в потребсоюзе. Фека права, пора действовать!»
— Приглашают, товарищи, — сказал из дверей кабинета Марков. — Заходите.
…Возвышаясь над столом, Хвоев смотрел то в список, то на степенно рассаживающихся людей. Кузин забился в самый угол. Гвоздин сел на диван около стола. На мягкое потянуло и Маркова. Рядом осторожно присел Ковалев. Проверив всех по списку, Хвоев посчитал отсутствующих и сказал:
— Ну что же, товарищи, семеро одного не ждут. Плохо, что мы не умеем экономить время. Целый час собираемся. Час! А нас больше тридцати. Значит, больше тридцати часов потеряли. Вот ведь куда это выходит. Ну, давайте начинать.
Большая дверь бесшумно открылась, вошел председатель райисполкома Грачев.
— Петр Фомич верен своей привычке: без опозданий не может, — заметил сурово Хвоев.
— Дела, Валерий Сергеевич. Ничего не поделаешь. — Грачев, как ни в чем не бывало, протиснулся между сидящими к столу секретаря, небрежно опустился на стул. — Между прочим, занятому человеку трудно быть точным.
— Да? Выходит, мы все лодыри.
— Валерий Сергеевич, прошу не перевертывать с ног на голову, — обиделся Грачев. — Я, между прочим, не адресуюсь.
— А чего же тут перевертывать? — заметил с улыбкой Марков. — Все на ногах. Ясно… Отяжелел ты, Петр Фомич.
Выждав, когда утихнет оживление, Хвоев открыл совещание.
— Вы знаете, товарищи, задачи, которые поставил перед сельским хозяйством январский Пленум нашей партии. В соответствии с этими задачами нужно составить пятилетние планы развития хозяйства нашего района. Планы не для формы, а реальные, с учетом всех местных условий, возможностей. В общем, такие, в которых каждый колхозник ясно увидел бы свой завтрашний день. Увидел и поверил бы в него, всеми силами боролся за него. Но вот тут-то, товарищи, и появляется, как говорят, закавычка. — Хвоев раскрыл лежавшую под руками папку и, листая ее, неторопливо продолжал:
— Вот здесь, — он похлопал ладонью по папке, — контрольные цифры. Нам предлагают больше чем в два раза увеличить посевы пшеницы, в три раза — картофеля. Предлагают сеять на зерно кукурузу. Для того чтобы выполнить такой план, нужно перепахать все пастбища, подняться с посевами на склоны гор, на каменные почвы, туда, где уже в августе нередко бывают заморозки. Есть ли в этом необходимость, выгода для колхозов, а значит, и для государства? Давайте обсудим эти вопросы. — Хвоев захлопнул и отодвинул папку.
Грачев с тяжелым вздохом отвалился на спинку стула. Он понимал беспокойство Хвоева. Посевы в горных колхозах — бесполезная морока. Но не так-то легко добиться отмены или хотя бы изменения преподнесенных контрольных цифр. Надо обязательно ехать в Верхнеобск, сидеть в приемных начальства, доказывать. Да и докажешь ли? Как еще дело обернется. Может случиться, столько неприятностей наживешь! И какая Хвоеву охота канителиться, рисковать. Требуют — выполняй.
Иначе воспринял сообщение секретаря Гвоздин. Изображая на остром хитром лице почтительное внимание, он не переставал думать о стычке с Кузиным: «Болван неотесанный… Грубиян… А куда гнет Хвоев? Подожди! Подожди! Куда он гнет? Да это же, черт возьми!.. Влип!.. Определенно!..»
Гвоздин схватился за край стола, поглядел в одну сторону, в другую — все сосредоточенно слушали Хвоева. «Интересно, какими вы станете, когда я выступлю!..» — при этой мысли у Ивана Александровича все задрожало внутри, но он только уселся поудобнее и улыбнулся.
А немного спустя Гвоздин опять начал оглядываться с беспокойным чувством: «Что, если его не поддержат? Не может быть! Поддержат! Тот же Кузин… Грачев, конечно, не осмелится. А Кузин заряжен, потому рвет и мечет… Найдутся и другие… С Хвоевым надо кончать! Хватит!..»
— Прошу высказываться. — Хвоев посмотрел на главного агронома МТС Маркова, с которым только что советовался о планировании. Марков возмущался, убедительными фактами доказал несостоятельность преподнесенных сверху цифр, а теперь молчит.
— Разве не важный вопрос? — спросил Хвоев.
— Важный. Поэтому и молчим. Подумать надо.
— Разрешите! — бросил от самых дверей Ковалев.
Гвоздин быстро повернулся к нему. «Этот, конечно, поддержит Хвоева», — думал он, покалывая Ковалева маленькими быстрыми глазками.
— Товарищи, я человек новый, плохо знаю район, но, мне, кажется, сеять надо не только в долинах. Этого требуют колхозники. Вот Сенюш Белендин… Жаль, не пригласили его на совещание.
Обрадованный неожиданным подкреплением, Гвоздин повернулся к Ковалеву, и взгляд его моментально стал одобрительным, подбадривающим. Спохватясь, Иван Александрович покосился на Хвоева. Тот сидел спокойный, внимательно слушая Ковалева. «Прикидывается, — подумал Гвоздин, — играет роль бесстрастного, объективного. Посмотрим, дружок, что дальше будет. Врешь! Сбросишь маску». А Ковалев взволнованно доказывал, что расширение посевных площадей будет способствовать укреплению кормовой базы, повысит продуктивность животноводства. Он, Ковалев, согласен, что условия трудные. Но трудности можно преодолеть. Разве нельзя сеять сорта пшеницы, которые созревали бы до наступления морозов?
«Сейчас я… Мне надо выступить, — нетерпеливо думал Гвоздин. — Обязательно вслед за Ковалевым. Сказать горячо, убедительно!»
Ковалев, смолкнув, не успел еще опуститься на место, как Гвоздин стремительно вскинул руку:
— Позвольте?
Получилось слишком поспешно, но Иван Александрович не смутился. Он сказал о том, что ценит в Хвоеве инициативу, настойчивость, умение понять интересы людей, умение поднять массы на выполнение тех или иных задач. Хвоев, слушая Гвоздина, смущенно крякнул, двинулся в кресле, а потом спросил:
— Иван Александрович, к чему это высокое признание? Никому не нужно.
— Нет, нужно, товарищ Хвоев, — Гвоздин скрестил холодный острый взгляд с недоуменным взглядом Хвоева и, опустив голову, продолжал: — Нужно потому, что я не хочу быть необъективным, не хочу скрывать ни хорошего, ни плохого. А плохое, к сожалению, есть у вас, Валерий Сергеевич. И оно катастрофически растет. Странно получается… Я иногда думаю, не закружилась ли у вас от успехов голова.
— Конкретней! — требовательно крикнул кто-то из присутствующих. — Чего тут размазывать!
Иван Александрович судорожно дернулся, заметно бледнея.
— Товарищи, прошу не мешать выступающему, — сухо сказал Хвоев, смотря поверх голов.! — Продолжайте.
— Могу конкретно, — запоздало огрызнулся Иван Александрович, досадуя на то, что реплика нарушает его мысли.
— Конкретно по данному совещанию. Только что товарищ Хвоев сказал — мы должны посоветоваться, как лучше выполнить решение январского Пленума. Так ведь? Но нетрудно понять, что сам Хвоев выступает против решений Пленума. Не удивляйтесь, товарищи. Я сейчас докажу, что здесь налицо завуалированное выступление против решений Пленума ЦК нашей партии. Нельзя быть близорукими, товарищи. Близорукость и беспечность — злейшие враги нашей партии. Что получается? В решениях Пленума черным по белому записано, что основной задачей в сельском хозяйстве является создание зерновой базы. Зерно — это воздух, основа основ. Вот товарищ Ковалев подтвердил, что без зерновой базы нельзя добиться повышения продуктивности животноводства. Валерий Сергеевич, ловко маскируясь за местные условия, уклоняется от выполнения решений партии. Он хочет развивать животноводство, но базой для животноводства заниматься не желает. Я еще раз говорю, что очень уважаю Валерия Сергеевича. Но… говорят, дружба дружбой, а табачок врозь, в делах политики мы, коммунисты, должны быть принципиальными. Если потребуется, я вынесу этот вопрос за пределы района, но докажу, что Хвоев не прав, он глубоко ошибается.
Валерию Сергеевичу вдруг показалось, что комната наполнилась дымом, сквозь который трудно различить лица присутствующих. Он хотел сказать, чтобы не курили, но вместо этого достал из кармана большой клетчатый платок, протер очки. «Нельзя так формально подходить к указаниям партии», — думал он. А еще через несколько минут ему стало жарко и душно. «Неужели ошибся? Нет, не может быть!»
— Давайте, товарищи, рассудим, кто из нас прав, — хрипло сказал Хвоев, когда Иван Александрович сел на место.
Люди, пряча друг от друга глаза, молчали. Гвоздин с независимым видом крутил в дрожащих пальцах авторучку.
— А что тут судить? — послышался вдруг грубый голос.
Хвоев встрепенулся, вытянул шею, стараясь заглянуть в дальний угол кабинета.
— Кто там? Кузин? Прошу, Григорий Степанович.
Кузин нехотя поднялся.
— Я говорю — нечего тут судить. Так все ясно. У Гвоздина язык подвешен ловко, говорит, что на гуслях играет. Только живет он у нас со вчерашнего дня и условий наших совсем не знает. Не знает, а нос сует, куда тебе!..
— Прошу осторожней в выражениях — привскочив, крикнул Гвоздин, крайне удивленный словами Кузина. Явилась мысль: «Хочет выслужиться, чтобы остаться председателем. Не надейся».
— Негде мне было учиться деликатности. Да и выступаю не перед кисейными барышнями, — Кузин запнулся. Потом, махнув, как топором, ладонью, продолжал: — Вот и Ковалев тут говорил. Он хоть и зоотехник, а района тоже не знает. Конторский зоотехник… Сеять, конечно, надо, но там, где выгода есть. А вот, к примеру, в нашем колхозе от посева только одни хлопоты да солома. А если бывает зерно, так оно золотым становится. Если бы можно было посчитать, во сколько центнер обходится.
— Почему же нельзя? — серьезно заметил Марков. — Подсчитано. В разрезе каждого колхоза подсчитано.
— Вот и скажи, — подхватил Кузин, обрадованный тем, что удачно отделался от речи, которая была для него тяжелее всякой работы.
Марков неторопливо, с достоинством подошел к концу стола и начал листать изрядно помятый блокнот. Отложив его, посмотрел на Хвоева, Гвоздина, на сидящих справа, слева, оглянулся назад. Потом прокашлялся и заговорил. Он сказал, что выступление Гвоздина считает странным, похожим на шантаж. Гвоздин старался сбить с толку людей, опорочить секретаря райкома. Он, Марков, считает предложения Гвоздина вредными. Марков согласен, что сеять зерновые нужно, но где их сеять? Там, где целесообразно, выгодно. Выгодно ли это в некоторых горных колхозах? Нет, очень невыгодно. Это можно доказать фактами.
Заглядывая в блокнот, Марков перечислил колхозы, которые имеют посевы в восьмидесяти и даже в ста местах. На этом «стопольном севообороте» себестоимость центнера пшеницы в различные годы составляет от трехсот пятидесяти до пятисот рублей.
— Кому это выгодно? — спросил Марков. — Колхозам? Государству? А вот себестоимость центнера мяса, масла и меда в горах может быть значительно ниже.
Люди, слушая Маркова, веселели, согласно кивали головами.
— Правильно! Все разложили по своим местам, — сказал Кузин.
Глава пятая
Иван Александрович нахлобучил шапку, поднял воротник пальто.
Вокруг электрического фонаря сновали мохнатые снежинки. В рыхлой темноте на пологе свежего снега вырисовывались силуэты выходивших из райкома людей. Мелькали огоньки папирос, фыркали и брякали удилами застоявшиеся кони.
Иван Александрович попятился, поспешно освобождая дорогу эмтээсовскому «газику». Подмигнул и растаял в темноте красный глазок стоп-сигнала. «Укатили… Втюрился… — В душе Ивана Александровича закипала злоба. — Надо, как обернулось… А ведь во всем виновата эта чертова зуда. Всю жизнь сбивает с толку. Ну, погоди!» Сзади послышался разговор и шаги. Гвоздин невольно прислушался к голосам.
— Стройте, пожалуйста, — басил Грачев. — Мы только приветствовать будем. Окажем всяческое содействие. А насчет пилорамы надо с Иваном Александровичем… Да вот он, кажется… Легок на помине.
— Я с ним уже говорил. — Ковалев повернулся к Гвоздину.
Ивану Александровичу было не до служебных дел. Однако он сдержался, сказал:
— Сделаем. Вот станешь председателем…
— А при чем тут я? — сердито бросил Геннадий Васильевич. — Вы для колхоза сделайте.
— Не пойму, что они с тобой в бирюльки играют? — неожиданно возмутился Гвоздин. — За мальчишку, что ли, принимают!
— Спокойной ночи, — сухо сказал Ковалев, сворачивая к своей квартире.
— Домой, Петр Фомич? — спросил Гвоздин.
— А куда же? В чайную нашему брату нельзя. Засекут. Завтра же Хвоев выговорит.
— А зачем в чайную. Выпить без чайной можно.
Грачев, зная, что Гвоздин не увлекается выпивками, удивленный, приостановился.
— С расстройства, что ли? Зарвался ты сегодня. Неладно вышло. Такое впечатление.
— А мне плевать, ладно или нет, — рассердился Гвоздин. — Я партийный и делаю все по-партийному. Не могу молчать, когда вижу несправедливость. Пусть хуже будет мне, но чтобы общее дело не страдало. А некоторые молчат…
— На меня, что ли, намекаешь? — Грачев крякнул. — Нельзя мне говорить. Хвоев и так житья не дает, взъедается.
— А ты думаешь, молчанием спасаешься? Наоборот… Надо показать зубы. Ненавидит он тебя здорово. Я заметил, к каждому слову цепляется.
— Да, никак сработаться не можем, — согласился Грачев, передергивая плечами. — Придется в дежурный завернуть. Только я не при деньгах.
— У меня есть.
— Куда же теперь? — озадаченно спросил Грачев, когда они, приобретя бутылку, вышли из магазина. — Разве ко мне в кабинет? Закроемся на ключ — и порядок.
— Еще чего не хватало, — запротестовал Иван Александрович. — Неудобно, а потом, как без закуски? Можно к нам, но далеко. К вам ближе…
— Да, ближе, конечно… Тут вот, рядом, — неуверенно бормотал Грачев. Ему не хотелось вести Ивана Александровича в свой дом. — Жена у меня, понимаешь… Ну да ладно, пойдем. Пустим в ход дипломатию.
Почтительно пожимая белую мягкую руку хозяйки, Иван Александрович с горечью подумал о том, что в жизни много всяких нелепостей: «Вот Татьяна Власьевна — красавица, главный врач больницы. Фека перед ней настоящая кулема. Да, промахнулся он. Погнался за положением тестя. А пользы мало оказалось. Правда, поначалу старик помогал, поддерживал, а потом так все обернулось… Впрочем, и Татьяна Власьевна, кажется, не ангелочек. Коготки острые. Во всяком случае, муженька она держит взнузданным», — заключил Иван Александрович, наблюдая, как потемнели глаза, как властно сомкнулись красивые губы хозяйки, когда муж заикнулся насчет закуски.
— Вы уж извините нас, Татьяна Власьевна, — Иван Александрович придал своему лицу самое приветливое и почтительное выражение. В довершение Гвоздин как бы между прочим извлек из кармана и поставил на стол бутылку, давая этим понять, что пить он будет не на чужой счет.
— Решили потолковать за рюмкой…
— Да ничего… Пожалуйста… Я сейчас… — сказала хозяйка. — Вот только за водой схожу.
— А Валя не принесла? — спросил Грачев. — Ладно, я мигом обернусь. Ты, Иван Александрович, снимай пальто и проходи.
Гвоздин осторожно переступил порог, окидывая большую комнату зорким взглядом. Круглый стол из бука, диван с вытертой, но дорогой ковровой обшивкой, гнутые стулья, радиоприемник. «Знают толк в вещах», — подумал Гвоздин, останавливаясь перед шкафом, в котором за стеклом поблескивали золочеными корешками плотные шеренги книг. «Кто же их читает? Для декорации?.. — Иван Александрович взял с дивана толстый томик в хорошем переплете. — Лесков!» Листая книгу, Гвоздин натолкнулся на закладку.
…Татьяна Власьевна от рюмки отказалась не твердо, больше, видно, для приличия, а выпила ее решительно, единым духом. Вскоре она разрумянилась, в глазах заиграли лукавые блестки. «Хороша… Лицо без единой морщинки, а шея просто точеная. С дочкой они как две капли воды… Только ни за что не подумаешь, что она — мать Нины, скорее за сестру можно принять. Удивительно сохранилась». — Иван Александрович покосился на Грачева, который, наклонясь к тарелке, увлеченно, со смаком обгрызал баранью кость. Иван Александрович опять, уже более смело и выразительно, посмотрел на хозяйку. Татьяна Власьевна ответила на его взгляд улыбкой, от которой у него приятно закружилось в голове.
— Татьяна Власьевна! Петр Фомич! Выпьем за успехи в работе!
— Я больше не пью! — Татьяна Власьевна накрыла ладонью рюмку. — Не предлагайте. Бесполезно.
— За успехи? — Грачев подцепил вилкой увесистый ломоть хлеба, бережно пододвинул к себе рюмку. — Выпить, конечно, можно, только с нашим Хвоевым не добьешься успехов. Он любой успех обернет в неуспех. Как ни старайся — все без проку. Не берет нас мир.
Татьяна Власьевна поджала губы, а ее большие глаза стали строгими. Гвоздин понял — слова мужа ей не по нраву.
Он, резко откинувшись, выплеснул в рот рюмку и вслед торопливо проводил хрусткий груздь.
— Хвоев — тяжелый человек, — сказал он, еще как следует не прожевав. — Татьяна Власьевна, вы как думаете?
— Я с Хвоевым не работаю, — сухо ответила Грачева. — Вам видней.
— Уклоняетесь?.. Ведь нравится? Скажете, нет?
— Почему так думаете? — удивилась Татьяна Власьевна. — Я не замечала, чтобы он был тяжелым. И от других не слышала…
— Вот правильно! — обрадовался Иван Александрович. — Уважаю откровенность.
Татьяна Власьевна, презрительно сощурив красивые глаза, сказала:
— А чему же радуетесь? Любите откровенность… Если так, могу добавить: Петр Фомич, да и вы куда тяжелее…
Иван Александрович, поняв, что разговор принимает неприятный характер, постарался обернуть все в шутку:
— Вдвоем-то, конечно… Один Петр Фомич вряд ли уступит. Килограмм восемьдесят есть, а, Петр Фомич?
— С гаком. Восемьдесят семь…
— Вот видите… — рассмеялся Иван Александрович.
Грачев, зажав в кулаке вилку, переводил настороженный взгляд с жены на гостя:
— Не вздумайте поссориться.
— Зачем нам ссориться. — Татьяна Власьевна встала, сняла со стены гитару.
— Молодец, Таня. Иван Александрович, знаешь, она великая мастерица… Сыграй, Таня! Нашу сыграй.
Татьяна Власьевна согласно кивнула, и струны зажурчали.
Татьяна Власьевна пела, а муж, опираясь на стол, медленно поднимался.
— Таня!
Она приглушила струны.
— Помнишь? Как сидели на скале, помнишь? А ты пела… Вот эту самую «Не брани»…
— Не забыла.
— Эх, молодость!.. Как мы изменились!
— Особенно ты, — заметила Татьяна Власьевна, и пальцы ее побежали по струнам.
— Понимаешь? — Петр Фомич обернулся к Гвоздину.
— Конечно, — поспешно согласился Иван Александрович.
— Ни черта ты не понимаешь! Точно говорю. Ты сегодня сел в лужу. Показал себя. А меня не подбивай. Я понимаю… Пой, Таня!
Положив ручку, Валерий Сергеевич с удовольствием распрямился и, поглядывая на исписанные листы бумаги, закурил. Вот и докладная готова. Кажется, обстоятельно получилось. Учтены все замечания. А каков Гвоздин! Показал себя…
Время подходило к десяти. В большом деревянном здании райкома было тихо.
Посидев в усталой задумчивости, Валерий Сергеевич достал из внутреннего кармана вдвое сложенный конверт. Вот он, дорогой почерк его Вареньки: округлые не соединенные между собой четкие буквы. Впрочем, не такие уж четкие. Раньше Варенька будто печатала. Как могло это случиться? Принесло же старика! А его, Валерия Сергеевича, к несчастью, не оказалось дома. Он уехал в Верхнеобск. В середине ноября… Снег выпал и растаял, ударил морозец — все оледенело. Ветки деревьев гнулись под тяжестью наросшего льда. Вот тогда-то старик-алтаец и заявился в дом с образцами пород, которые в разные годы отыскал в горах.
Эх, Варенька!.. Дорогая… Зачем тебе было идти со стариком? Ведь ты топограф, а не геолог. Хотя как же иначе?
Валерий Сергеевич вспомнил, как в глухую полночь возвращался из Верхнеобска. Закрыв глаза, он представлял встречу с семьей. Ленушка, конечно, спит. А Варя? Она ждет…
Шофер еще не остановил как следует машину, а он выскочил, застучал в окно. Открыла дверь мать.
— Валерий, беда-то какая! — всплеснула она руками. — Разбилась… Упала и разбилась… Вечор в город отправили. Самолет прилетал… Сколько я говорила… Все на рожон лезла…
Тяжелые шаги и звук открываемой двери вернули Валерия Сергеевича к действительности. На пороге стоял Кузин.
— А, Григорий Степанович! — смутился Хвоев, чувствуя, что сейчас должен состояться окончательный разговор. Больше тянуть нельзя. Собственно, он не тянул, но было как-то неловко перед стариком. Ведь он отдает все силы колхозу…
— Вижу, огонь… — угрюмо сказал Кузин, стягивая с головы шапку. — Вот и зашел. Поговорить надо…
— Да, поговорить надо, — согласился Валерий Сергеевич. — Рассказывай, Григорий Степанович, как дела. Давно собираюсь побывать на ваших стоянках да вот закрутился тут. Рассказывай, как зимовка идет, что вообще нового.
— А что рассказывать? Все так же, как и раньше. — Кузин упрямо смотрел себе в колени.
— Скромничаешь, Григорий Степанович. — Хвоев засмеялся, хлопнул ладонью по подлокотнику кресла. — Вот с еловыми ветками вы здорово придумали. Мы всем колхозам рекомендовали. Строительную бригаду сколачиваете. Тоже важное дело. Надо полагать, теперь сдвинете строительство с мертвой точки. И вообще, мне думается, у вас веселей дела пошли.
— Веселей, — с тяжелым выдохом согласился Кузин и, подняв голову, уколол Хвоева укоризненным взглядом. — Валерий Сергеевич, давай поговорим без хитростей, без дипломатии, начистоту. Я ведь не такой дурак. Кое-что понимаю.
Лицо и шея у Хвоева порозовели. Он машинально потер ладонью голову.
— Пожалуйста… я всегда начистоту…
— Сам знаешь, — перебил его Кузин, — сколько я старался, чтобы поднять колхоз. А теперь вижу, что не нужен стал. И вы тут в райкоме видите… Все пошло мимо меня… И ветки еловые, и бригада строительная. Да что там говорить, с каждым пустяком бегут к Ковалеву. Выходит — убираться мне надо. Снимайте. Пойду в сторожа.
— Григорий Степанович, мы не назначаем председателей и не снимаем. Пусть члены артели скажут, кто лучше. Давай поговорим спокойно.
Хвоев открыл пачку «Казбека», закурил, предложил Кузину, но тот отрицательно качнул головой.
— Так вот, — продолжал Хвоев, — в авиации у каждого самолета свой потолок — высота, на которую он может подниматься. И у каждого человека есть свой потолок. Да… Я ценю, уважаю тебя, Григорий Степанович. «Кызыл Черю» — твое детище. Но это детище слишком разрослось. Ты уже не в состоянии с ним справиться. Но есть у нас еще колхозы, которые тебе по плечу. Вот «Восход». Там надо фундамент закладывать… Ты насчет этого мастер. А потом, надо полагать, ты многое понял, многому научился.
— Научился, — крякнул Кузин и встал, направляясь к двери.
— Григорий Степанович, куда же ты? Подожди.
Но Кузин, не оглядываясь и не надевая шапки, вышел. Хвоев в растерянности долго смотрел на приоткрытую дверь, потом тоже встал, прошелся по кабинету. «Обиделся старик. Конечно, тяжело, но ничего не поделаешь, жизнь неумолима».
Глава шестая
Ночь тянулась мучительно долго. Сначала, когда возвратилась Зина, принеся гусиного сала, Клаве хотелось остаться одной. Хотелось еще раз разобраться в мыслях, взвесить все и как-то ответить себе на больной вопрос — что делать, как жить… Только не ответишь… Голова кругом идет. Хорошо Нинке Грачевой. Все заботы — о нарядах да танцах. А тут…
Клава сидела на маленьком табурете у печки, уставясь отсутствующим взглядом на сковородку, в которой жарилась картошка. Зина положила на стол круглую из-под вазелина баночку с гусиным салом и присела на широкую лавку у окна. Клава не видела Зину, но ее присутствие тяготило и раздражало. Девушке казалось, что они, Балушевы, во всем виноваты. Федор сбил ее с толку, заставил мучиться. И она, Зина, тоже хороша — живет с болтуном. Вот не сегодня-завтра приедет мать. Как ей в глаза глядеть? Что говорить?
— Пойду, — Зина поднялась.
По голосу Клаве стало ясно, что Зина чувствует себя неудобно, — она все понимает. И Клаве вдруг захотелось удержать Зину, поговорить с ней просто, как раньше. Ведь Зина добрая. Клава вскочила с табурета, глянула на Зину и… безнадежно махнула рукой: дескать, что теперь говорить, бесполезно. Все пропало. Она опять села.
Зина, опустив глаза, приглушенно сказала:
— До свидания.
И Клава осталась одна.
Она не помнит, когда и как выходила во двор, как зашла опять в дом, как заперла на задвижку дверь и упала на кровать. Ей хотелось скорей заснуть, чтобы хоть на время избавиться от мучительных дум о завтрашнем дне. Но сон долго не мог одолеть ее. Она перевертывалась с боку на бок, на спину, закрывала глаза, потом вновь открывала. Кругом была густая, плотная темнота.
Прошло много, а может быть, и не так уж много времени, и вдруг грянул гром, от которого все задрожало. Клава закричала и от своего голоса проснулась. Трясущаяся, мокрая от пота, она никак не могла понять, что кто-то настойчиво стучит то в дверь, то в кухонное окно. А когда поняла, испугалась: «Уж не мама ли?» Суматошно заметалась по комнате. А стук не прекращался. Барабанили по стеклу, били кулаком в раму. Клава порывалась выбежать в освещенную кухню, чтобы спросить, кто там, включить в горнице свет. И не делала ни того, ни другого. А через несколько секунд она осторожно заглянула в окно и увидела в полосе света Ковалева и Эркелей. Клава обрадовалась, что стучит не мать, но тут же мысль: «Зачем они пришли?» — вновь привела ее в смятение. «Начнут расспрашивать… Нет, не пущу… Потом скажу, что не слышала. Могла же я не слышать? Конечно…»
Она легла, а в окно долго стучали, потом Эркелей стала кричать:
— Клава! Клава! Открой!
Но Клава не отзывалась.
…Дрова в печке давно прогорели, а на холодной сковородке вместо картошки чернели кусочки угля. Чтобы выпустить чад, Клава приоткрыла дверь. Клубы седого морозного воздуха окутали ее ноги, но Клава не чувствовала холода. Она вообще ничего не чувствовала. Она думала о своей несчастной доле. А ведь все было бы иначе, поступи она в институт. Теперь бы училась вместе с Игорем. А так Игоря надо забывать. Да что там, он сам забудет. На каникулы не приехал. Письма присылает редко, и они совсем не похожи на прежние. Разные у них дороги. Правильно тогда говорила его матушка. А как же с фермой? Идти туда или не идти? Опять ничего не получится, только опозоришься. Но ведь она там нужна? Конечно, нужна. Если не придет, то коровы могут остаться недоенными. А что скажут Эркелей, Чинчей? А Ковалев?.. Нет, надо идти… Обязательно надо. Пусть не получится. Не все сразу получается. Но почему в голове такой шум! И пальцы болят, ни согнуть, ни разогнуть? Забыла намазать их салом. Как теперь быть? Уж лучше бы по-настоящему заболеть. Поднялась бы температура. «Ой, и дура же я, о чем думаю», — спохватилась Клава, не переставая представлять себя больной.
Спустя несколько минут мысли Клавы вернулись опять к ферме. Она даже не представляла, что окажется так трудно. А ведь мать и Чинчей всю жизнь там работают, и Эркелей тоже. Ни разу даже не пожаловались, что им трудно. Выходит, она хуже всех. А ведь трудней всего бывает, наверное, вначале, когда человек еще не научился, не привык. И сегодня ей обязательно надо идти на дойку. И завтра тоже. Все время надо ходить. Коровы привыкнут к ней, да и зима скоро кончится. Все наладится, будет хорошо. Летом она еще раз попытается поступить в институт. Сдаст, обязательно сдаст! С Игорем будет учиться.
Повеселевшая Клава начала поспешно собираться на работу. Теперь ей показалось странным, что она могла так отчаиваться. Всю ночь металась. Из-за чего, спрашивается? Что такого случилось? И Ковалева с Эркелей не впустила. Вот глупая!..
Когда Клава вышла из дома, село, как и вчера, было погружено в безмолвную темноту. Дома казались немыми призраками. А над головой сверкал расшитый звездами шатер из черного бархата. Временами какая-нибудь из звезд срывалась и катилась, оставляя за собой зеленоватый, быстро гаснущий след. Мигающие над силуэтами гор звезды напоминали фонарики. Но Клава ничего этого не замечала. Она быстро шагала по дороге. Ей хотелось скорее попасть на ферму, не опоздать. Ведь если она опоздает, то все там могут заподозрить ее в малодушии. Чинчей, вынув изо рта трубку, скажет: «Кажись, дочка не в мать удалась». А Эркелей при этом обязательно расхохочется. Нет, нельзя допускать, чтобы о ней, Клаве, плохо думали. Она, конечно, колебалась, но она идет на ферму и будет ходить, приложит все силы, чтобы стать хорошей дояркой.
Сноп яркого света неожиданно ударил Клаве в глаза. Она растерялась, встала, ничего не соображая. Затем бросилась вперед, освобождая дорогу выкатившейся из переулка грузовой машине. А машина, замедлив ход, свернула на шоссейку и покатилась в центр села. Провожая ее взглядом, Клава заметила в кузове людей в заснеженных тулупах. «Откуда-то издалека», — отметила девушка и отправилась своей дорогой. Вот и кусты. Тут волки разорвали теленка. Но это было давно… А потом, волки на людей почти никогда не бросаются. Только бы кусты пройти, а за ними до фермы рукой подать. Огонек будет видно. Как и вчера, Чинчей сидит теперь у печки с трубкой. Рано она приходит. А Эркелей, наверное, еще спит. Ночь прогуляет… Ух, и девка!.. Надо было зайти за ней. Вдвоем веселей. А мороз-то, оказывается, сегодня хлеще вчерашнего, на ходу пробирает. «Как же я буду в такой холод доить?» Она разжала в рукавицах пальцы, пошевелила ими. Ей показалось, что пальцы болят сильнее, чем раньше. Встревоженная Клава задержала шаг, а потом остановилась: «В самом деле, как я буду? Еще больше обморожусь. Вот наказание… Приду, а подоить не сумею. Лучше подождать, когда заживут. А теперь как же? В больницу сходить, к Тоне Ермешевой?» Но в больницу она не пошла.
…Темным сонным селом Клава, размышляя, возвращалась домой. Шла не спеша, хотя чувствовала, что на ней все настыло. Кажется, все продумано, решено, но на душе покоя нет.
Подходя к дому, Клава увидела в окнах яркий свет. «Откуда, он взялся? Я ведь выключила. А может, забыла?» — Клава поднялась на крыльцо и запустила руку под застреху, чтобы достать ключ. Но ключа в условленном месте не оказалось, и Клаве вдруг стало жарко. В смятении она еще несколько секунд шарила в застрехе, потом толкнула коридорную дверь, дернула на себя кухонную и сорвавшимся голосом крикнула:
— Мама!
Марфа Сидоровна, присев на корточки, растапливала печку. От неожиданного крика Клавы она выронила полено, но тут же поднялась, окинула дочь пытливым взглядом.
Клава подскочила к матери, схватила ее за руку, потом ткнулась лицом в грудь и заплакала. Заплакала навзрыд, совсем как раньше, в годы детства, когда прибегала жаловаться на обиды.
— Что с тобой? Ну хватит, — Марфа Сидоровна прижимала к себе Клавину голову, похлопывала дочь по плечу. — Перестань. Расскажи лучше, что случилось. Где ты была? Да перестань! — Марфа Сидоровна, чтобы унять подступившие слезы, старалась говорить суровым тоном. Но какая там строгость, если она столько думала и беспокоилась о дочери! И выходит, не зря беспокоилась, не зря ложилась и вставала с постели с мыслями о ней. Неладное случилось. Уж не натворила ли что? Ведь молода еще, глупа…
— Перестань, перестань, говорю. Сядем-ка.
Марфа Сидоровна присела на лавку, а Клава опустилась на корточки, уткнулась матери в колени и продолжала плакать. Мать терпеливо ждала, когда дочь, успокоясь, расскажет обо всем. И Клава подняла голову. Всхлипывая и размазывая по лицу слезы, она рассказала, как тяготилась работой в конторе, как назло Федору Балушеву вызвалась пойти на ферму и как обморозила на первой дойке руки. Замолкнув, Клава с беспокойством заглянула в лицо матери. Что она? Выругает? Пусть… Все равно ей теперь легче, потому что рядом мать. Она решит, как поступить. Если потребует, Клава даже вернется в контору. Хотя нет, с какими глазами туда идти. Да и зачем? Нет, ни за что! Но почему она такая? Смотрит не моргая на печку, лицо мрачное. Клава опять ткнулась в колени матери и всхлипнула.
— Запорхала, как птичка, — укоряюще сказала мать. — Не годится так, дочка, нет! Взялась за дело, как бы трудно ни было — делай. На Федора не смотри. Балаболка он. И отец у него такой. Языком брякает, а все без толку. Разве это человек?
Марфа Сидоровна решительно отстранила от себя дочь, поднялась:
— Нельзя так! Пойдем на ферму!
…Когда они вышли на улицу, снежные вершины гор розовели от первых лучей поднявшегося где-то за перевалом солнца. Дома еще застилала рассветная дымка, но в них весело мерцали огни, а над крышами мирно струился дымок.
— День-то, кажись, разыграется, — сказала Марфа Сидоровна. — К весне дело.
— Да, — согласилась Клава, спокойно шагая рядом с матерью.
Подходя к ферме, Клава почувствовала, что ей очень хочется есть. «Ведь я почти целые сутки ничего в рот не брала, — подумала девушка. — Ничего, потерплю… Хотя можно у Эркелей попросить. Она всегда с собой приносит. Поделится…»
Глава седьмая
Спокойная и, казалось, радостная жизнь в доме Балушевых внезапно расстроилась. Зина стала где-то задерживаться после работы. Приходила в семь, а иногда даже в девять. Молча переодевалась в домашнее, умывалась и так же молча принималась помогать свекрови на кухне. Но чаще всего Зина, пройдя в горницу, ложилась на кровать, отворачивалась к стене. Несколько раз она отказывалась ужинать, ссылаясь на недомогание. А если выходила к столу, то ела неохотно, сосредоточенно смотря в тарелку.
Федор поначалу вел себя так, как будто в доме ничего не случилось. Мелкими поспешными шажками он ходил из кухни в горницу, подсаживался к жене и говорил без конца, подкрепляя слова размашистыми жестами. Только теперь он уже не ругал, как прежде, контору, не называл ее затхлым углом, стоячим болотом. Из его слов можно было даже понять, что конторская работа нравится ему. Он вдохновенно рассказывал, как райпотребсоюз завозит на весну товары, открывает новые магазины.
— Иван Александрович хитер, как старая лиса, но деловой. Этого у него не отнимешь. — Федор хотел еще что-то сказать о Гвоздине, но, встретясь со взглядом жены, осекся. Зина всегда слушала мужа с большой участливостью, а сейчас у нее такое лицо, что сразу видно — Зина не только безразлична к его словам, они вызывают досаду. Поняв это, Федор помрачнел.
Мать Федора никогда не отличалась особенной словоохотливостью, а тут совсем примолкла, исподтишка с беспокойством наблюдая за сыном и снохой. Одна Иринка с прежней беспечностью скакала по комнатам, засыпала бесконечными и порой смешными расспросами мать, отца, бабушку. Но холодное отношение, слова «не приставай, доченька, займись чем-нибудь» убедили ее, что куклы интереснее взрослых людей. Куклами она и занялась в углу за цветочной кадкой. В доме помрачнело и стало тихо-тихо. Тишина таила в себе тревожное.
Федор все-таки не выдержал. Однажды, присев на край кровати, он, хмурясь, сказал:
— Слушай, долго ты будешь в молчанки играть? К чему это?
Зина продолжала лежать лицом к стене. Федор тронул ее за плечо.
— Я, кажется, с тобой разговариваю.
Зина повернула голову, потом неохотно поднялась, ладонями пригладила волосы.
— Ну что ты от меня хочешь?
— Как — что хочу? Хочу все выяснить. Нечего играть на нервах. Скажи ясно и конкретно: в чем дело?
— Не прикидывайся ребенком. Ни к чему это. Ты все понимаешь. — Зина решительно встала и, пройдя по комнате, села на диван. — Не могу я так больше. Стыдно! Из-за тебя на работу другой дорогой хожу — с Ковалевым встречаться стыдно. А Клава… Настроил девчонку, сам в кусты. Она теперь мучается.
— Ха, — презрительно выдохнул Федор. — Ты понимаешь, что говоришь? Ведь глупо, черт возьми, совершенно глупо. Из-за чего скандал заводишь? Вот скажи кому-нибудь — смеяться станут. Честное слово… Великое дело — на ферму раздумал пойти. Просто ищешь причины поссориться. Больше ничего… Выходит, человек не может изменить решения? Чепуха на постном масле. Хотел пойти на ферму, а потом не пошел. И чего тут особенного? Какая-то барская щепетильность. Только… И не смотри на меня такими глазами! — вспылил вдруг Федор. — Я не убил и не украл. Говоришь, а поступка моего понять не постаралась. Ведь о вас беспокоюсь. Будь я один, не задумывался бы…
Зина несколько раз порывалась возразить, но Федор не давал ей выговорить слова. Зина понимала, что Федор оправдывается. Конечно, в жизни всякое бывает. Случается, человек передумает, изменит решение. Но у Федора всегда так: говорит одно, а делает другое. Пообещает — не выполнит. Человек должен быть хозяином своему слову. А так что он за человек…
Зина вспомнила, как уходила от Федора. Это произошло из-за счетовода райфо Инессы. Парнем Федор ухаживал за ней, а когда Инесса уехала, он скоропалительно влюбился в Зину. Клятвенно уверял, что навек. Они поженились, родилась Иринка. Жили, кажется, неплохо, да вдруг в селе опять появилась Инесса, и Зина с горечью заметила, что Федор стал иначе относиться к ней.
Однажды, придя откуда-то под хмельком, заявил, что допустил в своей жизни большую ошибку. «Ошибку можно исправить», — сказала тогда Зина и в тот же вечер ушла с дочкой к знакомым. А наутро пришел Федор и клялся, что никогда не любил Инессу, а любит только ее, Зину. Пьяный мало ли что может сболтнуть.
— Что же молчишь? — спросил Федор, останавливаясь против жены. — Как в рот воды набрала.
— А что я скажу?
— Не крути, Федор, не крути. Не годится так, — вмешалась мать, неожиданно появившись в дверях горницы.
Федор исподлобья окинул старуху сердитым взглядом:
— Ты, мама, лучше бы не ввязывалась. Сами как-нибудь разберемся.
— Нет, не буду молчать! Ты вылитый отец, по его дорожке идешь. Сколько мне довелось за него поморгать! Все люди как люди, а он, как дым: в какую сторону ветер потянул — туда и стелется.
— Ну, хватит! — крикнул Федор, взмахивая руками. — Я не мальчишка… Взялись морали читать! Из-за чего шум устроили? Пустое дело. По-вашему, хоть ноги вытягивай, а иди на ферму. Радетели… Вот принесу завтра справку от врача…
Федор сел у стола, опустил голову.
— Сын ты мне, потому и обидно. Живешь по-заячьи. Скачешь во все стороны, ровно от кого прячешься.
Вскоре хлопнула дверь. Федор понял — Зина ушла из дома. «Ну и пусть охолонет на морозе. Подумаешь…» — постарался он успокоить себя.
Федор закурил и лег на кровать. Жадно затягиваясь дымом, думал. Так и уснул, держа в откинутой руке потухшую папиросу.
Проснулся Федор в первом часу. Зины не было.
Федор вышел в кухню, зачерпнул из кадки полную кружку воды и жадно выпил. Где же Зина? А что, если не придет? Как тогда… Совсем не придет…
Федор наспех оделся, вышел из дома и зашагал в темноту. В душе росла тревога.
Глава восьмая
Кровать была односпальной. Клаве и Зине, чтобы уместиться на ней, приходилось прижиматься друг к другу.
— Настоящей дояркой стала, — Зина обхватила обнаженной рукой шею Клавы. — От тебя так приятно молоком пахнет.
— Дела у нее налаживаются, — заметила Марфа Сидоровна.
— Знаешь, Зина, Ласточка ко мне так привыкла. Ни на шаг не отстает, пятки топчет. И остальные признали. Вот только Пеструха. Ох и характерец у нее.
— Привыкнет и Пеструха, — опять отозвалась из темноты Марфа Сидоровна.
— Ну, а как с подсосом? — спросила Зина. — Отучила?
— Двух отучила, остальные ни в какую. Опять же Пеструха больше всех артачится. А Ковалев говорит, Ласточку не следовало отучать от теленка. Знаешь почему? Она же симменталка третьего поколения. От нее нужно получить хорошее потомство. А телята с подсосом всегда лучше. Ведь материнским молоком кормятся.
— Ну, конечно… — согласилась Зина. — Ковалев-то за семьей уехал?
— Уехал.
— Хватит вам балаболить, — с напускной строгостью сказала Марфа Сидоровна. — Ведь тебя, Клава, утром не добудишься.
— Встану. — Клава еще плотнее прижалась к Зине и зашептала: — Эркелей-то наша… прямо смех… В Ковалева по уши втрескалась. Жить, говорит, без него не могу.
— Да что ты говоришь? Ну, а он?
— Он ничего… Ко всем одинаков.
— Ох и девка… — прошептала Зина.
— Она хорошая… Вот только какая-то непостоянная… Семь пятниц на неделе. Это ведь плохо? Правда, Зина?
— Конечно… Чего хорошего… Ну, давай спать, а то поздно.
Они стали уже засыпать, когда послышался резкий стук в окно. Зина вздрогнула:
— Ой, это Федор! Клава!.. Меня здесь нет.
Клава приподняла с подушки голову, но Марфа Сидоровна сказала:
— Лежите, я его сама отправлю.
В тишине было слышно, как скрипнула под Марфой Сидоровной деревянная кровать. Вот она неторопливо подошла к двери, открыла ее и с порога спросила:
— Кто там? А, ты, Федор? Что это тебя по ночам носит?.. Кого? Зины? Нет, да зачем она к нам в такое время? Как же это ты достукался?.. Жену потерял… Правду говорю… Что, я обманывать стану. Не хватало еще… Выходит, заслужил, если сбежала.
Двери захлопнулись. Марфа Сидоровна вернулась, улеглась на кровати, а потом уже сказала:
— Не верит. Говорит, больше негде быть. Ишь, забеспокоился…
Клава придвинулась плотнее к Зине.
— А ты утром перед работой зайдешь домой?
— Не знаю. Не хочется. Глядеть на него тошно стало.
— Как же так? Ты его любишь?
Зина долго молчала.
— Хочется, чтобы он самостоятельным стал. Только как его сделать таким? Сплошная мука.
— А почему ему обязательно на ферму идти? Пусть сидит в конторе, если нравится.
— Так нечего тогда было болтать! Кто раззвонил? Ты сама говорила — не по душе такие люди. А кому они по душе? Нельзя жить трепачом.
— Это да… — Клава повернулась на спину.
— Ну, давай спать, а то всю ночь проговорим. Только вряд ли я усну. Такая забота…
— Да-а. — Клава опять повернулась на бок, прижалась к Зине. — Вот до этого года я даже не представляла, как тяжело иногда бывает. Без мамы жила, думала: с ума сойду. Хоть в петлю лезь. А теперь вспоминать смешно. И у тебя так… Все пройдет, уладится.
— Хотя бы уладилось. Ну, спим…
Клава замолкла, закрыла глаза, но сон не приходил. Сначала она думала о Федоре, а потом стала думать вообще о людях. Какие они разные. И как трудно бывает узнать, хорошие они или плохие. Вот Федор все время казался хорошим… А Игорь, интересно, какой? Он-то, наверное, хороший. Хотя скоро человека, оказывается, не узнаешь. Она полгода училась с Игорем в одном классе, и все. Да и что она тогда понимала? Глупая была… Так и остался Игорь непонятным. Любимый, но непонятный. Письма от него идут тоже непонятные. То холодные, как снег, а то вдруг начнет он в них рассказывать о своих чувствах. Уверять, что жить без нее не может, никак не дождется лета. А уж скоро, скоро лето. Еще несколько месяцев, и они увидятся. Ох, скорей бы… Наверное, не дождешься…
…Утром, когда Клава и Марфа Сидоровна собирались на дойку, а Зина, хотя не спала, лежала в постели, натянув до подбородка одеяло, пришла свекровь Зины.
— Доброе утро! — приветливо сказала она.
— Доброе утро, — ответила Марфа Сидоровна.
— На работу собираетесь? — Ивановна будто ненароком покосилась на кровать, где лежала Зина.
— Да, на работу, — отозвалась Марфа Сидоровна, доставая с печи свои подшитые пимы.
Старуха справилась о здоровье Марфы Сидоровны, о делах на ферме, а потом обратилась к снохе:
— А я за тобой, Зина. Иди-ка, помоги мне. Голову да ножки взялась палить на холодец. Развела канитель и никак не оправлюсь.
Зина несколько секунд не двигалась, растерянно думая, как ей поступить. Потом сказала:
— Мне ведь на работу скоро.
— До работы еще управимся. Долго ли вдвоем?
Зина поднялась с явной неохотой. Так же неохотно надела платье, кое-как поправила растрепавшиеся волосы. Во дворе свекровь сказала:
— Ты что же это, девка, в бега ударилась?
— Сами знаете… — сухо заметила Зина.
— Знать-то знаю, но всему мера бывает. Он всю ночь места себе не находил.
— Ну и пусть… Это ему на пользу.
— На пользу… Можно и добром договориться. Да и незачем сор из избы выносить.
Зина молчала.
После дойки коров, когда слили во фляги молоко и отогрелись около печки, Марфа Сидоровна предложила дочери:
— Григорий Степанович уезжает. Немало доброго для колхоза сделал. Проводить надо.
— И я пойду, — бойко выпалила Эркелей.
— Да, проводить надо. Хороший был человек, — покачивая головой, сказала Чинчей таким тоном, будто Кузин уже покоился на кладбище.
— Хороший? А зачем же выбирали Ковалева? — с обидой спросила Марфа Сидоровна. — С Григорием Степановичем я семь лет работала. Всяко бывало… Ночи доводилось не спать… Хороший человек. А вы, не задумываясь, сменили его на нового. Жаль, меня не было. Я бы сказала…
Чинчей не спеша достала с припечка трубку с длинным, чуть не в полметра, чубуком и, набивая ее махоркой, ответила Марфе Сидоровне вопросом:
— Э, когда новый лучше, почему не сменять?
— Да как вы узнали, что новый лучше?
— Видали… Все видали.
— Так и увидали! — стояла на своем Марфа Сидоровна.
— Лучше, мама, и не спорь, пожалуйста, — вмешалась в разговор Клава. — Сама тоже убедишься.
— А ты-то как знаешь? — рассердилась Марфа Сидоровна. — Заладила, как сорока. Чего бы понимала…
Лицо Клавы вспыхнуло. Комкая в руках концы клетчатого платка, девушка отошла в угол.
— Ну, пусть, по-твоему, не понимаю. Зато колхозники все голосовали за Ковалева. Что же, они тоже не понимают? Кузин, может, и хороший, но только он отстал. И с людьми работать не умеет. Вот Бабах… Лучшим чабаном стал, а Кузин не хотел принимать его в колхоз. Говорит, пьяница мне не нужен. И еще есть факты. Валерий Сергеевич их приводил… А Ласточку кто хотел прирезать?
Марфа Сидоровна, присев на чурбачок, задумчиво смотрела на огонь в печке. Рядом Чинчей старательно раскуривала трубку. Эркелей, облокотясь о стол, дремала. После долгого и неловкого молчания Марфа Сидоровна ворчливо сказала:
— Конечно, вам, зеленым, легко обо всем судить. Поработали бы с наше… — Она бросила на дочь сердитый взгляд: — Ты вот ладно говоришь, а самой чуть туго пришлось — сразу в слезы. А мы не плакали. Ну, пойдемте провожать, а то опоздаем.
По дороге угрюмо молчали, думая каждый о своем. Одна Эркелей неугомонно болтала, а потом, приотстав, подставила Клаве ножку. Клава, смешно подскочив, чуть не растянулась на дороге. Эркелей это доставило большое удовольствие. Она залилась на всю улицу смехом.
— Да перестаньте вы! — строго прикрикнула Марфа Сидоровна. — Без балушек не могут.
Эркелей напустила на лицо серьезность, но, как только Марфа Сидоровна отвернулась, хихикнула, подтолкнула локтем подругу: дескать, смотри, какие строгие, пошутить нельзя.
— Хватит! — сердито сказала Клава и отвернулась от Эркелей.
Ворота Кузиных оказались широко распахнутыми. У самого крыльца стояла грузовая автомашина, в которую складывали разный домашний скарб. Вся ограда была забита колхозниками. Одни из них стояли праздными наблюдателями, другие, толкаясь, помогали грузить вещи.
— Спинку от дивана к кабине! Вплотную к кабине, говорю, ставь! — распоряжался снизу Кузин.
Он был, как всегда, в потертом, не застегнутом на верхние пуговицы полушубке. И, как всегда, лицо заросло седой щетиной. Только глаза — мрачнее обычного, больше обычного напухли под ними мешки.
Жена Григория Степановича беспомощно топталась на крыльце, ничего не делая и мешая другим. Вот ее толкнули большим узлом, она прижалась к перильцам и окинули взглядом, полным растерянности, толпившихся вокруг людей. Заметив Марфу Сидоровну, встрепенулась, неловко заспешила по ступенькам.
— Марфуша! Марфа Сидоровна! Цветы-то… Так я их выхаживала… Столько сил положила… Куда теперь? Ведь пока новые жильцы вселятся — они померзнут. Ты, Марфушка, возьми хоть фикус. Такой он хороший…
— Да как же его по морозу?.. Пропадет…
— И то правда… Ох, жалость…
— Анисья, ну что ты под ногами путаешься? — строго упрекнул жену Кузин. — Сама ничего не делает и другим мешает. Дались ей цветы. Нашла о чем сокрушаться. До цветов ли теперь? Хоть бы оделась. Скоро ехать, а она растрепанная… А Васятка где?
— А я тут, папа, — из кабины высунулась голова Васятки.
— Сейчас я, Гриша… Сейчас… — Анисья взяла Марфу Сидоровну за борт полушубка. — Всякое соображение я потеряла…
— Конечно… Шутка ли — в зимнее время переезжать. — Марфа Сидоровна хотела еще что-то добавить в утешение, но в это время Клава вынырнула из-за спины.
— Тетя Анисья, да что вы беспокоитесь за цветы? Сохраним. Будем избу топить, поливать их, а потом Ковалевы приедут. По теплу возьмете. Целы будут цветы.
Анисья обрадованно качнулась к Клаве.
— И то правда, дочка… Спасибо тебе… А я, говорю, совсем не своя стала. Никакого соображения. Спасибо, дочка. Весной я сама приеду за ними.
Кузин вынес из дома и сунул в руки жены пушистую козью доху.
— Шаль-то повяжи как следует. Так и поедешь врастрепку.
— Сейчас, я сейчас все сделаю… — без конца повторяла Анисья, но на самом деле ничего не делала.
Марфа Сидоровна помогла ей повязать шаль, надеть доху.
— Опояску надо, а то продует наверху.
— Не продует, — сказал Кузин. — Доха теплая. Давай подсажу. Ты ведь, как кукла…
— Сейчас, Гриша… Сейчас, дай попрощаться с людьми. — Анисья неуклюже обхватила Марфу Сидоровну и троекратно поцеловала. — Будешь в наших краях — проведай. Не поминай лихом… — Анисья вскинула на толпу глаза, и та, как по команде, двинулась, охватила тесным кольцом отъезжающих. А от ворот поспешно ковылял на своих кривых ногах Сенюш Белендин, еще издали крича:
— Григорь Степаныч, вот ты какое дело… чуть не опоздал.
Кузин покосился на одну сторону, на другую и сказал:
— Ну что лезете? Жалко, что ли? Что же допрежь не жалели?
Народ притих, помрачнел. Один Сенюш, протиснувшись к Кузину, засмеялся:
— Зачем так говорить, Григорь Степаныч? Сколько лет вместе. Много работали… Вместе воевали… Зачем так?..
Лицо у Кузина точно окаменело. Лишь на скулах под щетинистой кожей перекатывались желваки — так всеми силами он старался сдержать в себе волнение. И не сдержал. Лицо дрогнуло, перекосилось. Часто моргая, он крутнул головой.
— Это, конечно… Извиняйте, если что не так. Наперед умней буду. — Сняв меховую рукавицу, Кузин протянул Сенюшу руку.
— Прощай, дружок! И ты, Марфа Сидоровна, тоже… Береги здоровье. Правда твоя, Сенюш. Старые мы все друзья.
— Зачем прощай, Григорь Степаныч? — удивился Сенюш. — Мой дом всегда для тебя нараспашку. В любое время… И все так скажут. Кто хорошо делает, тот говорит не «прощай», а «до свидания».
Народ затолкался, зашумел. Каждому хотелось пожать Кузиным руки, сказать им в дорогу теплое слово. А Клава почувствовала, что у ней перехватило дыхание. Она с трудом выбралась из толпы и, спотыкаясь, пошла к воротам.
Глава девятая
Татьяна Власьевна Грачева, закончив прием больных, тщательно и долго мыла руки. Сняв халат, присела на кушетку, задумалась.
— Что с вами, Татьяна Власьевна? — участливо спросила Тоня Ермешева. — Вы последние дни невеселая. Все думаете…
— Я? — будто очнулась Татьяна Власьевна. — Да нет, ничего особенного. Предлагают поехать на курсы специализации. Вот и думаю…
— Вы уедете? — испугалась Тоня.
— Придется… А что так?
— Да просто… — Тоня смутилась. — Как мы останемся?
— Ты врач… Не забывай… — Татьяна Власьевна обернулась на звук открываемой двери.
— К вам можно? — Федор Балушев несмело переступил порог.
— Пожалуйста, Федор Александрович.
— Добрый день, Татьяна Власьевна.
— Здравствуйте.
— Татьяна Власьевна, — Федор замялся, покосился на Тоню. — Поговорить надо… Дело одно…
Тоня вышла.
— Слушаю.
— Татьяна Власьевна… Ничего особенного… Я только сейчас с базы. Там, понимаете ли, импортные ковры… Болгарские… Просто загляденье. Два на три с половиной метра, а расцветка — не оторвешься. И всего два. Балушев говорил, а взгляд его все время ускользал, он прикашливал, переступал с ноги на ногу. Но Татьяна Власьевна ничего этого не заметила. Она давно мечтала о большом, красивом ковре. Глаза ее оживленно заблестели, на щеках проступил молодой румянец.
— Федор Александрович! Что вы говорите? Только два? Как бы купить?
— Охотников на них много. Жена военкома прибегала… Гвоздины берут… Но для вас, Татьяна Власьевна, постараюсь. Ковер будет. Не беспокойтесь, я сам принесу. А у меня, кстати, просьба к вам. — Федор с шапкой в руке присел на стул и заговорил, не поднимая глаз: — С сердцем у меня бывает неважно. Покалывает и как-то западает… Так вот какой-нибудь документ… Справку мне…
Татьяна Власьевна молча села за стол, вынула из ящика бланк со штампом районной больницы, взяла ручку. Неторопливо написав слово «Справка», она спросила:
— А зачем вам?..
— Да понимаете, — Федор заерзал на стуле, — райком мне предлагает другую работу, а я чувствую — не потяну по состоянию здоровья. И вообще не по душе мне то место. Да и для знакомых будет хуже, если я уйду из торговли. Кто выручит? — с улыбкой попробовал пошутить Федор.
Но шутка не достигла цели — лицо Татьяны Власьевны осталось серьезным. Она встала и не предложила, а скорее приказала Федору:
— Раздевайтесь до пояса!
Федор поспешно поднялся, дрожащими пальцами расстегнул несколько пуговиц полупальто, потом опять застегнул их.
— Да стоит ли, Татьяна Власьевна? Может, без этого? Не велика важность…
— Как же… Мне надо послушать сердце.
Федор опять начал расстегивать пуговицы.
Выслушав, Татьяна Власьевна сухо сказала:
— Одевайтесь. Вашему сердцу любой позавидует. Как хороший мотор…
Лицо Федора становилось то красным, будто его ошпарили кипятком, то белым, как молоко. А Татьяна Власьевна, покрутив в руках бланк начатой справки, неторопливо порвала его и бросила в корзину.
— Извините, я спешу к больному.
Глава десятая
Весь домашний скарб лежал грудой в кухне, а Катя, отогревшись после длинной дороги, ходила из комнаты в комнату. Ковалев ужасно измучился с переездом, продрог, но был доволен — наконец-то все устроилось и его одинокая жизнь окончилась.
На подоконниках и низеньких лавках вдоль стен стояло множество различных цветов, а на полу валялись обрывки газет, какие-то тряпки, битая посуда — следы чужой и непонятной жизни.
— Председатель, а в доме не особенно опрятно, — растягивая слова, заметила Катя.
— Нет, почему? У них хорошо было. Смотри, как много цветов.
— Только что… — опять протяжно и с нотами явного пренебрежения отозвалась Катя.
Геннадий Васильевич принялся энергично расставлять вещи.
Для Володьки сборы, переезд, а теперь расстановка мебели в новом доме — сущее удовольствие. Он, стараясь быть полезным, крутился под ногами отца, лез под руки. Катя помогала неохотно, засматривалась в отогретое солнцем окно, выходила на крыльцо. Она то и дело морщила чуть вздернутый нос.
— Катя, что ты всему удивляешься? Не нравится? Ведь жила в селе…
— Сравнил тоже… Совсем другое село… А тут, — Катя брезгливо скривила губы, — дыра какая-то…
— Ну, это ты напрасно. Знаешь, здесь летом благодать. Катунь, тайга… Ягоды всякой полно, грибов, а рыбы — только успевай жарить.
— Ну, летом… До лета еще далеко.
— Ничего не далеко. Лето за Сарлык-горой. Вон за той, видишь?
Катя глянула в окно на гору, которая, щетинясь темным пихтачом, закрыла добрую половину неба.
— Страсть какая. Сроду не жила в горах. Света белого не видать. С тоски околеешь.
— Привыкнешь… Ребята поправятся на молоке, загорят…
Катя, добрея, улыбнулась.
— Им-то хорошо тут.
— И нам неплохо. Помоги-ка кровать поставить. А в доме надо руки приложить, тогда и уют будет.
Пришли Эркелей и Чинчей. Эркелей, прослышав о приезде семьи Ковалева, с самого утра не находила себе места. Ей не терпелось взглянуть на жену Геннадия Васильевича. Какая она, интересно?
— Пойдем? — приставала Эркелей к Клаве, но та говорила:
— С какой же это стати? Люди только с дороги, а мы заявимся. Потом, завтра или когда сходим.
— Э, ничего ты не понимаешь, — сердилась Эркелей.
— Сходить надо, — сказала Чинчей. — Может, помочь что.
Приунывшая Эркелей встрепенулась. Подскочив к Чинчей, схватила ее за рукав:
— Конечно, надо. Пойдем!
Переступив порог, она без стеснения окинула оценивающим взглядом Катю, сказала себе: «Ничего, но не особенная… Какая-то белая вся. Солнца, что ли, не видела? Может, у них в городе солнца нет? А я, кажется, лучше ее? Конечно, лучше».
Эркелей бойко поздоровалась и, присев перед Володькой, показала ему язык. Тот сначала надулся, а потом заулыбался.
Эркелей тоже рассмеялась, стала спрашивать Володьку, как его звать. Геннадий Васильевич подошел к жене.
— Знакомься, Катя, с нашими людьми. Это телятница Эркелей. Боевая девушка. А это Чинчей, старшая доярка.
Катя недоверчиво покосилась на Эркелей, с нее перевела взгляд на мужа и неохотно протянула руку.
— Очень приятно… Катя.
— Что помогать надо? — спросила Чинчей.
— Спасибо, Чинчей. Сами управимся. Не велики дела. Правда, Катя?
Катя, тяжело вздохнув, склонила голову к плечу.
— Да, конечно, управимся. Вот только холодновато. Протопить надо, а я так измучилась…
Сказала и отвернулась, делая вид, что не заметила укоризненного взгляда мужа.
— Это мы сейчас. — Эркелей дернула Чинчей за рукав: — Пойдем за дровами.
Помощницы вышли, а Геннадий Васильевич принялся с ожесточением заколачивать гвоздь для вешалки.
Утомленные дорогой, ребята уснули засветло. Когда вспыхнул электрический свет, в хорошо натопленном доме стало уютней. Особенно приятно было смотреть на цветы. Соприкасаясь ветвями, они образовали вдоль стен настоящие заросли.
Геннадий Васильевич и Катя пили за самодельным столиком чай. Смахнув со лба пот, Геннадий Васильевич пододвинул к себе вновь налитый стакан.
— Ну вот мы, Катюша, и на новом месте. Не знаю, как ты, а я доволен. Так осточертела эта солдатская жизнь… А ты без меня изменилась. Поправилась, что ли? Я это сразу, еще в Верхнеобске заметил. Будто солидней стала. Солидней и строже.
Катя устало улыбнулась, попробовала запахнуть цветастый ситцевый халатик, но он явно не сходился.
— Вот и халат тебе мал, — пошутил Геннадий Васильевич.
— Ты наговоришь… Он всегда был мал. После первой стирки сел. Надо новый шить. — Катя положила в рот конфетку и склонилась над стаканом. Отхлебнув несколько глотков, она по-детски погремела о зубы конфеткой, языком затолкнула ее за щеку.
— Одним нам спокойней было. С тобой только обеды сколько сил отнимали. А одни что поедим, то и ладно. Вот и поправилась. А ты как жил? Незаметно, чтобы поправился.
— С чего же я поправился бы? Жил как придется. А канители сколько…
У Кати побелели и некрасиво передернулись губы.
— Ой, с того ли похудал? Вот давеча прибегала… Терпение лопнуло… Хотела плюнуть в бесстыжую рожу. А ты еще знакомишь. Хватает нахальства…
— Катя! — укоряюще сказал Геннадий Васильевич. — Ведь ты тоже одна была. Но у меня и мысли не появлялось… Я верю тебе. А ты не веришь? Почему? Без доверия, сама знаешь, ладу не будет.
Геннадий Васильевич говорил, а жена упрямо смотрела на него чужими глазами, и он видел, что она по-прежнему убеждена в своем, ни капельки не верит ему. А главное — глаза. Никогда они, кажется, не были такими. Совсем не ее, чужие. Да и вся она стала какая-то чужая. Отвык, что ли? Да нет… Не проходило дня, чтобы он не вспомнил детей, Катю. Все прежние размолвки и неполадки казались отсюда смешными, нелепыми. А во многом он винил только себя. Он верил, что здесь, на новом месте, они заживут по-новому. С трудом он дождался дня, когда оказался с семьей. И вот, пожалуйста…
Желание пить чай пропало. Отодвинув стакан, он сказал:
— Не знаю, к чему это все приведет.
— Что раскипятился? Значит, виноват. Я уверена… Все вы святошами прикидываетесь.
А наутро Катя стала такая, как в первые дни после женитьбы, — ласковой, любящей. Но Геннадий Васильевич чувствовал, что она не осознала своей вины. Просто старается наладить с ним отношения, а на душе у нее неспокойно, и она избегает открыто взглянуть ему в лицо. Геннадию Васильевичу становилось обидно.
Он оделся, чтобы идти на работу. Катя подала шарф, рукавицы, спросила, придет ли обедать.
— Надо побывать на стоянках. Ночевать, пожалуй, дома не придется. У нас двадцать девять стоянок, по десять-пятнадцать километров одна от другой. Так что не жди. Володька пусть за мужика останется в доме.
Катя сразу завяла. Уголки губ опустились, придав лицу скорбное выражение.
— Дров у нас мало, — сдавленным голосом сказала она. — Удивляюсь, этот Кузин даже дров не запас.
— Не до дров ему было в последнее время. Жил как на вокзале. Хорошо, Катюша, сделаем… Дрова привезут. Только не будь такой… — Геннадий Васильевич приложил ладони к щекам жены, приподнял ей голову и заглянул в глаза: — Скажи, что с тобой? Скажи откровенно, Катюша.
Катя ласково отвела руку мужа и прильнула к его груди.
— Гена, дорогой… Вот ты говорил — я поправилась без тебя. А я извелась вся, ночи не спала. Не знаю, что со мной… Справиться с собой не могу. Это, наверное, от детства. Мать следила за отцом, била окна… Скандалы, драки… А когда стала девушкой, мать все время твердила: «Не верь ни одному мужчине. Держи ухо востро… Все они, подлецы, одинаковые».
— Ну, это уж ни к чему. — Геннадий Васильевич погладил жену по голове. — Как можно мерять всех на один аршин? Разные мужчины, разные и женщины… А ты сама-то как думаешь?
— Я уж сказала… Это старое, наверное, в кровь вошло. Чувствую одно, а делаю другое. Мука настоящая… А кто эта Эркелей, замужняя?
— Опять свое!.. Сколько можно? — Геннадий Васильевич почувствовал, как раздражение вытесняет в нем теплое участие к Кате. Он, хмурясь, сказал: — Ну, я поехал…
Всю первую половину дня думы о жене не давали ему по-настоящему заниматься делами. Разговаривая с колхозниками, подписывая всевозможные документы, покачиваясь в седле, он не переставал видеть холодные, не Катины глаза.
Но потом все прошло, заслонилось встречами с людьми, которых он давно не видел, беседами о делах, вопросами, требовавшими немедленного решения.
Геннадий Васильевич побывал у Бабаха. Председателя приятно удивил вид алтайца. Бабах заметно поправился, не гнул книзу, как прежде, голову, смотрел на всех доверчиво, уверенно, а говорил таким тоном, в котором слышалось достоинство человека, делающего нужное, полезное дело. Иной стала и Чма. Ее широкое скуластое лицо со шрамом на щеке взялось желтыми пятнами, а вспухший живот взбугрил платье. Все движения женщины стали плавными, даже осторожными — она берегла развивающуюся новую жизнь.
Бабах и Чма встретили Ковалева приветливо. На столе появились баранина в огромной миске, чеген, сырчики, толкан. А Бабах все подмигивал жене, говорил ей по-алтайски. Ковалев не понимал, что говорит Бабах. Но по тону догадывался — требует подкрепления на стол.
— Да хватит! Куда вы?.. У меня желудок — не кузов машины-трехтонки.
— Кушай, Генадь Василич, кушай! Якши дело… А потом больше хорошо будет. Сын будет! Правда, Чма? — Бабах посмотрел на жену. Та, смущаясь, кивнула головой.
Геннадий Васильевич улыбнулся:
— Я вот о чем хотел с вами поговорить. Да ты садись, Чма, к столу. Иначе я есть не стану.
— Кушай, Генадь Василич, кушай. — Чма прислонилась к печке, сцепила на животе руки.
— Зачем о нас думать? Сам кушай, — заволновался Бабах. — Мы голодными не останемся.
— Так вот я о чем хотел, — продолжал Ковалев. — Коровник в этом году будем строить. Большой, на сто пятьдесят мест.
— Ого! — удивился Бабах.
— Камень и лес заготовили. Пилораму ставим. Вот только с людьми туго. Придется тебя включить в строительную бригаду. Как смотришь? Согласен?
Бабах, польщенный предложением, взглянул на жену и сказал:
— Пойду. Строить хорошо. А кто тут будет? Чма скоро…
— Пришлем кого-нибудь на время, — перебил его Ковалев.
— Тогда можно, — окончательно согласился Бабах.
…На пути в село Ковалев опять вспомнил о жене. Как она там? Люди вокруг еще не знакомые. Одна с ребятишками… В такой обстановке невольно всякая чушь взбредет в голову.
Оставив в конюшне коня, Геннадий Васильевич, не заходя в контору, отправился домой. Еще издали он увидел в ограде кучу дров. Лиственничные поленья блестели под солнцем, как свежеотлитая бронза. Хорошие дрова, жаркие… Но кто их убирает? Катя? А ей кто-то помогает? Нет, Катя на крыльце. И Геннадий Васильевич ускорил шаги.
Зайдя в ограду, он увидел, что Эркелей и Чинчей носят под навес дрова, а Катя в наброшенном на плечи пальто дает с крыльца распоряжения.
— Березовые отдельно… поближе… А эти красные… их к дальней стене. Березовые на растопку пойдут.
Чинчей кивком головы давала знать, что указания поняты.
— Чинчей! — Геннадий Васильевич отобрал у нее полено. — И ты, Эркелей… Спасибо вам, но мы сами уберем дрова. Идите на ферму, скоро дойка.
Дома Геннадий Васильевич сердито хлопнул о табурет рукавицы.
— Катя! Ну куда это годится? Что мы, сами не можем убрать дрова. Я бы все сделал в свободное время. Да и ты, по-моему, не переломилась бы.
Катя, не сняв пальто, стояла у окна и делала вид, что смотрит на улицу.
— Это ведь барство. Доярки же потом и осудят нас. И правильно сделают.
Катя, не оборачиваясь, бросила через плечо:
— Ну и пусть осуждают. Не хватало еще, чтобы жена председателя сама дрова таскала.
Глава одиннадцатая
Нина Грачева тщательно рассматривала себя в трельяже. Взбила короткую прическу, полюбовалась новым платьем. Шик… Сегодня она блеснет. Мальчишки, конечно, с ума спятят.
Еще раз повернувшись, Нина заметила в зеркале отражение сидящей на диване матери. Почему мать так уставилась на нее? Странной она стала в последнее время. А, разве поймешь! Мало ли что там у них, родителей, бывает… Старятся. А все старики — придиры и ворчуны.
Девушка давно уже не обращает внимания на мать.
И вдруг та позвала:
— Нина!
— Что, мамочка? — откликнулась дочь, слегка досадуя, что ей мешают.
— О чем думаешь?
— Сейчас, мамочка? Вот о платье и вечере. Правда, оно мне очень идет?
— Идет… — Татьяна Власьевна, поднявшись с дивана, подступила к дочери. — Я хочу поговорить с тобой серьезно. Что ты вообще думаешь? Как жить собираешься?
— Как жить? — удивленно переспросила девушка. — Странный вопрос. Как всегда жила… Как теперь…
— Теперь ты бездельничаешь. Живешь на иждивении родителей. Что же, весь век так думаешь? Почему ты не готовишься в институт?
— А зачем мне готовиться? Я и так все знаю. Подфартит — поступлю. А потом, мама, не говори со мной как с ребенком. — Нина капризно выпятила нижнюю губу.
— Перестань кривляться! — срывающимся голосом крикнула Татьяна Власьевна. Дочь вздрогнула и сжалась, будто ее намеревались ударить. А у Татьяны Власьевны побелело лицо. Присев опять на диван, она заметила, что у нее дрожат руки.
— Все знаешь… Подфартит… Где ты набираешься таких словечек? Прошлый год не прошла и теперь останешься. Как тебе не стыдно? Почему не идешь работать? Вон Клава Арбаева дояркой стала. А ты иди в больницу… — Но слова Татьяны Власьевны уже не достигали цели. Нина, оправясь от испуга, сама перешла в яростную атаку.
— Очень нужно туда идти. И нечего меня равнять с Арбаевой. Я не чета ей. А если я вам в тягость — так замуж выйду. — У Нины покатились по щекам слезы. Она затопала ногами и закричала: — Да, да, выйду! И вас не спрошусь! За Анатолия Иванова выйду! Мы уже все решили. Он мне часы золотые подарил. У вас сколько просила, а он слова не сказал…
Татьяна Власьевна всплеснула руками:
— Нина! Ты серьезно говоришь? Глупая, да опомнись! Кто этот Анатолий? Пустозвон. Сколько раз он женился?
— Ну и пусть… Какое мне дело. Меня он любит…
— Пойми ты, глупая, замужество это… это не только любовь. Ты станешь хозяйкой, дети будут. А что ты можешь? Обеда не приготовишь…
— Ух, страсти какие… А я не собираюсь готовить обеды. Очень нужно…
Нина, шурша подолом, прошла в свою комнату. Татьяна Власьевна, проводив дочь взглядом, грустно покачала головой.
В этот вечер она долго ходила по улицам. Ярко отгорала заря, и вся западная половина неба была розовой. Бледно розовели стекла домов, вершины оголившихся от снега гор, деревьев, крыши и сам воздух. Снег на дороге, расплавленный днем ярким солнцем, теперь звонко хрустел под ногами. По краям крыш висели, похожие на пики, сосульки. Пахло прелым деревом, мхом, талым снегом и еще чем-то таким, от чего кружилась голова. Все вместе это называлось весной.
Татьяна Власьевна думала о том, что весна бывает у каждого человека. Приходит и уходит, чтобы никогда не вернуться. Поэтому ее надо беречь, дорожить. А вот Нина не бережет свою весну. Она, конечно, хватится, да поздно будет. Как же увести свою дочь с опасной тропинки?
Татьяна Власьевна зашла к Ермешевым. Они жили в низеньком, ветхом доме. Сам Ермешев был известным на весь край охотником. Татьяна Власьевна вспомнила об этом, когда по шатким, тщательно выскобленным половицам зашла в горницу и ее взгляд случайно упал на притолоку. Сто тринадцать раз отец Тони острым ножом отмечал на притолоке свою победу над зверем. А сто четырнадцатая отметка была сделана неумелой рукой Тони.
С матерью осталось пятеро детей — один одного меньше. Старшей, Тоне, сравнялось тогда четырнадцать лет. Всю войну, да и первые годы после, семья Ермешевых сильно бедствовала. Нелегко было Тоне окончить десятилетку, а еще труднее учиться в медицинском институте. Но вот Тоня получила диплом, вернулась в родное село и заменила старую, усталую мать.
Татьяна Власьевна часто бывала у Ермешевых. Раньше она как-то не обращала внимания на взаимоотношения в семье. В доме всегда чисто, аккуратно, но слишком уж бедно: самотканые половички, у Тони вместо ковра над кроватью прибит лоскут цветастого ситца. Ребята одеты плохо, а посуда — горе одно, даже чайных ложек на всех не хватает.
Теперь, после разговора с дочерью, Татьяна Власьевна взглянула на все другими глазами. Она заметила, что семья очень дружная, все уважают Тоню. Слово Тони авторитетно, не подлежит обсуждению. Вот девочка в стареньком, но чистом ситцевом платьице выполнила уроки и с тетрадью подошла к Тоне.
— Тоня, проверь… Правильно?
Братишка лет пятнадцати принес охапку дров, аккуратно сложил поленья около печки.
— Как у вас хорошо, — задумчиво заметила Татьяна Власьевна.
— Чем же? — удивилась Тоня. — У вас в десять раз лучше. Такая обстановка… А мы из нужды никак выбиться не можем.
Татьяна Власьевна грустно усмехнулась.
— Разве дело в обстановке или одежде? Не это главное, Тоня. Главное — дружба, уважение.
— В этом отношении правильно, — согласилась Тоня. — Живем без разногласий. Полное единство.
Татьяну Власьевну пригласили пить чай, но она отказалась.
— Спасибо, Тонечка. Пора идти.
В действительности же идти было некуда. Хорошо бы насовсем остаться у Ермешевых. Жить вместе с Тоней в маленькой боковушке, отдавать зарплату на ребят. Ведь они стремятся к настоящей, хорошей жизни.
Татьяна Власьевна возвращалась домой. Подходя к воротам, увидела человека, который, перебегая от окна к окну, старался заглянуть в квартиру. В темноте Татьяна Власьевна никак не могла узнать его. А человек, услышав за спиной шаги, оглянулся и поспешно отошел.
— Татьяна Власьевна?
По голосу Татьяна Власьевна узнала завмага Анатолия Иванова.
— Что надо? Почему в окна заглядываете?
— Здравствуйте, Татьяна Власьевна. Мне как раз вас. Понимаете, дело одно не совсем приятное. Я хотел лично с вами. Вот поэтому любопытствовал. Извините, конечно, — сыпал он скороговоркой, запинаясь от робости или волнения.
— Говорите. Только, пожалуйста, короче.
— У нас скоро ревизия — продолжал Иванов, не обращая внимания на тон Татьяны Власьевны. — Так вот… Короче говоря, Нина взяла золотые часы.
— Как — взяла? — удивилась Татьяна Власьевна. — И при чем тут ревизия, я при чем?
— Татьяна Власьевна, минуточку… Я все по порядку… Правда, не совсем приятно, но приходится. Обстановка вынуждает.
— Да говорите толком, без предисловий, — перебила Татьяна Власьевна, теряя самообладание.
— Извольте, без этого… Можно, пожалуйста… Часы не мои, а государственные. Так получилось. В общем, Нина была у меня. Вот и взяла…
Татьяна Власьевна качнулась, будто ее толкнули в грудь. Мысли закружились, но усилием воли она взяла себя в руки.
— А почему вы ко мне обращаетесь? Я у вас не бываю. С Ниной разговаривайте, с нее спрашивайте. Вы ведь пожениться собираетесь?
— Кто? Я? — Иванов попятился. — Да нет, Татьяна Власьевна. Еще не решено. Был, правда, разговор… Но не решили. Жениться никогда не поздно!.. А к вам я потому, что Нина отказывается… Но есть свидетели. Люди видели… Такое, понимаете, дело. Конечно, очень неприятное, но я материальный ущерб нести не намерен. В случае чего придется обращаться в соответствующие органы.
— Обращайтесь куда хотите. Если нужно, подавайте в суд. Вот так! — Татьяна Власьевна открыла калитку.
— Хвоева теперь в другой палате, — сказала женщина в белом. — Пойдемте!
Она долго вела Валерия Сергеевича по тихому строгому коридору и наконец остановилась около двери с четкой цифрой «5». Валерий Сергеевич заволновался.
— Еще раз прошу вас, не задерживайтесь, — повторила сестра. — Ей вредно.
Валерий Сергеевич согласно кивал и в нетерпении двигал плечом. Ему показалось, что прошла целая вечность, пока сестра, шепнув: «Заходите», открыла дверь.
И вот Валерий Сергеевич на пороге. Быстрым взглядом окинул уютную, светлую палату. Две койки. На той, что стоит у огромного окна, — кажется, она, Варенька. Валерий Сергеевич, приподымаясь на цыпочки и смешно балансируя руками, направился к жене.
Более полугода прошло с того времени, как Варя Хвоева сорвалась со скалы. Более полугода — это значит около двухсот дней и ночей Варя, напрягая все силы молодого организма, мужественно борется со смертью.
Валерия Сергеевича поражала не поддающаяся осмыслению разница между той неугомонной, жизнелюбивой Варенькой, которая была, и Варенькой, которая есть теперь.
Варенька спала, Валерий Сергеевич с затаенным дыханием смотрел на нее. Глаза глубоко запали, нос обострился… Губы жарко спеклись… На желтом до прозрачности лице резко выпятились скулы. Раньше их совсем не было заметно. Голова Вареньки толсто обмотана бинтами, из-под которых выглядывает ежик снятых машинкой волос. А какие у нее были волосы! Легкие, волнистые… Смахнет, бывало, свою соломенную шляпу — они упадут кольцами на плечи. А кругом солнце, стройные березки шумят листвой… Птицы поют… И Варенька улыбается…
Лицо Валерия Сергеевича передернулось. Он напряг все силы, чтобы не расплакаться. Дал себе время несколько успокоиться и, наклоняясь над женой, прошептал:
— Варя!
Потом чуть громче:
— Варенька!
Веки с черной каемкой ресниц медленно, устало поднялись. Несколько секунд Варенька смотрела на мужа, не узнавая. Потом ее мутные, глубоко запавшие глаза так засияли, будто в каждом из них вспыхнула электрическая лампочка.
— Валерий… Какой смешной ты в этом халате… Пришел? Я знала — придешь… Садись. Ты знаешь, мне самой не ворохнуться. И рассказывай… Больше рассказывай, все.
— Что же рассказывать, дорогая? С чего начинать?
— Как там Ленушка?
— Ждет тебя с нетерпением, воюет с бабушкой. Никак не слушается. Бывают случаи, и со мной в схватки вступает.
— Не балуйте ее сильно… Валерий, купи для Ленушки что-нибудь хорошее и скажи — от меня. А маме большой привет.
— Хорошо, хорошо, Варенька… — Валерий Сергеевич еще ниже склонился над кроватью, не отрывая взгляда от Варенькиного лица.
— Ну что так смотришь? Страшная, да? Что же молчишь? Рассказывай… Как там в горах? Ведь скоро весна…
— Да нет, еще не совсем. До весны ты вернешься в свою партию.
Варенька закрыла глаза.
— Я утомил тебя, да? Я, пожалуй, пойду. Мне наказывали не утомлять.
Валерий Сергеевич хотел встать, но Варенька поспешно и бодро сказала:
— Нет, нет! Сиди! Я не устала. Хорошо себя чувствую… Да, к весне надеюсь вернуться в партию. Чудный народ. Ждут. Завалили письмами. Антон Серафимович два раза был. Валерий, а ты же ничего не сказал о своей работе.
— С планом сюда приехал. Пришлось дойти до первого секретаря. Добился своего… А Гвоздин на активе возражал. Упорно и зло. Пытался делать некрасивые обобщения.
Варенька опять закрыла глаза и сказала:
— Ты слишком доверчив.
— Товарищ, вы же замучили больную, — укоризненно покачала головой медсестра, призраком появляясь за спиной Хвоева. — Хватит! И не возражайте! Нет, нет.
Валерий Сергеевич поспешно встал.
— Извините… Я понимаю…
— Валерий, — сказала Варенька, — под подушкой письмо. Возьми. Нашел? Это… Только уговор — прочтешь потом. А теперь поцелуй меня. Прости, что плохо написала. Сам знаешь, как неудобно мне писать.
Следуя за женщиной в белом, Валерий Сергеевич прошел длинным коридором, стянул с себя кургузый халат, перекладывая письмо из руки в руку. Спустившись в мрачный полуподвал, где находилась раздевалка, внезапно догадался — письмо можно положить в карман. Он хотел это сделать, но, подчиняясь какому-то неосознанному побуждению, отошел к маленькому оконцу и вскрыл конверт. Варенька писала:
«Валерий!
Помнишь наш уговор — жить начистоту? Последний раз хочу объясниться с тобой. Я все время думаю и мучаюсь. Маме хотелось, чтобы я сидела дома. Она укоряла меня. Да что говорить! Ты сам знаешь, мама хотела, чтобы я успокоилась, не совала нос, куда не следует, занялась семьей. И, возможно, мысленно ты был с ней согласен. Но, Валерий, пойми, мой хороший, иначе я не могла. Ты знаешь меня! Если бы удалось подняться, я бы опять пошла в горы. Только ведь не поднимусь, дорогой. Говорят — люди до последнего дыхания тешат себя надеждой на жизнь. Может быть, и так, но я все понимаю. Силы мои на исходе. И ты это тоже понимаешь…
Похорони меня в горах, где много черемухи, и навещай, когда она зацветет.
Очень люблю тебя.
Вот и все, дорогой!»
…Сутулясь, Валерий Сергеевич долго стоял около подслеповатого оконца. Он понимал, что Варины дни сочтены, но сердце, все его существо не могло примириться с этим.
Валерий Сергеевич не зашел, а скорее ворвался к главному врачу. Тот в очень осторожных выражениях объяснил, что дело движется к роковой развязке… Медицина приняла все меры. Она беспомощна…
Дела требовали немедленного возвращения в Шебавино. И он вернулся.
Валерий Сергеевич подолгу держал на коленях пятилетнюю дочь, пристально вглядывался в ее лицо, стараясь найти черты матери. Но их было очень немного. Носик Ленушки отдаленно напоминал Варенькин. Глаза… У Ленушки такие же быстрые, живые глаза, но серые, а не черные. Вот и все сходство.
Валерий Сергеевич допоздна засиживался в кабинете. Заказывал по телефону Верхнеобск и, ожидая, когда предоставят разговор, работал. Но дела, за которые он брался, не клеились. Валерий Сергеевич много курил, ходил как заведенный по кабинету. И лишь только раздавался звонок, — со всех ног бросался к телефону. Но часто оказывалось — звонили по служебным делам, или просто знакомые справлялись о самочувствии.
В один из таких вечеров к Валерию Сергеевичу зашла Татьяна Власьевна. Хотя неотразимо надвигающееся горе ослабило у Хвоева интерес ко всему окружающему, он сразу заметил, что главный врач сильно изменилась.
— Что с вами, Татьяна Власьевна? Вы не больны? — опросил Валерий Сергеевич.
— Да как вам сказать… Организм вполне здоров, а душа нет.
— Что так? — удивился Валерий Сергеевич. — Вижу, что-то неладно у вас. Рассказывайте, я слушаю.
— Как состояние Вареньки? — спросила Татьяна Власьевна.
— Вареньки? — Валерий Сергеевич задумчиво поник над столом. — Плохо с Варенькой…
— А что врачи говорят?
— Надежды нет.
Они долго сидели в скорбном молчании. Потом Татьяна Власьевна медленно встала.
— Извините, Валерий Сергеевич… Я зайду как-нибудь после.
— Да нет, что вы. Рассказывайте… Все идет своим чередом…
— Это правильно, Валерий Сергеевич, но я потом… Мне еще терпимо. А вам могу сказать — крепитесь. Больше добавить нечего. Не умею утешать.
Глава двенадцатая
Капризна горная природа. В марте все ярче и веселей светило солнце. Под жарким напором лучей снег отходил с горных вершин в лога, расщелины и овраги, прятался в чаще кустарника и густых зарослях подлеска. В лесу деревья еще глубоко увязали в сугробах, а на полянах стояли лужицы. Под водой, прозрачнее и чище любого хрусталя, пробивалась яркая зелень. На пригревах земля курилась духовитой испариной, а в воздухе не смолкал веселый перезвон синиц. Усиленно принялись за работу дятлы. Идешь лесом и слышишь:
«Тук, тук-тук, тук».
«Тинь-тинь-тинь», — звенит синица.
«Тук, тук-тук, тук», — настойчиво долбит уже другой дятел в другой стороне.
Казалось, весна полностью овладела природой. Пройдет неделя-две, и расцветут подснежники, а потом на лесных полянах загорят огоньки…
И вдруг высокую голубень неба затянули мрачно-серые облака. Барахтаясь, утонуло в них солнце, и все кругом поблекло, опечалилось. А лохматая, плотная пелена облаков, опускаясь все ниже и ниже, скрыла горы, навалилась тяжестью на зубчатый лес. По ущельям и распадкам заметался с лихим посвистом и воем пронзительный ветер, и закружились, замельтешили, похожие на белых бабочек, мокрые хлопья снега. Порой снег сменяла острая, как толченое стекло, крупа, потом опять сыпал снег, скрывая освобожденную солнцем землю, прозрачные лужицы и яркую зелень. К ночи ветер усиливался, становился яростней, и в горах поднималась такая завируха, что, как говорят старые люди, не приведи господь в нее попасть.
…Бабах, клонясь всем корпусом вперед, пробирается к пригону. Это нелегко. Ветер бьет так, что Бабах захлебывается им, как водой. Но Бабах не сдается. Упорно, шаг за шагом, он преодолевает небольшое расстояние от избушки до пригона. Около его ног крутится лобастая собака, вся белая, точно мукой обсыпанная.
Вот Бабах схватился за изгородь. Теперь легче. Еще несколько шагов, и он поднимает над головой фонарь. Слабый дрожащий свет падает на овец. Плотно прижавшись друг к другу, они лежат под ветхим навесом. Холодно им. Холодно, а чабанам беспокойно. Вон в совхозе кошары. С такими кошарами какая забота? Не так-то легко волкам забраться. А тут не зевай. Теперь такое время…
Бабах опустил фонарь, но от порыва ветра пламя вытянулось и погасло, будто выпорхнуло из пузатого стекла. И сразу все захлестнула темнота, такая плотная, что, казалось, ее можно взять руками. Бабах, бормоча ругательства, поправил за плечом ружье. Несколько секунд он пристально приглядывался ко всему, а потом, подталкиваемый ветром, легко зашагал к избушке. Около двери остановился. Здесь тише. Ветер бесновался по плоской земляной крыше, шуршал там сухим прошлогодним бурьяном. В маленькое оконце виднелся стол, а на нем пятилинейная лампа с привернутым фитилем.
— Пошел на место! Ишь, замерз… Ну! — крикнул Бабах на собаку, которая, нетерпеливо поскуливая, ждала, когда хозяин откроет дверь, чтобы заскочить в избу. — Пошел, говорю, к овцам!
Собака неохотно выскочила за угол. Ветер яростно набросился на нее. Жалобно взвизгнув, собака вернулась. Пришлось Бабаху подкрепить свое приказание пинком.
В избе Бабах несколько секунд наслаждался теплом и тишиной. Как хорошо! Он сел около стола, зажег на всякий случай фонарь, закурил. Потом, не снимая с себя ружья, на цыпочках подошел к кровати. Окинул ласковым взглядом жену и осторожно, боясь разбудить ее, положил на вспухший живот ладонь. Почувствовав под ладонью слабый толчок, расплылся в улыбке, удивленно покачал головой.
— Ишь ты, мать спит, а он не хочет спать.
Бабах сел опять около стола и, мечтательно улыбаясь, задумался. Думал о том, как его сын через год встанет на ноги, пойдет по зеленой травке: топ, топ, топ… А его отец будет строить. Построит коровник, кошары… Прочно сделает, хорошо… Пройдет много зим и лет, его, Бабаха, может, уже не будет в живых, а сын скажет:
— Это мой ата сделал. Ух, как хорошо сделал!..
Яростное рычание и хриплый визг, прорвавшиеся сквозь вой ветра, вернули Бабаха к действительности. Он, срывая с плеча ружье, выскочил в кромешную темноту. При короткой вспышке выстрела увидел лежащее на свету звено пригона и бегущих в ужасе по косогору овец.
— А-а-а!.. — истошным голосом закричал Бабах.
…Семнадцати овец недосчитались наутро Бабах и Чма. Волки порвали и собаку.
— Ой, беда!.. Ой… — стонала Чма. — Видать, сам злой Эрлик рассердился…
— Э, при чем тут злой Эрлик? — угрюмо возразил Бабах. — Нет никаких Эрликов. Такая ночь…
Чма вскинула испуганные глаза, умоляя мужа немым взглядом не сердить злого духа. Есть он или нет, а называть его не следует. Так лучше, подальше от беды.
— Однако ты, баба, совсем сдурела, — Бабах раздраженно махнул рукой.
— Сдурела… Конечно, сдуреешь… Что говорить теперь? — Чма показала взглядом на ту сторону, где за горами лежало село. — Генадь Василич… Ой, как нехорошо…
— Да… Хорошего мало, — уныло согласился Бабах и вдруг закричал, все более и более распаляясь: — Я сам поеду… Сейчас поеду… Скажу! Я знаю, как говорить! Кто в такой кошаре овечек держит? Как их караулить? Всю ночь не спал. Только обогреться зашел… Я скажу!.. — угрожающе закончил Бабах.
— Поезжай, — согласилась Чма. — Беды не утаишь. Говорить надо, только шуметь не надо. Так плохо… Зачем шуметь? Генадь Василич хороший… А кошары как сразу построишь?
— А мы тоже не виноваты, — сказал Бабах.
С верой в свою правоту отправился он в село. Старый, с отвислой губой конь то и дело менял неспешный бег на шаг, потом, отдохнув, опять трусил. А Бабах, покачиваясь в седле, смотрел на побеленные бураном горы и думал… И чем больше думал, тем меньше в нем становилось уверенности.
Он вспомнил общее колхозное собрание. Не сразу тогда согласились принять его в колхоз. Некоторые поддерживали Кузина, говорили: «Какой из Бабаха работник? Разве так только, для счета принять?» А что теперь скажут колхозники? С досады Бабах ожег плетью коня. И собаки нет… Ой, как плохо. Не надо было заходить в избушку, не надо было думать о сыне… Нехорошо, когда много думаешь, а мало делаешь.
Вот и село. Неспешной рысцой бежит конь по улице. Кивком головы здоровается Бабах со встречными знакомыми, иногда перебросится словом. А проехав, обязательно подозрительно оглянется. Кажется ему, что все знают уже, как сплоховал он ночью. А знакомых много. Все село знает Бабаха. Опустив голову, он стал делать вид, что никого не замечает. Тогда люди сами начали окликать его:
— Эй, Бабах! Богатым стал? Не узнаешь? Дьякши ба!
— Дьякши… — бормочет Бабах, пряча глаза.
Около чайной стоят машины, подводы, но больше всего оседланных коней. Дверь то и дело открывается — покачиваясь, на крыльцо выходят люди с красными лицами, а вместе с ними на улицу вырываются шум голосов и смешанные запахи еды.
Бабах поравнялся с чайной, проехал ее и вдруг натянул поводья. Конь послушно остановился. С этого времени для Бабаха началось непонятное…
Сколько месяцев он жил вместе с Чмой на стоянке и всегда делал там так, как хотел, поступал так, как думал. А тут он совсем не думал заходить в чайную, но почему-то зашел. Оглушенный голосами и запахами, стоял некоторое время, ничего не соображая.
— Бабах! Сюда! Сто лет не видались.
Бабах подошел к столику и, не здороваясь со знакомыми, сел.
— Как живешь? Да подвигайся поближе. Что невеселый?
«Надо в контору идти, к Геннадию Васильевичу…» — думал Бабах, но вместо этого подошел к буфету, бросил на прилавок четвертную:
— Водки!
Увидав Бабаха с поллитровкой, за столом радостно закричали:
— Вот здорово! Мы всегда говорили — ты замечательный друг!
А час спустя в коридоре колхозной конторы раздался вскрик и нечленораздельный, похожий на рычание голос, потом что-то громко стукнуло, что-то со звоном упало. Ковалев оторвался от бумаг, прислушался, а зашедшие к председателю по всевозможным делам колхозники переглянулись. Недоумение рассеяла бухгалтер, заскочив в кабинет, она выпалила:
— Там Бабах… На ногах не стоит.
Геннадий Васильевич машинальным жестом отодвинул от себя бумаги и, бледнея, поднялся. Колхозники, глядя на дверь, настороженно притихли. Не успел Ковалев выйти из-за стола, как дверь от сокрушающего толчка так распахнулась, что свалила стоявшую в углу вешалку. Бухгалтер, испуганно пискнув, отскочила, как резиновый мяч.
Бабах, спотыкаясь, переступил порог и посмотрел на всех мутными осоловелыми глазами.
— Ругайте! — Он сорвал с головы и хлопнул себе под ноги шапку. — Гоните! Вот я…
Ковалев со строгим лицом подошел к чабану.
— Бабах, ты пьяный. Иди проспись, потом будем разговаривать.
— Кто пьяный? Я пьяный? Ага, я пьяный… Генадь Василич… — Лицо Бабаха некрасиво исказилось, из глаз потекли слезы. — Генадь Василич… Пропала овечка… Семнадцать пропало… И собака пропала… И я пропал… Все пропало… Кто виноват? Я виноват? А кошара нет — кто виноват?
— Бабах, иди проспись! — повторил Ковалев, повышая голос. — Поговорим после, когда трезвый будешь.
— Гоните? А я не пойду! Вот не пойду! — Бабах крючками непослушных пальцев зацепил за ворот рубаху и так дернул, что она разорвалась до пояса, обнажая темное тело. — Не пойду!
— Закройте его в кладовку. Пусть придет в себя, — обратился Ковалев к колхозникам.
— Закрыть? Кого закрыть?
Бабах угрожающе замахал руками, но двое молодых, дюжих мужчин быстро вытолкнули его в коридор.
— Пойдем! Хватит ерепениться…
Некоторое время все прислушивались, как, удаляясь, глохнет голос Бабаха, потом кто-то сказал:
— Приняли на свою голову. Выходит, Кузин правду говорил…
— Подождите, товарищи, с выводами. — Геннадий Васильевич пододвинул к себе бумаги. — Надо сначала разобраться, в чем дело.
Вечером, после дойки, Клава и Эркелей пришли в контору. В коридоре Эркелей, выскочив вперед, подбежала к двери председательского кабинета, осторожно приоткрыла ее.
— Там… Нахмурился, даже страшно. Заходи первой.
— Ох, Эркелей, никак ты не можешь без этого. — Клава открыла дверь.
За подругой, секунду помедлив, вошла в кабинет Эркелей. Здороваясь с председателем, жеманно улыбнулась.
— Присядьте, девушки, — сказал Геннадий Васильевич. — Сейчас я быстренько закончу, потом с вами.
Эркелей опустилась на диван, качнулась на нем и шепнула подруге:
— Ух, как мягко… Всю жизнь бы качалась. А Геннадий Васильевич заважничал. На ферме другим был.
Клава, не спуская с Ковалева глаз, отмахнулась. Но Эркелей не унималась.
— Хороший он… Правда, хороший?
А Ковалев тем временем писал, прибрасывал на счетах, опять писал. Потом сложил в стол бумаги и повернулся к девушкам.
— Вот какое дело, Клава. Давай-ка разберемся с надоями. Как они? Ведь теперь самое тяжелое время. Потом, когда выберемся на зеленую траву, надои пойдут в гору.
Клава вынула из кармана фуфайки вдвое сложенную синюю ученическую тетрадь.
— У меня, Геннадий Васильевич, все данные только по нашей группе, которая здесь. А в Тюргуне не знаю как… Сегодня мама туда поехала. Она расскажет…
Ковалев, взяв у Клавы тетрадь, начал неторопливо просматривать записи.
— Марфа Сидоровна, говоришь… Это хорошо, но не мешало бы и тебе побывать. С кем-нибудь из членов правления. Ты у нас самая грамотная. Там надо разобраться с надоями. Смотри. За прошлую декаду там меньше вашего надоили. Надо тебе обязательно съездить.
Клаве стало обидно за мать. Неужели она не может сделать этого?
— Да как же я поеду? — отчужденно опросила Клава. — У меня группа… Недоенными, что ли, оставить?
— Подменят. Да, как у тебя с институтом? Готовишься? Готовься. Мы напишем от колхоза отношение. Сегодня заседание правления. Поприсутствуй. Да и тебе не вредно побыть, — Ковалев с улыбкой обратился к Эркелей. — От серьезных дел, может, станешь немного серьезней.
— А я и так серьезная, — не задумываясь, отрезала Эркелей.
— Да что-то по тебе незаметно.
— А как вы заметите, если никогда на меня не смотрите?
Ковалев смущенно кашлянул.
— Ну девка, в карман за словом не лезет.
Эту словесную перепалку прервал, к радости Ковалева, приход Зины Балушевой.
— Можно, Геннадий Васильевич? Вы к нам не ходите, так я сама пришла. Вот семью привезли… Почему бы с женой не зайти?
— Спасибо, Зина. Это можно… Как-нибудь заглянем. — Ковалев старался по лицу Зины определить цель прихода. Волнуется женщина. Катю надо познакомить с Зиной. Это Кате будет полезно…
А Зина, присев на краешек стула, сказала:
— Дело у меня к вам, Геннадий Васильевич.
— Пожалуйста. Догадываюсь, что-нибудь для сада потребовалось? — шутливо предложил Ковалев.
— Нет, другое… — Зина достала из сумочки свернутый листок бумаги.
— С садиком, Геннадий Васильевич, все. Вот…
Ковалев развернул листок, прочитал его, удивленно посмотрел на Зину и опять прочитал.
— Плохо, что не все женщины такие. Значит, нашего полку прибывает? А Федор как же?
Зина пожала плечами.
— Не знаю. Одумается. Куда же ему деваться?
Глава тринадцатая
Очнувшись, Бабах никак не мог понять, где он. Темно и тихо. Неужели Чма правду говорила — есть злой Эрлик? Да и камы[13] всегда уверяли, что есть… Даже разговаривали с ним.
Завистник он, этот Эрлик. С зависти напустил на отару волков, а потом и самого Бабаха утащил к себе в преисподнюю. Не очень-то у него приятно, всегда ночь… Солнца больше уж не увидишь, да и неизвестно еще, как станет Эрлик кормить. Можно с голоду пропасть…
Бабах сидел, вернее, полулежал, опираясь спиной о стену. Голова свесилась на грудь, а под ладонями — пол, деревянный пол!.. Ну и хитер этот Эрлик! Даже в самой преисподней настлал пол, чтобы сырости не было.
Бабах с трудом поднялся и начал ощупывать стены. Споткнувшись обо что-то, чуть не упал. Стены деревянные, с паклей в пазах — совсем такие, как у обыкновенных домов.
Ощупью Бабах добрался до гладкой, сбитой из досок двери. Обрадовался — выход есть. Навалился плечом — дверь не поддается. В двери узенькая щель. В нее пробивается несмелая полоса света. Бабах припал глазом к щели. Долго смотрел, а увидеть ничего не мог. Потом увидел… себя. Едет он, Бабах, на коне по улице, со знакомыми здоровается и о задранных волками овцах все время думает. Едет, чтобы рассказать Геннадию Васильевичу о беде. Поравнялся с чайной, проехал ее и остановился. Зашел. Купил поллитровку, выпил стакан, не закусывая, посидел и опять выпил. А потом еще покупали водки.
— У-у-у, — с зубовным скрежетом застонал Бабах и закрутил тяжелой головой.
Немного успокоясь, Бабах стал напрягать память, стараясь вспомнить, что было потом, после чайной. Но так и не вспомнил. Дальше была сплошная темнота, такая же темнота, как тут, в этой проклятой преисподней, или вчера ночью, когда волки зарезали овец…
Бабах опять припал к щели.
— Э, помогите! — закричал Бабах и ударил ногой в дверь.
— Ну что ты буянишь?
Звякнул запор, дверь открылась, и Бабах оказался лицом к лицу с Ковалевым.
— Здравствуй, Генадь Василич! — обрадовался Бабах.
— Здравствуй!
От того, как Ковалев сказал это слово и особенно как посмотрел, Бабаху стало страшно. Он попятился. А Ковалев все смотрел и укоряюще качал головой.
— Эх, Бабах, Бабах… Выходит, плохая на тебя надежда. Подвел… А я-то… Застегни хоть фуфайку! Выставил голое брюхо. Дошел…
Бабах глянул на себя и побледнел. Кто же так все порвал на нем? Видать, в чайной… Тоже, друзья…
— Ну, пойдем! Расскажи, как докатился до такой жизни. — Геннадий Васильевич направился в свой кабинет.
Бабах, опираясь о притолоку, переступил порог и поплелся вслед за председателем.
…Заседание правления артели затянулось. У Клавы рука устала писать протокол, а люди все говорили и говорили. Немало противоречивых суждений вызвал вопрос о строительной бригаде. Члены правления, все как один, соглашались, что строить надо. Надо закончить давно начатый телятник, построить коровник. Да и с жильем плохо. Но кто будет строить? Где людей брать?
— «Диких» не приглашайте, — в один голос заявили председателю члены правления. — Деньги сдерут, а не сделают. Одни убытки…
— Нет, зачем они нам, — согласился Ковалев. — Сами будем строить, своими силами. Бригада уже сколочена, и бригадир нашелся. Имел с ним вчера беседу. Знаете кто? Дед Обручев.
Все удивленно переглянулись. Кто не знал Обручева! Вечно тут живет. Лет под семьдесят, кряжистый, с широкой до пояса бородой. Дед не принимает участия в общественном труде. «Где уж, паря, старику работать? Наработался…» Кормился же старик заказами сельчан на столы, табуретки, рамы, бочонки и кадочки.
— Знатный мастер… Только как он согласился?
— Сам пришел. Никто его не приглашал. Но условия у него особенные: трудодни его не интересуют. Ему деньги нужны. Аккордная плата…
И тут поднялся такой шум, что Клава, растерявшись, не знала, что записывать в протокол.
— Чем он лучше «дикого»?
— Нет, это не дело!
— Ишь, ловкач! Глупее себя ищет…
— Колхозник он или не колхозник?
Выждав, когда стихнет шум, Геннадий Васильевич сказал:
— А мне кажется, с условиями деда можно согласиться. Да подождите вы! Вот какие горячие… Мы вчера же прикинули с бухгалтером. Получается, если дед будет работать за трудодни, то больше заработает. Он просто недооценивает трудодень. Пускай, мы не возражаем. Колхозу выгодно…
— Если так, то конечно…
Потом говорили о Бабахе. Его попросили рассказать, как все произошло. Бабах встал, но сказать ничего не сказал, только мял в руках шапку да так умоляюще смотрел на Геннадия Васильевича, что тому неудобно стало. Отвел в сторону глаза и спросил:
— Что ж молчишь, Бабах?
— Что говорить? Сам все знаешь, и он все знает. — Бабах кивнул на заведующего овцефермой, который выезжал на место происшествия, беседовал с Чмой.
— Расскажи, как овец проспал! — требовал Ковалев.
— Кто спал? Я опал? Совсем не спал. А кошары почему нет? Как его караулить такая ночь?
— Что с ним нянчиться! — сказал заведующий овцефермой. — Указать дорогу из колхоза, и все! Видишь, кошары нет… Нашел оправдание. А как другие под такими же навесами содержат овец? Не травят волкам…
Остальные члены правления молчали, но это молчание напоминало предгрозовое затишье. Волнуясь, Клава двинулась на стуле, окинула быстрым взглядом членов правления. Мрачные все… А Бабах низко опустил голову. Клава не видит его лица, но пальцы Бабаха усиленно мнут шапку. Вот сейчас, сию секунду скажут «исключить», и все…
— Товарищи!
Клава поспешно вскочила, цвет лица ее почти не отличался от красного сукна на столе Ковалева. Девушке хотелось сказать много. Сказать так, чтобы все поняли. Но сказала она всего несколько слов, да и то, как ей потом показалось, очень незначительных, даже глупых. — Товарищи! Да как же это, а? Так сразу? Разве можно? Ну выгоним, а потом что с ним?
— А ведь девка правильно говорит, — подал из угла голос Сенюш Белендин. — Как можно сразу? Сразу только хворост рубят. Волков развелось столько, палку брось — в волка попадешь. Они к сарлыкам подступались, только не вышло. Бить волков надо, всем бить.
Клава поблагодарила старика взглядом, Кажется, все… Миновала гроза… Теперь не выгонят. Облегченно вздохнув, Клава села.
— Мне тоже думается, что так круто с Бабахом поступать не следует, — сказал Геннадий Васильевич. — Работал он хорошо… Но ошибся… Со всяким такое может быть. Вот если повторится, тогда все. Тогда, Бабах, придется нам пойти в разные стороны. Понял?
Бабах утвердительно кивнул и совсем неуместно улыбнулся.
После заседания члены правления, выкурив по самокрутке, разошлись. Клава перечитала протокол, поправила кое-какие фразы и отдала его Ковалеву. Тот спрятал протокол в ящик стола.
— Правильно выступала, только волновалась. Надо спокойней, Хотя привыкнешь… Пошли! Накурили… А Бабах сразу отправился на стоянку к жене. Обрадовался.
Когда Ковалев закрыл кабинет, подошла Эркелей.
— Все заседали? Наверное, поумнели здорово. А я натанцевалась досыта.
— Кому что нравится, — заметил Геннадий Васильевич. — Потанцевать тоже неплохо.
Перебрасываясь шутками, они неторопливо двигались к выходу. Впереди — Эркелей и Клава, а за ними — Ковалев с ключами в руках. И вдруг дверь широко распахнулась. На пороге появилась женщина в расстегнутом пальто и кое-как наброшенном на голову платке.
— Катя! — не то удивленно, не то испуганно сказал Ковалев. Отстранив девушек рукой, он поспешил навстречу.
Катя, бледная, уставилась на мужа неподвижными, чужими глазами.
— Катя! Что случилось? Зачем ты пришла?
— Так ты заседаешь? С этими потаскушками?.. Я знала…
— Катя! Как можно? Перестань!
Ковалев подхватил жену под руки и силой увлек на крыльцо. Дверь за ними еще не захлопнулась, а Эркелей звонко расхохоталась.
— Ну и женушка у нашего председателя!.. Прямо ненормальная!..
Клава сердито дернула подругу.
Возвращаясь домой, Клава заметила в темноте около Балушевых ворот человеческую фигуру. Кто это? Уж не Зина ли? Кажется, она.
Свернув с дороги, девушка тихо спросила:
— Зина?
— Я.
— Что же ты стоишь?
— Да так… С мыслями собираюсь… Только подошла. Побывала напоследок у подруг по работе. Чаем напоили. Все удивляются. А я сама, Клава, удивляюсь… Сегодня попрощалась с ребятишками и чуть не расплакалась. Привыкла к ним.
В темноте Клава не видела лица Зины, но говорила она грустно. Девушке стало жаль Зину. Мучается со своим муженьком.
Зина вплотную подступила к Клаве, доверчиво положила руку ей на плечо.
— Знаешь, я ведь тайком от него все сделала. Теперь вот думаю, как сказать. Клава, пойдем к нам. Я при тебе скажу.
— Удобно ли? — замялась девушка.
— Мне легче будет…
Клава, подумав, твердо сказала:
— Пойдем!
Их появление не вызвало радости у Федора. Даже не ответив на приветствие Клавы, он бросил исподлобья недобрый, испытующий взгляд на жену. А та, делая вид, что ничего не замечает, спокойно сняла пальто, предложила Клаве:
— Снимай свою фуфайку. У нас жарко.
— Правда, жарко. Можно снять, — согласилась Клава и в душе удивилась своей храбрости. Ей даже приятно делать так, как не нравится Федору. Ишь, надулся.
Клава садится, поглядывает на Федора с независимым, даже вызывающим видом, улыбается. Зина, понимая ее настроение, спрашивает:
— Как дела на ферме?
— О, хорошо.
И Клава начинает длинно, с излишними подробностями рассказывать:
— Только сейчас на правлении решили новый коровник строить. Телятник тоже в этом году закончат. А знаете, кто взялся руководить строительством? Дед Обручев. Удивительно! Столько лет не работал в колхозе, а тут, пожалуйста, сам изъявил согласие. Говорит, вижу, в колхозе дела направляются, вот и решил помочь. Старый, а сознательный.
Федор, засунув руки в карманы брюк, по-индюшиному топтался в тесной кухоньке. А когда Клава сделала паузу, он сердито спросил жену:
— Где же ты была до такой поры? И что это за порядок — каждый вечер пропадать. Черт знает…
— По делу, Федя, ходила. Теперь все… Уволилась я из детсада.
— Как? Да с кем ты советовалась? Самовольно?
— А вот так, не посоветовалась и уволилась. На свиноферму иду порядки наводить. Сам же говорил, что там плохо.
— Зина! Да ты у меня замечательная! Честное слово! Молодец!
— Зина-то молодец… — многозначительно сказала Клава, от души довольная, что все так оборачивается.
— А что? Конечно, молодец! Скажешь, нет? А ты думаешь, я отстану? Вместе будем работать.
У Зины дрогнули губы, а в глазах заблестели слезы.
Глава четырнадцатая
Кольку Белендина удивило запустение в хозяйстве. Весна, поля почти освободились от снега, а на крыше его целые горы. Днем снег тает, вода течет в сени и там вечерами превращается в лед. Разве порядок, если в сенях на каждом шагу можно раскроить лоб? Да и крыша гниет от сырости.
Колька зашел в стайку и тоже покачал головой. Навозу под ногами наросло столько, что корова задевает рогами за перекладины крыши.
Впрочем, он особенно-то не удивлялся: знал — управляться с хозяйством некому. Мать с трудом по избе ходит. Плохая стала, совсем ослабла. Каких-то полгода не видел ее Колька, а как изменилась… Отец? Он заявляется домой от случая к случаю. Да и какой из него работник? Тоже старик. Правда, есть еще три брата — Андрей, Никита и Сергей. Никита и Сергей живут здесь, в родном колхозе, но у них свои семьи, свои хозяйства. Снохи приходят, чтобы подоить корову, принести воды, помыть пол. А большего с них не спросишь. Не хватало еще, чтобы бабы забрались на крышу сбрасывать снег. Братья-то, конечно, могли бы, но им, видно, некогда.
Назавтра, сразу же после приезда, Колька целый день расправлялся со снегом. На второй день принялся за навоз. Бросает его через плетень на огород, а солнце греет ласково, поют скворцы. Уселись на самой вершине тополя, и один перед другим так щелкают, так свищут, что, кажется, совсем изойдут песней…
Вспотев порядком, Колька втыкает в навоз вилы и неторопливо выходит на улицу. Здесь под самыми окнами дома стоит гусеничный трактор. Новый, прямо с завода… В МТС ни одному молодому трактористу не доверили новый трактор, а вот ему, Кольке Белендину, доверили. Доверили потому, что он еще раньше был знаком с машинами, окончил десятилетку и на курсах учился лучше всех. Вот рассказать бы обо всем этом Клаве Арбаевой. Да по всему видать, Клава не очень интересуется его делами.
Не отрывая ласкового взгляда от машины, Колька заходит то с одной, то с другой стороны, садится в кабину, потом открывает капот. Еще день-два — и в поле… Не мешает лишний раз все проверить, чтобы не опозориться, не ударить в грязь лицом. Он всем докажет, как умеет работать.
На второй день после Колькиного возвращений приехал домой отец.
Спешась, старик долго любовался поблескивающим свежей краской трактором и впервые за все время назвал сына не Колькой, а Николаем. А когда они уселись на ступеньке крыльца, Сенюш достал из кармана старый кожаный кисет, набил трубку, потом протянул кисет сыну.
— Закуривай. Ведь куришь?
Колька покраснел и сказал:
— Курю, только у меня папиросы.
— Кури свои папиросы. Нечего теперь таиться. Не маленький.
И Колька впервые за свою жизнь закурил в присутствии отца.
Подставив ласковому солнцу лица, они долго сидели на ступеньке. Старые, но еще зоркие глаза Сенюша сразу отметили все сделанное по двору сыном. Сенюш довольно щурится. Приятно за такого молодца. Последний встал на ноги… Теперь можно и умирать. Э, зачем умирать? Вот женить надо Кольку. Молодая хозяйка нужна в доме, ох как нужна.
— Мать-то совсем ослабла, — говорит старик, вынув изо рта трубку. — Видит плохо.
— Да, — с тяжелым вздохом соглашается сын, — плохая…
Для приличия и важности старик помолчал, пососал трубку, а потом, как бы между прочим, сообщил:
— А Клава-то Арбаева дояркой поступила, вместе с Марфой Сидоровной… Хорошо, говорят, с делом справляется.
— Слыхал, — буркнул сын.
Старик скосил на него глаза и продолжал:
— Недавно на правлении выступала. Ух, как резала! Все правильно. Хорошая девка…
— Да, — опять буркнул Колька.
Старика заела досада. Сидит — слова из него не вытянешь. Будто, кроме «да», ничего не знает. Захотелось прикрикнуть на сына: «Что ты как больной теленок? Так на всю жизнь бобылем останешься».
Но Сенюш вовремя спохватился: как можно кричать на взрослого сына? Он школу по механизации кончил, вот трактор новенький под окнами…
И старик вместо этого сказал:
— Жениться тебе пора. В доме, сам видишь, порядка нет. Какой спрос с больной старухи?
— Можно и жениться. — Колька бросил папиросу и придавил ее каблуком сапога.
Больше Колька ничего не сказал, а только тяжело вздохнул. Как женишься, если с Клавой ничего не получается. Сколько он посылал из училища писем. На первое она совсем не ответила. На остальные отвечала, но что это за ответы? Так только, для формы… Ни одного теплого словечка. Вот и женись…
Кольке хочется повидать Клаву, серьезно поговорить с ней, и в то же время страх берет. А вдруг окончательно откажет? Сейчас он хоть надеется. А потом и надежды не будет. Сколько раз он выходил за село и, поднявшись на пригорок, смотрел на ферму. Внизу среди кустов тарнача бродили коровы. Из трубы ветхого дома едва приметно струился дымок, а на крыльце сверкали под солнцем алюминиевые фляги. Вот кто-то выбежал на крыльцо и опять скрылся. Возможно, Клава? Как бы повидаться с ней? Можно, конечно, дождаться, когда она пойдет домой. Выйти навстречу, и поговорить. Но это как-то по-мальчишечьи будет. А он, Колька, — механизатор широкого профиля. У него вон под окнами трактор. А когда подойдет уборка — встанет за штурвал комбайна. Не хватало еще, чтобы он прятался по кустам. Нет. Николай Белендин придет к Клаве домой. Придет как гость. Ведь они вместе учились…
Вечером мягкие сиреневые сумерки застелили село. В домах вспыхнул электрический свет. Клава прилегла с учебником химии, а мать хлопотала на кухне с ужином.
— К нам кто-то идет, — сказала Марфа Сидоровна. — Мужчина…
Клава бросилась к окну, но человек уже вошел в сени, постучал в дверь.
— Да, да, пожалуйста, — Клава с книгой в руках вышла из горницы. — О, Коля!
— Я… — Колька добродушно, немного смущенно улыбнулся, поздоровался. — Иду мимо… Думаю, дай, понимаешь, зайду. Ведь вместе учились. Проведать надо.
— Да ты не оправдывайся! — пошутила Клава. — Проходи лучше. Когда приехал?
— Приехал… — Колька покосился на свои хромовые, начищенные до блеска сапоги.
— Проходи. Что стоять у порога? — пригласила Марфа Сидоровна, явно довольная появлением Кольки. — Как там родители?
— Спасибо… Ничего… Отец утром отправился опять к сарлыкам. Никак, понимаешь, не может с ними расстаться. А маме, правда, все нездоровится. Больше лежит.
Ответив еще на несколько вопросов Марфы Сидоровны, Колька осторожно, боясь наследить, прошел в горницу. Клава усадила гостя около стола, сама села напротив. Они долго смотрели друг на друга радостными глазами и молчали. Потом Клава, отводя глаза, спросила:
— Когда мы последний раз виделись? Осенью на танцах?
— Да, — подтвердил Колька. После этого я вскоре в училище уехал. Трактористом вот стал. А еще по своей инициативе сдал на комбайнера. Две специальности теперь… Сейчас трактор в колхоз пригнал. Работы много. Будем сеять овес на зеленку, кукурузы порядком, луга улучшать… Да ты, наверное, все знаешь? Ну, а у тебя что нового?
На смуглых щеках Клавы проступил румянец.
— Все по-старому, Коля. Дояркой работаю.
— Слышал… Отец говорил… Он все время тебя вспоминает…
Марфа Сидоровна, заглянув в горницу, сказала:
— Я к Балушевым на минутку. А потом ужинать будем.
Она ушла, и Колька почувствовал себя несколько свободней. Теперь он уже не отрывал взгляда от Клавы, а та все чаще краснела и почти все время смотрела себе в колени.
— Клава, сходим в кино? — предложил он. — Картина, говорят, интересная. Забыл, как называется… Пойдем! Поговорим…
Клава, поняв, о чем будет разговор, отрицательно покачала головой.
— Не обижайся, Коля, времени нет. Надо готовиться. Вот видишь, химией занимаюсь. — И чтобы окончательно не обидеть Кольку, она добавила: — Как-нибудь в другой, раз, когда посвободней буду.
У Кольки пропало бодрое настроение. Мрачнея, он опустил голову.
— Не оставляешь своей мечты?
— Нет, Коля, не оставляю. Хоть заочно, но учиться буду.
— Да, учиться тебе надо. А Игорь как?
Клава двинула плечами.
— Нормально. Заканчивает первый курс.
Наступило долгое и неловкое молчание.
— Так в Доме культуры совсем не бываешь? — спросил наконец Колька.
— Нет, давно не была.
— Я тоже не хожу. — Колька тяжело вздохнул и скороговоркой сказал то, что давно хотел, но никак не мог сказать: — Тебя нет, а больше меня никто не интересует.
Клава, будто не слыша, взяла со стола учебник химии, раскрыла и начала бесцельно его листать.
Колька встал, запахнул пальто, решительно надел фуражку.
— Пойдем, хоть пройдемся по улице. Понимаешь, как-то все получается… Хочется откровенно поговорить с тобой. Выяснить… Ну, это, отношения выяснить…
Клава тоже встала, бросила на стол книгу и, не смотря на Кольку, сказала:
— А что же, Коля, выяснять отношения? Они и так ясные. Я уважаю тебя, считаю хорошим товарищем. А на большее я не могу… Сердцу ведь не прикажешь.
Колька долго смотрел в пол, потом выдавил:
— Ясно!..
Они вышли на крыльцо.
— Будь счастлива!
С поникшей головой Колька спустился по ступенькам и пошел в темноту. Шел не спеша, очевидно, надеялся — Клава окликнет его.
А Клава молча смотрела в спину Кольки. Было жаль этого хорошего парня.
Татьяна Власьевна попрощалась со всеми работниками и вышла с Тоней на крыльцо. Они пожали друг другу руки, потом крепко поцеловались. Растроганная Тоня сказала:
— Я так расстроилась, Татьяна Власьевна. Вас жаль… А как я буду справляться? Подумать только! Все надо самой решать.
— Смелей действуй, тогда все решишь и справишься.
— Я вам буду писать. Хорошо?
— Обязательно пиши. А как же?
Узенькой тропинкой Татьяна Власьевна сошла с пригорка и оглянулась. Стройные тополя только еще распускались, и поэтому большое здание казалось завешенным зеленой прозрачной дымкой. Сквозь эту дымку большими окнами смотрела больница. Вот здесь, в этом здании, Татьяна Власьевна оставила двенадцать лет жизни. Двенадцать лет! Сколько за это время было волнений, тревог и радостей. Сколько людей избавилось здесь от смертельных недугов. И радость этих людей была ее радостью. Это лучшее в ее жизни. Была у нее и другая радость — любовь к Петру Фомичу. Но она с годами остыла. Хотя нет, Татьяна Власьевна любит мужа, но не настоящего Петра Фомича, а того, который был раньше: Петра, Петю…
…Дома Татьяна Власьевна прошла по комнатам, потрогала старые, родные вещи. Почти каждая из них имела свою историю и потому была дорога. Вот эту настольную лампу с зеленым абажуром Татьяна Власьевна купила в день первой получки. Пока донесла, руки чуть не обморозила.
— Мама! Мамочка! — в дверях стояла Нина в легком сиреневом платье, щеки разрумянились, глаза влажно блестят. — Ты здесь, мамочка? Чего поесть? Мы идем на лодке кататься. Целая компания. Да, а куда девалась тетя Валя? Ее утром не было.
— Вале я отказала. Если проголодалась, приготовь яичницу. Яйца в зеленой кастрюле.
Нина капризно выпятила нижнюю губу:
— Вот здорово! Я на минутку…
— Нина! — Татьяна Власьевна подошла к дочери. — Останься. Утром я уезжаю. Не на один день уезжаю…
— Ой, мамочка! — взмолилась Нина. — Меня ждут. Такая компания! Я скоро…
Нина наспех поцеловала мать и нырнула в дверь. Татьяна Власьевна грустно покачала головой.
В обеденный перерыв пришел Петр Фомич. Татьяна Власьевна собрала ему на стол, а сама села у окна.
— Почему не обедаешь? — Петр Фомич с удивлением смотрел на жену.
— Я потом…
— Да садись. — Петр Фомич взял новый ломоть хлеба. — Вкусно…
— Сама готовила. Вале отказала.
— По каким соображениям? Напрасно.
— Нет, не напрасно. Мы совсем избаловали Нину. Целый день палец о палец не ударит. В институт не готовится, барыней стала.
— Так уж барыня. Наработается еще. Какие годы… Одна дочь.
— Ох, Петр, не нравишься ты мне за такие разговоры. Ты всегда всем доволен. Вон и Ниной… Делаешь все без души. А я не могу так, Петр. Понимаешь, не могу! Я мучаюсь. Это же…
— Таня, что за напасть в последний день?
— Не отделывайся шутками, нам очень о многом надо поговорить.
— Хорошо, Таня, поговорим. Только не теперь. Спешу я…
Глава пятнадцатая
Отшумев талыми водами, весна щедро рассыпала по зеленым склонам искры цветов. Расцвели ландыши, кукушкины слезки, анютины глазки, огоньки… А на заросли черемухи будто насыпался крупный снег — так пышно цвела она в эту весну.
Но вот уже остеблилась трава, черную пашню закрыла зелень посевов, а на смену весенним цветам распустились летние — маральник, марьины коренья и красавица сибирская лилия, называемая в здешних местах саранкой. Эх, да мало ли в горах цветов! Одни других краше, сами в руки просятся. И не хотел бы, а сорвешь…
Клава, размахивая зажатой в руке косынкой, бежит по каменистой тропинке, которая, извиваясь, поднимается все выше и выше.
Ух… Клава приостанавливается, чтобы перевести, дыхание, вытирает косынкой пот с темного загорелого лица. Черные глаза девушки влажно блестят. Она заскакивает в высокую траву, срывает один цветок, другой, третий… И вот уже в ее руках большой красивый букет. Посмотрев на цветы, Клава неожиданно запела:
Девушка звонко рассмеялась, выбралась из травы и побежала. Все выше, выше…
Час тому назад Эркелей, вернувшись из села, сообщила Клаве о приезде Игоря. У Эркелей не хватило терпения доехать до фермы. Еще издали она поднялась в телеге и закричала, замахала руками:
— Клава! Иди сюда!
Видя, что подруга не особенно охотно подчиняется ее зову, Эркелей соскочила с телеги, еще энергичней замахала руками.
— Да скорей же! Вот какая! Игорь приехал. Сама видела…
Клава схватила подругу за плечи, сочно чмокнула в щеку, закружила.
— А-а, обрадовалась, — хохотала Эркелей. — Я знала — обрадуешься.
И вот Клава спешит в село, чтобы увидаться с Игорем.
Тропинка огибает стену мрачного кедрача, пересекает маленький разговорчивый ручей и выбегает на зеленую, усыпанную цветами поляну. Здесь группами и поодиночке стоят березки.
Осыпая мелкие камешки, Клава спускается на ровную площадку. Толстые, кривые черемухи, сцепив друг с другом ветви, пытаются задержать девушку. Но она, пригнувшись, нырнула в прохладный полумрак и встала перед красным пирамидальным обелиском. Ограда из штакетника охраняет обелиск и аккуратно обложенный дерном могильный холм, на вершине которого развернули узорчатые листья астры.
Открыв дверцу, притихшая Клава вошла в оградку. С обелиска из-под стекла на нее просто, доверчиво глянула молодая женщина. Волосы пышными волнами сбежали на плечи, а лицо живое, веселое…
Осторожно обойдя могильный холм, Клава положила к подножью обелиска цветы. Присела на лавочку. В траве за оградой Клава увидела папиросные окурки. Валерий Сергеевич курил. Курил и думал… А вот лежит около столбика зеленая игрушечная лейка. Дочка поливала цветы…
Подняв голову, Клава увидела небо. Какое оно ясное, голубое, без единого пятнышка! Ветви черемухи склонились над обелиском, будто оберегают его. Между деревьями сверкает вдали Катунь. А ближе — тракт, по которому мчатся туда и сюда машины. Как хорошо здесь! Как далеко видно!..
Клава закрыла за собой дверцу и пошла. Сначала медленно, потом все быстрей и быстрей. А когда тропинка упала вниз и из-за леса показались крыши села, Клава побежала. Между кустами то там, то здесь мелькала ее цветастая косынка. Клава спешила в село. Там Игорь…
Игорь тем временем искупался в реке, пообедал. Бодрый, чувствуя на себе свежесть отглаженного белья, он ходил по комнатам, отмечая происшедшие за его отсутствие перемены. Феоктиста Антоновна сидела на диване, ласковым взглядом следила за каждым движением сына.
— Значит, хорошо закончил?
Игорь узкой красивой ладонью отбросил со лба пряди еще не высохших после купанья волос.
— Да так… Можно было лучше, но я особенно не старался… Книжный шкаф переставили… — говорит Игорь.
— Так лучше… Правда, лучше?
Игорь пожимает плечами.
— А тюльпан как вырос! В прошлом году совсем маленький был… У вас тут замечательно. Такие виды! Один Бычий лоб чего стоит. Хорошо!
— Хорошо недельку, ну самое большее — две пожить. А если годы? Вот как я… От этих видов тошно становится. И вообще одичаешь.
Игорь, немного подумав, говорит:
— Это, пожалуй, так.
— Нет, мне надо непременно в Верхнеобск съездить, — заявляет Феоктиста Антоновна. — Закисла в этой дыре. Сходить хоть в театр.
— А чего же? Можно. Тетя Аня сколько приглашала. Почему, говорит, не приедет.
Игорь заходит в спальню родителей, и вскоре оттуда доносится его удивленный голос:
— Ого! Ковер новый купили! Силен! Огромный!..
Феоктиста Антоновна спешит к сыну, охотно рассказывает, с каким трудом ей достался этот болгарский ковер. Уж очень много охотников было. В хороших вещах ничего не понимают, а лезут. Иван Александрович уж готов был отступиться. Пришлось серьезно поговорить с ним.
Игорь представил, как происходил этот серьезный разговор, снисходительно улыбнулся, потом спросил об отце.
— Э, что отец! Должен скоро приехать. Не стало в нем прежнего. Сам посуди, сколько времени — и все председателем райпотребсоюза. Выше подняться не может. Нет, постарел он, сдал.
Игорь пристально смотрит на мать. Об отце говорит, а сама тоже постарела. Лицо одрябло, морщин прибавилось. И зачем она красится? Ведь не идет ей это…
— Одноклассницы твои тут. Вот недавно встретила в магазине Нину Грачеву. Так она расцвела, такая красавица. И одевается со вкусом. Интересная девушка.
Игорь поморщился:
— Она же, мама, совсем пустая.
— Не скажи! Очень разговорчивая, вежливая, — горячо возразила Феоктиста Антоновна. — А потом, если хочешь знать, женщине ум заменяют обаяние и красота. А вот когда ни красоты, ни ума нет… Как у этой… Арбаевой. Окончила десять классов и работает дояркой. Ни на что больше не способна.
Игорю стало обидно за Клаву. За что мать на нее нападает, пытается доказать, что она плохая? Вот до чего дошла — некрасивая и глупая… Игорь заволновался, но внешне старался волнения не проявлять. Выдерживая спокойный тон, возразил:
— Нет, мама, ты ошибаешься. Клава пошла туда, где нравится, где больше нужна. Она хочет стать зоотехником.
Феоктиста Антоновна ядовито хмыкнула.
— «Хочет…» Так дояркой и останется. В прошлом году поступила в институт? И в этом так. Ужасная хамка. Зимой так меня отчитала… Как только не поносила…
— Хватит, мама! — оборвал Игорь и вышел из комнаты.
Солнце еще не закатилось, а Клава уже спешила к Дому культуры. Шла, сгорая от нетерпеливого желания увидеть скорее Игоря. Какой он стал? А как говорить с ним? Ведь почти год не виделись. Целый год…
Вот и Дом культуры. Пересмеиваясь, стоит компания парней, а чуть подальше — девушки в разноцветных платьях. Где же Игорь? Его нет. И знакомых никого. Стоять и ждать? Нет, она уйдет. Пусть ищет, если нужна…
От группы девушек отделилась Нина Грачева.
— Клава! Вот чудо! Такая нарядная сегодня! Весь год сидела затворницей и вдруг нарядилась. Ах, да! Вот недогадливая… — Хохоча, Нина погрозила Клаве пальцем: — Знаю! Все знаю! Видела его сегодня. Так изменился, просто шик!
Бесцеремонные слова, нескромные намеки обидели Клаву, но она взяла подругу под руку и, беспечно смеясь, сказала:
— Хватит тебе, Нина. Пройдемся лучше.
— Не заговаривай зубы. Его ведь ждешь?
Клава старалась уклониться от неприятной темы.
— Как у тебя с Анатолием? Правда, замуж за него выходишь?
Красивые губы Нины капризно дернулись:
— Ой, Клава, не говори, измучилась я… Таким он непостоянным оказался, столько неприятностей!
Они остановились под раскидистым тополем, и Нина принялась изливать обиды:
— Вот с золотыми часами… Так вот… В общем, он такой ласковый был… Обещал часы. Все время обещал. А потом, представь себе, шум устроил. Маме жаловался. А та знаешь какая, особенно в последнее время. Скандал мне устроила, хоть из дома беги. И отца настроила, стал коситься на меня. Хорошо — мать уехала.
Клава согласно кивала головой, но того, что говорила Нина, не понимала. Почему его нет? Уже смеркается. Зря не ушла. Жду, как глупая…
— Так вот, Анатолий о женитьбе теперь не заикается. Он… — Нина, неожиданно прервав рассказ, удивленно взглянула на Клаву. — Ты мне так руку стиснула! А-а-а…
— Добрый вечер! — сказал Игорь.
Клава растерялась, наклонила голову, не заметив протянутой Игорем руки.
— Добрый вечер! — игриво пропела Нина, ловко подхватывая руку Игоря. — Счастливчик!
Игорь громко и неестественно засмеялся.
— Почему счастливчик?
— А как же… В городе живешь.
— Не так уж велико счастье.
— Не скажи, Игорь! Верхнеобск ведь не Шебавино… Один парк культуры чего стоит. Какие там танцы! С фейерверком!
— Это конечно. — Игорь не спускал с Клавы глаз. Что с ней? И Нинка не дает покоя. Хотя бы скорей уходила.
— Почему мы стоим? — спросил Игорь. — Пойдем по улице.
Нина взглянула на часики, вздохнула.
— С удовольствием бы, но билеты в кино. Как-нибудь в другой раз. Адье!
— До свидания, — в голосе Игоря не чувствовалось сожаления.
Нина, немного отбежав, крикнула из темноты:
— Кстати, заходите ко мне. Слышишь, Игорь! Я целыми днями одна скучаю. Мама уехала на три месяца в Верхнеобск. Так зайдете?
— Хорошо. Как-нибудь заглянем. — Игорь повернулся к Клаве, шепнул на ухо: — Бежим, а то, чего доброго, вернется.
Они схватились за руки и побежали. А когда остановились, не сразу поняли, где Находятся. Здесь, переводя дыхание, Клава впервые открыто взглянула на Игоря. Как досадно, что темно. Игорь не похож на прежнего. Голос уверенный. А тогда он просто петушился.
— Что ты все время молчишь?
— Ой, сама не знаю… Я так много думала об этой встрече. Всю зиму думала… И вот сюда шла, думала… А получилось так нелепо. — Клава тихо засмеялась и осторожно коснулась рукой его плеча.
— Да почему нелепо? Все хорошо. Правда, Нинка совсем некстати примазалась. — Игорь крепко сжал Клавину руку.
— Игорь, ты хоть вспоминал меня?
— Конечно! Вот странная! Да как я мог не думать!.. Вот когда на уборке был, так ты даже приснилась. Я писал, кажется? Нет… Нехорошо так приснилась. Прогоняла меня, в пропасть хотела столкнуть.
— Неужели? — удивилась Клава.
— Да, да… Вот, оказывается, какая ты, не знал…
Они рассмеялись. Игорь баском, Клава почти беззвучно, счастливо.
— Ну, а как работал? Понравилось? — спросила через некоторое время Клава.
— Ты знаешь, я там такое открыл… Как здорово, когда все вместе, когда чувствуешь себя не отдельной частицей, а большим целым. Наверное, не понятно?
— Да, не совсем.
— Ну, как это поясней? Вот поднял нас Олег ночью хлеб спасать от дождя. А так спать хочется! Провались, думаешь, все. А потом во время работы такой единый порыв! И все кажется нипочем.
— Теперь понимаю, — со смехом выдохнула Клава.
— А вообще-то тяжело, — сказал Игорь.
— И мне сначала тяжело было. Ох, и тяжело. А теперь вот заправской дояркой стала.
— Я это по рукам узнал. Прошлый год ладони у тебя были мягкие, а теперь все в мозолях. И запах фермы… Даже духи бессильны…
Игорь хотел еще что-то сказать, но Клава рывком выхватила руку, отступила.
— Не нравится?
— Да нет, почему же? — Игорь шагнул к Клаве, но та вновь отступила.
— Я не бездельничаю.
Клава порывисто повернулась и пошла. Игорь некоторое время стоял в недоумении, а когда хватился, Клава уже утонула в темноте.
— Клава! Клава!
Клава не отзывалась. Даже шагов ее не было слышно.
Мать встретила сына испытующим взглядом. Ей очень хотелось узнать причину раннего возвращения Игоря. По всему видно, не пришлось встретиться со своей дояркой. Умный мальчик, а понять не может…
Игорь угадал мысли матери. «Она во всем виновата. Только она! Из-за нее так, получилось сейчас с Клавой. Гудит и гудит, как надоедливый комар. И что ей далась Клава? Какое ее дело?»
Игорь вошел в свою комнату и, не оборачиваясь, размахом руки захлопнул за собой дверь. В окне жалобно звякнуло стекло.
— Сумасшедший! — возмутилась Феоктиста Антоновна.
«Вы черта сведете с ума», — мысленно ответил матери Игорь, останавливаясь около кровати. Еще раз попытался осмыслить случившееся. Кто виноват? Другая бы внимания не обратила, а Клава обиделась. Да, напрасно он завел разговор о мозолях, особенно о запахе. Это мать… Долбит все время… А Клава замечательная. И трудности выдержала, дояркой стала. Матери ведь не понять. Если бы она хоть когда-нибудь работала. А он, Игорь, понимает. Сам испытал…
Игорь включил свет, снял и бросил на стул пиджак. Засунув руки в карманы, ходил по комнате, останавливался и, качаясь с носков на пятки, думал.
Ее надо увидеть, сказать все, извиниться. Но в Дом культуры она больше не придет. Надо поехать туда, на ферму! Завтра же поехать!
Как и раньше, плыло по голубому небу щедрое солнце. На легкий порыв ветерка осины и березки отвечали веселым беззаботным лепетом, кедры — глухим задумчивым шумом, а лиственницы оставались безмолвными. Они могут померяться силами только с бурей. Как и раньше, в траве ярко горели цветы, зрели ягоды, стремительно мчалась, играла серебристыми переливами Катунь. Но Клава ничего не замечала. Она отвечала на вопросы подруг, улыбалась на бесконечные шутки Эркелей, доила коров, учитывала молоко, но делала все это безучастно, по привычке. А как только выдалось свободное время, ушла в лес. Вот и сейчас, ступая по хрусткой хвоевой кошме, она думает о случившемся. Кажется, она сглупила. Ведь Игорь сказал правду. Разве у нее руки не в мозолях, разве не пахнет от нее молоком, фермой? Все так, все правильно. Только… только почему он сказал таким тоном. Наверное, это влияние матери…
— Клава! Где ты скрываешься?
Клава оглянулась. Между стволами кедров бежала Эркелей. «Что ей надо? — с неприязнью подумала Клава. — Покоя не дает».
— Почему ты все прячешься?
— Ничего не прячусь, просто хочется побыть одной.
— А вот не побудешь одна. Иди! Привезла.
— Кого привезла?
— Да этого… Игоря твоего. — Эркелей заглянула Клаве в лицо. — Все для тебя стараюсь.
Клава не смогла удержаться от улыбки.
И вот они снова рядом. Игорь чувствует себя виновато. Смотрит больше по сторонам или под ноги. А Клаву словно подменили, словно и не было задумчивой грусти в черных продолговатых глазах.
— Молока хочешь? Выпей с дороги.
Игорь не успел еще ничего сказать, а Клава уже побежала в избушку, принесла полную кружку молока.
— Пей, Пойдем, я наше стадо покажу. Вон там, за кустами… Недалеко. Ты же будущий зоотехник.
Дорогой Игорь то и дело бросал на Эркелей косые взгляды. Там Нинка к ним примазалась, а тут эта… Нет никакой возможности поговорить. А поговорить надо откровенно, сказать все.
Коровы паслись, утопая по колено в густой траве. Клава и Эркелей направились в середину стада. Игорь, чуть приотстав, опасливо поглядывал то на одну корову, то на другую.
— Коровы не особенно важные. Местной породы, — Клава поминутно оборачивалась к нему. — Но Ласточка… Где она? Ах, вон!
Клава подошла к Ласточке, хлопнула ее по спине, почесала за ухом.
— В моей группе. Симменталка третьего поколения. Хорошая?
Стараясь показать себя смелым, Игорь тоже подступил к Ласточке, кончиками пальцев прикоснулся к ее короткой блестящей шерсти. Но корова, обороняясь от мух, махнула головой, и Игорь так поспешно попятился, что, путаясь в траве, чуть не упал. Эркелей, не сдержавшись, хихикнула. Смущенная Клава укоряюще посмотрела на подругу.
— Может, посмотрим, как коровник строят? — предложила девушка, стараясь, сгладить неловкое положение. — Дед Обручев бригадой командует. Борода, как лопата. Интересно.
— Да нет… — неопределенно протянул Игорь, почему-то оглядываясь по сторонам. — Надо, пожалуй, домой пробираться. Ведь далеко.
— Знаешь что? Я тебя отвезу. Хорошо?
В телеге Игорь спросил Клаву:
— Ты на меня обижаешься?
Клава прикрикнула на лошадь, а потом уже ответила:
— Я не знаю, на кого обижаться — на тебя или на себя.
— Я виноват, — пробормотал Игорь.
Клава, пошевеливая вожжами мерно бежавшего коня, мысленно сравнивала себя с Игорем. «По-разному живем. Я вот зиму пометалась, помучилась и нашла свою дорогу. Нелегко она мне досталась, но нашла. А он ни нужды, ни заботы не знает…»
Перед самым селом Клава остановила коня. Соскакивая с телеги, сказала:
— Супонь, кажется, развязалась. Так и есть! Ух, эта Эркелей!.. Говорила, завязывай как следует.
Клава принялась затягивать супонь, Игорь тоже слез с телеги, предложил:
— Не получается? Может, тебе помочь?
Игорь уперся в клешню одной рукой, потом двумя, а Клава, приподняв поудобнее платье, уперлась коленкой. От натуги у нее налилось кровью лицо.
— Давай сразу! — сказала Клава, не ослабляя усилий.
Они нажали на клешни еще раз, те сошлись наполовину и снова разошлись.
— Нет, — выдохнула Клава. — Сил не хватает. Вот с Эркелей мы легко стягиваем.
Слова прозвучали для Игоря укором. Насупясь, он отвернулся.
— Придется ждать. Может, кто пойдет или поедет. — Клава прыгнула в телегу. — Вынужденная посадка…
Она говорила бодро, даже шутливо, но в голосе ее Игорю все равно слышались нотки презрения. Он раздраженно спросил:
— Разве я виноват? При чем тут я, если…
— А я никого не виню, — Клава беззаботно заболтала свешенными с грядки ногами.
На пригорке показался трактор. Он точно из земли вырос. Сверкая на солнце мелькавшими шпорами гусениц, с нарастающим рокотом устремился вниз. Конь испуганно запрядал ушами. Клава взяла его под уздцы и подняла руку, прося тракториста остановиться. Трактор, пройдя еще немного, замер, тихо урча. Из кабины выпрыгнул Колька Белендин.
— А, знакомые!.. Здравствуйте! — Колька посмотрел на свою ладонь. — Подал бы руку, да грязная она у меня, рабочая.
— Коля, мы со стоянки едем, — начала Клава, как бы оправдываясь. — Да вот супонь развязалась.
Колька, ничего не говоря, осмотрел упряжь.
— Гужи коротки. Надо их удлинить, а так трудно…
Он оперся носком сапога в клешню, поднатужился и затянул супонь.
— Спасибо, Коля! Ты что, работаешь тут?
— Еду в бригаду за косилками. Будем сено вам заготавливать.
— Это хорошо, — сказала Клава. — Сено нужно. Прошлую зиму не хватило.
— Накосим. — Колька испытующе взглянул на Игоря. Вот кто близок сердцу Клавы. Да, счастье — не птица. Птицу, если постараться, можно поймать. А счастье не поймаешь. Хоть разбейся, все равно…
— Я вот смотрю на тот могильный курган, — непринужденно заговорил Игорь, будто не замечая косых взглядов Белендина, — ведь ему не меньше трехсот лет.
— Сколько?
— Да не меньше трехсот.
— Две с половиной тысячи… Почитай академика Руденко. Он всю жизнь занимался раскопками наших курганов. — Колька посмотрел на Клаву. «Вот он какой! Видишь? Эх…» — прочитала Клава во взгляде товарища.
— Ну, мне некогда. Бывайте счастливы!
В голосе Кольки Клаве почудилась злая ирония. Она подошла к телеге, взяла вожжи. Игорь встал с другой стороны. Так они стояли до тех пор, пока мимо них не прогромыхал трактор. Когда гул утих, Клава сказала:
— Игорь, тут недалеко. Иди, а я вернусь на стоянку.
Игорь хотел было возразить, но, взглянув в глаза Клаве, сразу осекся. Опустив голову, он медленно зашагал по дороге. А Клава, склонясь над телегой, расплакалась.
Часть четвертая
Глава первая
Марфа Сидоровна осторожно приоткрыла дверь в горницу. Опередив ее, в комнату котенком проскользнул свет. Клава, почувствовав его сквозь сон на своем лице, отвернулась к стене, невнятно что-то бормотнула, и Марфа Сидоровна не сразу решилась разбудить дочь. Пусть поспит, лишние пять-десять минут. Ночи с книжками, а день весь на работе юлой крутится. Мало ли у зоотехника дел! Зима выдалась такая лютая, что даже не помнится, были ли еще такие. Вот апрель, а избу выдуло, как в январе. Снегу кругом — ни проехать, ни пройти. Как вывалил с начала октября, так и лежит седьмой месяц. В колхозе корма запасали куда больше, чем прошлые годы. Сено, силос, солому собрали до последней былинки. И все равно мало.
Вечером Клава ушла на заседание правления, а у нее, Марфы Сидоровны, разнылась поясница. Превозмогая боль, она растопила плиту, приготовила ужин и, дожидаясь дочери, прилегла. Угрелась под толстым стеганым одеялом, боль успокоилась, и она заснула. Будто чутко всегда спит, а этот раз не слыхала, как пришла дочь, как ужинала. Что они там решили?
Марфа Сидоровна касается прикрытого одеялом плеча дочери.
— Клава… Дочка…
— А?.. Поздно?
— Восьмой. Половина…
— Проспала! — Клава сбросила с себя одеяло, поправила рассыпавшиеся по плечам волосы. — Что же раньше не разбудила? Коней на ту сторону перегонять…
— В такое время?
— А что делать? Там корм.
— Корм-то есть, да добраться до него как?
— Вот поедем искать…
— Расщепленную лиственницу знаешь? У Белого камня? Мы там в войну переправляли… Чуть ниже, шагов на пятьдесят. Да там увидите. А может, лучше где место найдется?
— Посмотрим.
— На рожон-то не лезь, поопасливей будь. С рекой теперь не шутят. Можно было бы — сама бы поехала.
— Как же! По избе еле ходишь.
Клава намотала на ноги толстые шерстяные портянки, натянула кирзовые сапоги. Встала, притопнула, сняла со стены полушубок со вздетым поверх дождевиком.
— Да ты что, иль без завтрака?
— Не хочется…
— Ведь на целый день… Поешь!
— Некогда, мама. И так проспала.
— Да как это некогда! — рассердилась Марфа Сидоровна. Но Клава в ответ озорно блеснула глазами из-под толстого, низко спущенного на лоб шерстяного платка и юркнула в сени.
«Ускакала… — Марфа Сидоровна из чайника на плите наливает стакан чая и садится за стол. — Теперь до вечера голодом… Нисколько себя не жалеют. Думают, износа не будет».
Старуха отхлебывает мелкими глотками душистый чай, греет о стакан ладони и думает. Думы привычные, они бегут, как ручеек по пробитому руслу. Одни заботы сменяются другими. Вот дочка и зоотехником стала. Экзамены еще не сдала, но сдаст: она упорная. Теперь о другом забота: двадцать четвертый Клавдюшке доходит. Пора и замуж. Марфа Сидоровна понимает, что значит лишиться дочери. Засохнет тогда она одна, да еще при таком здоровье… Но все равно мать — не враг своему дитю. Лишь бы ей ложилось. Колька-то Белендин хороший паренек — работящий, уважительный, так она нос воротит. Похоже, к этому, Игорю Гвоздину, сердце лежит. Увидит ли счастье с ним? Свои деревенские-то проще, покладистей…
Река бесновалась. Вода, летом такая тихая и ласковая, теперь была серо-свинцовой, тяжелой. Упругими, сплетающимися струями она стремительно выкатывалась на гальку, билась в прибрежные кручи, в корни подмытых деревьев, но особенно доставалось разбросанным по руслу округлым валунам. Некоторые из них, более мелкие, река захлестнула, и камни напоминали о себе лишь надувшимися седыми бурунами. Огромные же увальни река не смогла утопить и яростно злобилась: бурлила, кипела вокруг камней, бросала наверх белые шипящие брызги, а те, замерзая, превращались в толстые голубоватые ледяные шапки.
Клава и Пиянтин спешились, привязали коней к березе и спустились к реке. При одном взгляде на воду у Клавы по спине под теплым полушубком побежали мурашки, а Пиянтин цокнул языком, покачал головой.
— Худо…
Они пошли по течению. За белесым, вросшим в землю камнем на косогоре стояла лиственница. Неизвестно когда, возможно, задолго до рождения Клавы, бурной ночью молния вонзила свою огненную стрелу в вершину лиственницы. Дерево вздрогнуло, вскинуло корявые сучья-руки — и так стоит с тех пор, точно помощи просит…
Река, уклоняясь вправо, пошла шире, спокойнее, но метров через двести крутые берега снова стиснули ее, и она с рычанием и ревом взлетала на камни, падала и снова взлетала.
— Вот тут в войну перегоняли…
Пиянтин, ничего не сказав, смотрел на пороги. Клава понимала его: кони исхудалые, если не справятся с течением, их понесет вниз. А там все… Поминай, как звали.
Пиянтин спрыгнул под берег и, прячась от ветра, присел там, достал из кармана трубку, кисет.
— Малость курить надо, малость думать…
— Некогда думать. Место не нравится? Давай поищем другое.
— Лучше нет… Моя река знай.
— Так чего же тянуть, если нет лучше? Надо успеть… Вода скоро прибудет. Поезжай к табунщикам. Гоните.
Пиянтин прикуривал. Испортив несколько спичек, он согнулся в дугу, сунул трубку в лодочку ладоней, где робко затрепетал огонек новой спички. Чмокая, пососал мундштук, жадно проглотил дым:
— Ты, Васильна, депка молодой. Год мало — спрос мало… А моя шипко спросят. Моя турма не хочет.
— Да ты что? — удивилась Клава. — Ты же был вчера на правлении.
— Правление решал, а река не видал. Такой река вся конь пожрет.
Клава настойчиво доказывала, что коней следует непременно переправить. Иначе они весь корм съедят — коровам и овцам ничего не останется. А за рекой кони обойдутся на подножном.
Пиянтин усиленно сосал трубку и молчал.
Тогда возмущенная Клава побежала вверх к березе, где стояли привязанные кони. Пиянтин, поняв, что зоотехник сама поедет к табунщикам, проворно выскочил из своего укрытия, закосолапил следом.
— Клавдь Васильна! Зачем так?.. Ух, огонь! Клавдь Васильна, надо Ковалева. Пусть Генадь Василич…
— А что Ковалев, коням силы добавит? Да и нет его в райкоме.
Кони, худые, с взъерошенной шерстью, к реке спускались неохотно, а у воды встали как вкопанные. Табунщики носились вокруг, гикали, кричали:
— Гей! Но! Но!
Клава, заехав в гущу табуна, размахивала из седла хворостиной, тоже гикала и кричала. А кони либо топтались на месте, либо вскидывали большие костлявые головы, увертывались, лениво отбегая в сторону.
— Не пойдет. Она не дурной… — бубнил в спину Клавы Пиянтин.
— Да перестань! Лучше помоги. Заезжай с той стороны! Давай вон того, карего!..
Вислобрюхая вороная кобылица, зажатая с двух сторон всадниками, удивленно покосилась на Клаву грустными фиолетовыми глазами и, настороженно ступая по несколько сантиметров, подошла к воде. Понюхала воду и фыркнула, вздрогнув всем телом.
— Иди, дорогая, иди! На той стороне лучше.
Чалый жеребец, вожак табуна, будто устыдясь Клавиных слов, решительно двинулся в реку, Воронуха, немного подумав, тоже пошла. Клава, Пиянтин и табунщики — все замолкли, как по команде, все напряженно следили за чалым. Серая свинцовая вода билась ему в грудь, в бока, темня шерсть. Конь вдруг ухнулся — вода торжествующе захлестнула круп, холку, вытянула по течению пряди косматой «гривы. «Все!…» Клава зажмурилась. А когда открыла глаза, чалый, громко отфыркиваясь, плыл к противоположному берегу. За ним тянулась воронуха.
— Гей! Но! Но! — закричали враз табунщики. И кони покорно заходили в реку. А чалый уже выбрался на противоположный берег, по-собачьи встряхнулся, повернулся к реке, призывно заржал.
У Клавы отлегло от сердца, унялась внутренняя дрожь. Уверенная, что все пройдет благополучно, она отвернула своего коня от реки, въехала на пригорок. Ей захотелось подковырнуть Пиянтина. Ишь, испугался. Да если так бояться…
— Ой, вай!
Клава мгновенно оглянулась. На самой середине реки крутился, конь. Обессилев, он повернул обратно, а стремнинное течение подхватило его и понесло. Конь старался вырваться из цепкого потока, прибиться к берегу, а сил уже не хватало. Он то выныривал почти по самую холку, то погружался так, что видны были только навостренные уши.
— Вода уши зальет — все, на дно пойдет, — с философским спокойствием предсказывал Пиянтин.
— Да что же вы?.. — Клава скатилась с коня, бросилась к реке. Вот он, конь. До него каких-то двенадцать-пятнадцать метров. Его выдавшиеся из орбит глаза полны смертельного ужаса и просьбы о помощи. Но как, как помочь? Клава мечется по берегу, заскакивает в воду. Сапоги ее давно полны воды, намокли полы полушубка, унесло слетевшую с руки рукавицу. Но Клава ничего не замечает. Она видит лишь коня. Он бьется из последних сил, и с минуты на минуту река завладеет им.
Клава кричит, сама не зная что, около нее бестолково суматошатся спешившиеся табунщики. Никто из них не замечает остановившуюся напротив, на дороге, автомашину.
Колька Белендин выскакивает из кабины. Он бежит к реке, насаживая глубже на голову военную фуражку с черным околышем. Мгновенно оценив обстановку, Колька, не останавливаясь, подскакивает к заседланному коню одного из табунщиков, срывает с луки аркан.
— Ну-ка, в сторонку!
Выставив вперед левую ногу, он секунду примеривается и бросает. Черный волосяной аркан, вытягиваясь змеей над рекой, устремляется к коню. Петля падает ему на лоб и, под досадное кряканье стоящих на берегу людей, соскальзывает в воду.
— Э, петля узка.
— Сейчас я, сейчас… — Колька поспешно сматывает кольцами аркан и вновь забрасывает. На этот раз петля ловко захлестывает голову коня, и все хватаются за аркан.
— Осторожно! Задушить можно… — распоряжается Колька.
С помощью аркана конь выбивается из стремнинного течения и, заметно успокаиваясь, плывет к берегу. Вот он уже коснулся ногами земли. Вода оголила его спину, струится по костлявым бокам. Шатаясь, конь с трудом выбирается на берег.
— Коля! — Клава кладет ладони на рукава зеленой стеганки Кольки. В ее черных продолговатых глазах — яркие огоньки благодарности. — Если бы не ты… Да откуда ты взялся? Откуда аркан у тебя?
Смущенный Колька протягивает табунщику аркан.
— Вон у него, на седле…
Табунщик, чтобы спрятать глаза, крутит головой.
— Совсем запыл… Вот какой голова, а… Ай, как не запыть. Кричит, кричит… А какой толка? Нет толка! Зачем так?..
— Да, я растерялась, — виновато соглашается Клава.
Глаза Кольки сузились, он уколол острым взглядом табунщика.
— Дела своего не знаешь! Еще на других валит… — и обернулся к Клаве: — Фураж вон получил. Полторы тонны ячменя. Куда его? Да ты вымокла! Поехали!
На выбоинах и мерзлых кочках, оставшихся еще с осенней распутицы, машину то качало из стороны в сторону, то подбрасывало так, что Клава едва не стукалась о верх кабины. К тому же нестерпимо мерзли ноги. Клава пыталась шевелить пальцами, но они не слушались, ныли, будто зажатые в тиски. Из сапог холод колючими иголками расползался по всему телу и, кажется, подбирался к сердцу.
— Коля, где ты наловчился аркан набрасывать? — Клава старалась не выдавать колотившую ее дрожь.
— Я-то?..
Если бы Клава была повнимательней, она непременно заметила бы, что ее присутствие волнует и смущает Кольку. Он пристальней, чем требуется, смотрит вперед, на дорогу, которая стала теперь значительно ровнее, а его угловатые цвета чугуна скулы побурели.
— Так это давно… мальчишкой еще. Помнишь, одно лето я коней пас? Ничего сложного?.. Тренировка, конечно, нужна. Я сначала на пне тренировался.
Клава представила, как Колька упрямо набрасывал на пень аркан, и тихо рассмеялась, засунула подальше в рукава руки. Ей невольно вспомнились школьные годы. Тогда они казались самыми обыкновенными, а порой скучными, надоедливыми. Хотелось как можно скорее получить аттестаты. Глупые, глупые, не понимали всей прелести своего возраста. Теперь уже ни ей, ни Кольке, никому из ее сверстников никогда не будет по шестнадцати, никогда они не будут такими беспечными, наивными…
Жили шумно и дружно. Горе или радость одного почти всегда становились горем или радостью всего класса. Теперь вот они стали похожи на барсуков. Отработают день, и каждый забирается в свою нору. Сидят там, ни о ком из своих друзей не заботясь, и о них никто не заботится. Вот Колька еще осенью вернулся из армии. Мать умерла, отца из тайги, как говорят, калачом не выманишь… Колька живет один, а ей, Клаве, даже ни разу не пришло в голову его навестить. А ведь сама жила одна и знает, как это горько.
— Коля, а как ты считаешь, — посиневшие губы стали непослушными, и Клава с трудом выговаривала слова, — с годами люди черствеют, что ли?
— Так это ведь кто как. Иной, понимаешь, молодой в тысячу раз черствей старого.
Клаве стало холодно, просто невмоготу: «Он обо мне так. Безусловно, обо мне…» А кто-то другой настойчиво убеждал: «Иначе нельзя. Растревожишь зря парня».
Клава, стараясь избавиться от смущения, сказала, что слышала или читала где — раньше, в первые годы Советской власти, было больше внимания и чуткости друг к другу. А жили как? Голод, холод, болезни. А теперь стали будто скорлупой обрастать.
— Не знаю, — сказал Колька, как показалось Клаве, несколько суховато, — не довелось жить в то время. Наверное, тоже по-разному было. Я вот заметил — чуткость во многом от начальства зависит. Оно тон задает. Вот у нас был командир дивизиона, майор Сурнин. За солдата, понимаешь, душу выложит. Любили его, как отца, а дивизион всегда на первое место по всем показателям выходил. При нем все командиры батарей и взводов людьми были. А потом Сурнина перевели куда-то, на его место назначили майора Шаметько. Дундук, самодур жуткий. Наверное, был уверен, что людей призывают в армию для того, понимаешь, чтобы их всячески унижать. И главное, командиры батарей, взводов, старшины, сержанты — все давай под этого дурака подлаживаться. Чуть что — наряд, «губа». Хоть волком вой! С дубом Шаметькой вырвался наш дивизион по дисциплинарным взысканиям на первое место, а по всем остальным показателям сел на последнее. А в гражданке, думаешь, так не бывает? Да сколько угодно, понимаешь.
Колька энергично крутнул руль, сбросил газ, машина, вильнув, подкатилась к Клавиному дому, послушно замерла в нескольких шагах от калитки.
— Поехали на мельницу. Надо ячмень дробить.
Колька повернулся всем корпусом к Клаве.
— Да ты что, понимаешь? С мокрыми ногами? Надоело здоровой быть?
— Тогда подожди, Коля, — переобуюсь. Я быстро.
— Нет, так не пойдет, некогда ждать. Иди домой, достань с печки пимы, а из печки, понимаешь, горячих щей. Ну, а я сдам все по форме.
Клава вскинула на Кольку глаза. Он улыбался ласково и немного покровительственно. Клава заколебалась.
— Может, не доверяешь?
— Не говори глупости! — Клава вспыхнула, но все-таки сочла нужным добавить: — Знаешь, ячмень — это жизнь. Хоть немного поддержим скот. А я, правда, замерзла.
Колька пришел домой, когда уже совсем стемнело. Только включил свет — на краю печи вырос пушистый черно-белый кот, просяще замяукал.
— Что, брат, проголодался? Я сам не меньше твоего есть хочу. Провозился, понимаешь, с этим трактором. Ремонтируют черт-те как, абы сбагрить.
Сняв полушубок, Колька сразу почувствовал холод. Он чертыхнулся и подумал о том, что на пороге намерз лед, дверь плотно не прикрывается. «Надо обить. Белый свет не натопишь. Там вон как дует». — Колька заглянул в печь и снова надел полушубок, чтобы пойти за дровами.
Набив печь красными лиственничными поленьями, Колька подоткнул под дрова старую газету, зажег ее, а сам уселся на низенький чурбачок, вынул из кармана папиросу. Сейчас он, пока разгорается огонь в печке, покурит, потом сварит картошку в мундире, вскипятит чай, достанет из подполья капусту и огурцы. Хлеб, кажется, есть. Зачерствел, наверное, но ничего, не старик беззубый. Да, а воды-то нет, утром извел остатки.
Колька открыл печь. Оказывается, газета сгорела, а дрова не занялись. Пришлось искать косарь и щепать лучину. О ноги терся кот, заглядывая в лицо и тихо, надоедливо помяукивал.
— Отстань! — раздражался Колька. — Ну что я тебе, понимаешь, дам? Ты же модник, хлеб не жрешь.
В тепле сразу сказалась усталость. Наломался он сегодня порядком. Ячмень сгружал, а потом этот трактор. Допоздна лазил под ним. Теперь бы не за водой идти, а горячего чего-нибудь похлебать да на боковую. Почитать перед сном… Дела… Медведю в берлоге, пожалуй, уютней. Можно поужинать у брата, да сноха стала коситься. Видно, надоел. Уж сколько раз заводила разговор о женитьбе. Вот и Геннадий Васильевич тоже… Зашел как-то, посмотрел и говорит: «Николай, какого ты черта себя и старика мучаешь? Почему не женишься?»
«Жениться! — Колька зло фыркнул, схватил с лавки ведра. — У них, понимаешь, жениться — все равно, что купить что-нибудь в магазине, ботинки или там шапку…»
Колька принес воды, умылся, помыл и поставил на плиту картошку и, усевшись, опять «подложил в печку дров. Захлопнув дверцу, он слушал, как ворчит огонь, с наслаждением разгрызая твердые лиственничные поленья. Плита сначала побурела, потом стала малиновой.
Колька посадил на колени кота, погладил его. Кот заглянул хозяину в лицо и замурлыкал. «Ишь ты, все ласку любят!»
Усталость навалилась на плечи, давила, пригибала голову. Колька слушал монотонную песню кота, а веки слипались. Сон стал желанней ужина. «Жениться для того, чтобы быть женатым, другим не мешать? Нет, так не пойдет. Лучше, понимаешь, век холостяком ходить», — думал Колька, но думал спокойно, как о чем-то далеком, постороннем. А картошка кипела, булькала…
Когда в сенях что-то громко брякнуло, Колька встряхнулся. Клава! Колька толкнул с колен кота, тряхнул еще раз головой. Нет, не сон. Она, Клава! Стоит у, порога, улыбается. На ней тот же, что и утром, полушубок с вздетым поверх дождевиком. И только шаль она почему-то заменила черной меховой ушанкой. Пожалуй, кому-нибудь постороннему Клава в своей непритязательной одежде с обветренным до черноты лицом показалась бы самой обыкновенной. А для Кольки она была лучше и дороже тысячи сказочных красавиц.
— Клава!
У Кольки кровь горячей волной бросилась в голову, мысли завихрились, засуматошились, как снежинки в пургу. Пришла! Пришла! Колька не встал, а, кажется, вспорхнул с чурбачка. Клава заслонила собой все, больше для него ничего не существовало.
— Да как ты надумала? Ветром, понимаешь, что ли?..
— Да вот шла. Гляжу — такой сиротливый огонек.
Они взглянули друг на друга и рассмеялись. И от этого смеха у Кольки сразу спало все напряжение. Ему стало легко, свободно и очень приятно. Почему-то вспомнилась школа, и он просто, как в те годы, сказал:
— Так чего ж ты замерла у порога? Проходи, разоблачайся. Теперь уж нагрелось. Вон чай закипает, картошка, должно, сварилась.
Клава не, заставила повторять приглашение. Она сняла полушубок, шапку, поправила слежавшиеся волосы и подошла к столу.
— Ты что, посуду не моешь, что ли?
— Почему? Мою, только не каждый день.
— Оно и видно… Поставь воды.
У Кольки мытье и особенно вытирание посуды занимает всегда уйму времени, а Клава все сделала в несколько минут. Как завороженный, Колька не отрывал взгляда от маленьких рук девушки. До чего они ловки, проворны!
Ужинали в горнице. Колька, обжигая пальцы, дуя на них, выхватывал из чугунка для гостьи самые разварившиеся пухлые картофелины. Клава благодарно Кивала, а Колька подкладывал ей ломти хлеба, пододвигал чашку с капустой.
— Ешь. Самая народная еда… Нет, как ты, понимаешь, надумала?
— Что надумала?
— Да зайти. Здорово!
Клава, склонясь над тарелкой, улыбалась.
Говорили разное, серьезное и пустячное. Клава была довольна, что своим приходом встряхнула Кольку, что ему приятно ее присутствие. А Колька без умолку шутил, смеялся и все время думал об одном и том же: «Вот так бы завтра, послезавтра, каждый день до самого конца, понимаешь… Эх, и счастье! Больше ничего не надо».
— Клава, а как с институтом? Закончила?
— Госэкзамены остались. Очень уж со временем туго.
Колька сочувственно кивнул и, опустив голову, осторожно спросил об Игоре.
— Работает?
— Да, главным зоотехником совхоза.
— Сразу главным, понимаешь! — удивился Колька. Ему очень хотелось узнать, встречаются ли они, но спросить он никак не решался.
Клава положила вилку, отодвинула тарелку.
— Мне пора. Мама заждалась.
— Да посиди. Рано еще. Вон только четверть десятого. — Колька глянул на ходики, потом на свои наручные часы. — А на моих так меньше.
— Нет, Коля, пойду, — Клава, отворачиваясь от умоляющего Колькиного взгляда, решительно встала. А Колька скис. Мотнув головой, точно отбиваясь от чего-то назойливого, он медленно, с явным сожалением тоже встал. Помог Клаве одеться, осторожно тронул, ее за рукав.
— Клава! Даже не знаю, как сказать… Вот, понимаешь, ночь, и в темноте огоньки… И ты вот зажгла такой огонек.
Клава мягко, с легкой грустью улыбнулась:
— Ох, Коля, ты все еще романтик. Не выветрилось.
— А я и не хочу, чтобы выветривалось.
— Не все, Коля, зависит от нашего желания.
— Это да. — Колька, краснея до кончиков ушей, робко и тихо спросил: — Клава, а нельзя ли добавить счастливых огоньков?
Клаве стало жаль доброго Кольку, да и смотрел он так, что если бы было желание отказать, все равно она не смогла бы.
— Счастливые ли они?
Колька встрепенулся.
— А это от нас ведь зависит. Только, понимаешь, от нас, — он крепко сдавил девушке пальцы.
Проводив Клаву, он, не снимая полушубка, долго стоял посреди кухни. Опустив голову, думал. Вдруг заметил, что пол невероятно затоптан.
Колька сбросил полушубок, налил в таз воды и принялся рьяно драить пол.
Глава вторая
Утром, после завтрака, Марфа Сидоровна решила сходить в центр. Надо было купить сахару, чаю, спичек и еще кой-какой мелочи. Такие походы для старухи — всегда целое событие. Вернувшись домой, Марфа Сидоровна часа два отлеживается на печи, греет поясницу, и все равно остаток дня она чувствует себя совершенно разбитой.
Оделась Марфа Сидоровна тепло, как при поездке за кормом или дровами, взяла сумку, клюку. Только вышла за ворота — догоняет соседка. Всплеснула руками и, сильно окая, затараторила:
— Сидоровна, родная! Давненько не видела тебя. Как живешь? Здоровьице как?
— Да так, скриплю…
Встреча эта не доставила удовольствия Марфе Сидоровне. Она не любила сплетен, всячески сторонилась их, а эта обрюзглая баба со свекольным лицом и постоянной сахарной улыбкой на тонких губах славилась своими неистощимыми кляузами и наговорами. Ведь недаром поголовно все село звало ее Боталом: брякает, звонит на всю округу.
В просторной цигейковой дохе, смахивающей покроем на зипун, Ботало шла рядом с Марфой Сидоровной, бережно поддерживая ее под руку.
— Совсем уж не работаешь?
— Нет, какая из меня теперь работница. Себя-то еле ношу…
— Да, здоровье потерять легко, а нажить… Ну, а дочка, Клава, как?
Обходительность и участливый тон Ботала как-то заметно погасили у Марфы Сидоровны неприязнь к ней. Она сказала:
— А что дочка? Ночи напролет над книжками… Убегает чуть свет, приходит ночью.
Ботало завела вверх глаза.
— Скажу тебе, Сидоровна, молодежь нынче не та. Мы при родителях-то дышать боялись, по одной доске ходили. А теперь ушлые, ух и ушлые! Водят нас, простофилей, вокруг пальца.
— Ты к чему? — насторожилась Марфа Сидоровна. — Не пойму…
Мутные глаза Ботало забегали, ни на чем не останавливаясь.
— Да я так, Сидоровна… К слову пришлось. Не подумай, что из корысти. Тебя жалеючи… Знаю твою жизнь горемычную.
— Не жалей, а говори. — Марфа Сидоровна настойчиво высвободила свой рукав от руки Ботало, требовательно взглянула в ее фиолетовое лицо. Та заговорщически оглянулась — не стоит ли кто поблизости.
— Вечор иду я это мимо завалюхи Белендиных — свет так и брызжет из окошек, ну чисто тебе алюминация. Да, и с самой дороги видать, как сидят они за столом. Значит, Колька и твоя дочка. Глаз, друг с дружки не сводят… А больше в доме ни души. Потом Колька встал и задернул занавески…
«Слава богу. Пора к берегу прибиться», — подумала Марфа Сидоровна. Но вслед за этой радостной мыслью явилась вторая: «Дочку мою поносит».
— Вот тебе и работа… Да с такой работой недолго, избави боже, до греха… Принесет в подоле, ославится…
— Не такая у меня дочка, чтобы глупость позволить. А если и принесет, так не к тебе в дом, не твоя печаль.
Марфа Сидоровна отвернулась и пошла. Ботало, никак не ожидавшая такого оборота дела, растерялась и молчала, потом крикнула вслед:
— Да я ведь упредить хотела! Взбрыкнула, кляча норовистая! Другая бы мать спасибо сказала, а она горло дерет. Знаем, как в войну мясом обжиралась. И дочка, видать, не лучше… Одного поля клюковки!
Боталу показалось уже зазорным идти с Марфой Сидоровной по одной стороне улицы. Озираясь, — место бойкое, как бы не влететь под машину, — она перебралась через скользкую с ледком на выбоинах дорогу. Злость, истоки которой Ботало даже не пыталась выяснить, распирала ее. Вскоре она так распалилась, что стало невтерпеж — заскочила к Феоктисте Антоновне Гвоздиной. Там и отвела душу. Досталось не только Марфе Сидоровне, Клаве, но и покойному Василию и всем родственникам.
Феоктиста Антоновна слушала с удовольствием. На ее блеклых, съеденных краской губах играла улыбка. Случай, если он даже целиком выдуман, как нельзя кстати. Он поможет окончательно уничтожить эту алтайку в глазах Игорька. У мальчика что-то осталось от увлечения школьных лет — от внимательной матери ничего не скроется. Это «что-то» надо вытравить, выжечь.
А Марфа Сидоровна так расстроилась, что глаза застлало туманом, и она с полпути вернулась домой. «Господи, что же это? Неужто правда? Да нет, не может… Зайти могла, чтобы проведать. А насчет баловства там — нечего думать, не допустит… Теперь раззвонит по всему селу. Стыд-то какой! Самая вот сколько вдовой прожила, и никто не заикнулся…»
Дома Марфа Сидоровна сразу легла.
— Мама, что с тобой? — забеспокоилась Клава, когда вечером вернулась с работы. — Заболела?
— Нездоровится. Щи в печке. Перетомились, поди?
— Да ты вставай. Вместе поедим. Ведь не обедала?
— Нет. Голова раскалывается.
Клава положила ладонь на лоб матери, присела на край кровати. От нее приятно пахнуло свежестью. И сама она была свежей, румяной. Влажно поблескивали черные глаза.
— У нас есть, кажется, таблетки. Найти?
— Не надо, пройдет. Сегодня ты рано… А вчера куда заходила, что ли? — Марфа Сидоровна из-под полуопущенных век пристально смотрела на дочь. Если есть грех — он обязательно скажется на лице.
— Вчера? — Клава на секунду задумалась. — Да, у Кольки была. Сидит там, как сурок. Посуда немытая, пол грязный.
Марфа Сидоровна улыбнулась.
— Жалеешь всех: и людей, и ягнят… А ведь не все понимают такую доброту.
Утром Клава вышла на крыльцо. Из-за гор, прикрытых искристой дымкой, косыми стрелами вырывалось на небо солнце. Провода и ветви деревьев обросли игольчатым куржаком, стали толстыми. У крыльца под сапогом сухо хрястнуло и зазвенело, точно Клава наступила на лист стекла. А вчера, когда Клава забегала пообедать, здесь так пригрело, что образовалась лужица. Из нее пили куры, в ней с наслаждением смывали сажу печных труб воробьишки.
За воротами Клава еще раз подумала, с чего начинать сегодняшний день. Пожалуй, зайти сначала в свинарник. Узнать, как там дела, повидаться с Эркелей.
Клава не может, да и не старается понять, что влечет ее к Эркелей. Если три-четыре дня они не видятся — Клава уже скучает и обязательно выберет время, чтобы заскочить на ферму или домой к подруге. А иной раз Эркелей сама прибежит. Хорошо, что Эркелей никогда не унывает, ко всему относится с шуточкой. Не каждый так может.
Как-то, больше года тому назад, Эркелей уговорила Клаву пойти в Дом культуры на танцы. Там Эркелей обратила внимание на незнакомого человека.
— Кто это? — толкнула она Клаву.
— Не знаю. Первый раз вижу. — Клаве не понравился мрачноватый и не очень молодой парень. Он чем-то неуловимым напоминал бывшего завмага Иванова. Больше года назад, когда в магазине обнаружилась большая растрата, Иванов бесследно исчез, как испарился. Вскоре уехала и Нинка.
— Хороший… — протянула Эркелей, все время наблюдавшая за незнакомцем.
Клава усмехнулась:
— У тебя все хорошие…
— А чем плохой?
Вскоре молодой человек, слегка вихляясь, подошел к ним. Настороженная Эркелей до боли вцепилась в Клавину руку выше локтя.
— Разрешите?..
Эркелей, поняв, что приглашение адресуется ей, вся вспыхнула и с излишней поспешностью согласилась.
После танца Эркелей о чем-то оживленно болтала с партнером, потом они вновь танцевали. В синем костюме с узкой и короткой юбкой, смуглая, с подкрашенными в меру губами, с тяжелой короной черных, как осенняя ночь, волос, она была хороша. Откинув чуть голову, она так вдохновенно кружилась в вальсе, что Клава поняла: Эркелей не до нее. Эркелей забыла о подруге, она вообще забыла обо всем на свете. Клаве стало грустно и немножко обидно, и она, отказавшись от приглашения на танец, ушла.
А утром чуть свет, прибежала Эркелей.
Марфа Сидоровна только еще поднялась и стояла у плиты, думая, что приготобить на завтрак.
— Пошто такую рань?.
— Да так, тетя Марфа. По пути на работу.
— Ну и по пути! Хотя молодым семь верст — не крюк. Спит она. Подожди.
Эркелей присела на лавку, но тут же встала. Ждать она не могла, было невтерпеж. Заметив, что Марфа Сидоровна, взяв кастрюлю, намеревается спуститься в подполье, Эркелей обрадовалась, но виду не подала. Она услужливо помогла открыть тугую дверцу. А когда голова Марфы Сидоровны в старом клетчатом полушалке скрылась под полом, Эркелей юркнула в горницу.
От прикосновения холодных рук Клава завозилась, потянула на себя одеяло.
— Да хватит дрыхнуть! Я так совсем не спала.
Открыв глаза, Клава не сразу поняла, кто не дает ей покоя.
— Баламутная! С танцев? — И снова потянула на себя одеяло.
Но не так-то легко отделаться от Эркелей. Она хихикнула и запустила руку под одеяло.
— С каких танцев? Ведь утро. Девятый час, — Эркелей, не смущаясь, добавила добрых полтора часа.
— А чего ж тогда не спала? Провожались, что ли?
— Да нет… Не могла… Знаешь, он кто? Фотограф райпромкомбината. Из Верхнеобска приехал.
— Чего его к нам принесло?
— А почем мне знать? Денег у него, видать, гора. Фотографы всегда с деньгами.
Сонная Клава рассмеялась.
— И нечего смеяться, — обиделась Эркелей. — Что ж мне, век в девках сидеть! Двадцать седьмой пошел.
Клава сердито хмыкнула.
— Ты просто невозможная! Что он за человек? Знаешь?
Эркелей нахмурилась, отвела взгляд.
— Всех узнавать — жизни не хватит. Пока узнаешь — он уедет или другая подцепит. Вот и узнавай!
Клава сердито сбросила с себя одеяло.
— Нет, Эркелей, ты просто ненормальная, честное слово! Как же можно? Выскочишь, а потом будешь каяться. А он что, предлагает?
— Да нет, не сватал, а разговор заводил. Говорит, плохо бобылем. Уже под тридцать. Никому не нужен. Как собака, говорит, бездомная.
— Ой, врет он все! — убежденно воскликнула Клава. — Смотри, Эркелей, втюришься…
Свадьба была шумной. Жених напился еще накануне и целую неделю, как говорят, не просыхал. В обнимку с тестем они шатались по селу. Старик тесть, сорвав с головы круглую рыжую шапку, кричал:
— Вот какая мой зять! Ой-ля-ля! — и затягивал алтайскую песню.
Медовый месяц у Эркелей оказался недолгим. Вскоре она пришла на работу с подбитым глазом.
— Что с тобой? — удивилась Клава.
— Да так… — Она хотела сдержаться, не рассказывать, но не смогла. — Вытурила я своего… Полешком по горбу. — Эркелей громко расхохоталась. — Не было мужа — такой не муж. Пошел к черту! У него жен, может, сорок. Как бай. Лист этот… как его? Алиментный, что ли, прислали.
— Что я тебе говорила?
— Э, что там говорила! — рассердилась Эркелей. — Говорить все умеют.
После рождения сына, которого назвали Костиком, Эркелей удивительно похорошела. Взгляд ее черно-коричневых глаз приобрел постоянную мягкость, характер стал ровней, спокойней.
«Все, отвыбрыкивалась», — сказала как-то Марфа Сидоровна.
Жизнь Эркелей приобрела новый смысл. Об этом она сама сказала подруге: «Нашла, чего не теряла. Знаешь, как хорошо, когда ребенок. Есть о чем думать. Домой несусь, как белка в дупло. Схвачу его, грудь выну… Нет, не расскажешь! Да ты не поймешь. Я ведь тоже не понимала. Однако перейду я в свинарник. Тут рядом. За минуту домчусь».
Клава полюбила Костика. Когда ему перевалило за полгода, он стал сидеть между подушками, цепляться крючками пальчиков за все яркое. Клава жадно схватывала ребенка, нянчила и ловила себя на мысли: ей тоже хочется иметь вот такого малыша. Но ребенок доставляет счастье, когда есть отец и жизнь между родителями ладная. Для Эркелей же Костик больше, пожалуй, утешение, чем счастье. А мальчишка забавный. Глазенки круглые, черненькие… Вот и сейчас, подходя к свинарнику, Клава вспомнила о Костике. Наверное, спит еще. Вечером надо заглянуть.
Свинарник давно перестроили. Делали своими силами, без проекта, как бог на душу положит. Помещение получилось неказистым на вид, но теплым, не промерзало. Прошлым летом Ковалев, используя старые связи, достал на одном из верхнеобских заводов трубы, к зиме в свинарник и коровник подвели воду.
Еще в дверях Клава услышала голос Эркелей.
— Ну, куда ты? Ой, дурная! Клетки своей не знает.
Клава помогла загнать на место свинью, прошла по свинарнику. Свиньи визжали. Около матерей суматошно вертелись поросята.
— Не кормили, что ли?
— Кормили немного. Дробленку экономим. Зина за молоком поехала. А вон три сдохли, — Эркелей показала глазами в полутемный угол, где лежали прикрытые старой мешковиной трупы поросят.
— А почему?
— Откуда мне знать? — дернула плечами Эркелей.
— Вот тоже! Свинарка!.. Не знает, отчего поросята дохнут. Ухаживаешь плохо, вот и дохнут!
Вспышка Клавы оказалась мгновенной. Запнувшись на полуслове, она опустила голову.
Помолчали. Эркелей толкнула плечом Клаву, вызывая на себя ее взгляд.
— Я же не ветеринар. А ты псих. — И расхохоталась, опять толкнула.
— Станешь психом… — Клава подняла на Эркелей глаза и виновато улыбнулась.
— Понимаю… Помнишь, я замуж собиралась — тоже психовала. Когда свадьба-то? Даже не пригласила.
Удивление в черных продолговатых глазах Клавы сменяется усмешкой. Опять Эркелей чудит. Не может без этого.
— А я сама приду. Ведь не выгонишь? — Голос Эркелей — смесь обиды с настойчивостью. — С таким можно жить. Если бы мой был таким.
Клава, глядя на Эркелей, постепенно убеждается, что та не шутит.
— Откуда взяла?
— Не прикидывайся. Все село говорит. Сарафанное радио… Чего ж скрывать?
— А за кого, говорят, выхожу?
— Да ну тебя, притворница! За Кольку, кого же еще. Скажешь, неправда?
Клава задумалась.
— Не знаю… Может, и правда.
И ушла из свинарника.
А вечером многие видели, как Клава с Колькой шли к Дому культуры. Колька, побритый, наодеколоненный, в модном коричневом пальто, которое придавало ему солидности, почти непрерывно смеялся, заглядывая Клаве в лицо. Клава на любезность старалась отвечать любезностью, но получалось это порой невпопад. Впрочем, Колька, ослепленный счастьем от близости любимой, ничего не замечал.
«Вот возьму и выйду, чтобы языки не чесали, — мстительно думала Клава, перехватывая любопытные взгляды встречных. — Коля добрый».
После кино они стояли около Клавиных ворот. Колька опять много говорил и смеялся, а Клава больше молчала. Вскоре притих и Колька. Взял Клаву под руку, несмело попытался обнять, но Клава уклонилась.
— Завтра рано вставать. Пойдем…
Дома Клава забралась под одеяло, открыла учебник и задумалась. Перед глазами встал Игорь.
После той встречи на выпасах переписка у них прекратилась. И виделись они потом редко, случайно. Как-то зимой в Верхнеобске, когда Клава приезжала на зачетную сессию, Игорь предложил сходить в театр. Она сказала, что некогда. И у нее в самом деле не было свободной минуты. А он, похоже, обиделся.
Мельком встречались несколько раз, когда Игорь приезжал на каникулы. И вот недавно на совещании передовиков животноводства… Игорь кивнул на расстоянии, и все. А к Грачеву он, похоже, устроился неспроста. Вот, говорят, и Нинка откуда-то вынырнула. Ну и пусть… Жалко, что ли…
Глава третья
Ночью у Ковалева разболелась нога. Ломило чуть повыше лодыжки — в том месте, куда много лет назад впилась фашистская пуля. Сонный Ковалев то поднимал ногу, то вытягивал, стараясь найти наиболее удобное положение. Ломота не только не унималась, но вскоре стала такой, что Ковалев не мог больше спать.
Согнув в колене ногу, он дотянулся до больного места, начал растирать. Вот чертовщина! Раньше не было такого. Старость, что ли? А что такое старость? Враг. Со всяким врагом нужно бороться.
Ковалев нащупал на тумбочке папиросы и спички. «А ведь это мне не союзник, — подумал он и отдернул руку. — Надо бросать. Хватит, подымил! В легких копоти, наверное, не меньше, чем в печном дымоходе».
— Что возишься? Вот возится и возится… Не хочешь спать — другим не мешай, — пробрюзжала жена и отвернулась к, стене.
Кажется, ничего особенного не сказала Катя, а в Ковалеве ворохнулись обида и отчужденность. Он подумал о том, что более внимательная жена непременно поинтересовалась бы, почему муж не спит, почему возится. А ей все равно. Под одной крышей, под одним одеялом, а каждый сам по себе. И не так просто понять, как все произошло, кто виноват в этом.
За шесть лет жизни в Шебавине Катя осталась такой же чужой для всех, как и в день их приезда. Она ходит по селу с гордо поднятой головой, никого не замечая и почти ни с кем не здороваясь. И сельчане ей платят тем же — насмехаются, втихомолку придумывают клички, одна злее другой. «Генадь Василич, ох и женушка у тебя!.. Где только выкопал?» — уже не раз ехидно справлялась Эркелей.
— Ну что ты, Катя, так? Ты попроще бы, — советовал Ковалев, — народ тут хороший, душевный. Есть, конечно, отдельные…
— Вот еще! Не хватало, чтобы я, жена председателя, водилась тут со всякими!
Ковалева покоробило, хотелось спросить: «А чем же ты лучше «всяких»? Однако, сдержав себя, он терпеливо объяснял:
— Я не прошу тебя водиться. Но относиться проще, по-человечески ты можешь и должна. Пойми, Катя, для тебя же самой лучше. И для меня тоже. Ну, а водиться… Если ты считаешь зазорным с простыми колхозниками, тут много других людей. Вот учителя, врачи…
По лицу жены Геннадий Васильевич видел, что она согласна с ним. Это обрадовало его. «Дурной! Завяз в колхозных делах, жене совсем не уделяю внимания. А с Катей можно договориться… Можно!»
Геннадий Васильевич положил руки на плечи жены. Она вздохнула, прильнула щекой к его руке, но вдруг вся дернулась:
— Нашел дуру! Знаю эти знакомства! Чтоб за моей спиной шашни заводить? Нет уж, не выйдет!
Больше никакие доводы не помогали, да и приводить их не хватило терпения.
Геннадий Васильевич, стараясь не потревожить жену, выбрался из-под одеяла, надел брюки, сунул ноги в шлепанцы. Сколько же времени? Отыскав на тумбочке часы, он взял спички, а заодно прихватил и папиросу. Двадцать пять шестого. Скоро дойка, надо побыть…
От первой же затяжки Геннадий Васильевич закашлялся и, косясь в сторону жены, вышел в кухню. Там опять затянулся и опять закашлялся, зло взглянул на папиросу. Зажатая между пальцами, она испускала тонкую и, как показалось Ковалеву, ядовитую струйку. Самоубийство, медленное самоубийство…
И откуда только в ней такая бешеная ревность? Всему бывают причины. У нее же никаких. Пора бы, кажется, понять это. Десять лет прожили.
Геннадий Васильевич бросил на шесток папиросу, приоткрыл дверь в детскую. Из-за горы, будто украдкой, заглядывала в окно луна, круглая и белая, точно напудренная.
Полоса холодного анемичного света, упав за подоконник, рассекла поперек комнату, вскочила на подушку Володьки. Сынишка лежал на спине с чуть приоткрытым ртом. Над крутым выпуклым лбом сухим кустиком упрямо топорщился вихор.
«Растет… Десятый покатил…» — Геннадий Васильевич с умилением глядел на мальчишку. А тот вдруг весь трепыхнулся, как выброшенная на берег рыба, ударил обеими ногами в одеяло, что-то невнятно бормотнул и повернулся на бок.
Поправляя сбитое одеяло, Геннадий Васильевич заметил что-то торчащее из-под подушки. Осторожно потянул — молоток. Засунул дальше руку — там кусок проволоки, складной нож и еще какие-то железки.
Геннадий Васильевич улыбнулся: «Строитель… Старое дерево подгнивает, сохнет, а рядом бьют из земли отростки».
Вспомнил, с каким волнением и нерешительностью он сообщил жене о том, что его посылают в село. Тогда Катя, к его удивлению, сразу согласилась. А теперь при каждом удобном случае упрекает: «Все эти, тридцатитысячники… уехали. Один на весь район остался. Прилип тут. Всякие Эркелей держут… В городе ведь таких не найдется».
Геннадий Васильевич наспех умылся, оделся. Уже в полушубке, валенках и шапке подошел к столу. Положив на угол большие меховые рукавицы, налил из термоса стакан чая. Стоя размешал сахар и стоя же выпил. Взяв, рукавицы, задумался. «Нет, дальше так нельзя… Надо что-то предпринимать».
Легко сказать — предпринимать. Что предпримешь?
Побывав на фермах, завернув на обратном пути на пилораму, Ковалев в восьмом часу пришел в контору.
Дожидаясь председателя, в коридоре на исшарканной, тяжеленной, из лиственницы, скамейке и у стены на корточках сидели колхозники. Все они, как по уговору, сосали трубки и самокрутки. Такое бывало каждое утро, и Ковалев, давно привыкнув к дыму, не обращал на него внимания. Но сегодня он почему-то взорвался. Доставая из кармана ключ, чтобы открыть свой кабинет, сказал:
— На что это похоже? Не продохнешь! Хоть топор вешай!
— Правда, — поддержала председателя Зина Балушева. — Я уж говорила. Шли бы вон на улицу.
Как только Ковалев распахнул дверь, дым, опережая председателя, клубом ввалился в кабинет.
Ковалев бросил на шкаф шапку, рукавицы, не снимая полушубка, сел за стол, запустил, пальцы в бороду, исподлобья смотрел на заходящих колхозников.
— У, какой барышня стал Генадь Василия! — Бабах выбил об угол лавки трубку, сунул ее за голенище. — Дым нехорошо, а кошар теплый нет — хорошо, а? Пойдем, сынок.
Шестилетний Эркемен, в такой же белой нагольной шубе, как у Бабаха, перетянутой такой же синей опояской, шмыгнул не очень опрятным носом и вцепился одной рукой в карман отца.
Спустя несколько минут кабинет забили, как говорят, под завязку. Наиболее расторопные захватили мягкий пружинный диван, некоторые — стулья, многим пришлось стоять.
К столу протолкалась Клава. Расстегнув полушубок, она достала из внутреннего кармана пачку листков, молча положила их перед председателем.
Ковалев пододвинул к себе помятые листки — акты о гибели скота, — взял из стакана толстый цветной карандаш, но тут же зло бросил его.
— Черт знает!.. Не могла в другое время? Обязательно надо с утра настроение испортить!
Клава в смущении отступила от стола, оглянулась на колхозников, как бы спрашивая: «Что с ним?», а потом опять шагнула к столу.
— Простите, Геннадий Васильевич, не знала, что вы стали так дорожить своим настроением.
Ковалев поднял голову. Острые булавки в глазах, бледные, плотно сжатые губы говорили о том, что Клава полна решимости не только защищаться, но и нападать.
Он опять взял карандаш, начал внимательно читать каждый акт. В большом хозяйстве за полмесяца всякое может случиться. Вот в Тюргуне телка стельная сорвалась с кручи. На дальней стоянке волки опять нашкодили — двух овец порвали. На поросят напасть — чуть не каждый день дохнут.
Геннадий Васильевич поставил на акте «К», небрежно пустил несколько завитушек.
Когда дошел до актов на поросят, спросил Клаву:
— Что там фельдшер?
— Устанавливает.
— Будет устанавливать, пока все не свалятся, врача надо! Сегодня же, Клавдия Васильевна!
Вокруг завздыхали, заговорили наперебой:
— Наш коновал только в тайге промышлять мастер.
— Конечно, врача… — Зина Балушева сдвинула на затылок пуховый платок. — Сердце разрывается… — И подала Ковалеву бумажку: — Подпишите, Геннадий Васильевич, молока добавить поросятам.
— Геннадий Васильевич, а вот с телкой в Тюргуне… Надо с пастуха строго спросить. Он ведь даже не заметил. А заметь вовремя — на мясо пошла бы.
— Спросим. Мы вот вызовем его на правление.
Маленький Эркемен вдруг прильнул к отцу и заревел, да так громко, что в кабинете все опешили. Растерялся и Бабах.
— Тохто! Ты что, сынок? — спрашивал по-алтайски Бабах.
Ковалев повел глазами в сторону ревуна, как бы говоря: «Этого еще не хватало!». А Эркемен, дергая отца за концы опояски и уткнувшись лицом в полу его шубы, продолжал истошно реветь.
— Тохто! — Бабах оторвал сынишку от полы своей шубы. Ковалев увидел мокрое личико с размазанной на скулах грязью.
— Чего это он? — И обратился непосредственно к мальчишке: — Нос вытри! Мужик тоже.
Бабах, склонясь над сынишкой, настойчиво спрашивал по-алтайски, а когда тот наконец что-то ответил сквозь рыдания, Бабах горестно качнул головой:
— Барашка, говорит, маленький жалко. Холодно ему. Почему, говорит, председатель теплый кошар не дает?
Ковалев выбросил на стол обе руки и расхохотался.
— Хитер! Одного только не учел. Ты что думаешь, я так, зазря прожил тут шесть лет? Ничему не научился? Ведь мальчишка домой просится, к матери.
Бабах смущен, в кабинете смеются. Ковалев закуривает папиросу, Бабах тоже смело достает из-за голенища трубку, набивает ее табаком из кожаного кисета.
— Хитрить начинаешь?
— Э, как не будешь хитрить?
— А ты напейся. Как тогда… Помнишь?
У Ковалева под усами колкая усмешка, а Бабах усиленно сосет трубку, жадно глотает дым.
— А что? И напился бы, если бы кошар дал. А так какой толка…
Летом недалеко от стоянки Бабаха построили хорошую кошару. Бабах возглавлял строительную бригаду, и Ковалев как-то сказал: «Посмотрим… Возможно, вам и отдадим». А после на заседании правления отдали кошару другому чабану — женщине. Это так обидело Бабаха, что он до сих пор забыть не может и при каждой встрече требует кошару.
— Я же тебе говорил. И опять вот говорю: летом построим кошару. Обязательно. Сам будешь строить.
— Это долго ждать, — сокрушается Бабах.
— Ну, а где я раньше возьму? Что же, по-твоему, женщину выгнать, а тебе отдать, да?
Бабах молча сопит. А Ковалев, улыбаясь, тормошит пальцами бороду. Ему почему-то вспоминается приезд в Шебавино. В ту зиму была бескормица, скота пропало много. Но люди были удивительно равнодушными. Сдохнет овца, свинья или даже корова — преспокойно сочинят акт, так же преспокойно закопают, и все, будто так и положено. Такое безразличие бесило тогда Ковалева. А теперь смотри, какие стали. Из-за каждого пропавшего поросенка шум устраивают. Дай им кошары, корм… «Выходит, недаром прожил я тут шесть лет». — Ковалев довольным взглядом прошелся по лицам колхозников.
Глава четвертая
Откуда-то из узкого кудлатого ущелья с гулом, как из огромной трубы, вырывается ветер. Ярясь, он мечется по селу, безжалостно гнет, коверкает вершины деревьев, придирчиво ищет, где что плохо положено, где что ослабло. Вот он грохнул, загудел железом на крыше, остервенело хлопнул ставней, задрал пласт черной соломы на сарае, а курице, имевшей неосторожность выскочить из-за угла дома, так ударил в хвост, что она опрокинулась.
Хохотнув, ветер помчался дальше. Он со свистом втискивается в большие и малые щели. А в затиши хозяйничает солнце. Яркое, румяное, оно нежными теплыми ладошками гладит щеки детишек, которые под стеной избы, на черной подсыхающей круговине, режутся в «чику». Увлеченные игрой, ребята распахивают шубенки, а самый отчаянный-даже шапку сбросил.
Солнце, улыбаясь, запускает в сивые вихры мальчонки свои лучи, точно тонкие нежные пальцы. У щедрого солнца хватает ласки и на дворняжку — она, вытянувшись около ребят на завалинке, блаженно щурится, лениво покручивая хвостом.
А ветер беснуется. Выскочив из переулка, он ударил с налета Ковалева в загорбок. Ударил так, что у Геннадия Васильевича стрельнуло в лодыжку, отдалось в пояснице. Задержав шаг, Ковалев поднял воротник, а ветер уже рванул за полу полушубка, толкнул в бок.
Ковалев, припадая на разболевшуюся ногу, ступил на тротуар в три доски. Затоптанный до черноты ледок маслянится, а мокрые набухшие доски дымят парком, который ретивый ветер сейчас же сминает.
У крыльца деревянного здания райкома Ковалев бросил короткий взгляд на большие окна второго этажа. Думая, с чего и как начать разговор с Хвоевым, Геннадий Васильевич дольше, чем требуется, тер о деревянную решетку ноги. «Скажу — площадями не возьмешь…»
Наверху размеренно и тяжко заскрипели деревянные ступени. Спускался кто-то грузный. Ковалев снизу исподлобья посмотрел на чьи-то сапоги. «Деготьком насытились. На всю лестницу несет. С запасом сработаны — на двое шерстяных носков или на толстую портянку», — отметил Ковалев, не переставая думать о своем наболевшем.
— Ковалев! Геннадий Васильевич!
У Ковалева никогда не было неприязни к Кузину, но сегодняшняя встреча почему-то не очень обрадовала Геннадия Васильевича.
— Давненько не видались, — простуженно хрипел Кузин. Перекинув из правой руки в левую большущие шубенные рукавицы, он подал Ковалеву заскорузлую ладонь. — Ну как вы там? Сенюш-то живой?
— Живой.
— Марфа Сидоровна как? А Чма? Вот чабан! С руками оторвал бы ее у тебя. И скажи — поставила Бабаха на ноги. А ведь под заборами валялся.
Ковалев, удивленный необычным многословием Кузина, сказал:
— Извини, Григорий Степанович. Некогда. К Хвоеву спешу.
— К Хвоеву? Тогда поворачивай оглобли. Я вот тоже к нему хотел. Заболел Валерий Сергеевич.
— Не может быть. Только звонил ему. Каких-нибудь полчаса.
— Оно все так. Вон, видишь, камень около Дома культуры? Тонн семь, пожалуй. Когда я был мальчишкой — он на вершине горы лежал. А потом ночью, в грозу, шарахнулся оттуда. В один миг. Корову в стайке помял.
— Что с Хвоевым? Так он мне нужен!
— Сердце, говорят. Врача вызывали.
— А второй?
— Тоже нет.
Они пошли тротуаром, но двум солидным людям на трех досках рядом не уместиться, — свернули на дорогу. Григорий Степанович продолжал расспрашивать о людях и делах родного колхоза. Отвечая коротко, неохотно, Ковалев думал: «Да что это я, в самом деле? Человек ко мне всей душой, а я боком».
— Ну, а ты как, Григорий Степанович? Не слышно, чтобы тебя склоняли. Падеж большой?
— Да пока бог миловал. Ягнят несколько пропало.
«Пригласить домой, взять пол-литра! Катя надуется. Скажет — не предупредил, не приготовилась. Вечная история».
— А у тебя что, падеж?.
— Есть. Григорий Степанович, я не обедал. А ты?
— Да не мешало бы подзаправиться в дорогу. Трястись в седле долго.
— Так зайдем в чайную.
Когда сняли полушубки и шапки, Ковалев удивился: на Кузине новый костюм. Хотя материал грубоватый, но костюм приличный, сидит хорошо, если, конечно, не смотреть вниз — там отглаженные старухой брюки заправлены в сапоги. Но самое поразительное — галстук, темно-синий в светлую горошину, с чуть засалившимся от подбородка узлом. «Ну и ну! Выдает старик!»
Ковалев невольно осмотрел себя — брюки давным-давно забыли утюг, синий френч с глухим воротом замызгался. Опустился он, черт побери!
Сели за стол у окна, и Ковалев опять сделал открытие: Григорий Степанович, оказывается, не только побрит, но от него веет одеколоном, напоминающим запах свежего разнотравного сена.
Взяв заляпанный гарниром листок, Ковалев подумал: «Помолодился для райкома». Боится, чтобы на пенсию не отправили. Хотя такое не в его характере. Приспосабливаться не умеет».
— Что вы там разглядываете? — с сердцем спросила официантка. — Пшенный суп, котлета с пшенной кашей, пшенная каша отдельно. Ну, чай еще. Больше ничего… И нечего попусту глаза портить.
Ковалев ткнул пальцем в меню.
— А тут вот гуляш с картофельным пюре.
— Мало ли чего там написано! Вчера еще было.
— Проса не сеем, а пшенкой душат. Прохвост, ваш этот Гвоздин! — Кузин покрутил головой, точно галстук душил его.
— Гражданин, вы осторожней на поворотах!
— Ты не рявкай, а принеси две коклеты… Иль сколько закажем? И чаю.
— Подожди, Григорий Степанович, — посоветовал Ковалев.
— А чего годить? Не был тут и не приду больше.
— Спокойней. Я сейчас. — Ковалев встал, ища кого-то глазами, Кузину сказал: — Попробуем вступить в дипломатические переговоры.
Ковалев, всунув голову в раздаточное окно, поговорил с кем-то, затем нырнул в боковую дверь, оттуда прошел к буфету.
— Порядок. — Он вернулся к Кузину. — Шницели приготовят. Грибки есть. Водочки заказал.
— Это ты зря.
— Для встречи. По стопке.
— Бросил я это дело. Начисто!
— Со здоровьем плохо? На вид ничего.
— Время, брат, и железо ест.
Когда официантка поставила на стол грибы, а потом и маленький пузатый графинчик, Кузин потер ладони и крякнул.
— Ладно уж, за встречу. Только чтобы… — он показал глазами на графин, — первый и последний. А знаешь, мой Васятка осенью медведя ухлопал. Истина! Матерый медведище! Васятка со старенькой берданкой, а дружки его совсем без ничего, с палками. Вот ведь обормоты!
— Здорово! — восхитился Ковалев, все время думая: как Григорию Степановичу удалось миновать падеж? Возможно, он заливает, на пушку берет? — Да сколько ему лет, медвежатнику?
— В четвертом. Учиться, дьяволенок, никак не хочет. Снарядит его Анисья в школу, наказов всяких надает, а он как за порог — портфель в сено, а сам в тайгу. — Кузин рассмеялся, явно гордясь выходками приемыша. — Ну, давай! За встречу!
Поймав на вилку скользкий гриб, Кузин с хрустом прожевал его, потянулся за другим.
— Ничего, скусные. Конечно, не чета домашним, но есть можно, даже вполне. У моей старухи цветок имеется с такими пестрыми листьями. Забыл, как она его называет, бегония, что ли. Положишь листок этого цветка на влажную землю — через два-три дня корни из себя обязательно пустит. Вот и ты таким цепким оказался. А я, по совести сказать, полагал — до первого ветерка. Сорвет, думаю, и понесет как перекати-поле. Сколько их, всяких, приезжало! Счета нет…
Ковалев давно не пил, и теперь, после второй рюмки, чувствовал, как столичная, согревая его, перебирает каждую жилку. Он рассмеялся и сказал:
— Держусь пока.
— Молодец! Прямо скажу. — Кузин достал из кармана железную банку из-под зубного порошка, газету, свернутую по размеру цигарки, спички. — Пока твоего шмицеля дождешься…
Ковалев подумал, что Григория Степановича голыми руками не возьмешь — хитрый. И слова, он коверкает умышленно: дескать, видишь, какой я сиволапый, а в жизни разбираюсь.
— Сейчас принесут. Подожди курить. Вот «Беломор» Урицкого.
— Кашляю я от них… А помнишь шумиху с пшеницей? Ты тогда взял сторону Гвоздина, этого проходимца. Ведь держал?
Ковалев отвел глаза к окну, на котором сиротливо маячил горшок с полузасохшей геранью.
— Сам знаешь — новому человеку нелегко разобраться в обстановке. А я тогда только приехал. Думал, как кормовую базу создать. Ведь скот дох.
Открытое признание Геннадием Васильевичем своей прошлой ошибки понравилось Кузину, но он не преминул назидательно добавить:
— Не узнавши броду, говорят, не лезь в воду. А ты полез. Теперь, поди, не сказал бы такого. Знаешь, как наши соседи из Оймона осваивали горную целину? Трактора разбирали и лошадями наверх затаскивали. Комбайнов сколько побили. У них каждое зерно золотым стало. А ты хотел, чтобы и у нас так было.
— Не хотел… — буркнул Ковалев. — Говорю — о кормовой базе беспокоился.
Официантка принесла шницели. Около обжаренного куска мяса — ломтики картофеля, четвертушка дряблого соленого огурца, кругляшок поджаренного яйца. Все это Кузин рассматривал с любопытством и удивлением. Наклоняясь над тарелкой, жадно тянул в себя воздух.
— Ишь, подлые! Захотят, так сделают. А то пшенка… Эй, девка, чаю мне два стакана, да погуще!
А Ковалев между тем думал о том, что Григорий Степанович главного — как он хозяйствует на новом месте — не сказал, все вертит вокруг да около. Как вытащить из него это главное? А возможно, нет у него ничего за душой? Просто цену себе набить старик старается. Побрезговали, мол, тогда, а я вот каким оказался, получше вас, образованных.
— Раз уж такое дело — давай еще по стопке. Под шмицель. Я ведь в молодости крепким насчет этого был. Литру закину — и хоть бы что, ни в одном глазе, даже баба не заметит.
Когда съели шницель, официантка принесла крепкий чай. Кузин, весь розовый, кажется, помолодевший, прикоснулся к стакану.
— Горячий… Люблю горячий и чтоб густой. — И начал мастерить толстую самокрутку. — Кормовая база — для нас главное. Это ты правильно. Но и тут надо опять же с разбором. Скажи, кукуруза у тебя хорошо родит?
— Смотря какой год и где посеяна.
— Вот-вот… — горячо подхватил Кузин. — Где посеяно и что посеяно.
— Согласен, Григорий Степанович. Я вот как раз об этом и хотел говорить в райкоме. Условия наши особенные. У нас все или почти все зависит от сорта семян. А мы до сих пор кустарничаем. Садим, что придется. От нас пока требуют площади. Сей вот столько-то, и все!
Кузин слушал с затаенной ухмылкой. Создавалось впечатление — он знает что-то, но не говорит.
— Заболтались, а мне еще ехать да ехать, — спохватился он вдруг. — Эй, девка, получи, что причитается.
Когда вышли на просторное крыльцо чайной, солнце уже скатилось за редкий кедрач на горе. Его лучи, пробившись между стволами, румянили высокое блеклое небо с редкими клочьями легких облаков. Ветер, умаявшись за день, успокаивался.
— Ладно, до встречи. Конь тут у своих… — Кузин подал руку. — Слушай, приезжай ко мне. Ведь ни разу не был! Поглядишь, как мы там, темные. Не пожалеешь, ей-богу. Да, тебе силосу надо? Добрый, кукурузный. Могу одолжить, все одно останется. Только как ты его доставлять станешь?
— Было бы чего везти. — Ковалев враз оживился.
«Черт знает! Весна, каждый клок сена на счету, а у него силоса излишки. Или дурачит старик?»
— Так приедешь?
— Можно и приехать.
— Когда?
— Да на этих днях.
— Все, договорились. Поклон Марфе Сидоровне, Сенюшу, ну и всем остальным.
Глава пятая
Когда последний домишко, низенький и подслеповатый, отодвинулся за спину, Игорь вдавил ногой в сено вожжи, засунул руки в рукава пальто и лег, подперев плечом дощатый задок саней.
— Но-но, давай!
Саврасый мерин покосил на ездока глазом и пренебрежительно крутнул жидким хвостом, точно хотел сказать: «Ишь, указчик! Попробовал бы сам по такой дороге».
Дорога действительно была, как говорят, ни в санях, ни на телеге. Снега уже не было. Вместо него на обочинах и кое-где в ложбинах лежал лед, настолько черный, что отличить его от окружающей грязи можно было лишь по гулкому цокоту копыт Савраски.
Долина наливалась темнотой, и все вокруг чернело, становилось неразличимым. Мороз, набирая силу, застеклил лужицы, схватил хрусткой коркой землю. Игорь все глубже втягивал голову в поднятый воротник, зарывался в сено.
Слева замерцали редкие огоньки Шебавина. Вот взять повернуть коня — и туда… Войти и сказать: «Хватит в прятки играть. Давай начистоту». Олег Котов, наверно, так бы и поступил, а он не может, тянет резину.
В институте одно время он заставлял себя забыть Клаву. Может, только потому попытался завязать дружбу с Раей. Они вместе занимались в читальном зале, ходили в кино и театр. Побывал Игорь и дома у Раи. «Не то, совсем не то…» — все чаще ловил себя на мысли Игорь.
Всю прошлую зиму Олег Котов уговаривал его поехать на работу в свой степной район. Хлопая Игоря по плечу, Олег шутливо говорил: «Поехали! Я сделаю из тебя человека». Игорь соглашался, а когда дело дошло до распределения, попросился в Шебавинский совхоз. Старики потом обрадовались — благодарный сын тянется под родительское крылышко. А он вовсе не потому…
Возможно, он зря не поехал с Олегом? Он, слышно, разворачивает дела. Вот и в газете недавно писали о нем. Нет, он, Игорь, и здесь станет настоящим зоотехником. Непременно! Сегодня все было хорошо, если бы не чертяка бык. Рявкнул тигром. И главное — так неожиданно, что Игорь вздрогнул, попятился. Девушкам-дояркам только того и надо — захихикали. И даже управляющий снисходительно улыбнулся.
Савраска, предоставленный самому себе, спешил под крышу, в стойло. Сани закатывались, кренились, а Игорь, не отрывая взгляда от звезд, продолжал думать: «Колька, говорят, из армии пришел. Они там рядом, каждый день встречаются…» Сани с разгона влетели в грязь. Под полозьями захрустело, точно поджаренная корка, потом зачавкало, а через несколько секунд со скрипом заскребло, да так противно, что Игорь весь передернулся. А Савраска пыхтел, тужился, стараясь скорее достичь центральной усадьбы.
Услышав далекий лай собак, Игорь весь встряхнулся, точно хотел выгнать из себя зябкую дрожь. Сейчас он сдаст коня — и в столовую.
«Ох, Иваныч, умаял ты конягу. Вишь, в мыле весь, — непременно скажет ему конюх Аксеныч. Иначе старик не может. Бывает, что конь совсем не устал, весь сухой, но Аксеныч все равно сокрушается, с охами и вздохами трет коня жгутом сена.
Аксеныч крупен в кости, сутул и так зарос буйными цвета вара волосами, что виднеются лишь глаза. Почти весь зрачок левого глаза закрывает пленка бельма, но правый хотя и линялый, а бойкий, светится будто уголек в золе. Зимой и летом на Аксеныче кожух. Он так обшарпан, замызган, что невольно появляется мысль: «Кто из них старше, кожух или его владелец?»
Недавно из случайного разговора со старухой уборщицей конторы Игорь узнал, что у Аксеныча два сына, «люди степенные, самостоятельные». По их настоянию Аксеныч лет пять назад ушел на пенсию, но вскоре вернулся на конюшню. Днюет и ночует там.
Игорь не ошибся — с дедом произошло все почти так, как он и думал, только к привычным уже словам дед, хлопоча около коня, добавил:
— Говорил — в седле. Теперь самый раз верхи.
Игорь молча вышел из освещенной конюшни. В темноте споткнулся о что-то, кажется, об оглобли саней, больно зашиб ногу. «Верхи!.. — озлобленный, передразнил он Аксеныча. — Знает, наверное, что не могу, потому и долбит. Питекантроп!»
Когда они были на последней практике в совхозе, Олег предложил съездить верхом на отделение. Сам он ловко вскочил на коня и оттуда поторапливал Игоря: «Давай, давай! Да не с этой стороны. Слева надо!» Игорь и слева не мог прыгнуть на невысокого полусонного мерина. Он подвел коня к пню. Пока сам взбирался на пень, конь, соблазнясь травой, отошел. Олег хохотал до слез.
«Надо научиться, — думал Игорь, шагая в темноте к чайной. — Уведу коня за усадьбу и там научусь. Обязательно!»
Жизнь иногда преподносит такие сюрпризы, что только ахнешь…
Игорь ждал, когда подадут глазунью и пирожки. В небольшом квадратном зале было тепло и, пожалуй, уютно, если бы не проезжие шоферы. Заняв весь передний угол, они, чумазые, в лоснящейся одежде, «заправлялись» так энергично, что стоял невообразимый гвалт. Официантка несколько раз пыталась урезонить их, но они сводили все к шуткам и продолжали свое.
— Да посмотрите, что со скатертью сделали!
— Э, дорогуша, мы вот всю дорогу в мазуте, а ничего, и жены не обижаются, и на стороне, случается, ухватываем.
Официантка отступилась, и сейчас же до Игоря долетели крепкие соленые слова. Игорь сжал тонкие губы, опустил голову. Его взгляд упал на чешские ботинки. Будто они и не его. Под грязью не видно даже крупных блестящих застежек. За отворотами узких брюк тоже грязь. И всюду сенная труха нацеплялась. Игорь подумал о том, что в распутицу здесь все ходят в сапогах. Хорошо, пожалуй, то, что удобно. И ему надо сапоги. И брюки толстые, чтобы не продувало.
После приятного совмещения обеда с ужином Игорь почувствовал, что мороз окончательно расстался с его телом. Настроение улучшилось. Он с наслаждением затянулся сигаретой, отхлебнул крепкого горячего чая.
— Давайте выметайтесь! — кричит на шоферов Тамара. — Рассчитывайтесь и уезжайте! Закрываем. Налижутся, а потом аварии всякие. Людей гробят, сами садятся.
— Тамара, — позвал Игорь.
Она подошла, вынула из кармана передника блокнот. Алая краска на губах слиняла, лицо серое, завялое.
— Да нет, я не рассчитываться. Чаю бы еще. Да присядь, потом… Устала?
— Знаете, как за день тут натолчешься? Ног не чуешь.
«Действительно, — участливо подумал Игорь, — а мне вот и в голову не приходило, что тут трудно. Я не выдержал бы. Возись со всякими…»
— А может, молока?
— Нет, лучше чаю.
— И когда они только уберутся! Надоели, как черти. — Тамара сунула в карман блокнот и сипловато прикрикнула: — Сколько раз говорить? Выдворяйтесь! Жены, поди, заждались.
За последнюю фразу моментально зацепился молодой одутловатый парень — сказал на цыганский манер:
— А я, красавица, одинок. Никогошеньки. Может, совсем притормозить, пожалеешь сироту?
— Все вы, окаянные, на один аршин — как за ворота, так и сирота! — крикнула из-за стойки пожилая буфетчица. — Мой вот тоже…
Шоферы наконец расплатились и гурьбой вывалились из чайной. Игорь прикинул в уме, сколько с него причитается.
— Закрывай, а то будут лезть на огонь, — сказала буфетчица. — Без четверти десять.
Игорь внезапно почувствовал, что ему захотелось спать, даже глаза слипаются. Вот если бы, не выходя в холодную темноту, очутиться в своей маленькой комнатке, вытянуться на постели, уперев ноги в натопленную тетей Машей печку. Обычно Игорь в постели просматривает газеты, читает «Юность» или «Иностранную литературу», но сегодня он, конечно, сразу уснет.
Он отдал деньги и пошел. И тут, у самых дверей, когда всем его телом владело одно-единственное, казалось, необоримое желание — спать, жизнь подложила ему такой сюрприз, от которого потом судьба Игоря чуть не повернулась на сто восемьдесят градусов. Он, кивнув на прощание Тамаре, отодвинул железный засов, но дверь открыть не успел — она широко распахнулась. Из темноты вынырнула на порог девушка.
— Закрыто! — вскинулась с отчаянием Тамара. Она хотела добавить еще что-то, но почему-то не добавила. Возможно, ее остановила необычно модная для далекого горного совхоза одежда запоздалой посетительницы.
— Надеюсь — ничего не случится, если я возьму сигарет! — не спрашивая, а утверждая, сказала посетительница. Задев Игоря плечом, она как ни в чем не бывало решительно прошла к буфету.
Игорь возмутился. Вот нахалка! Он, провожая взглядом незнакомку, старался найти в ней хоть какой-нибудь изъян. Шляпа здорово смахивает на немецкую каску… Короткая, не доходящая до колен дошка. Цвет шляпы и дошки такой, который не поддается определению. О нем обычно говорят: серо-буро-малиновый. Несмотря на холод и грязь, незнакомка самоотверженно держит фасон — капроновые чулки без единой морщинки впаялись в полные точеные ножки в черных, кажется, замшевых туфлях.
Игорь вынужден был отметить, что нахалка умеет демонстрировать свои прелести. Впрочем, ущемленное самолюбие сейчас же дало о себе знать, и он подумал о том, что дерьмо, завернутое в красивую обертку, можно принять за конфетку. Много тут всяких наведывается! Наверное, жена какого-нибудь богатого старика, прикатила похвастаться перед подругами нарядами.
— «Друг» есть? Две пачки.
Что за наваждение? Он слышал этот голос. Да, и не раз слышал. Несомненно… Кто же она, черт возьми?
Он наблюдал, как «нахалка» положила в круглую, похожую на колесо сумку сигареты, маленький на застежке-«молнии» кошелек и направилась к выходу. Белое, с щедрым усердием напудренное лицо ничего ему не сказало. А вот в кругловатых глазах было что-то знакомое. И с каждым шагом «нахалки» этого знакомого становилось все больше и больше. И она, кажется, признает его. Об этом сигнализируют ее брови, тонко выщипанные и начерненные. Они напряглись, потом, радостно встрепенулись.
— Игорь!
— Нина! — выдохнул Игорь.
Какое-то мгновение они жадно смотрели друг другу в глаза, потом Игорь стиснул ее свободную от сумки руку, а она чмокнула его в щеку. Заговорили сначала растерянно, потом наперебой, совсем не думая о том, что существуют очень любопытные, как все женщины, Тамара и буфетчица.
— Удивительно! Вот уж не думала…
— Я тоже не думал. — Игорь непроизвольно тер поцелованное Ниной место на щеке, точно та обожгла его своими лиловыми губами.
Первые трудности и неудачи самостоятельной жизни уже не раз вызывали у Игоря воспоминания школьных лет. То было счастливое время! Счастливое в основном потому, что тогда ему было восемнадцать, а не двадцать четыре, как теперь. Двадцать четыре тоже, конечно, немного, но тогда ему не требовалось ломать голову над тем, как поднять надои молока или увеличить привесы молодняка.
Он, весь сияющий, смотрел на Нину и думал о том, что все это напоминает чудесное волшебство. Да, это не анахронизм, волшебство есть и теперь, в век ракет и атомной энергии. Вот зашла, сбросила с него шесть лет, завела в класс. Игорь совсем забыл, что тогда в школе не принимал всерьез Нину, считал ее пустой, лишенной всяких способностей.
— Не пойму, как ты тут оказался? Такая яма…
— Прошу не оскорблять мои патриотические чувства. Я прописан здесь. И, кажется, надолго. Минимум на два года.
Нина с досады притопнула тонким каблучком.
— Какая же я недогадливая! Ты окончил институт?
— Конечно!
— И трудишься под началом моего старика?
— Тебе нельзя отказать в догадливости.
Нина сложила губы трубочкой так, что за лиловой каймой обнажилась бледная полоска.
— Не завидую.
— Теперь догадливость, переросла в новое качество — проницательность.
Они расхохотались. У Игоря по-новому, со сладким нытьем билось сердце, и то ли от водки, то ли еще от чего он почувствовал себя совсем опьяневшим. Приятно кружилась голова, и все казалось простым и доступным.
— Что ж мы стоим?
— Действительно!.. Пошли! Закрывайтесь! — сказал Игорь так, будто взлетел на крыльях.
Тамара сердито ударила ладонью по дверной задвижке.
— Директорова дочка, что ли?
— Похоже, — согласилась буфетчица, давно заметившая, что Тамара неравнодушна к Игорю.
— То-то он заюлил. Вон как выпялилась! Доведись мне — так даже стыдно.
— А она стыд потеряла. Я сразу поняла, у меня глаз наметанный. Вот поверь моему слову — опутает его.
— Ну и пусть! Жалко, что ли! Давайте закрывать. Каждый раз до полночи. Даже в клуб не сходишь.
— Выкинь ты все это из головы, — участливо посоветовала буфетчица. — Не по себе дерево рубишь.
— А я ничего не рублю. С чего вы взяли? — в отчаянии вскрикнула Тамара. Она вдруг присела, ткнулась в подол фартука.
Глава шестая
Валерий Сергеевич никак не мог примириться с тем, что тело его приобрело огромную тяжесть, стало непослушным. Всех его усилий едва хватило на то, чтобы чуть-чуть приподняться на высоких подушках или повернуться. У него стало появляться нелепое ощущение: он и его тело — не одно и то же. Наверное, вот так когда-то у людей появилась мысль о самостоятельности души.
В доме нудная тишина. Леночка в школе, мать хлопочет на кухне. Валерий Сергеевич не без труда достал из-под подушки «Казбек» и, опасливо косясь на дверь, закурил, но удовольствия, которое получал от курения здоровым, не было. После двух-трех легких затяжек стало подташнивать, и он погасил папиросу. Несколько секунд думал, куда спрятать окурок, чтобы его не заметили. Бросил подальше под кровать: если и заметят, то не сразу.
Вторую неделю Валерий Сергеевич лежит пластом. Микроинфаркт. Случилось это в кабинете, на работе. У него вдруг закружилась голова и стало душно. Ок помнит, как с трудом встал с кресла и как с трудом пошел к окну, чтобы открыть форточку. А больше ничего не помнит.
Сознание вернулось уже дома, в постели. Он не сразу понял, что женщина в белом — это Татьяна Власьевна.
За дверью в коридоре задребезжал телефонный звонок. Валерию Сергеевичу очень хотелось узнать, как там без него все идет. Сумасшедшая весна!..
— Ну, Хвоева… — донеслось из коридора. — И чего это вы, мои матушки, покою не даете? Хворый он, болеет. Докторша строго-настрого наказала, чтобы лежал и ни о чем не думал. И нечего донимать, раз сердце не выдюживает.
Валерий Сергеевич недовольно крякнул, а Карповна, повесив трубку, говорит уже сама с собой:
— Пристают и пристают.
Едва мать переступила порог, Валерий Сергеевич спросил:
— Кто там?
Карловна, сухая, сгорбленная, шумно втянула в себя воздух, сердито дернула под подбородком концы платка.
— Курил?
— Да нет… Кто звонил?
— Чего же нет, когда курил. Не чую, что ли? И чего только ты думаешь, Валерий? Ведь Татьяна Власьевна наказала, чтобы ни в коем разе… Себя не жалеешь, так о нас подумай. Мне ведь на восьмой десяток пошло.
— Ладно, ладно, мама, — виновато и сердито пробормотал Хвоев.
— Да не ладно… Ее вон хоть постеснялся бы, — старуха ткнула пальцем в сторону портрета Вареньки.
Валерий Сергеевич, хмурясь, достал из-под подушки папиросы.
— На, возьми…
— Давно бы так. — Мать ушла, окрыленная победой.
Валерий Сергеевич повернулся к Вареньке. Она с легкой усмешкой смотрела так, будто хотела сказать: «Не киснуть, Валерий! Все будет хорошо».
Скоро семь лет, как нет Вареньки… Срок немалый. Он за это время располнел, появилась постоянная тяжесть в желудке, сдало сердце. А вот Варенька какой была, такой и осталась. Выходит, у тех, кто умирает безвременно, есть свое преимущество: в памяти близких они навсегда остаются молодыми. Да, Варенька была его совестью. Тогда он не видел у себя недостатка инициативы или принципиальности. А теперь не только он сам, но и другие замечают его упущения. Да и принципиальности не всегда хватает. Вот Гвоздин может закон переступить, повернуть его так, как захочется. Валерий Сергеевич давно это знает. Но знает и другое: Гвоздин будет ужом крутиться, но план выполнит. А тот, другой, который заменит Гвоздина, возможно, будет честным, но дефицитных товаров не достанет и плана не выполнит. Вот и приходится лавировать между принципиальностью и выгодой, целесообразностью. При жизни Вареньки такого никогда не случалось. Тогда за подобное лавирование он требовал строгого наказания, а теперь сам стал лавировать.
Занятый своими мыслями, Валерий Сергеевич нет-нет да и посмотрит на большие настенные часы. Скоро два, а Леночки все нет. В школе, что ли, задержалась? Заигралась по дороге домой или зашла к подруге? Несмышленыш… Ей нет никакого дела до того, что своим присутствием она избавляет его от одиночества. Да, одиночество само по себе тягостно, а в старости и болезнях оно становится мучительным.
«Скоро Татьяна Власьевна нагрянет», — подумал он, стараясь отвлечься от мрачных мыслей. Она приходит ровно в три, как автомат. Вчера во время боя часов она уже разговаривала в прихожей с Леночкой. Интересно, Татьяна Власьевна всегда и всюду такая щепетильно аккуратная или только с ним? Похоже, что всегда и всюду. Да, одиночество — это не только, когда человек один. Вот Татьяна Власьевна…
Вчера они поговорили откровенно. С ней приятно разговаривать, и вся она напоминает спокойную осень, когда увядание настолько замедленно, настолько оно растворилось в еще не угасших красках, что кажется, его совсем нет. В это время выпадают приятно обманные дни. Вопреки здравому смыслу они заставляют думать, что осень еще не пришла, что в разгаре еще жаркое лето.
— Извините, Татьяна Власьевна, — сказал он вчера, — я ничего не пойму в вашей жизни. Большинство людей с годами становятся примирительными, а у вас, кажется, не так, — он, смущаясь, сердился на себя за то, что не может ладно сказать того, что хочет. — Ну что это за жизнь? Вы здесь, он там. Дочери нет…
— Жизнь неважная, — спокойно согласилась Татьяна Власьевна. — И понять ее со стороны непросто. — Помните, как сказано в «Анне Карениной»? «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».
Валерий Сергеевич утвердительно кивнул, точно хотел сказать: «Помню. Как не помнить?»
— Некоторые ищут иногда противоречия там, где их нет. И несчастья иногда сами придумывают. Но такое случается в молодости. А теперь, когда больше четырех десятков за плечами…
Татьяна Власьевна улыбнулась слегка подкрашенными, очевидно, по привычке, губами, отрицательно качнула головой с короной еще толстых и тяжелых кос.
— Нет, Валерий Сергеевич, я ничего не ищу и ничего не придумываю. Я не могу без больницы. Вот поэтому не поехала с Петром Фомичом.
— В совхозе есть больница.
— Участковая. Для меня это… как вам сказать. Допустим, училась я в седьмом классе, а потом перевели в четвертый. Ведь неинтересно? Вчера была трудная операция. Спасли человека. Вот в этом смысл и радость моей жизни. И еще одна причина, почему я не поехала, в совхоз: я не верю, что Петр Фомич справится там.
Валерий Сергеевич возразил, сказал, что Петр Фомич старается. По ее лицу он понял, что Татьяна Власьевна отнеслась к его словам с сомнением. «Она привыкла не верить мужу, — думал теперь Валерий Сергеевич. — А надо, чтобы поверила. Тогда исчезнут все противоречия. Да, все происходит от неверия человеку… А Грачев в самом деле старается. Понял, что оказался на краю, также, как и Кузин тогда… Да, но стараться — одно, а уметь — совсем другое. Кузин иного склада».
— Я в лавку, — сказала мать, — сахару надо и лапши. И Леночку поищу. Запропастилась девчонка.
— Леночка никуда не денется. А вот в райком заверни. Скажи там, чтоб кто-нибудь зашел.
Карповна сердито взмахнула емкой хозяйственной сумкой.
— Ты, мои матушки, как маленький. Право слово… Гнешь свое, да и только.
— Пойми, мать, я не бревно! Вот попробуй ляг суток на двое, тогда уяснишь. Человек делом живет.
— Ладно, ладно, зайду, — поспешно согласилась мать, видя, что сын порозовел ют волнения. — Я скоро.
Оставшись один, Валерий Сергеевич сосредоточенно смотрел на свои руки, лежавшие поверх одеяла. Пошевелил пальцами. Чуть отекшие, они казались короткими и чужими. Вот эти десять неказистых на вид пальцев человека творят чудеса. Они создают сложнейшие электронные машины, извлекают из струн чудеснейшие мелодии, посылают в космос ракеты. Одно только не могут — сделать более прочным, долговечным самого творца всего этого. Как бы ни была сильна медицина, ей многого еще не хватает. Да, человек все движет, все открывает, а сам по-прежнему остается слабым и беззащитным, подверженным тысячам всяких болезней, и жизнь его по-прежнему до обидного коротка.
Подаренная нам природой жизнь — единственная у нас и неповторимая. И человек рожден для земных дел. Жить надо так, чтобы оставить свой след, оставить людям память по этим вот рукам.
Валерий Сергеевич иронически хмыкнул. Прямо скажем: не очень оригинальные мысли. Разве до этого он жил не с такой же целью? Правда, были времена, когда сделанное им по указанию других было ненужным, а порой вредным. Но теперь уже многое поправилось и все поправляется… Конечно, сделано еще до обидного мало. Вот тогда проявили настойчивость с «горной целиной», избежали напрасной затраты средств и энергии. Проблему кормов требуется иначе решать. Ох, сколько тут работы! Надо ермиловский сорт двигать. Скороспелые сорта, как ничто, помогут нам вырваться из прорыва…
Возня в коридоре, а затем громкий хлопок тугой дверью вспугнули мысли Валерия Сергеевича.
— Здорово были! — раздалось в прихожей. — Карповна, что молчишь? Аль нет никого?
По хриплому, простуженному голосу Валерий Сергеевич узнал Кузина.
— Григорий Степанович! Проходи сюда. Один я.
Для больного, лежащего в постели, каждый человек — радость.
Кузину же Валерий Сергеевич обрадовался вдвойне. Раз уж он приехал в райцентр, то побывал, конечно, в райкоме, райисполкоме, встречался с председателями, в общем, как говорят лекторы районного масштаба, в курсе последних событий. К тому же для Валерия Сергеевича Кузин — не только председатель, но и человек, в судьбе которого он принимал и принимает горячее участие. И Кузин, очевидно, понимает и ценит это. Вот пришел, счел своим долгом навестить.
Кузин открыл дверь в комнату и, осторожно и необыкновенно высоко подымая обмерзлые сапоги, подошел к кровати.
— Лежишь?
— Да вот приходится… Садись, Григорий Степанович. Как это ты заглянул?
— А почему я не должен? Плохо ты обо мне думаешь, Валерий Сергеевич. Даже обидно.
Валерий Сергеевич смущенно хмыкнул, а Кузин справился, почему он один в доме, и, взяв от стены стул, сел, пригладил ладонью редкие волосы около ушей и на затылке, потом, спохватись, достал из нагрудного кармана пиджака коротенькую расческу в футляре.
— Сердце, значит?.. — Кузин дунул на расческу и вложил ее в футляр.
— Сердце, Степаныч.
— Да… А я, значит, со вчерашнего дня тут околачиваюсь. Побыл в райкоме. Ковалева встретил. Пообедали с ним, и домой навострился. Э, думаю, негоже, чтобы больного не проведать.
Хвоеву не терпелось узнать новости.
— Как там, Степаныч? Ковалев что говорит? Плохо у него?
— Да нет, не жаловался. Я вот насчет семян хотел.
— Подожди, Григорий Степанович. Чуть легче станет — приеду. Разберемся… Как Ермилов?
— А что, Валерий Сергеевич, я вот чем больше к нему приглядываюсь, тем больше диву даюсь. Такие чудаки очень нужны для жизни. Без них просто невозможно. В любом деле они незаменимы. Вот мой Ермилов не только там что — о еде забывает. Иной раз жалко смотреть — еле ноги волочит. Спрашиваю: «Обедал?» Он глядит на меня и молчит. А по глазам видно — мысли его далеко, чего-то додумывает. Я свое твержу: «Сергей, ты ел или не ел сегодня? Ведь уж вечер». А он так сердито: «Не знаю, не помню! Да и не в этом суть». Затащу его к себе, подморгну старухе. Та что есть в печке — все на стол мечет: А он то книгу с этажерки схватит, то в блокнот что-то пишет. Вскоре после твоего последнего приезда перевел его на другую квартиру. К бабенке пристроил. Разведенка, молодая, смачная. Мальчишка у нее лет двух. Думаю, пригреется… Да где там! Бабенка как-то даже обиду выразила. Подсунул, говорит, какое-то чучело, никаких чувств нет в нем.
Хвоев заулыбался.
— Холостой выстрел получился?
— Холостой… — Кузин хохотнул, хлопнул ладонью себе по колену. — А все одно, Валерий Сергеевич, оженю, чтобы он осел у нас насовсем.
Улыбка сошла с губ Хвоева.
— Это хорошо, Степаныч, что ты так. О таких людях надо заботиться.
Кузин смущенно крутнул головой и подумал: «Ишь как подъезжает… Будешь заботиться, если нагонял за него. Оно следовало, конешно».
— Только ты, Степаныч, не перехлестни. Племя одержимых бесхитростное. Значит, и с ними надо без хитростей. А то напялишь на человека такой хомут… Время придет — он сам найдет себе пару. Жена ведь — это не только обед или ужин.
— Нет, Валерий Сергеевич, я аккуратно, с разбором. А самому ему ни в какую не ожениться, право слово… Если бы вот Клавку, Марфы Сидоровны дочку. Очень подошла бы. — Кузин засунул руку в карман пиджака, чтобы достать банку с махоркой, но покосился на Валерия Сергеевича и не достал.
— Я вот Ковалева в гости к себе позвал, силоса хочу немножко одолжить ему.
— Силоса? — от удивления Хвоев приподнялся на локте. — Откуда у тебя лишний силос?
Кузин замялся, опустил глаза.
— Да не то чтобы лишний, но поделюсь.
— Ох, Степаныч, Степаныч! — Хвоев с шутливой укоризной покачал головой. — Много в тебе мужицкой хитрости.
— Да как на собаке блох! На то он, Валерий Сергеевич, и человек, чтобы ум и хитрость иметь. Зверь вон, лиса, к примеру, и та не лишена хитрости. Иль медведь…
— А вот если бы райком предложил… ведь заартачился бы. Сказал бы — нет.
— Может, и заартачился бы, — согласился Кузин.
Он глянул на стенные часы и встал, переступил, как гусак, с ноги на ногу, зашел за стул, положил на спинку руки, большие, с толстыми грубыми пальцами.
— Пора мне, Сергеевич. Ехать не ближний свет. Поправляйся поскорей. Мед не пробовал? Польза от него всему организму. И сердцу, и желудку — всему. А что тебе врачи? Врачи, они тоже… Раньше всякие народные средства начисто отметали. Дескать, темнота, суеверие, а мы по науке. А не поймут того, что еще до науки люди от болезней себя избавляли. Нет, ты попробуй мед. Значит, три раза в день по столовой ложке. Перед едой. Пропустишь ложку и водой запьешь. Не бойся, вреда не случится, а польза определенная. Мед-то есть?
— Да не знаю. Нет — мать купит.
— Это конечно… Лучше майского сбора. Полезней.
Кузин опять переступил с ноги на ногу, растаптывая небольшую лужицу, набежавшую с оттаявших сапог. Он чувствовал себя неловко. Дело в том, что утром, переночевав у знакомых, он спозаранку купил на базаре бидончик меду, душистого, янтарного цвета. И теперь этот бидончик в прихожей, под табуреткой. Григорий Степанович принес его с чистым сердцем, единственно для того, чтобы помочь человеку, сделать ему приятное. Но так ли поймет Валерий Сергеевич? Хуже нет, когда на неравной ноге. Вот и ломай голову, подлаживайся… Даже нес его сюда с опаской. Нет, лучше, пожалуй, умолчать. Лучше с Карповной вступить в переговоры, не забыть сказать, чтобы бидончик потом занесла.
— Так я пошел, Валерий Сергеевич. Выздоравливай.
Когда Кузин был уже в прихожей, Валерий Сергеевич окликнул его:
— Степаныч, если увидишь Ковалева, скажи — пусть он едет к тебе вместе с зоотехником Клавой. Ей полезно познакомиться поближе с Ермиловым. Только не подумай, что я сводничаю, помогаю тебе.
— Да нет, что ты, Валерий Сергеевич, — обиделся Кузин, — нешто я не понимаю, для чего это.
— Степаныч, а ведь ты не только хитрый, но и загребущий. Будь твоя воля — ты эту Клаву забрал бы, а? Скажи честно!
Кузин бросил в сторону Хвоева косой взгляд, польщенно заулыбался.
— А чего ж тут таиться? Была такая думка. У меня зоотехник неплохой, но из городских. Деревни до этого, можно сказать, в глаза не видал. У таких, городских, обязательно разлад душевный происходит. И они долго потом никак не могут привести все к одному уровню.
Хвоев, заинтересовавшись, снова, опираясь на локти, приподнял голову над подушкой, а Кузин, несколько важничая, коснулся пальцем узла галстука и продолжал:
— Вот по лекциям там и учебникам изучит он всю, какая ни на есть, механизацию, набьет руку в составлении рационов, в подсчете кормовых единиц, ну и тому подобное. А как приедет на место, там не только что механизация или рационы — над коровником вместо крыши облака лохматые. Вот тут и начинается душевный разлад. Некоторые приобвыкнутся, войдут в русло, а некоторые, послабее, в город опять. Устраиваются там продавцами или официантами. У Клавы же ничего этого не может быть. Она наша, всякое видела и все понимает. И с людьми должна уметь ладить. Это тоже большое дело, можно сказать — главное. И ей у меня вольготней было бы. Есть где развернуться. А у Ковалева что? Кругом нехватки да недостатки.
Валерий Сергеевич хмыкнул и заулыбался глазами. Он прекрасно пенял, что Кузин, вольно или невольно, старается вознестись над Ковалевым и как-то укорить его, Хвоева. Дескать, мне тогда предпочли Ковалева, а он хотя с высшим образованием, зоотехник, но сделал не так уж много. Да, это так, конечно. Только нельзя равнять «Кызыл Черю» с «Восходом». И потом… Хотя зачем это? Пусть старик себя тешит.
— Валерий Сергеевич, мне думается, пора Ермилова выводить на широкую дорогу.
— Выведем, Степаныч.
— Пора. Ведь у него голова в своем деле не хуже министерской. Ей-богу! Сейчас маракует над какой-то новой системой земледелия.
— Знаю, — кивнул Хвоев.
— С институтом переписывается. Там его поддерживают. Ну, я пошел. Выздоравливай — и к нам.
Кузин ушел, а Валерий Сергеевич лежал с улыбкой на слегка привядших от болезни губах. В сердце, кажется, больше прежнего ощущалась покалывающая боль, но сейчас он старался не придавать ей значения. Он думал:
«А Григорий Степанович самобытен. Каждый раз в нем находишь что-нибудь новое. Это, наверное, и есть богатство натуры. Ведь совсем малограмотный, класса четыре, пожалуй, не больше. Иной же университетский значок носит, а сам нуднее самой нудной инструкции».
Валерию Сергеевичу стало досадно. Лежит он пластом, а столько дел неотложных. Вот надо вплотную заняться Грачевым, кукурузой Ермилова. И еще десятки и сотни вопросов. И от того, как будут решены эти политические, организационные, хозяйственные вопросы, зависит судьба тысяч людей, их материальная и духовная жизнь, их вера в себя и в партию. Да, а он, забыв обо всем, мелочно копается в своем прошлом, сожалеет и киснет. Дошел, что называется!..
Глава седьмая
У Игоря началась новая полоса жизни, угарная и во многом непонятная. Забросив все дела, он целыми днями отсиживался в конторе, копался для видимости в каких-то бумагах, а сам всем существом своим нетерпеливо ждал вечера, когда он встретится с Ниной.
Эти встречи порождали массу непривычных для него чувств и мыслей, которые часто сталкивались между собой, противоречили друг другу.
В тот первый вечер Игорь проводил Нину до дома. Они долго болтали около калитки. Игорь прибежал в свою комнатку вконец окоченевший и взбудораженный. Вместо того чтобы лечь в постель и согреться, он сновал в громыхающих, точно деревянных, ботинках по комнате, дул на ладони, прислонял их к теплой печке. Потом, присев на кровать, расстегнул и сбросил ботинки, схватился за пальцы. Ух, дьявольщина! Даже сквозь шерстяные носки чувствуется лед. А с Ниной поболтать одно удовольствие. И одеваться умеет.
Вот тогда, в чайной, он чувствовал себя смертельно усталым и время от времени встряхивал головой, чтобы не заснуть на стуле. А как только они вышли на улицу, Нина будто нечаянно коснулась его плечом и глянула ему в лицо. Глянула так, как умеет это делать только, наверное, она одна. При неверном свете прорвавшейся сквозь облака луны Игорь заметил в глазах Нины по-шальному прыгающие искры. И тут же он близко почувствовал ее дыхание, смешанное с дурманящим ароматом тонких духов. И от всего этого Игоря пронизало с головы до пят чем-то похожим на электрический ток. Сонной усталости как не бывало, а то, похожее, на электрический ток, весь вечер бродило в нем, подобно молодому вину.
Когда они стояли около ее дома, Игорь спросил:
— Завтра встретимся?
— Хи-хи, а разве есть необходимость? — в свою очередь спросила Нина.
— Что за вопрос? — Игорю вдруг захотелось ее поцеловать в губы. — Посмотри мне в глаза.
— Хи-хи… Дипломат… Пожалуйста…
Расчет Игоря не оправдался — в последний момент Нина отвернулась, и он впился губами в ее щеку и, дрожа, весь загорелся от того внутреннего тока.
— Приходи в клуб. В восемь. Придешь?
Она, немного поломавшись, согласилась.
Назавтра, встретясь в фойе клуба, они не остались в кино. Игорь, не поинтересовавшись даже афишей, сказал, что картина старая, чепуховая, и они пошли, не зная куда, но лишь бы подальше от света и людей.
— Слушай, мы так и не поговорили как следует. — Нина прижалась к Игорю. — Как ты чувствуешь себя в должности зоотехника?
— Ничего.
— Нет, я серьезно.
— И я серьезно. Стараюсь стать настоящим специалистом. И не так это просто. Я же городской… А диплом — это только диплом.
— А ты слышал? — Нина слегка подтолкнула Игоря в бок: — У Клавы с Колькой все идет к свадьбе.
— Да?.. Ну что же… — Игорь старался говорить как можно безразличней, хотя в душе эта новость отдалась болью.
— Тебе все равно? — Нине очень хотелось посмотреть Игорю в лицо, но было темно. — Тебя не касается?
— Абсолютно.
— Ой, брось! Ты и зоотехником из-за нее стал. Думаешь — не знаю.
— Дела давно минувших дней. — Игорь, как бы в отместку, спросил: — А как у тебя с Ивановым?
Нина опустила голову и долго молчала.
— Ошибка молодости, Игорь. По глупости все.
Они остановились за углом дома. Игорь обнял Нину. Она хотела что-то сказать, но Игорь закрыл своими губами ей рот. Целовал страстно, с каким-то мстительным чувством, целовал в щеки, в нос, во влажные солоноватые глаза. Запрокинув голову на его руке, Нина, не открывая глаз, сказала между поцелуями с мягким укором:
— Глупенький… Я тогда из-за тебя… Не хотел замечать… А я назло…
Игорь, весь взволнованный, мельком подумал о том, что Нина прежде, кажется, в самом деле увлекалась им. И легко поверил ей.
Утром Игорь сел за свой стол в неуютной комнате, громко называемой кабинетом главного зоотехника. Задумался. С чего начинать день? Давно надо было съездить на третье отделение. Телята там дохнут. Но далеко… И погода отвратительная. Да и как ехать? Бородач опять скажет: «Верхи надоть». Но тут нельзя уже больше отсиживаться. Петр Фомич обязательно доберется. Лучше, пожалуй, поехать. К вечеру успеет вернуться. Сейчас он позвонит главному ветврачу и уговорит его поехать вместе на телеге. Игорь только коснулся трубки, как телефон сердито брякнул и залился долго и требовательно. Игорь мгновенно отдернул руку. Влип, черт возьми! Не успел убраться!
— Гвоздин?
— Да, Петр Фомич.
— Чего же молчишь? Зайди!
— Хорошо, Петр Фомич.
Он слышал, как там, в большом, отделанном с немалыми затратами кабинете Петра Фомича, упала на рычаги трубка, а свою он держал в руке и смотрел на нее так, будто мог узнать от нее причину вызова.
Еще в приемной Игорь услышал сквозь обитую дерматином дверь голос Петра Фомича. Он напоминал приближающиеся раскаты грома, и в комнате было мрачно, как перед грозой. Настороженная секретарь-машинистка регистрировала почту. Двое рабочих, ожидая очереди на прием, переглянулись. Один из них, в грязном дождевике, многозначительно подмигнул второму.
— Спустил барбоса…
Игорь, набравшись решимости, открыл дверь, и басовитый голос директора, подобно освобожденной птице, вырвался в приемную, полетел по коридору.
— Ты мне свои порядки не устанавливай! (Он всем, кто ниже его по должности, говорил «ты».) Со своим уставом в мой монастырь не лезь! Ишь, нашелся указчик! Иди! Иди, я сказал! Рационализатор! Делай, что говорят!
За порог кто-то выскочил так быстро, что Игорь даже не разглядел, кто это.
— Ну, а ты что, в прятки играешь? — с хода переключился на Игоря директор.
— То есть как в прятки, Петр Фомич? — Игорь весь порозовел от смущения.
— А вот так!.. На первом был? Был. Что там? Почему не доложил? Ведь не на прогулку ездил?
— Да, собственно… — Розовая краска на щеках Игоря мгновенно сгустилась, захватила уши, шею. — Грязно у них…
— Где грязно? На улицах, что ли?
— Зачем? В коровнике.
— Там вечно так! Ну, а ты что? Полюбовался и укатил? Надо было за бока эту… как ее? Воронову. Сидит там, зоотехник!
— Она, Петр Фомич, в декретном.
— Угораздило! Будто нарочно подгадывают.
— Я, Петр Фомич, поговорил с управляющим. Довольно серьезно. Обратил внимание на все непорядки.
— «Обратил внимание!» Да разве так с ними надо? Слова для них, что горох об стенку. Рублем надо бить, рублем! Загрязненность молока определил? Нет! Так зачем же, спрашивается, тебя туда носило?
Петр Фомич вдруг смолк, точно с разлета наскочил на непреодолимое препятствие. Отвернулся к окну.
— Ты, Игорь Иванович, извини, — сказал он мягко и даже виновато. — Да что стоишь? Садись. Вот пойдет с утра кутерьма…
Игорь, пораженный такой резкой переменой в директоре, осторожно присел в кресло.
— Ты ведь, кажется, куришь? Вот, пожалуйста, — Петр Фомич достал из ящика стола пачку «Казбека», открыл ее. — Тебе, Игорь Иванович, надо энергичней, смелей действовать. И не бойся никого. Пусть они тебя боятся. Ведь ты главный. Понимаешь — главный!
Директор говорит и смотрит на Игоря. Смотрит так, как никогда до этого не смотрел, будто старается определить, пригодный ли товар, не с гнильцой ли.
— Да, а как ты устроился? Мне, сам видишь, все некогда да недосуг. Тут, брат, не то, что в райисполкоме. Там все общее руководство, слова. Комната ничего, не холодная? Накажи, чтобы дров не жалели. Обедаешь, конечно, в столовой?
«Нинкины дела. Она постаралась», — подумал Игорь. И не ошибся.
Утром, когда Петр Фомич завтракал, Нина обычно была в постели. Но сегодня она вышла к столу. Кудлатая, с помятым лицом и бледными, еще не накрашенными губами. Но все это с лихвой компенсировалось халатом, настолько пестрым и ярким, что у Петра Фомича спросонья зарябило в глазах.
— Доброе утро, папа!
— Доброе… — буркнул Петр Фомич и склонился над тарелкой. — Ты когда же это вчера припожаловала? Я в двенадцать лег — тебя не было.
Тонко выщипанные брови Нинки резко подпрыгнули.
— Папка, ты опасаешься за честь дочери или своего мундира?
— Какая там у тебя честь! — фыркнул Петр Фомич и пододвинул к себе стакан крепкого чая.
Дочь укоряюще покачала головой.
— Теперь я понимаю маму, когда она говорила, что ты несносный грубиян.
— Ну, это ты брось! — вскинулся Петр Фомич. — После этих своих путешествий ты стала непохожей на себя.
— Я и раньше была такой. Ты просто не замечал.
— Не замечал!.. Я все замечал. — Петр Фомич сердито сбросил с сахарницы крышку. — Зелена еще указывать, поживи с мое.
Дочь хотя и поздно, но поняла, что разговор с отцом пошел не так, как ей хотелось. Чтобы поправить его, Нина решила спекульнуть на родительских чувствах.
— Папка, как ты все всерьез. Я же пошутила. Давай налью чаю.
Петр Фомич немного подумал и подал стакан. Нина, обойдя стол, поставила перед отцом чай.
— Пей, папулька, и не сердись.
Она положила на плечо отца ладони, прижалась щекой к его щеке.
— Колючий… Все ворчишь и ворчишь. Это признак чего?
— Ничего. — Петр Фомич заметно смягчился. — Я не хочу, чтобы нас склоняли. Вырядилась! Может, где-нибудь это и хорошо, но тут деревня. Все глаза пялят да ахают. Понимать надо! И вообще давно уж пора тебе за ум взяться.
— И я так считаю, папа.
Петр Фомич глянул на дочь. Та засмеялась, легла подбородком на плечо отца.
— Ладно подмазываться, — Петр Фомич улыбнулся.
— Пап, у тебя Гвоздин работает. Как ты его считаешь?
— Вот всегда так… — В голосе Петра Фомича опять недовольство. — Ты ей одно, она — другое.
— Нет, папа, это одно и то же.
Грузно повернувшись на стуле, он пристально посмотрел на дочь.
— Он ничего. Старается. Не все получается, но старается.
— Пап, ты ведь хорошо к нему относишься?
— Я?
— Да, папа, ты хорошо относишься. — Дочь с лукавой усмешкой погрозила отцу пальчиком: — Не забудь, папа.
Петр Фомич встал, наглухо застегнул перед зеркалом китель, поправил воротник.
— Это как же понять? Кухарка женится, что ли? — Петр Фомич ободряюще хлопнул дочь по спине. — Ну давай, действуй. Только матери не проболтнись. Сочтет такое… — Грачев задумался, вспоминая нужное слово. Вспомнив, улыбнулся: — Сочтет ненравственным. Оно так, пожалуй, и есть, но ведь тебе больше ничего не остается.
Глава восьмая
Шесть лет спустя Геннадий Васильевич снова ночевал у Кузина.
Его положили в горнице, большой квадратной комнате о трех окнах, на том самом диване, на котором ночевал он тогда. Вначале, как только погасили свет, он пытался заснуть, но скоро понял, что не может. Он лежал с открытыми глазами и думал. Стоит чуть шевельнуться, глубоко вздохнуть — диван отзывался кряхтеньем и жалобными стонами.
В окна, как и шесть лет назад, заглядывала луна. Заглядывала равнодушно, точно ее обязали свыше. Жидкий мертвенный свет проливался между листвой цветов на холодный пол. Цветов было много, как и там, в Шебавине. А вот книг он тогда не заметил. Теперь они стоят плотной шеренгой на этажерке, лежат вон на углу стола, на подоконнике. И радиоприемника, кажется, не было: обходились репродуктором.
Шесть лет — срок немалый! — многое изменили. Тогда он лежал на этом диване, полный всяких замыслов и намерений. Энергия кипела и бурлила в нем. Думалось тогда, что он все легко выправит и наладит. И он старался. Жилые дома, коровники, кошары, денежная оплата труда — все это объединило колхозников, окрылило их. Но кормовая база остается неустойчивой. А без этого, как на стреноженном коне, не поскачешь. Сколько лет он бьется с кукурузой. Но тут ведь не как в степях: выдастся год — уродит, а то совсем пусто. А здесь вот, у Григория Степановича, кажется, неплохо выходит. Если новый сорт кукурузы действительно такой, как говорит Ермилов, горные колхозы и совхозы прочно встанут на ноги. Не сразу, конечно, но встанут. Ермилов, по всему видать, — человек необыкновенный, просто талант. Где его только старик выкопал?
Изменился Кузин. Изменился так, что нынешний Кузин почти совсем не похож на прежнего. И откуда что взялось? Забота о людях, смекалка, инициатива. А говорит! Прямо доморощенный философ. Раньше все рывком, со злом…
Геннадию Васильевичу после сытного угощения у Кузиных захотелось пить. Он слегка повернулся — из-под бока вырвалась диванная пружина, загудела шмелем.
Ковалев долго шарил в кухне, стараясь найти воду. Включил свет. Попил и присел на широкую лавку. И сейчас же слегка скрипнула дверь боковушки — появился Григорий Степанович, в исподнем, в руке железная банка из-под зубного порошка, газета, спички.
— Не спится?
— Никак что-то.
— На новом месте. Я тоже не могу, когда на новом. — Григорий Степанович положил на стол табак, снял с плиты пимы, свои и Ковалева, нашел на вешалке полушубок и фуфайку. — Накинь, чтобы не застыть. — Сам набросил на плечи фуфайку. — На здоровье еще не в обиде?
— По-всякому бывает.
— У меня тоже по-всякому. Иной раз зачнет ломать всего. Ну, старуха втупорож баню раскочегаривает. Тут у меня по-белому. Пару навалом. Хочешь — завтра можно испытать. Теперь, поди, привык париться? В нашей сельской жизни без пару нельзя. Сергея вот никак не могу приучить, хлюпкий на это дело.
Ковалев от бани отказался — завтра надо непременно быть дома.
— Я вот не раз думал: какой-нибудь пень, никому не нужный, живет столько, аж всем глаза намозолит. — Кузин открыл банку, краска которой от долгого ношения в карманах вся стерлась, и только по краям, у самых ободков, кое-где голубело. — А такие, как Сергей, смотришь — сковырнулся. И не удивительно — они ведь бескорыстные, к себе никакого внимания не имеют, вовремя не поест, не отдохнет, сколь положено. Думаешь, он теперь спит? Как бы не так! Сидит в своем кабинете. Лабораторией его называет.
Ковалев отметил про себя, что тогда в чайной Григорий Степанович говорил «коклета», «шмицель», а вот «лаборатория», слово куда более трудное, произнес правильно.
— Старушку специально назначили, чтоб, значит, ночами топила там и чай кипятила. Чаю ему только дай! Продуктов малость со склада выписываем. С желудком у него неладно. Предлагал на курорт — слушать не хочет, некогда, говорит. Хотел его к себе на жительство, чтобы под надзор Анисьи, — ни в какую. Зачем, говорит, вам лишнее беспокойство?
Они закурили из банки махорки, и Кузин повел разговор так, точно перед этим подслушал все мысли Ковалева:
— После того как столкнули меня с насиженного места, крепко задумался я. Положение аховское. Ребром все встало: или, значит, докажи, что ты можешь еще, или в распыл, в утиль. А старуха по ночам в ухо гудит: «Плюнь, Гриша, на все. Поработал — хватит с тебя. Проживем. Трудно будет, Алешка — сын, значит, — поможет». Меня от таких предложений всего корежит. Без дела, думаю, я в момент завяну, как вон какое ни на то растение, если его от земли отделить.
Кузин поискал глазами на столе пепельницу и, не найдя, сбил пальцем пепел под лавку.
— С такими вот думками прикатил я сюда. Не успел пообвыкнуть — Хвоев наведался. Потом зачастил. Как-то вот тут, за этим столом, пообедали, он и начал, так осторожно, издалека. «Ну и как ты, — говорит, — Степаныч, намерен дальше действовать?» Что мог я ему сказать? Ничего. А он: «Вот там ты один все тянул. Тут, возможно, воз полегче, но опять же ты один. Не годится так, — говорит. — С твоими годами и знаниями не выдюжить. Животноводство и полеводство надо ставить, — говорит, — на научную основу. Нужны тебе хорошие зоотехники и агроном. Вот тогда, где коренной сдаст, пристяжные вынесут». Мысль эта, скажем, не новая. Я ведь не консерватор какой-нибудь и сам часто подумывал о таком, но подумывал как-то мимоходом. А потом, сам знаешь, где их взять, специалистов? Чтоб, значит, не только диплом, но и голова была и любовь к делу. Да, ну а тут секретарь райкома предлагает, сам хозяин. Схватился я обеими руками за его предложение. «Давай, — говорю, — мне хорошего агронома, зоотехника, и неплохо бы еще толкового механика. Машины тут запущены».
В дверях неожиданно появилась Клава. В косо застегнутой юбке и старенькой кофточке, она, щурясь от света, поправила волосы.
— А я думаю, что за голоса. Приехал, что ли, кто?
Ковалев стянул на себе плотнее полушубок, сунул ноги под стол. Кузин, сидевший к Клаве спиной, тоже подвинулся вместе с табуреткой к столу. Клава притронулась ладонью к огромной печке и со словами «теплая еще» встала к ней спиной.
— Насмотрелась я за день на Ермилова, и даже досадно стало. Надо было идти на агрономический.
— Зоотехники тоже хорошие бывают, не хуже Ермилова, — рубанул, особенно не задумываясь, Кузин и обидел Клаву. Щеки у нее вспыхнули, и она опустила глаза, но Кузин ничего не заметил.
— Ну, а как ты Ермилова к себе затянул? — спросил Ковалев, с чуть излишней поспешностью.
— Сейчас… Дойдет очередь. — Кузин пододвинул к себе банку с махоркой, поставил ее на ребро, перевернул. — В общем, ничего конкретного тогда Валерий Сергеевич не сказал мне. Понял я только одно: самому надо проявлять находчивость. И начал я рыскать, как какой-нибудь голодный волк. Где только не был!.. И вот, когда гнал обратно из Верхнеобска, встретил Сергея, Ермилова, значит. Сижу это в вагоне, а напротив — человек, волосатый, бледный, какой-то замученный. Достал я из чемоданчика провиант, чтоб закусить, а он вроде и смотреть не хочет, а глаза тянутся. Знаешь, как у голодных бывает? Предлагаю — отнекивается. Все-таки поел и понемногу разговорился. Спрашиваю: «Откуда едешь?» — «Из больницы, — говорит, — почти три месяца отлежал». Я давай его сватать, а сам думаю: «Какой толк от такого дохлого?» А он ни в какую не соглашается. Ну, тут меня совсем заело. Уломал все-таки. И не жалею: толковый агроном. — Кузин накрыл ладонью банку с махоркой. — Давайте спать. Иди, Клава. А то мы тут в таком виде…
Кузин, Ковалев и Клава шли серединой улицы. Кузин шагал размашисто и твердо. Под его большими яловыми сапогами хрустел жесткий, схваченный, морозцем снег, звякал стеклом ледок.
— Сегодня, видать, развезет, — Кузин огляделся кругом.
Из труб домов струились прямые столбы дыма. За темным кедрачом, справа на пригорке, всходило солнце, и все небо там было золотисто-розовым. Ослепляюще плавились стекла в окнах, розовели скаты крыш, подернутые за ночь легким куржаком. А из распадков и леса еще кралась огородами и переулками синеватая колючая дымка.
— Что-то машин долго нет, — забеспокоился! Ковалев.
— Придут, — сказал Григорий Степанович. — Вы, значит, соломой притрусите, потом брезентом, чтобы на ходу не схватило. Силос удачный, два дня как открыли.
Где-то впереди звучно тяпнул топор. Тяпнул еще раз и смолк, будто прислушивался к своему голосу. И вдруг топоры зачастили наперебой, но каждый по-своему. Заглушая их, взвизгнула и запела циркулярная пила.
— Насчет кукурузы Валерий Сергеевич сказал — сам распределит. Но гектара на два-три выделим, — Кузин покосился на Ковалева. — Мало? Больше не можем. Участок выбирайте самый что ни есть лучший. Знаешь, за Волчьим Логом, выше ручья?.. У вас что там? Нет, лучше, пожалуй, если Сергей сам приедет. Он почву на анализ возьмет и в соответствии с этим агротехнику установит.
— Да, так лучше, — согласился Ковалев, не придавая значения покровительственному и даже поучающему тону Кузина.
Клава тоже одобрительно кивнула. Ей очень захотелось, чтобы Ермилов приехал в Шебавино.
Встречные то и дело здоровались с Кузиным. Пожилые мужчины почтительно приподымали над головой шапки. Кузин отвечал громко, называя одних по имени, других по имени и отчеству. Некоторые просили Григория Степановича на минутку задержаться, некоторых он сам задерживал, что-то приказывал и объяснял, а потом широкими поспешными шагами догонял Ковалева и Клаву. Чувствовалось, что Кузина здесь уважают и беспрекословно подчиняются ему.
— Да, как тебе наше животноводство? — спросил он Клаву после разговора со встречными колхозниками. — Лучше вашего?
— Корма есть — значит, лучше. А с породностью не очень… Мелкий скот, неважный.
— Да, это так, — согласился Кузин. — Племенную работу ведем. Но ведь не сразу. Дело такое…
— Я вот как-то попыталась определить себестоимость молока и свинины. Измучились. А у вас учет хорошо поставлен. Надо, Геннадий Васильевич, и нам кормовой баланс, чтобы все как в зеркале.
Ковалев сердито взмахнул рукой.
— И так как в зеркале. — Он повернулся к Кузину: — У вас мясо себе в убыток идет?
— Пока в убыток, — подтвердил Кузин. — Мы пока на меде выезжаем. — Около четырех тысяч ульев. Тут раньше, при единоличной жизни, все поголовно пчелами занимались. Самый худой мужик держал, говорят, колод семьдесят. Выгодное дело — и мед дают, и себя кормят. Но мало кто понимает это. Пчел почти перевели.
Они зашли в контору.
— Заглянем к Ермилову, — предложила Клава.
— Зайдем. Он мне нужен. — Кузин толкнул первую от своего кабинета дверь. Пожилая женщина мыла пол. В печке жарко полыхали красные лиственничные дрова.
— Здравствуй, Ильинична! А где Сергей Осипыч?
Женщина выпрямилась посреди пола с мокрой тряпкой в руке.
— Убежал. Давно убежал. Проходите вон на чистое. Я сейчас домою.
Они перешагнули на чистую половину комнаты.
— Куда же он умчался? — думал вслух Кузин, осматривая издали стол.
Клава тоже внимательно присматривалась ко всему. «Лабораторией его называет», — вспомнила она слова Кузина и согласилась: кабинет, действительно, больше смахивает на лабораторию.
Почти весь простенок между двумя окнами занимал стол. На толстых точеных ножках, приземистый от множества ящиков и огромный, как футбольное поле, он был явно тесен хозяину. На черном дерматине лежали то небрежными пухлыми стопками, то отдельными листами бумаги, исписанные крупным скачущим почерком. Вперемешку с бумагами — книги, некоторые из них раскрыты. А на углу, сбоку от старенького чернильного прибора из камня — недопитый стакан чая, несколько початков кукурузы, большая пепельница, забитая до отказа окурками. На другом углу стола — тоже початки кукурузы, горка пшеницы, кубик черной земли, пронизанный тонкими, как нити, корнями.
Уборщица уже протерла под порогом и взяла ведро, чтобы, уйти, когда Григорий Степанович сердито схватил со стола пепельницу и выбросил в печь окурки. Уборщица смутилась.
— Не велит подступаться к столу. Ни в какую… Пол-то мыть не дает. Это уж вот он убежал — так я скорей, скорей. Ты, сказывает, устроишь мне винегрет. У меня все на своем месте. А какое уж тут на своем, — женщина рассмеялась, взмахнула тряпкой.
— Спал тут? — спросил Григорий Степанович.
— Тут, на диване вон свернулся калачиком, полушубок на себя… А сидел за полночь, кажись, часов до трех.
Клава обошла стол, потрогала в углу сноп кукурузы, который поблекшими листьями упрямо упирался в потолок. Под окнами, позади стола, стояла низкая и широкая скамейка, которую Клава вчера вовсе не приметила. Эта скамейка, очевидно, была «центром» лаборатории Ермилова. Штативы с пробирками, колбы различных размеров, опять кубики земли, кукуруза, пшеничные зерна, листки бумаги с какими-то записями беспорядочно и тесно соседствовали на лавке.
— Вот тут он и колдует, — заметил не без гордости Григорий Степанович, видя, как заинтересованно Клава рассматривает все. — Состав, значит, почвы и все такое… Он глазу не особенно доверяется, все анализом.
Кузин хотел сказать еще что-то, но не успел: дверь стремительно распахнулась.
— Григорий Степанович, буду ругаться! — Ермилов влетел на середину комнаты. Не замечая ни Клавы, ни Ковалева, он уставился возмущенным взглядом на Кузина. — Вынужден ругаться. Да! Да!
— Сергей Осипыч! — Кузин с укоризной показал глазами на гостей. Ермилов мигнул белесыми ресницами, буркнул: — Здравствуйте.
— Вот опять без шарфа, — Кузин взял Ермилова за полы распахнутого полушубка, но тот сейчас же сердито вырвал их.
— Не надо, Григорий Степанович. Зубы не болят… Почему на пятое поле навоз не вывозят? Два дня как договорились… Так не пойдет! Нет!
— Вон ты о чем… — Кузин натянуто улыбнулся. — Вывезем. Сказал — вывезем, значит, вывезем. Двадцать первый я тогда в лес отправил. А вот завтра…
— Не надо завтраками кормить, Григорий Степанович. Я уже распорядился. Двадцать четвертый на ферме, грузят.
Кузин крякнул с досады, но нашел силы смирить себя.
— Послал — и хорошо. О чем разговор?.. Я же не враг какой.
Ермилов улыбнулся, отчего на лбу и у глаз обозначились морщинки. Сбросив на диван полушубок, он, худой, костлявый, зашел за стол, начал копаться в бумагах. В его походке и в движениях музыкальных пальцев — нервная торопливость. Чувствовалось, человек всегда спешит, ему никак не хватает времени, и потому все в нем кипит, трепещет нетерпением.
— Чем занимался, что опять тут ночевал?
Ермилов, будто не слыша, продолжал копаться в бумагах, потом вдруг поднял голову. Глаза его зажглись мягким зеленоватым огнем, от которого всем стало тепло и пропала неловкая скованность, вызванная только что происходившим резким разговором.
— Будешь сидеть, если жизнь человеческая такая короткая, а сделать хочется много… Да, кстати, Геннадий Васильевич, и вы, Клава, сколько, по-вашему, можно взять, допустим, пшеницы с гектара?
— Это смотря где, — заметил Григорий Степанович. — Какие, значит, земли, какой год?
— Земли самые наилучшие. Солнце и влага.
— Ну, тогда, — Кузин взглянул на Ковалева, — тридцать и даже больше.
— Берут до сорока центнеров, — уточнил Ковалев, — не тут, у нас, конечно.
— Сорок? А вот если двадцать тысяч центнеров с гектара? И три таких урожая в год?
Кузин хмыкнул и отступил, а Ермилов хлопнул ладонями по столу и по-детски звонко расхохотался.
— Смотрите! Смотрите! Он думает — я спятил.
— Да нет, я ничего… — смущенно оправдывался Григорий Степанович, хотя в самом деле такая мысль стрельнула в голове.
— Так вот, — сразу посерьезнел Ермилов, — это вполне реально. Такой урожай будет в самом недалеком времени. И почвы не надо, и солнце — под землей, где-нибудь в выработках шахт.
Ермилов заволновался, выскочил из-за стола, взмахнул руками.
Его рассказ напоминал Клаве какое-то чудесное горение. Вот так бывает темной ночью в лесу. Идет человек чуть ли не на ощупь, спотыкается. А потом вдруг вспыхнет яркий огонь, и человек видит далеко-далеко…
Что-то похожее случилось и с Клавой.
Оказывается, ничего фантастического. Все дело в маленьком приборчике, который должен определять нужное для растения количество питательных веществ, тепла и света. И если всем этим растение постоянно обеспечивать, кормить досыта, как выразился Ермилов, получится сказочный урожай. И никакой зависимости от природы. Все пойдет как на фабрике. Поточное производство зерна…
Когда пришли машины, Клава села в кабину, чтобы ехать на погрузку силоса. Она с горечью думала: «Никакой я не специалист! Так, размазня… Больше думаю о своем, чем о работе. Замуж вот собралась…»
Глава девятая
Хвоев остро воспринимал окружающее, точно видел все впервые. Причиной тому была либо длительная болезнь, либо, быть может, то, что весна крепко, по-хозяйски взяла власть в свои руки.
— Ты особенно не гони, успеем, — попросил Хвоев шофера, а сам, чуть щурясь, посматривал вперед и по сторонам.
Дорога то прижималась к реке, ласковой, впитавшей в себя краски неба и гор, то круто взбегала, ныряла за увал. На лугах и склонах паслись овцы и коровы. Овцы жадно и ловко щипали короткую сочную траву. Толстогубым же коровам молодая трава доставалась как деликатес. Им приходилось пока довольствоваться ветошью — сухой и грубой прошлогодней травой. У коров остро выпирали ребра, и все они еще были захлестаны бурым зимним навозом.
«Ничего, ничего, поправимся», — подумал Хвоев и проводил взглядом уток, которые сорвались со скрытого лозняком плеса.
— Валерий Сергеевич!.. — заволновался шофер.
— Ладно, Миша. Пусть.
Они только что побывали на стоянке Чмы и Бабаха. Там было мирно и даже как-то празднично. Двухлетняя девчушка забавлялась с ягненком у порога заново перестроенной избушки. Тут же лежала крупная, вся в клочьях вылезающей шерсти собака. Она так разомлела под ласковым солнцем, что поленилась вскочить и залаять на приехавших. Лишь на секунду приоткрыла глаз, глянула на Хвоева и опять уснула. Валерию Сергеевичу стало смешно. Он сказал с укором:
— Невыполнение служебных обязанностей. Халатность.
Отара паслась недалеко, и Валерий Сергеевич в сопровождении маленького Эркемена не спеша пошел к ней. Бабах обрадовался Хвоеву. Сам секретарь! Не ко всем он приезжает. Бабах суетился, много говорил, потом совсем некстати бросился заворачивать отару.
— А вот ты слышал, Бабах, овечек силосом кормят?
— Силос? — Бабах, озадаченный, поправил на голове свою меховую шапку. — Нет, товарищ Хвоев. Как она будет кушать силос? Она замерзнет.
— Кормят, Бабах! И мы кормить будем.
Когда они пили в избушке жирный подсоленный чай, Валерий Сергеевич спросил:
— Ну, а водкой теперь совсем не балуешься?
— Почему не балуемся? Балуемся, когда там эта праздник иль шибко холод.
Чма, наливавшая из котла чай, заметила:
— Водка не мешает. Давно не мешает. А вот зимой, товарищ Хвоев, плохо было.
— Да, тода плохо был, — кивнул Бабах.
Чма с хитрой улыбкой поставила перед мужем наполненную чочойку.
— Ой, товарищ Хвоев, Валерь Сергевич, он все время кричал тода, ругал, кулаком, понимаешь, сунул, вот сюда, — Чма приложила руку к щеке, прикрыв розовую полоску шрама — память о схватке с рысью, — а в уголках раскосых глаз прыгали незаметные для Хвоева лукавинки.
— Это ты что же, Бабах, расходился? — в голосе Хвоева строгость, — Вот уж не ожидал. Человек ты известный. А жена тем более…
— Товарищ Хвоев, она тоже кричал и бил. Честна правда, бил… Мороз овечка холодно — она кричит, я кричу, я кулаком суну, она сунет. Честна правда!
— А теперь?
Бабах глянул на жену, и оба заулыбались.
— Зачем теперь? Тепло. Овечка вон травка кушает, маленький барашка играет.
— Ковалев говорит — обязательно кошару построит.
— Надо, товарищ Хвоев, обязательно надо, — закивала Чма. — Без теплый кошар какой жизнь?
— Плохо, совсем плохо. — Бабах тяжело вздохнул и жадно отхлебнул чай.
…«Газик», старенький, разбитый и забрызганный грязью чуть не до самого тента, тоже старого, седого, изъеденного солнцем, исхлестанного дождями и ветрами, трудился старательно и упорно. Под уклон он был резв до того, что, казалось, вот-вот взбрыкнет, а в гору тужился, кряхтел, но в конце концов благополучно добирался до вершины и там облегченно вздыхал.
Река ушла вправо, а слева открылась просторная долина. Ее пологие склоны редко утыканы мрачными серо-зелеными валунами, навечно вросшими в землю. Сегодня валуны напомнили почему-то Хвоеву айсберги, хотя море и айсберги он видел только в кино. Кое-где виднелись березы с лопнувшими почками и мелкий кустарник, подернутый легкой и прозрачной, точно дымка, зеленью.
— Владения Петра Фомича, — сказал шофер, не оглядываясь.
«Как он тут хозяйничает? — подумал Валерий Сергеевич. — Сводки говорят, что он ничего не изменил. Надои плачевные».
Внизу около дороги показался зеленый вагончик. От него тянулась, пересекая низину и уходя в гору, черная полоса, по которой упрямо карабкался вверх трактор с агрегатом сеялок и борон. Второй трактор с прицепленными сеялками и боронами замер в конце загонки. Рядом виднелись дрожки с железными бочками; тут же, прямо на земле, стояли прислоненные друг к другу мешки с семенами, а чуть в стороне паслись кони.
— Подверни-ка.
Валерий Сергеевич выбрался из машины, потоптался, разминая затекшие ноги. Безлюдье и тишина. Солнце греет, откуда-то сверху, из прозрачной синевы жаворонок вплетает серебряную нить звона в гул удаляющегося трактора. Пахнет прелью земли, молодой зеленью и еще чем-то бодро-хмельным и грустным.
— Это что же? Возможно, в вагончике есть кто? — Хвоев грузно встал на ступеньку, заглянул в распахнутую дверь.
На нарах сидели двое: один лет восемнадцати, курносый, в сдвинутой на затылок шапке с отвисшими, как вялые лопухи, ушами; второму, похоже, давно перевалило за тридцать. С неделю небритая рыжеватая борода забита грязью, в зубах — «козья ножка». Щурясь от едучего дыма самосада, он косится в карты.
Старший первым увидел Валерия Сергеевича и, ловко свернув веер карт в ладонь, спрятал руку под полу наброшенной на плечи фуфайки.
— Ходи, дядя Яков, давай ходи! — требовал паренек, но тут же повернулся к Хвоеву и растерянно заморгал.
— Это что же, товарищи? Такое горячее время, сев, а вы в карты?
— А что нам? У нас вон все стоит. Вот и режемся в дурака. Значит, я хожу? — Старший демонстративно шлепнул замасленной картой по еще более замасленным нарам. — Мы и сами бы рады… Какой интерес? За карты не платят.
— Трактор поломался? — спросил Хвоев.
— Нет, все исправно. Тузом ударил?.. Тракторист заболел. На туза! Думаешь — жалко?.. А напарник сбежал.
— Взял я, — сказал молодой и сгреб все карты. — Позавчера, директор приезжал. Такой тут тарарам устроил. Ну, Алешка и подался домой. Бригадир уговаривает. Только вряд ли… Алешка — он упрямый.
— А вы не из райкома? — поинтересовался старший. — То-то, смотрю, лицо знакомое. Были вы у нас, только давно.
Валерий Сергеевич прошел пашней, проверяя, нет ли обсевок, покопался, в земле, интересуясь глубиной заделки семян. Вернувшись к машине, сказал шоферу, который, положив голову на руль, дремал:
— Поехали, Миша, на отделение.
Спустя каких-нибудь полчаса он зашел в контору отделения, но там никого не было.
— Вот только что был, — сказал дряхлый старик, который от нечего делать уселся под солнцем на обрезок бревна и не спеша попыхивал цигаркой. — Должно, в мастерские подался. А может, еще куда… Дорог у него много. Все требует догляда, особливо теперь…
Валерий Сергеевич сел в машину. Шофер уже включил скорость, чтобы ехать к мастерским, как из-за угла вывернулся невысокий человек в зеленой и длинной, чуть не до колен, фуфайке, кирзовых сапогах и старенькой кепке блином. Махнув шоферу, чтобы тот задержался, он быстро подошел к машине, заглянул в кабину.
— Товарищ Хвоев? Валерий Сергеевич? Здорово изменились! Не узнаете?
Хвоев растерянно смотрел в худое лицо с утиным носом и маленькими живыми глазами. Человек загадочно улыбался — ему, видно, было приятно оттого, что Хвоев не может сразу его узнать.
— Подожди, подожди… — бормотал Валерий Сергеевич, открывая дверцу и выбираясь из кабины. И вдруг вскрикнул: — Степанюк! Ефим Александрович, кажется?
— Точно! Он самый…
Они обнялись и поцеловались. Возле крупного Хвоева Степанюк, маленький и щуплый, казался подростком.
— Откуда взялся? Ведь ты где-то в Воронежской области жил?
— Точно, Валерий Сергеевич, жил там, а потом вот сюда перебрался. Сын у меня тут, в геологии, в партии. Нахвалил здешние места — вот мы и подались. Полгода как уже тут. Слыхал, что секретарем тут Хвоев: Думаю, надо узнать, уж не тот ли, не Валерий Сергеевич. Да все недосуг было. А потом, думаю, не может быть. Мало ли однофамильцев…
— Ты не управляющим ли здесь?
— Точно, Валерий Сергеевич. Сосватал меня Грачев. Третий месяц…
Остаток дня Хвоев провел на отделении и здесь, у Степанюка, заночевал.
Когда сели ужинать, хозяин поставил на стол бутылку коньяку. Хвоев запротестовал:
— Ты, Ефим Александрович, уволь, нельзя мне ни капли. Сердце, понимаешь.
— Нельзя так нельзя. Я ведь тоже не падкий на это. — Хозяин без всякого сожаления отставил на подоконник бутылку.
До часу просидели они за столом, пили чай, вспоминали фронтовую жизнь.
Встретились они в сорок втором при формировании запасного полка. Старшего лейтенанта Хвоева назначили тогда командиром роты, в которой уже хозяйничал старшина Степанюк. О старшинах во время войны в шутку говорили, что любого из них можно без следствия и суда сажать в тюрьму, дескать, никто из них охулки на руку не кладет. И Хвоев, побывавший на фронте, выходил из себя, когда слышал или замечал обкрадывание солдат. Вот почему Хвоев поначалу относился к Степанюку настороженно, с недоверием. Но как только выехали на фронт, сомнения Хвоева развеялись. Степанюк оказался из тех старшин, о которых говорят: «Он душу за солдата отдаст». На длительном марше или в самом жарком бою, когда невозможно поднять головы, солдаты своевременно получали и горячую пищу, и «сто грамм», и махорку. В других ротах нет, а Степанюк доставит. Сам приползет на передовую с термосами, но доставит. И все по норме, грамм в грамм — столько, сколько, как говорили тогда, нарком отпустил. Солдаты все старания старшины принимали как должное. А после того, как ранило старшину, стали сожалеть. Нет обеда — у них разговор: «Александрыч, тот не оставил бы голодными. Да, тот понимал, как воевать с пустым брюхом иль без махры». Хвоев тоже не раз вспоминал Степанюка добрым словом, ставил его в пример новому старшине…
— Здорово, Александрыч, тебя тогда стукнуло! Ты что, после того домой?
— Какое там домой, Валерий Сергеевич! После того я в артиллерии был, потом у танкистов. Еще два раза ранило. Я ведь весь избит, места живого нет. Теперь вот детей до дела довели, пенсия идет, хотя и небольшая, но идет. Можно бы и сидеть. Так нет ведь, не сидится. Затесался в управляющие. Близко локоток, да не укусишь.
— А что так? — насторожился Хвоев.
— Да так… Ни к чему мне это с моим здоровьем. И годы уже немалые. За полсотню перевалило.
— Ефим Александрович, ты так говоришь, будто мы впервые встретились, будто вместе и не воевали, — от обиды голос Хвоева звучал глухо и чуждо.
Степанюк обеспокоенно задвигался на стуле.
— Нет, Валерий Сергеевич, не пойми так. Я человек тут новый, не разобрался еще, что к чему.
— Сколько мы не видались? Семнадцать лет?
— Кажется, так. В сорок третьем меня первый раз ранило. Двадцать седьмого-сентября.
— Вот не видались семнадцать лет, а встретились — начинаем виражи строить.
— Да не то что виражи… Ну да ладно! — Степанюк прихлопнул ладонью по столу и решительно заявил: — Не могу я так, Валерий Сергеевич, не привык. И не привыкну. Точно говорю… Вот ты давеча интересовался, почему трактор стоит. Теперь он работает. Это точно! Но сколько мне пришлось поморочиться, чтобы он заработал. Этот Алешка — парень с секретом, как вот раньше сундуки у кулаков… Помнишь?
Хвоев кивнул.
— Помню, как же… Железом окованные и где-то там кнопка.
— Точно! Вот и у Алешки где-то похожая кнопка, должно, имеется. С норовом парень. Трактор знает не хуже, чем кадровый солдат винтовку. Работать возьмется — удержу нет. А с напарником своим, Васькой, будто сведенные. Из-за пустяка поцапаются. Даже до драки доходило. Пробовали их развести по разным машинам — ни тот, ни другой не соглашается. Выходит, вместе тесно, а врозь скучно. Ну, а позавчера у Васьки рука разболелась. Разнесло всю. Просит он своего напарника, чтобы поработал. А тот ни в какую, уперся, как бык. Бригадир около него и так и эдак, а он знай свое: «Не обязан!.. Знаем мы эти болезни». Он бы, конечно, покуражился и согласился. Но тут откуда ни возьмись директор. «В чем дело? Почему трактор стоит?» Бригадир вгорячах и бахни ему все как на духу: так, мол, и так. Грачев сейчас же в вагончик. Выгнал оттуда всех и кричит Алешке: «Иди сюда!»
Что они там говорили — я не знаю. Но рассказывали, Алешка вскорости вылетел из вагончика весь красный, как из парной. «Пошли вы, — говорит, — все!.. Федька, — это он к пареньку-горючевозу, — поедешь на отделение, захвати мою постель». А сам напрямик, через гору — домой. Прибежал ко мне с заявлением. «Не уволишь, — толкует, — уеду так. Мне плевать! Не допущу, — говорит, — такого обращения».
Я этого чертяку Алешку нисколько не оправдываю. Но и директору нельзя так. Он во всяком деле через коленку ломает. Нахрапом. Никакого уважения к человеку. Вот потому я, Валерий Сергеевич, и не рад, что взял на себя такую обузу. Признаться, мне тоже, перепадает. Да и народ жалко.
Хвоев сидел напротив Степанюка. Облокотясь на стол и подперев ладонью щеку, он все время внимательно слушал. Потом вдруг встал и, большой, грузный, взволнованно затоптался по тесной горенке.
Степанюк, следя за гостем, обеспокоенно подумал: «Дернуло меня начистоту… Похоже, не зря поговаривают, что Грачев — дружок первому секретарю. А наша дружба что? За семнадцать лет она заржавела, забылась».
— Может, Валерий Сергеевич, чайку еще?
— Нет, спасибо. Я на воздух…
Пригнувшись, Хвоев шагнул через порог в сени, сбросил крючок.
Темная весенняя ночь дохнула в разгоряченное лицо сырой прохладой. И от этого легче стало в груди, но мысли не успокаивались. Опять! Опять он промахнулся… Сколько таких промашек! Выходит, Татьяна Власьевна была права? Она тогда сказала, что не верит в Петра Фомича. Ей, конечно, лучше знать: она жена. А он вот поверил ему. Да и как не поверить, если Грачев работал управляющим отделением, председателем колхоза.
За спиной скрипнула дверь, и послышался осторожный голос Степанюка:
— Валерий Сергеевич, в пиджачке-то простыть недолго. Весенняя сырость — она вредная.
— Да, пошли спать, — сказал Хвоев.
Утром за завтраком Валерий Сергеевич был хмурым. Не притрагиваясь к глазунье и блинам, он попросил стакан крепкого чая. Пил его молча, горой нависая над столом. «Что с ним? Чем не угодил?» — терялся в догадках Степанюк, пытая исподтишка гостя взглядом И тоже молчал.
Вот Хвоев встал, оделся и подал хозяину руку.
— Спасибо за гостеприимство. Рад, что встретились, Ефим Александрович. Одно мне не понравилось — взял ты вчера под сомнение нашу боевую дружбу. Извини, я человек откровенный… Времени, конечно, много прошло, но все равно.
— Да что ты, Валерий Сергеевич, — Степанюк засуетился около Хвоева, — никакого сомнения не было. Просто я подумал…
— А вот больше не думай, Александрыч. И работай в полную силу. А что мешает — постараемся устранить. Будешь в Шебавине, обязательно заходи.
Хвоев попрощался на кухне с хозяйкой и сел в машину.
— На центральное, Миша. Да поскорее, чтобы Грачева застать.
— Не беспокойтесь, — с ехидной ухмылкой заметил Степанюк, — застанете. Наш директор тем и хорош, что больше в конторе сидит. А если бы не сидел, тогда совсем хана. Точно!
«Газик», прыгая по кочкам, промчался поселком, выскочил за околицу. Хвоев сидел задумчивый. Потом тряхнул головой, сунулся в карман.
— Миша, что куришь?
— «Гвоздики». У меня постоянная марка. По одежке, говорят, вытягивай ножки. В холостяках, сами знаете, баловался «Беломором» и «Казбеком». А теперь — ша! «Казбек» не курю и усов не ношу. А какие были усы — шик!
— Демагог ты, Миша. — Хвоев повеселел, затянулся «Байкалом».
— Поневоле, Валерий Сергеевич… Ведь седьмой год с вами…
— Да еще, оказывается, и остряк. Доморощенный…
Миша с довольным видом поддал газку.
— Ваш дружок фронтовой, видать, мужик толковый. Хвалят. А вот Грачев не по вкусу ему пришелся. Да и не только ему.
— Бывают ошибки, Миша… В человека, говорят, не влезешь.
— Это когда влазить не хотят.
Впереди на перекрестке дорог появился мужчина в брезентовой куртке. Остановясь на обочине, он поднял руку. Миша, зная привычку Валерия Сергеевича подбирать всех в пути, молча затормозил машину.
В широкоплечем пожилом человеке с крупным носом и седыми кустистыми бровями Хвоев узнал главного агронома совхоза Зенкова.
— На центральное?
— Садитесь, товарищ Зенков. Я к вам переберусь.
Несколько минут они молча сидели бок о бок на заднем сиденье, посматривая на дорогу через ветровое стекло.
— Откуда спозаранок? — поинтересовался Хвоев.
— С пятого, — сказал Зенков, — ночевал там в бригаде.
Еще несколько минут они молчали.
— Что-то вы себе медленно, — сказал Хвоев.
— А сев ведь не спортивные соревнования. В севе главное не время, а урожай. Будь моя воля, еще придержал бы зерновые. Почва не прогрелась.
Опять длинная пауза.
— Это хорошо — встретил вас. Кстати…
Хвоев косит глазами на Зенкова. Странный человек! Что ни говорит — лицо неизменно, как маска, с мрачно опущенными углами губ и большим, угрюмо нависающим носом.
— Тут у меня с директором нелады. Орал он вчера и ногами топал. А мне такое совсем ни к чему. Мне уж на пенсию скоро.
— Да в чем дело-то?
— Из-за бобов вышло… Видали прошлое лето у Ермилова бобы?
— Конечно, видал.
— Тогда тем более… Вот и я так хотел. Не квадратно-гнездовым, а ленточным, как у Ермилова. Ну, а Петр Фомич опрокинулся: «Своевольничаешь! Подводишь меня под удар! Хочешь, чтобы в фельетоне ославили?! Будет команда — пожалуйста, а до того не позволю». Вот потому и хотел вас повидать. Как считаете?
Зенков по-прежнему сидел нахохленный и мрачный, кажется, совершенно безразличный к тому, что скажет Хвоев. А Хвоев загорячился.
— Чего ж тут считать! Если все делать по команде сверху, тогда на кой черт агрономы на местах! Зачем они?
— Правильно! — Маска на лице Зенкова будто мгновенно растаяла. От скупой улыбки поднялись уголки губ, и нос висел не так угрожающе-мрачно.
— А я, товарищ Хвоев, все-таки сделал ленточным способом.
Петр Фомич встретил Хвоева как дорогого гостя. Лишь только Хвоев появился в дверях кабинета, Петр Фомич поспешно выбрался из-за своего большого стола под зеленым сукном и заспешил навстречу с протянутыми руками.
— Наконец-то!
В кителе защитного цвета и такого же цвета полугалифе, хромовых, начищенных до блеска сапогах, плотный, осанистый, Петр Фомич выглядел солидно и начальственно.
— Как здоровье? С виду так ничего… А я вчера еще слышал… Значит, инкогнито?
— При чем тут инкогнито? — Валерий Сергеевич устало, сел в кресло. — Просто хотел познакомиться с делами:
— Понятно, понятно. А я ждал. Думал, ночевать непременно заедет. Коньячку припас, «КВК»!
— Нельзя мне ничего такого.
— Коньяк всем можно. Коньяк — он, Валерий Сергеевич, лучше всяких лекарств. Нектар! Эликсир жизни! Я вот иногда простужусь, носишься по этим отделениям, а их восемь. Так вот…
Валерий Сергеевич, склонив чуть голову, смотрел на Грачева и думал о Степанюке. Пожалуй, тот был прав, когда осторожно уклонялся, от откровенного разговора о Грачеве. Ведь он, Хвоев, работая бок о бок с Грачевым, не мог не знать его недостатков. И нечего тут обманывать людей и самого себя. Знал он, но все равно рекомендовал директором совхоза. Почему так? Выходит, жалость взяла в нем верх? Да, жалость и надежда на исправление. Так было и с Кузиным. Но Кузин сумел перестроиться, а этот совсем скатился.
— Валерий Сергеевич, ты обедал? — Грачев, отодвинув пальцем рукав кителя, посмотрел на часы.
— Я? — Хвоев будто очнулся. — Да… Нет, не обедал, но я не хочу. Рано еще. Да, а как у тебя тут сын Гвоздина?
— Игорь-то? Натаскиваю. Ничего так… Входит в курс дела.
Хвоев с досадой хлопнул по подлокотнику кресла. Слова-то какие! Почему он такой? Ничего не понял и ничему не научился.
Глава десятая
Эта весна в жизни Кольки Белендина была самой счастливой. Были пронизывающие до костей холода, в избе, настылой и грязной, он по-прежнему жил один, была бескормица, ломались во время сева и пахоты трактора, но Колька будто ничего этого не замечал. Его все время опьяняюще согревала мысль о Клаве. Она любит его. Это делало Кольку крылатым, стойким и вливало столько энергии, что ему все давалось шутя, и он не знал устали в работе.
Вчера они весь вечер провели у реки. Бродили между кустами и деревьями по тропинкам, и Колька слегка досадовал, что они узкие — нельзя идти рядом, заглядывать Клаве в глаза.
Потом они сели на плоский камень, еще хранящий в себе тепло солнца. Кругом белела в темноте черемуха. Ее запах смешивался с запахами воды и трав. Точно зайчишка-шалун в первую порошу, ныряла в пухлых белых облаках луна. И, как музыка, неумолчно, с задумчивой грустью журчала, плескалась река.
Колька прижался щекой к щеке Клавы, взял ее ладонь.
— Клава, как хорошо!.. Очень хорошо… А можно, чтобы всю жизнь так хорошо? Знаешь, мы будем жить по-особенному, не как все. Так, понимаешь, чтобы душа в душу. Ведь ты, Клава, и я — это одно.
— Нет, Коля, так нельзя… Не сможем так.
— Почему? — Колька откачнулся от Клавы, уставился на нее.
— Жизнь, Коля, длинная и трудная.
— Клава, это, понимаешь, хорошо, что она длинная. Пусть! — Колька снова прижался к Клаве. — Все равно мы будем жить лучше всех. Знаешь, давайте все вместе: ты, я, Марфа Сидоровна и отец. Хватит ему в лесу…
Они условились, что завтра Колька привезет отца, а через неделю, в следующее воскресенье, сыграют свадьбу.
Хотя Колька пришел домой за полночь и еще долго лежал в темноте с открытыми глазами, встал он, когда выгоняли в стадо коров. В одних трусах и майке выскочил на крыльцо. Вся река будто ватой завалена. Эта вата цепляется за кусты, деревья, виснет белыми лохматыми нитями и упрямо ползет в огороды.
Было холодно, и Колька, вздрогнув, слетел с крыльца, сделал несколько кругов по двору, поприседал, помахал руками и умылся из ведра, которое всю ночь стояло на лавке около сеней.
Минут пять спустя Колька в кирзовых сапогах и в стеганке направился на бригадный двор, чтобы заседлать там коня и ехать к отцу. За воротами он приостановился, улыбнулся (в последнее время он часто беспричинно улыбался) и подумал о ружье: «Взять, пожалуй… В тайгу, понимаешь, еду».
За селом дорога круто пошла вверх, точно вела на небо. Конь, низкорослый и лохматый, напрягаясь, вытягивая тело, упрямо и цепко стучал копытами по камням.
А Колька бросил на луку поводья, привстал на стременах и запел. Пел он так, как когда-то пели его отец, дед и прадед — о том, что видел, а главное, о том, что накопилось на душе и рвалось наружу:
Вот и вершина перевала. Солнце где-то далеко, внизу. А небо, кажется, стало ближе. Чистое и голубое, как Клавина косынка.
Вдруг послышалась песня. Вскоре из-за поворота показалась лошадь, впряженная в телегу. Под солнцем поблескивали алюминиевые фляги с молоком. Чуть приотстав, шли гурьбой девушки-доярки в цветастых сарафанах.
Колька, пропустив подводу, попер конем на девушек.
— Но-но, не очень! Не дури! — шутливо крикнула пышногрудая девушка с толстой косой до пояса. — Скажу вот Клаве!
Кольке стало приятно от слов девушки. Он рассмеялся и свернул на тропу. Девушки что-то кричали вдогонку и хохотали, но Колька уже не слушал их. Перекинув на одну сторону седла ноги, он закурил. Сейчас он спустится в лог, поднимется вон к тому кедрачу и оттуда увидит аил отца. Он теперь, наверное, чай кипятит. Любит чай, как все старики. Отец, конечно, обрадуется, когда узнает о свадьбе. Клава нравится ему.
В логу солнце не выпило еще росу, и высокая трава и кустарник стояли все сизые. Было прохладно, и от малейшего прикосновения к ветвям на Кольку сыпались прозрачные свежие капли.
Вдруг конь всхрапнул, вскинул голову.
— Ты что? — Колька ободряюще хлопнул коня по шее, толкнул в бока каблуками сапог. Конь, прядая ушами, храпел и пятился. А со дна лога косогором мчались коровы. Ослепленные страхом, мчались наугад, куда придется.
Колька выпрыгнул из седла и, заряжая ружье, побежал вниз, наперерез коровам. «Похоже, сам хозяин тайги! — подумал Колька. — Только бы не успел задрать корову».
Путаясь в траве, Колька выскочил на круглую покатую поляну. И сейчас же ближний куст вздрогнул — из него проворно вывалился медведь.
Они стояли один на один. Человек и матерый зверь. Их взгляды встретились. Колька понял, что медведь обозлен: человек осмелился помешать ему, встать на пути.
Гулкий выстрел еще блуждал между стволами деревьев, а приподнявшийся на дыбы зверь медленно, будто нехотя, осел и повалился. Выждав несколько секунд, Колька осторожно подошел к медведю, ткнул его стволами. Готов.
Колька вытер ладонью потный лоб, облизал пересохшие губы. Захотелось курить. Он хлопнул по карману фуфайки, нащупывая папиросы, и, сам не зная почему, оглянулся. Совсем рядом, в каких-то двух метрах, стоял второй медведь. Колька едва успел вскинуть ружье.
Сквозь легкую голубоватую пелену дыма Колька увидел красную, оскаленную пасть зверя. Он толкнул в нее стволом. Медведь ударил лапой по ружью так, что оно отлетело. Колька, перескочив валежину, бросился за ближайшую сосну.
Схватясь за дерево, он остановился. Мелькнула мысль: «Дерет с лица…» А медведь привстал, развел когтистые лапы. Он не особенно спешил: уверен в победе над безоружным человеком.
Пригнув голову, Колька стремительно бросился под медведя. Зверь перелетел через него и оказался за спиной. Колька вскочил, изловчась, схватил медведя за уши, изо всех сил стал давить к земле. Нож!
Хотя Колька быстро выхватил нож и, вцепившись в лезвие зубами, раскрыл его, медведь успел мазнуть лапой по скуле. Удар скользящий, но все равно голова Кольки наполнилась шумом. Покачнувшись, Колька взмахнул ножом раз, второй…
— На, понимаешь!.. На!..
Медведь рявкнул, отшатнулся, зажал лапой глаз. И снова насел на Кольку. Насел яростно, неотступно. Колька всячески увертывался, прятался за деревья и все время отмахивался складным ножом, стараясь угодить медведю во второй глаз. Один из ударов достиг наконец цели. Ослепленный медведь закружился на месте. Колька схватил подвернувшуюся под руку орясину и долго бил зверя по голове.
— Вот тебе! На, понимаешь!
Когда медведь ткнулся мордой в траву, Колька шлепнулся на толстую обомшелую валежину. Только теперь он почувствовал смертельную усталость. Во рту горит, сердцу тесно в груди. Оно стучит и рвется, рвется…
Стараясь избавиться от противного гула в ушах, Колька трясет головой — все равно гудит, точно провода в ненастье. Пиджак и рубашка изодраны в клочья и всюду кровь — теплая, липкая.
— Однако устряпал… Вот, понимаешь… Где же пастух? И коня нет.
Колька попытался встать, но не тут-то было.
В голове зашумело еще сильней, и все кругом закачалось. Нет, он встанет, обязательно встанет! И встал. Нашел подходящую палку и, опираясь на нее, заковылял на тропинку.
На пригорке, за деревьями, он увидел коня. Тот не сразу подпустил к себе. Все всхрапывал, стриг ушами и, когда Кольке оставалось только схватиться за повод, испуганно отбегал.
— Да ты что, дурной? — сердился Колька и, бросив палку, снова, ковыляя, подступал к коню. — Это же я. Вот чудак, понимаешь… Тпр-р!
Спустя полчаса Колька, держась обеими руками за луку и склонясь к шее коня, подъезжал к стоянке отца. Вот конь сам остановился, срезал под порогом старого щелястого аила стебель травы, а Колька все сидел. Наконец он, сгоняя сонливость, тряхнул головой, немного выпрямился и позвал хриплым голосом:
— Ата… Ата!..
Откуда-то вынырнул Барс. С поджатым хвостом обежал коня, глянул на Кольку и завыл.
— Пошел! — рассердился Колька и с трудом спустился на землю. — Не хватало еще, понимаешь!
Барс, несколько отбежав, опять завыл. Выл тоскливо и смотрел Кольке в глаза, точно искал сочувствия.
Колька, покачиваясь, подошел к аилу, распахнул дверь. Отец лежал на спине, с неестественно подвернутой под себя ногой. Левая рука, с зажатой в кулаке трубкой, откинута.
— Ата! Ата! — крикнул Колька с ужасом.
Сенюш не шевелился.
Костер в его ногах давно потух, подернулся пеплом…
Глава одиннадцатая
Еще не было пяти часов, а Петр Фомич уже на ногах. Заглянув в комнату дочери, он увидел пустую нетронутую постель и поморщился. Хм!.. Ведь опять в дурах останется. Уже осталась…
Петр Фомич разжег на веранде керогаз, поставил на него чайник и вышел на крылечко. Рядом, у перил, стояла лопата. Грачев взял ее, примерился и с маху вонзил в землю. Вывернутый ком оказался черным, жирно лоснился. Грачев размял землю на пальцах — она рассыпалась творогом — понюхал и принялся энергично копать. Работа доставляла наслаждение, отвлекала от мыслей. А мысли были невеселыми. В последнее время он все чаще стал вспоминать Татьяну. Есть жена и нет ее. А почему так? Почему они как-то не заметно стали чужими. Его все время тянет увидеть ее, а приедет — обязательно разочаруется: все холодно, отчужденно…
Полчаса работы приятно разогрели Петра Фомича и приятно утомили. Опираясь левой рукой о лопату, правой он вытер со лба пот. Зачем он копает, для чего? Цветы посадить? Хорошо, когда цветы. Особенно здесь, у веранды. Вьюны там и еще какие-нибудь, чтобы яркие, крупные. Почему он раньше никогда не думал о цветах? Ведь одно удовольствие вечерком после работы присесть на ступеньку, а вокруг цветы, прохлада, сумерки. Сидеть, покуривая, думать, смотреть, как загораются звезды… А когда станет совсем темно и свежо, пойти в дом. Перед сном хорошо выпить стакан крепкого горячего чаю со свежим вареньем.
Вспомнив о чайнике, Петр Фомич заспешил на веранду. Чайник давно кипел. Пар вырывался из носика, брякал крышкой. Обжигая пальцы, Петр Фомич погасил керогаз, понес чайник в кухню, где уже возилась около печки его сестра Прасковья.
Выпив чаю, Петр Фомич пошел в контору. Надо было вызвать главного механика и поехать с ним на пятое отделение. Там не ладится с тракторами: один стоит с самого начала сева, у второго вчера подшипники полетели. Зиму в потолок плевали, анекдоты рассказывали, а теперь вот морочься.
Петр Фомич неожиданно подумал о том, что человек почти всегда считает себя непогрешимым. Собственное «я» всегда чисто и прозрачно, как стеклышко. Виноваты всегда другие. Вот и у него так, пожалуй. С Татьяной не ладится — она виновата. Трактора стоят — тоже виноват кто-то, но только не директор. И вот Хвоев стал уже виноват…
Вчера Хвоев не пробыл в его кабинете и пятнадцати минут, как позвонили из райкома. Девушка-секретарь спрашивала, не появился ли Валерий Сергеевич.
— Появился, вот он, рядом. — Петр Фомич подал Хвоеву трубку.
Из разговора Грачев понял, что приехал кто-то из Верхнеобска, и Хвоеву необходимо срочно вернуться в райком.
— Ладно, приеду. — Хвоев сердито сунул трубку Петру Фомичу. Тот положил ее на рычаг и поймал себя на том, что доволен поспешным отъездом Хвоева. Посторонний глаз всегда найдет, за что зацепиться. Это он по себе знает, еще когда был председателем райисполкома. И потом Петр Фомич с первого взгляда понял, что Хвоев не в духе. А «дух» — великое дело. Когда человек не в духе, он может ни за что разгром устроить.
— Вот всегда так! — возмущался Хвоев. — Хотел тут осесть и обязательно разобраться… Да разве дадут! Не то, так другое…
— Хорошо, если бы побыл. Помощи всегда рад, — Петр Фомич убеждал себя, что говорит искренне.
— Я приеду. Возможно, даже завтра. А сейчас скажу, Петр Фомич, прямо. Прошу не обижаться.
— Какая может быть обида, если для пользы, — Петр Фомич криво усмехнулся. — А потом… У нас есть основания говорить друг другу правду.
— Так вот, не туда ты гнешь, Петр Фомич! Методы не те. Без доверия к людям работаешь. Так ничего не выйдет. Я вот хотел как следует присмотреться, а потом собрать производственное совещание и обсудить все. Дела-то неважные.
— Есть недостатки. Сознаю… Тот не ошибается, кто ничего не делает. А я кручусь тут, как черт перед рождеством.
— С людьми ты ведешь себя как фельдфебель, а у самого заяц в душе. Почему Зенкову не разрешил сеять бобы так, как он считает нужным?
— Успел нажаловаться?
— Совсем не то, Петр Фомич! — Хвоев с досады крутнул головой. — При чем тут «успел нажаловаться»? Человек старается, а ты его по рукам хлещешь.
— Валерий Сергеевич, тут надо вникнуть. Некоторым лишь бы инициативу проявить, себя показать, а там хоть травушка не расти.
— Но ведь Зенков не относится к таким «некоторым».
— Почем мне знать, относится или нет?
— Вот твоя главная беда, Петр Фомич! Ты должен знать! Обязан знать! Директор должен знать людей, а ты не знаешь. Так далеко не уедешь…
Петр Фомич после не раз вспоминал слова Хвоева. Открыл Америку! Он сам не-мальчишка, понимает, что многое у него выходит не так. Нет у него доверия к людям. Но ведь его за деньги не купишь. Такое дело… В плоть и кровь вошло. Это мучительно, когда понимаешь, что неправильно, но иначе не можешь. Не можешь, и все тут, хоть тресни! Вот будто возьмешь правильную линию, но тут же собьешься — и опять на старую наезженную колею… А он: «Ты обязан знать… Методы не те». Сказать проще всего…
Петр Фомич уже подходил к конторе, когда из-за угла старого, с позеленевшей крышей барака — память о тридцатых годах, когда организовался совхоз, — вынырнула Нина. Заметив отца, она опустила голову — сделала вид, что не заметила. Петр Фомич остановился, и оглянулся кругом — улица была еще безлюдной.
— Ты вот что, девка! — Петр Фомич почувствовал, что у него дергается левое веко. — Сегодня же убирайся отсюда! Чтоб духу не было! Работать надо. Устраивайся там, у матери.
Нина ничего не сказала и даже глаз не подняла. Она обошла отца и устремилась к дому. Чулок на правой ноге спустился, сама вся мятая, сникшая, смотрит в землю…
Петр Фомич провожал дочь взглядом. Злость и жалость боролись в нем.
А Нина прибежала в свою комнату и, как была в пальто, туфлях, бросилась на постель, зарыдала. Плакала долго, содрогаясь. Потом, вся растрепанная, приподнялась, стянула с ноги замшевую туфлю на тонком каблуке и зло швырнула в угол. И опять повалилась на кровать, тупо глядя мокрыми глазами в потолок.
Глава двенадцатая
Геннадий Васильевич и Катя сидели в первом ряду. За их спиной, в зале, было темно, но лицо Кати мягко освещалось светом рампы. Из-за кулис вышла стройная смуглая девушка — медицинская сестра районной больницы. Пока баянист садился на стул и прилаживался, девушка чувствовала себя неудобно. Ей явно мешали руки, смущало слишком уж сильно декольтированное платье. Но вот звонким ручьем всплеснулась музыка, в нее органически влился голос девушки:
Зал, кажется, не дышал, покоренный нежным, проникновенным голосом. А девушке уже не мешали руки, и она совсем забыла о том, что на ней открытое платье. Голос ее то взлетал, то падал, и тогда снова брала за сердце музыка, в которой легко улавливались плеск и звон ручья, шорох весеннего ветра.
Геннадий Васильевич слушает и незаметно посматривает на жену. Она вся подалась вперед. Глаза горят, на припудренных щеках проступает румянец. Катя то кивком поощряет пение, то недовольно морщится, а потом вдруг, очевидно, уловив в голосе девушки фальшь, вся передергивается и стучит кулаком по своему колену.
— Хороший, замечательный голос, но не поставлен. Поработать бы с ней, — говорит Катя, когда девушка в шквале аплодисментов неловко, но благодарно кланяется.
Геннадий Васильевич доволен. Не так легко и просто удалось ему затянуть жену на концерт.
Утром в кабинете Ковалева неожиданно появился Ермилов, сопровождаемый Клавой.
— Привет, Геннадий Васильевич!
— О, привет, привет, дорогой Сергей Осипович! — Ковалев встал. — А я уж собирался звонить.
— Зачем? Я знаю, когда приехать. — Ермилов бросил на стул обшарпанный портфель и старенький прорезиненный плащ. — Погодка-то, а? Благодать! Прет все как на дрожжах!
— Погода будто специально для кукурузы.
Ковалев с признательностью пожал маленькую, но сильную ладонь агронома, с которого Клава, стоя в конце стола, не спускала восторженных глаз. Он казался ей необыкновенным, а каждое его слово — глубоким, даже мудрым. А Ермилов, ничего не замечая, присел к столу, обмахнул соломенной шляпой потное лицо.
— Льстишь, Геннадий Васильевич. — Почему только для кукурузы нужна такая погода? А другие посевы?..
Вскоре они в стареньком «газике», позаимствованном Ковалевым у райкома партии, выехали смотреть кукурузу. Машина еще как следует не остановилась, а Ермилов уже сидел на корточках на краю трехгектарного участка на пологом солнечном склоне.
— Взошла! Взошла! — Он глянул снизу на Ковалева. Тот тоже опустился на корточки и вместе с Ермиловым смотрел на бледные шильца всходов.
— Все хорошо, Геннадий… — Ермилов, о чем-то задумавшись, молчал, потом добавил: — Васильевич. Прекрасно! Вот только…
Ермилов исколесил вдоль и поперек маленький участок, присаживался, копался в земле.
— Василич, корка… Подборонка. И немедленно. Завтра же!
Перед обедом шофер увез Ермилова в совхоз, к Зенкову. А Геннадий Васильевич попутно заглянул в летние лагеря, куда три дня назад перевели свиней.
Кажется, сегодня ничего такого не произошло, но Геннадий Васильевич чувствовал себя в приподнятом настроении. Он поинтересовался у Эркелей самочувствием Костика. Эркелей, польщенная вниманием, так вся и расцвела.
— Большой. С дедом друзья — водой не разлить. Я теперь не нужна стала. Даже обидно.
Обмениваясь шутками, они шли пастбищем. Свиньи крепли и поправлялись прямо на глазах. Сейчас они деловито срезали мягкую сочную траву, рыхлили пятаками черную землю, отыскивая коренья.
После обеда Геннадий Васильевич побывал в книжном магазине и купил там несколько брошюр по агротехнике возделывания кукурузы. В колхозе с прошлого года не было агронома. До этого агрономом работал Лапин. Пожилой и апатичный, он когда-то очень давно окончил шестимесячные курсы. Слабые знания и полное отсутствие любви к земле сделали Лапина человеком никчемным. И когда в прошлом году Лапин подал заявление с просьбой отпустить его на жительство в город, к сыну, Ковалев первым на заседании правления сказал: «Пусть едет! Много не потеряем».
Возвращаясь к себе в контору, Ковалев обратил внимание на афишу около Дома культуры. В ней сообщалось, что сегодня состоится концерт самодеятельности, посвященный окончанию в районе весенне-полевых работ.
Ковалев внимательно прочитал всю афишу, а потом спросил себя не очень уверенно: «А что, если сходить?» Чтобы потом не передумать, он решил сейчас же приобрести билеты.
Дома он положил билеты на стол, хлопнул по ним для значительности ладонью и сказал:
— Вот, мать! На концерт сегодня идем. Готовься.
Катя растерялась.
— Да как же? Ты предупредил бы…
— Вот и предупреждаю, — сказал с улыбкой Геннадий Васильевич.
— Да нет, Гена. Я тесто на вечер завела. Хочу пирожки с картошкой постряпать. Володька давно просит.
— Пирожки, Катя, потом, не уйдут.
Дело совсем осложнилось, когда подошла пора одеваться. Катя решила надеть свой единственный костюм песочного цвета, приобретенный в первый год их совместной жизни. Но Катя располнела, костюм оказался узким. Несколько дорогих платьев, сшитых три-четыре года назад, тоже стали тесными.
— Ну вот, а все на жизнь обижаешься, — подтрунивал Геннадий Васильевич, уже одетый в новый темный костюм.
Катя нервничала и, кажется, готова была разреветься. Она с трудом стянула с себя платье, швырнула на диван.
— Не пойду! Иди один, если хочешь!
Но все это теперь позади. Теперь Катя жадно смотрит на сцену. Лицо вдохновенное, и она совсем не похожа на ту Катю, которая час назад собиралась на концерт.
В антракте Геннадий Васильевич спрашивает:
— Так ты считаешь, что она способная?
— Очень даже! Ты же сам слышал, какой голос. Ей бы в музыкальную школу…
— Ну, школа — дело длинное. А вот ты могла бы с ней позаниматься?
— Я? — Катя смотрит на мужа с недоверием. — Конечно, могла бы. Думаешь — я теперь уж никуда не гожусь?
— Вот как раз не думаю! — Ковалев прижимает к себе локоть жены. — Так займись, Катя! Благодарное дело. Она век не забудет.
— Можно. Почему не заняться. — Катя говорит не очень уверенно.
— Так пошли, договоримся?
Геннадий Васильевич увлекает жену из фойе в зал. Они подходят к маленькой двери, ведущей за кулисы, и Катя начинает упираться, высвобождать свою руку из-под руки мужа.
— Подожди, Гена. Им теперь не до нас. Я завтра зайду. Зайду и договорюсь.
Ковалев разочарованно вздыхает.
— Нет, я правда зайду. Вот посмотришь! — уверяет Катя и сама берет его под руку. — Давай сядем.
Назавтра за ужином Геннадий Васильевич спрашивает:
— Ну как, была?
— Где была?
Катя старается смотреть так, будто ничего не знает и будто вчера у них не было никакого разговора.
— Где, где! Не притворяйся! В Доме культуры была?
— Смешной ты, Геннадий. Честное слово! Есть мне когда ходить, а тем более заниматься! Ты же видишь — я по дому с трудом управляюсь. К вечеру ног под собой не чувствую. Или тебе все равно?
Геннадий Васильевич нагнулся и усиленно заработал ложкой.
Глава тринадцатая
Кольке досталось больше, чем он поначалу полагал. Медведь не только нанес ему глубокие раны когтями, но и сломал левую ключицу. И потому Колька, весь обмотанный бинтами, с гипсовой повязкой на ключице, лежит в больнице. Он даже отца не хоронил. Ему лишь выше приподняли изголовье и повернули койку так, чтобы он видел в окно похоронную процессию. Отца унесли, а Колька еще долго слышал через открытое окно звуки траурной музыки.
Окно раскрыто и теперь, и Колька ощущает лицом легкое дуновение ветерка, напитанное сладковатым запахом липких тополиных листьев и цветущей сирени. Сирень стоит рядом, на тумбочке в банке из-под маринованных патиссонов. Это Клава вчера принесла сирень. Как вошла с букетом, так на всю палату запах, и все четверо больных, приподняв головы, заулыбались. Уважают ее здесь. Вчера она Филимонычу принесла папирос, а Леньке вон — лезвий для безопасной бритвы. Его же, Кольку, завалила. Несет и несет… Вот опять скоро должна прийти.
Розовые лучи заходящего солнца, врываясь в высокое окно, падают квадратом на противоположную белую стену, и на стене видно все до мельчайшей крапинки, как под увеличительным стеклом. Колька с любопытством следит, как шмель, круглый и мохнатый, хлопочет около сирени. Он то сядет на букет, то приподнимется и, угодив в полосу лучей, сразу становится весь золотым.
— Так, говоришь, Миколай, вчера должны были свадьбу играть?
Это спрашивает со своего места старик Филимоныч, маленький и волосатый, которого готовят к операции грыжи. Старику давно все известно во всех подробностях, и спрашивает он, очевидно, потому, что больше нечего делать. Колька тоже знает, что старику все известно, но охотно отвечает: ему приятно, когда говорят о Клаве, их женитьбе.
— Должны… — Колька тяжело вздыхает. — Вот так, понимаешь, все получилось.
— Да… — сочувствует старик. — Выходит — надсмеялась над тобой судьба?
— Судьба? — вступает в разговор тракторист Ленька. Сидя на своей кровати, он, как ребенка, придерживает сломанную правую руку, толстую и белую от наложенного гипса. — При чем тут судьба? Медведь.
— И не токмо медведь! — вскидывается старик. — Ты что думаешь, не успела земля на могиле отца обсохнуть — сразу свадьбу? Добрые люди так не делают. И вот он, Миколай, так не поступил бы. — Старик, морщась от боли, спускает босые ноги с кровати, сует их в шлепанцы, сидит, поджав ладонями живот. — Я вот в молодости на Капказе живал, в Тифлисе. Так там в таких случаях не токмо что-нибудь, а шесть месяцев ходили все в черном и шесть месяцев волос не трогали. Да, такой порядок, положено так. Скорбь, значит, свою выражали. На голове куделя, а не трогали.
Леньке возражать нечего, и он переходит на личные выпады.
— Шесть месяцев! — хмыкает Ленька. — Да ты вот, видать, всю жизнь волоса не трогаешь. И скорби будто не выражаешь.
— Ох же и ядовит ты, Лексей. — Старик качается на кровати маятником — унимает боль в животе. — Зачем ты меня пристегнул? Мое дело — особь статья. Мне в прошлом годе на восьмой десяток поехало. И всякий интерес у меня теперича потух.
Ленька скалит в улыбке зубы:
— А может, не потух еще, а?
— Нет! Нет! — трясет головой Филимоныч и миролюбиво, будто они не спорили, предлагает: — Пошли покурим?
— Пошли. — Алексей достает из тумбочки папиросы.
— Да, Миколай, не в кон с тобой вся эта история.
У дверей старик обращается к Кольке:
— А случись сразу после свадьбы — иной коленкор. Тогда бы ты со своей молодушкой весь год медвежатину ел. Теперь хотя время жаркое подступает, но все одно — можно было присолить, подкоптить. А так ее там уж порешили.
Ленька трогает Филимоныча за рукав.
— Пошли! Вот теперь я понял, что в тебе все погасло. Старика-то чем поминали? Медвежатиной, поди?..
Они уходят, а Колька смотрит в потолок и улыбается. Медвежатина его не тревожит. Пусть брат там, как хочет, так и распоряжается. Шкуры, он сказывал, уже сдал. Это хорошо — деньги на свадьбу пригодятся…
Из коридора доносится частое и четкое постукивание каблучков. «Клава?» — Колька весь насторожился, даже дыхание затаил.
Она зашла после короткого стука в дверь, и Колька весь потянулся к ней, как тянется растение к свету. С румянцем застенчивости на смуглых щеках она негромко поздоровалась и осторожно, на носочках, подошла к Кольке.
— Ну как самочувствие, Коля?
— Да ничего, понимаешь, хорошо. Садись, Клава.
Клава прислонила к тумбочке туго набитую хозяйственную сумку, взяла стул, села.
— Ну, как там? Ох, и надоело, понимаешь, валяться!
Кольке кажется, что в белом халате и голубой шелковой косынке Клава еще красивей, нежней. Вот так бы и смотрел, глаз не отводил. А девушке неудобно от его неотступного, жаркого взгляда. Она, потупясь, смущенно двигается на стуле, кладет на лоб Кольки ладонь.
— Температуры нет?
— Давно нет.
— Сегодня Ермилов приезжал, от Григория Степановича, из «Восхода», — сыплет скороговоркой Клава. — Кукуруза, говорит, будет. Новый сорт… Хорошо, если уродится. Правда, Коля?
— Правда. — Колька придавливает своей ладонью ладонь Клавы, прижимается к ней губами. Клава видит, что Кольке сейчас очень приятно, а ей вот только неловко. Но она руки не отнимает. Она с удивлением думает о Кольке. Вот он на вид самый обыкновенный, такой, как все, а в самом деле необыкновенный. О нем вон даже в центральной газете написали. И стоит! Клава не раз пыталась мысленно поставить себя на место Кольки — и ей становилось так страшно, что дрожь всю прохватывала. Она там со страху сразу умерла бы. Складышем победить такого зверя!
— Да как же ты, Коля, сумел? — спросила Клава в тот день, когда Бабах привез его в больницу.
— Поневоле сумеешь… Я не сумел бы, так он…
Колька, конечно, герой. Самый настоящий. И хорошо, что он такой скромный, обыкновенный.
— Мама привет тебе передала.
— Спасибо. Ей тоже передавай.
— Она вот тут курочку зажарила. — Клава берется за сумку.
— Ну к чему? — конфузится Колька. — Не надо! Сами… У меня и так вон полна тумбочка. Сестра даже замечание сделала.
— Ешь, чтобы не залеживалось. А маму не обижай. У нее ведь свои порядки. Она, может, и не решилась бы, если бы эта рябенькая не перестала нестись. В наказание…
— Ну, раз так — я продолжу наказание рябенькой.
Они смеются. Кольке очень хорошо. Он даже забыл про свои раны и про закованную в гипс сломанную ключицу. А Клава достает из сумки газетный сверток, потом книгу.
— Чтобы не скучал. «Повесть о жизни» Паустовского. Не читал?
— Нет.
— Замечательная. Вот читаешь, будто хорошую музыку слушаешь. Как-то все прозрачно, нежно и немного грустно.
Неожиданно в палату заходит Татьяна Власьевна. Руки в карманах накрахмаленного халата идеальной белизны, непокрытую голову держит прямо, даже чуть откинула, будто ее тянет назад тугой узел косы. И, очевидно, поэтому Татьяна Власьевна кажется гордой, неподступной.
— Здравствуйте! — Клава, вся вспыхнув, поспешно встает, напоминая школьницу.
— Сиди ты, сиди! — Татьяна Власьевна кладет на плечо девушки узкую красивую ладонь, заглядывает в лицо, переводит взгляд на Кольку, — Горюете, что до свадьбы не зажило? Ничего… Успеете, наживетесь.
— Это, конечно, успеем, — Колька, весь млея, смотрит на Клаву: так я, мол, говорю? А Клаве почему-то неудобно. Опустив глаза, она говорит:
— Мне пора. — И, будто спохватясь, поспешно добавляет: — Я завтра приду.
Возвращаясь домой, Клава около чайной встретила Эркелей.
— Клава! Клавдь Василивна! — закричала та из кузова только что лихо подкатившей к чайной машины.
Клава приостановилась, стараясь понять, кто и откуда ее зовет, а Эркелей, с хозяйственной сумкой в руке, ловко перемахнув борт, догнала ее и затараторила, словно повела пулеметный огонь.
Клава, занятая своими мыслями, с трудом понимала подругу. Оказывается, Эркелей вернулась из совхоза. Доярки сказали, что в тамошнем магазине хорошие шерстяные кофты. Вот и ездила. Последнюю ухватила.
— Посмотришь?
Клава не успела еще ничего ответить, как Эркелей, подхватив ее под руку, подвела к лавочке у ворот.
— Садись.
И сама села рядом, открывая сумку.
— Вот, гляди! — Эркелей подняла оранжевую мохнатую кофту за плечи, приложила к себе. — Идет?
— Да ничего будто… Яркая, по моде.
Эркелей, не замечая равнодушия Клавы к ее покупке, довольно улыбалась.
— Вот надену на твою свадьбу, пусть все глаза пялят. Да, чуть не забыла! Выхожу это я из магазина, а он идет.
— Кто — он?
— Игорь! Кто же еще? Руку подал, а сам какой-то сумный. Как вы, говорит, там живете? Давно не был в Шебавино. А я ему: «Ничего… Вот свадьбу сыграем, как жених поправится».
Клава вскочила с лавки.
— Ты что? — удивилась Эркелей.
— Да так… Говорить, что ли, больше не о чем? Трясут и трясут! Надоело!.. Пошли!
Они долго шли молча. Из-за гор, где село солнце, поднимались черные нагромождения туч, расплываясь, закрывали багровое небо. Было тихо и душно.
— Знаешь, Клава, а ты его любишь!
— Кого? — Клава сердито и удивленно покосилась на Эркелей.
— Игоря, конечно… И он тебя любит. Вы дуетесь, а сами любите. Вот убей меня гром!
Клава плотно сжала губы, обернулась к Эркелей:
— Ты думаешь, что говоришь? Нет, ты сегодня просто не в своем уме. Честное слово! От покупки, что ли? Нужен он очень! Да я его уже сколько не видала. Он вон с Нинкой, говорят…
— Все равно… — упрямо стояла на своем Эркелей.
Из переулка им навстречу вышла Зина Балушева. Она несла на коромысле воду.
— Ты что никогда не заходишь? Зайди.
И Клава зашла. Зашла, пожалуй, потому, чтобы поскорее избавиться от Эркелей. Сегодня она просто невозможная.
Зина понесла ведра в избу, а Клава присела на ступеньку крылечка. Напротив, в нескольких метрах от нее, Федор, стоя на четвереньках, копался под кустами смородины. Он был в линялой майке и старых штанах с двумя, похожими на очки, заплатами.
— Добрый вечер! — сказала Клава.
Федор встал:
— А, Клавдия Васильевна! Добрый вечер!
«Спросит про свадьбу или не спросит?» — думала Клава.
Федор не спросил. Он начал многословно рассказывать об огневке — вредителе смородины и крыжовника.
— Летом этот червяк из ягод в землю уходит, в куколку превращается. А весной, в это самое время, вылетает такой бабочкой. Вот я гексахлоранчиком и посыпаю. Надо было с осени, да не удосужился. Со временем теперь хоть караул кричи, — Федор говорит о недостатке времени не с сожалением, а даже с затаенной гордостью.
Он давно вернулся с фермы в контору. А прошлый год, после учебы на трехмесячных курсах, занял место Прокопия Поликарповича, ушедшего на пенсию. Кажется, Федор очень доволен своим новым положением. И в семье все утихло, наладилось. Только Зина, видно, сожалеет, что так опрометчиво сменяла детский сад на свиноферму. Не раз уже жаловалась Клаве, что ей трудно, устает.
Под говор Федора Клава думала о том, что, наверное, все вот так: в молодости ищут, мечутся, а когда постареют — притихнут, успокоятся, стараются обходить в мыслях и принципы и запросы души. Да нет, почему все? Не все! И годы тут решающей роли не играют. Григорий Степанович вон совсем старик, а не успокоился, повернул свою жизнь так, как захотел. И Ермилов никогда не успокоится, не пойдет на сделку с совестью. И Геннадий Васильевич тоже… А вот себя она не знает. Ведь самое трудное в жизни, говорят, познать самого себя…
Глава четырнадцатая
После ужина мать ушла в горницу и вскоре, погасив там свет, легла спать. А Клава не спеша перемыла посуду, сложила ее в шкафчик и присела с книгой около стола. Книга была интересной, но сегодня почему-то ничего не шло в голову. Клава то и дело отрывала от страницы глаза и задумывалась о своем. Вспомнила Эркелей. Ведь не молодая уже, на два года старше ее, Клавы, а все такая же взбалмошная… И что-то есть в ней такое, что привлекает и заставляет прощать любую выходку. На нее нельзя обижаться, просто невозможно… А Колька теперь спит? А возможно, не спит, тоже думает? Как она, Клава, ни старается, но никак не может представить себя женой Кольки. Вот не получается и все, в сознании не укладывается… И чем ближе к свадьбе, тем больше сомнений.
От стремительного наскока ветра дом вдруг крякнул, а за окном с удивлением и страхом долго лопотали молодой листвой тополя.
Клава глянула в окно и перевернула страницу. В это время где-то далеко, в горах, глухо, угрожающе зарычало. А спустя несколько минут так грохнуло, что в шкафчике жалобно звякнула посуда. И тотчас же погас свет. Клава смотрела на окно. Оно время от времени ослепительно вспыхивало, и тогда было видно, как ошалелый ветер крутит и гоняет по двору мусор и пыль. А вокруг так било, что Клаве невольно казалось — горы и небо крошатся и глыбами низвергаются на село.
— Клава! Клава! — закричала из горницы мать, разбуженная громом. — Труба-то закрыта? Страсть какая…
— Сейчас погляжу. — Клава знала, что спички всегда лежат на пристенке печки, но долго не могла их найти. Наконец нашла, зажгла лампу и поспешно закрыла трубу.
— Дождь-то идет? — спросила с постели мать.
Клава набросила на плечи старенькую вязаную шаль и подошла к окну. При вспышке молнии увидела крыльцо, чуть искрапленное каплями дождя.
— Капает…
— Теперь самый раз бы… И хлебам и травам.
Дождь пошел минут десять спустя. Перед этим ветер незаметно стих, и затаенную вокруг тишину нарушали лишь взрывы грома, которые стали реже и глуше. Дождь полил упругими резвыми струями, и звуки его напоминали торжественную музыку. И будто завершая это сходство, барабаном глухо бил гром, уходя с каждым разом все больше в сторону.
Клава вышла в сени и приоткрыла дверь. В лицо пахнуло сырой свежестью. Всюду журчало, булькало, звенело. Вода, не успевая впитываться в землю, сливалась в мутно поблескивающие лужи, бежала к воротам.
Дышалось легко. Клава слушала дождь до тех пор, пока окончательно не продрогла. Стягивая на себе шаль, она легонько толкнула плечом дверь, но в это время громко хлопнула калитка, и она отчетливо услышала, как кто-то шлепал по лужам. Вздрогнув, Клава схватилась обеими руками за дверь, готовая мгновенно захлопнуть ее и запереть. А шаги все ближе и ближе, Они задержались у окна, потом направились к крыльцу.
«Уж не пьяный ли какой забрел?» — мелькает в голове Клавы, и она все больше и, больше прикрывает дверь.
Блеснула молния, и в узкую щель Клава увидела… Игоря.
— Нет! — вскрикнула она.
Сердце ее дрогнуло и рванулось так, как никогда, кажется, не рвалось. И всю ее с головы до ног осыпало жаром. Она, разом обессилев, прислонилась к стене.
Игорь, оттолкнув дверь, встал на пороге. За его спиной вспыхивали молнии, и он стоял как в портретной раме. А Клава прижимала под шалью ладони к сердцу, стараясь хоть немного унять его. Но сердце не слушалось. Сердце билось, трепетало.
— Зачем ты?.. — еле слышно прошептала она.
— Клава, я не могу… Я, конечно, виноват… Я дрянной… Но я не могу…
— Уходи… — приказала она, впрочем, не очень решительно. Она ясно поняла, что говорит совсем не то, что думает. Она не в силах его прогнать и не в силах его не простить. Он всегда был с ней. Всегда. Каждую минуту. Только она старалась его не замечать, обманывала себя и других. Но сердце ведь не обманешь. И сердцу не прикажешь…
— Не гони… Я не уйду. Не уйду! — крикнул Игорь с отчаянием и мольбой.
— Тише, — сказала Клава.
— Я многое понял… Я все понял. Прости! — Игорь коснулся пальцами ее руки чуть ниже обнаженного локтя. Пальцы были мокрыми и настолько холодными, что Клава вздрогнула и поспешно завела его в кухню.
На Игоре все промокло до последней нитки. Курчавые волосы прядями липли ко лбу, пиджак и брюки смялись, обвисли, делая Игоря до невероятности жалким.
— Боже мой! — ужаснулась Клава. — Да ты откуда?
— С отделения… Я уж вот неделю сам не свой… Как услыхал… — От холода Игорь с трудом выговаривал слова.
Клава бросила ему свою шаль, потом схватила с печки расхожий полушубок.
— Сними пиджак, укройся. Я сейчас чаю… Наверное, еще не остыл.
Приняв непослушными пальцами стакан чая, Игорь благодарно улыбнулся и осторожно отхлебнул. А Клава смотрела на него и думала: если у нее с Игорем будет счастье, то счастье это будет трудным.
Но иначе она не может. Нет!..
Барнаул
1955—1963