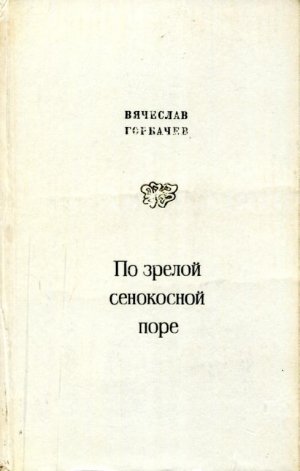
ЗЕМНОЙ ПОКЛОН
Я хочу услышать сейчас, напутствие друга.
По флотскому обычаю пусть скажет он на дорогу:
— Полфута под килем тебе, старина!
И пусть ветер и буря!.. — с веселой песней я ставлю парус. Пускай несется мой утлый челн воспоминаний к городу, в котором на исходе июня зацветают липы…
Город своей мечты, наверное, есть у каждого — город юности и любви. А может, это и не город, а размашистое, как весенняя ярмарка, село в ковыльной степи или на бойком сибирском тракте, тихая приземистая деревушка возле лесного ручья или горный аул, где прохладные сакли будто связаны тонкими бечевками каменистых троп…
Где б ни была та родная сторонка, ей всегда место в нашем сердце.
Бывает, иногда вдруг покажется, что потерялась туда дорога, песком забвенья перемело памятные стежки в прошлое. От такого чувства горько сердцу, и, словно в беззвучном крике, долгом, как журавлиный клин в осеннем небе, зайдется оно печалью.
В искуплении какой-то непрощаемой вины захочется преклонить голову перед отчим порогом. И тогда, в час душевной тоски и кротости, мелькнет перед глазами слабое, зыбкое виденье — мать провела усталой, натруженной шершавой рукой по твоей щеке… То почудится сиплый, как всхлип жалейки, предутренний крик молоденького, нераспевшегося еще петушка, когда по зябкой росной мураве убегал с удочкой к дремотно-спокойным и таинственным омутам. А то, как наяву, скрипнет очеп, полусонно зазвякает цепь и по стенам колодца гулко, с дребезгом полетит порожнее ведро озабоченной до, свету молодайки…
Милая родина.
Милая грусть.
Милая,
милая Русь!
Во время невзгод и тяжких испытаний мы обращаемся к тебе, и ты возвращаешь нам свою прежнюю любовь, врачуешь раны. Ты великодушна к нашим слабостям и за добрые наши дела щедра на славу.
Слабому, кто припал к твоей груди, ты дашь силу.
Мученика и страдальца утешишь.
Стоящему у росстани укажешь путь.
Заблудшему засветишь в ночи огонек.
Но…
Страшным укором
станет имя твое изменнику, трусу и подлецу.
Такие будут бежать твоей земли, и — где бы ни настигла их смерть — всем чужими, непрощенными уйдут они из жизни.
Горсть земли твоей, родина, и ныне, и присно, вовеки будет пухом для верных детей твоих.
Тяжелее могильной плиты ляжет она на грудь неверных.
Так было, так есть, так будет.
И никто не преступит извечный закон.
Потому что она у каждого одна — Родина, она одна в ответе за всех нас.
И не в заплечном рюкзаке носим ее, а в сердце. И ноша эта не тянет, если чист помыслами и делами.
«Когда станет тебе трудно, невмоготу, — говорил мне в далеком детстве старенький мудрый дедушка, — ты отодвинь, как недоеденный хлебушко, все заботы и хотя бы мысленно обратись из своего далека к родному порогу. И если уже не будет тех рук, что ласкали и пестали тебя, и время уже источит стены отчего дома, ты все-таки обратись душою к родимой стороне, поклонись синему вечернему небу, и звездам, и полям, что кормили тебя, и воде, что поила тебя, и всему миру поклонись».
И из этого своего далека я соглашаюсь с ним:
не тяготят и не печалят сердце святые поклоны.
Земные поклоны.
Теперь и не знаю, что быль тут, что небыль, но все одинаково дорого мне, всему, о чем думаю, то тревожно, то радостно отзывается душа.
Так садовник ценит и любит, и мысленным взором лелеет уже будущий плод, хотя семя едва проросло и не укрепилось корнями в почве. И тот, кто землю чует, хорошо знает: сторицей воздастся садовнику за все волнения и труды его.
Мой город…
Тихие одноэтажные улицы деревянных и каменных домов с крышами под железо и черепицу.
Узенькие тротуары возле заборов и ровные мостовые залиты темным, как вишневый сироп, асфальтом, от которого — чем яростнее печет солнце, тем острее пахнет гудроном и смолою.
Запахи эти особенно хороши осенью, в тягуче спокойные дни бабьего лета, когда и центр города, и окраины завешаны и перевиты густой паутиной, точно серебристой вискозной нитью. Пахнет гарью первых листвяных костров, смолою сосновых стружек, и далеко разносятся дребезжащие, тревожные звонки трамваев. В белесом, как паутина, небе высоко-высоко серебристые самолетики оставляют след, похожий на след торпедных катеров в море…
Осенью, как ни в какую другую пору, кажется, что город похож на большую строительную площадку, где всяк занят своим делом, своим трудом, и что скоро вот — день еще или два! — работы завершатся и можно будет въезжать в новый, просторный и светлый дом.
Но то осенью…
А летом, в конце июня, после теплой дождливой ночи разом зацветают старые липы, и каждая гудит, подобно пчелиному улью. Мед золотисто-белых соцветий хмельным праздничным дурманом застилает голову. От запаха горячего асфальта и от горячей сухой пыли, поднимаемой раскаленным солнцем и ветром, саднит и першит в горле. И убежал бы, скрылся бы от этого удушья до ночи, но каблуки вязнут в топком асфальте, словно в зыбучих песках.
К вечеру следы застывают, ямочки от каблуков похожи на горошины дождевых капель, пробивших мягкую шаль дорожной пыли. И хотя свежеет, липы пахнут по-прежнему густо и терпко, но уже не шумят пчелами, разве только иногда слышен возле них полет припозднившегося работяги шмеля, летящего низко, как бреющий бомбардировщик.
Тихих улиц и высоких раскидистых лип на каждый мой приезд в городе все меньше. Тихих старых улиц с темными от густой зелени садами и палисадниками, где пионы в сумерках похожи на разноцветные воздушные шары, привязанные у самой земли к кустам, с каждым разом становится меньше, потому что новые улицы растут в городе, как грибы после дождя, и, тоже как грибы, похожи одна на другую. Теснят они старый город.
Раньше четыре натруженных, точно спины крестьянских волов, большака прореза́ли город с востока и запада, с севера и юга. Синь, зелень, голубизна церковных куполов над городом, над большаками издали манили путника. Теперь и купола и большаки потерялись в новостройках. Радиальные и кольцевые трассы, проспекты перепоясали город, точно пулеметные ленты красноармейскую грудь. Лишь светлая Орлея-река изменилась мало. Может быть, только еще выше стали ее обрывистые кручи. Они покрыты все такой же бурьянной пестрядью, чащобой сирени, боярышника, черемухи и яркими лопухами мать-и-мачехи, отцветшей сразу за паводком. Серая зелень, дикое коренье укрывают лазы черных пещер, в которых блукали, да и теперь, наверное, блудят самые бедовые мои земляки-сорванцы.
Уже нет над Орлеей-невестницей низких, гладко оструганных деревянных мостов, похожих после дождей на отбеленные холсты. Вместо них серые чугунные пролеты, будто навеки застывшие здесь на массивных каменных быках. Над ними от сумерек до рассвета размеренно-холодное свечение ртутных ламп. Такое холодное, что мнится: под неэлектрической луной уютнее.
Впрочем, что ж горевать? Сами, своими руками строили, стало быть, новое лучше. Только трудно привыкать к городу сызнова. И, возможно, чтобы любить его таким, как есть, не надо было покидать его?!
Потом, немного позже, я скажу, что здесь произошло в канун моего приезда. Вероятно, это следовало сделать сразу, как только взял в руки перо, но, собираясь на родину, разве думал я о несчастье?..
Не помню как, когда стал я узнавать город заново. Было такое ощущение, какое бывает, если входишь в собственную квартиру и видишь, что она обставлена новой, элегантной и модерной мебелью, кругом блеск, лоск, но нет привычных взгляду предметов, ничего, что дорого, близко…
Да, таким показался мне город.
На каждом шагу:
Цвет… свет…
Стекло… реклама…
Бетон… асфальт…
По асфальту троллейбусы причмокивают влажными губами шин.
Новая остановка: Дворец пионеров имени Юрия Гагарина.
Яркие пионерские галстуки… Им улыбаешься. Пионерия не изменилась! Неровными рядами, сбиваясь с ноги, идут дружины под дробь барабанов и хрип простуженного горна. Поют хорошо знакомое: «Взвейтесь кострами, синие ночи, мы — пионеры, дети рабочих!..»
За Дворцом пионеров — Дом Советов: высокие этажи, высокие римские колонны… Перед зданием, среди геометрически точно расчерченных цветников — Ленин. Памятник со старой площади у театра, — теперь он стал как будто выше. Над Лениным, над Домом Советов, над городом — алый стяг. И хочется остановиться, от честного пионерского сердца отдать салют!
А от Ленина далеко видно. И сам город, какой-то зеленовато-голубой после дождя, широко распластавший над Орлеей крылья проспектов, и дымящие трубы заводов, и землистые башни элеваторов за городскими окраинами. Еще дальше — желтые ленты полей, загривок темного леса и бесконечно прозрачный, призрачный горизонт.
На дорогах — троллейбусы, «Волги», юркие «Москвичи», громоздкие «МАЗы». Маленькие «Запорожцы» бесшумно скатываются под горку к мосту, — будто капли дождя скользят по стеклу асфальта.
Во всем свой ритм.
Четкий, здоровый, естественный и органичный — как продолжение самого города.
…Вдруг:
Крик!
Скрежет,
скрип тормозов.
Вой сирены…
вой сирены.
Двадцатый век…
двадцатый.
Светлой памяти Милены,
подруги моей юности,
посвящаю эти строки.
…Ее могила на краю кладбища. Отец ее привез с завода прочный обелиск, решетку и скамью, которую поставил у земляного холма, обложенного дерном, почти выгорающим за день под солнцем. Если бы ее мать не поливала траву каждодневно, засохли бы уже и последние зеленые клочки… С обелиска кто-то (кто?..) снял звезду, хотя карточку, застекленную в рамке, не тронули…
Спустя время, когда рана на сердце заросла тупой болью, как зарастает порез на березе причудливым наплывом — тугим и неподатливым, стонуще звенящим под обухом топора, тогда мне пришлось вновь прочитать «Легкое дыхание» Ивана Бунина, тогда-то вдруг и зародилась в душе поправка на «светлое»… Знаю, ничем не объяснимая прихоть, знаю, что это только мое чувство, и ничье больше, но что, если бы жил Бунин в наше время, если бы то же случилось с ним, а не со мной? Быть может, и он написал бы другой рассказ?!
Помните:
«На кладбище, над свежей глиняной насыпью, стоит новый крест из дуба, крепкий, тяжелый, гладкий.
Апрель, дни серые; памятники кладбища, просторного, уездного, еще далеко видны сквозь голые деревья, и холодный ветер звенит и звенит фарфоровым венком у подножия креста.
В самый же крест вделан довольно большой, выпуклый фарфоровый медальон, а в медальоне — фотографический портрет гимназистки с радостными, пронзительно живыми глазами.
Это Оля Мещерская».
Это не Оля Мещерская. И кладбище, где она покоится теперь, хотя поразительно схоже с тем, о котором писал Бунин, другое.
Полвека здесь не прошли стороной. Правда. Кладбище маленькое, тесное для разросшегося города. Это чувствуется на каждом шагу. Узенькие старые и новые стежки, что расходятся от ветхой деревянной церковки, переплетаются между заросших травой и бурьяном бедных безымянных могил. Иной раз, ступая на горбатый изгиб тропы, думаешь, что вот и здесь, под затоптанным, еще не стертым с лица земли холмом, покоятся чьи-то останки, чья-то человеческая жизнь. Какие тут чувства и миры погребены?
Ни памяти, ни следа не осталось.
Грустная и печальная действительность… Неужто и с нами будет так?
Дети и внуки придут поклониться нашему праху — не знаю, через пятьдесят или сто лет, — а и следа могил наших не найдут.
Сколько бы рукотворного величия ни оставляли мы на земле, никогда, ничем не искупится минута молчаливой скорби у праха предков, никогда ничем не заменится эта минута нерасторжимой связи с прошлым, с историей поколений и времен.
Я брожу по чужим могилам, у грядущих потомков защиты ищу и прощения: за нашу забывчивость и суетность нашу на земле не судите нас строго. Знайте же, вам болеть нашими болями, восстанавливать и воссоздавать загубленные связи природы.
О, если бы ваши корни проросли через мою могилу, через мое сердце!
Но для этого нужно, чтобы могилы русских остались на русской земле…
А пока я брожу по кладбищу, где все и вечно и тленно, и сохранившиеся надгробия — как символы времен. Почему они не вечны!..
Высокие, заматерелые клены и вязы, березы и липы — это и граница и черта старого кладбища. Под деревьями, в непролазных чащах, кое-где целы мраморные надгробия, убогие столбы разрушенных часовен, серые плиты камней с неровно высеченными крестами. Невыразимо печально и тревожно пахнут здесь травы, листва и сами могилы. Ветер проходит по верхам, не смея всколыхнуть сумрачную даже солнечным днем обитель.
В новой части кладбища вместо деревьев пока только хилые побеги. Но кустарники набирают силу. Разрослась сирень с жирными тяжелыми листьями, будто выкованными из жести. Много краснопупырчатой бузины. Кое-где непролазные, как бурелом, и грязные, как метлы дворников, заросли акации и полусухие, общипанные кусты роз.
Здесь тесно.
На двух-трех забытых могилах ставится новая. Кресты редки. Над холмиками все больше порыжелые пирамиды с пиками и звездами, возле них в обернутых газетами стеклянных банках голые веники букетов. И стаи, стаи воробьев, расклевывающих вместе со скорлупой поминальные яйца и просвирные крошки. Других птиц не слышно. Бесшумно, как тени, проходят старушки в черном.
…Долго смотрю я на блекнущий глянец.
Да, это она, моя Милена.
Карточка вылиняла по углам, я стараюсь не замечать этого. И не вижу. Вспоминаю только потом, когда, и уехав из города, один, буду не верить в случившееся.
Она улыбается. Волосы уложены по-новому: без бантика, без косы, — свободно спадают на шею, на грудь рассыпчатые волны. Я знаю, как она смотрела на себя чуть иронически в зеркало и, усмехаясь, спрашивала:
— Мам, хорошо?
— Хорошо, хорошо. Ты и без прически ему нравишься.
— Нет, как ты думаешь, я не разонравилась ему?!
Они обе слегка кокетничали, и знали это, и обе прощали это друг другу как милую шутку. Но мать наконец говорила:
— Вот он приедет, ты его спросишь!
Когда я был здесь в прошлый раз, венок, не фарфоровый, конечно, а из простой жести, с листьями, похожими на сиреневые, был крепко прикручен к изгороди. Его не трогали, я знаю, но время… Ветер набегает, и железные листья ржаво поскрипывают. И другую примету, что время поработало, вижу на соседней могиле. Там на массивной, как шкаф, стойке стоял деревянный Христос. От дождей почернело и сгнило дерево, рухнуло вместе с распятием. Теперь оно лежит, как неубранный черный гроб, и наводит тоску.
Снова взгляд возвращается к Ней…
Ниже фотографии припаяна пластинка нержавеющей стали. Кроме имени и дат, окружающих недолгую жизнь Милены, на пластине вытравлены кислотой два слова:
«Трагически погибла».
Глупо как все!.. Глупо…
Ну, конечно, просто случай. Трагический случай.
Но почему именно Она?!
Неужели так трудно было судьбе уступить ей всего только полфута?!
Я бы лег грудью на острые решетки, если бы что-то можно было изменить… Но ничего нельзя изменить, невозможно, как невозможно вернуть прошлое. И горько, потому что нет и никогда не будет Ее, а ведь все наше, все остается з д е с ь — живым!
Думаю:
Когда уходит человек в плавание, его ждут. Его могут ждать всю жизнь. Но сколько ждать, когда больше некого ждать?
…Скрипит жалобно тонкое железо, качается на ветру лист совсем не фарфорового, но такого же дорогого мне, как и Бунину, венка, покрашенного зеленым маслом.
Не все ли равно Оле Мещерской, не все ли равно и Ей?
У них обеих поразительно живые глаза и легкое, светлое дыхание…
На кладбище приходит вечер. Небо словно опускается над одинокой скамейкой у ее могилы, над поникшей моей головой. Сумеречные тени размывают границу времени между старыми деревьями и молодыми. Кажется, тут наступит сейчас пора таинственных превращений и мистификаций. Я один, уже и редкие поздние посетители исчезли. Я один, и тщусь понять, где граница между вечностью и небытием.
А вдали зажигается огнями тысячный город. Он зовет и манит меня, там еще есть жизнь. Я пройду по улицам, по которым мы бродили вместе, я вспомню наши слова и наши тихие шаги под ночными липами, вспомню того соловья в парке над Орлеей, и, как знать, может, он снова будет щелкать?..
Но я еще приду проститься к тебе.
Ты же понимаешь, меня ждет океан, мне не миновать бурь, а я хочу, чтобы твоя звезда по-прежнему светила мне. И ты скажешь, как бывало:
— Полфута под килем тебе, старина!
Вечер.
Я сижу за старым дубовым столом, выставленным за ненужностью несколько лет назад из дома в сад.
Сижу и думаю, почему люди так терпимы к старым вещам, так неразлучны с ними — будь то мебель (вроде этого стола) или прогнивший под дождями диван на погребе, из рваной кожи которого торчат ржавыми ребрами пружины, наконец, старые ботинки или галоши, списанные модой в отставку, — ими теперь забит чердак. Никому не нужная рухлядь — взять бы и пожечь давно или сдать в утиль, а вот поди ж ты!..
Стол стоит под крепкой раскидистой яблоней, она наполовину моложе меня.
В этом году то ли из-за сильных морозов по весне, то ли из-за ранней и сильной жары цвет осыпался, не успев дать обильной завязи. Антоновка и штрифель налились уже размером больше куриного яйца, и теперь их ядовитая зелень начинает выцветать и выгорать на солнце, яблоки покрываются матовым налетом, словно их только что занесли с мороза в тепло. Ближе к осени налет забронзовеет, засияет светлая янтарная кожура и прольется по полуголым садам тот чудный запах, которым исстари славятся наши яблоки, слаще которых нет и не было по России, — мочили ль их или сушили, морозили или прятали в сухое тепло соломы, чтобы свежими подать на рождественский стол…
Я никак не могу сосредоточиться.
Солнце, ушедшее на другой край города, больше не печет. Его свет, просеянный через поволоку закатных туч, отражается от серебристых облаков над головой, и уже не тень яблоневых листьев, а словно отражение их тени падает на бумагу.
Но это не мешает мне.
Хуже, когда у соседа начинает лаять дворняжка — маленький злючий пес с визгливым голосом базарной бабы. Лает собака, как испорченный будильник, когда нет в том никакой нужды и никто не стучит к ним в калитку.
Иногда по дороге за садом проносятся трескучие мотоциклы — точно стравленные собаки гоняются один за другим. Или ревет «МАЗ», воняет и чадит копотью. Лишь гудки паровозов на товарной станции забавляют меня, похожие на эхо далекого порта, на зыбкий привет с морских берегов…
А спокойного часа как не было.
Отвлекаюсь, наблюдаю за другим нашим соседом — мальчишкой. Он забрался на крышу сарая рядом с голубятней, привязал старую штанину к шесту и машет им, понуждая голубей кривыми петлями уходить ввысь. Голуби напоминают чаек, безудержными кликами встречающих судно после шторма в гавани. Смотрю на загнанных в верхотуру неба голубей, а сам все думаю: прижились бы чайки за полземли от океана? Нет, наверное.
А я?!
Как долго выдержу я без моря? Долго ли вытерплю среди зеленых яблонь, под спокойным и таким надежным — домашняя крыша! — небом, около желтозвездных огуречных грядок и колючей городской малины, потерявшей свою духмяность от близкого соседства с асфальтом?.. Голуби — птица слишком домашняя. С ними чайки не-уживутся. И уж никак, никогда не останусь здесь я — пусть хоть и крылья у меня будут обрезаны. А если что — на море даже смотритель маяка — моряк.
Да, если что — на море и смотритель маяка — моряк.
Пока никто не знает, почему я об этом думаю. Если что — я полечу на Сахалин, к проливу Лаперуза, на мыс Крильон. Буду нести вахту на старом маяке, поставленном русскими еще в прошлом веке. По темной каменной башне стану подниматься на крышу, смотреть на бурное мелководье пролива, на обветренную скалу, в названии которой вечное предупреждение — Камень Опасности, и думать, что огонь моего маяка горит не напрасно. Чем сильнее ненастье, чем суровее непогода и плотнее туман, тем крепче будет моя вера…
Но кто б не хотел, чтобы маяк его жизни горел не напрасно?!
На моем горизонте не было туч. Только вот, когда умерла Милена, что-то случилось с глазами. Так, пустяки, сначала я даже не обращал внимания: если расплывались лица, думал, что от усталости. Потом пошел как-то в кино, в один из тех кинотеатров, которые нравились нам с Миленой. Экран был тусклым, размытым. Не знаю, как я удержался. Хотел свистеть, кричать на механиков: «Сапожники! Резкость не можете навести!..» Но зрители сидели спокойно, и я только чертыхался про себя на них на всех. В другом кинотеатре — такая же история.
Что мне оставалось? Пойти к окулисту. И я пошел.
— Доктор, — сказал я после проверки, уже зная, что ничего хорошего не услышу, — я штурман, доктор. Глаза нужно вылечить.
— По всей видимости, — сказала она, — нервное истощение, недостаток витаминов.
— Доктор…
— Выпишу очки… Ешьте фрукты, ягоды. Не утомляйтесь. Отдыхайте на свежем воздухе… Потом посмотрим…
И вот очки у меня в кармане, но я не ношу их. Ни мать, ни отец не знают об этом.
Я отдыхаю, ем витамины…
А передо мной лист чистой бумаги, и я должен написать на судно, что болезнь задерживает меня в отпуске. Я должен сосредоточиться, чтобы решить, какой маяк в жизни выбрать для себя.
Проходит мимо меня лысый, давно лысый дед — мой отец. Он рад, что я дома, что я сижу в саду чем-то озабоченный и не рвусь на гулянки, как часто бывало в мои прежние наезды. Он не нагружает меня никакой работой, хотя недостатка в ней нет. Со стороны он может показаться странным. Старик при удобном случае не упустит возможность пожаловаться на усталость, на то, что не дождется никак пенсии, чтобы подлечить мотор и отогреть старые кости. При всем при том он довольно покладист и не прочь выпить. А выпив, размякает, перестает закусывать и подолгу задумывается, словно дрема вокруг него бродит. Вдруг он начинает таращить глаза, перебивает всех и тоном спорщика, которому не дали договорить, начинает нести околесицу про свой завод, скоро распаляется до крика:
— Чиновники! Пузачи! Не ценят рабочего, заездили его как сивого мерина. Вот они где, вот, — бьет он ребром ладони по шее, — на хрипку у рабочего сидят!..
Они — это заводское начальство, преимущественно мастера, которые только «пальцем указывать, а сами ни черта!..».
Спустив пар, как кипящий самовар, он остывает, довольный, что отвел душу. А спроси его:
— За что ты их так?
— За то!..
Рявкнет и будет молчать, злиться и думать: а действительно, за что? Потом надумает: мастера, например, посылают его, старика, таскать двигатели наравне с молодыми, а он-то уж не в силах! Или начальник цеха — вот уже второй год не дает ему летнего отпуска.
— Да он же тебе путевку в санаторий достал?!
— Его завком заставил! — отвечает отец, и, видя, что на начальника цеха свалить больше нечего, начинает ругать нормировщицу, кобылу беззубую, она его к телефону не подозвала, когда ему мать зачем-то звонила…
А вообще-то он старик мировой, хотя и нервный и беспокойный. Испытывает тяжелые машины, работа на самом деле по горячей сетке, знает он ее хорошо, и знает, что, когда горит план, заводу без него не обойтись. Может быть, поэтому он сует нос в каждое дело. Мастера его побаиваются, да — молодые! — виду не подают, а где можно, и его стараются приструнить. Ему бы поменьше нервничать, побольше отдыхать, но без забот он уже не может и даже дома выдумывает их себе.
Вот и сейчас — ни мне покоя от него, ни ему самому от себя. Окапывает круг под яблоней, льет десятка два ведер.
— Зачем ты? — спрашиваю. — Оставь. Отдохни поди, почитай…
— Э-хе-хе, ничего ты не понимаешь, а еще моряк… Я им водички, а мне пару мерок яблок. Зимой будем грызть, тогда уж и отдохнем.
Но зимой он будет обкладывать корни снегом — и опять не до отдыха.
Отец брякает ведрами, сопит, кряхтит. Видя, что я не обращаю внимания на его усердие, нарочно громко начинает думать вслух:
— Так, эту полил, теперь анисовочку… Обкопать, ай пойти курей загнать?.. А что сегодня по телевизору — кино будет или футбол, ай нет?!
Догадывается старый, что мне бы не надо мешать. Он и не мешает. Он же не спрашивает меня ни о чем, он сам с собой…
Я набиваю трубку, но спички, как назло, часто ломаются. Наблюдая за мной издали, он с хитровато-простецкой улыбкой спрашивает:
— Тебе не дать спичечки? У меня крепкие…
Он и сам крепкий — приземист, широкоскул, волосатый на груди и по рукам, только лысый. Лысина красная, прожженная солнцем, блестит, как моя вересковая трубка с головой Мефистофеля. Мне начинает казаться, что старик похож на деревянного идола. Скульптор начал полировать его с головы, но до шеи, заросшей с затылка щетиной, и до груди, до широких, как лопасти весла, рук еще не дошел.
Отец часто жалуется на жизнь, это правда, а сам и не подозревает, что сделал ее такой, о какой мечтал лет двадцать — тридцать назад. Но мечта и убогого гонит вперед. Глядя на нас, молодых, он часто поучает:
— Был бы грамотен, пошел бы в акадэмию. Сразу бы стал там акадэмиком!
Говорит он вполне серьезно и обязательно через «э»: в акадэмию, акадэмиком!..
И я, и мои друзья, которым приходилось слушать эти речи, только улыбались, чтобы не обидеть старика, а он сердился:
— Вы не смейтесь! Я вам не зря говорю, потом вспомните!.. Пока акадэмиками не стали, толку с вас не будет!..
Солнце уже село. Лиловые облака разошлись у горизонта половодьем. Влага садится на ветки, на листья, гнет их к моей голове, впитывается в бумагу. Перо уже не скрипит, чернила слегка расплываются по набухшим страницам.
Отец все-таки не дает мне сосредоточиться, но он тысячу раз прав, когда недоуменно-уважительно возражает на мое молчание:
— Я ж тебе не мешаю?!
Так дети забавляют взрослых, когда те беспричинно одергивают их, так вот отвечает он мне, уступая капризу. Почему он сговорчив и покладист сегодня?!
А на другом конце города тоже живет старик, моложе этого, но раньше и сильнее состарившийся. Тот тоже лысый, но сухой, как палка. У него нет сада, ему нечем заняться после работы, ему не о чем говорить с матерью, которая вчера только впервой сняла черный платок с плеч и выплакала все глаза по дочери.
Тот старик говорит ей:
— Что ты плачешь, мать?.. Слезми теперь не поможешь. Делай что-нибудь, носки, что ль, постирай, пуговицы на рубахе пришей!..
Пуговицы стали отлетать у него по пять раз на дню, а все потому, что жене его нужна работа, потому что, кроме обеда да дороги на кладбище, она ничего не знает.
Сам старик по вечерам уходит из дома в коммунальную сараюшку, и если не ладит кому-нибудь совок, то достает из верстака припрятанную четвертинку, наливает в засиженный молевыми бабочками стакан «полсотку», молча пьет, молча утирается рукавом. Водка его не берет. И он не знает, то ли легче ему, то ли так…
Я думаю о наших отцах:
кто из них мешает мне работать? Тот, у которого есть сад, у которого забот невпроворот, или тот, у которого вихрем вырвало единственное дерево, а вырастить новое у него уже не станет ни сил, ни лет…
И вот что еще:
случись подобное со мной, как знать, не засох ли бы и этот сад, не упали бы подпорки с яблонь, не развалился бы уже и дубовый стол, на котором давным-давно вырезал я свои и Миленкины инициалы? Хорошо все же, что старики не спалили его.
…Подкрадывается сзади отец. Беспричинная радость распирает его. В нескольких шагах от меня он не выдерживает, и я слышу, как он начинает давиться смехом. В руках у него граненые стаканы, соленые огурцы, хлеб…
— Сынулечка, а я у мамки спиртику выпросил! — хвалится он. — Давай царапнем?!
— Давай, — соглашаюсь я.
Этот лечебный спирт он наливал тайком от матери, и хорошо еще, если остаток не разбавил водой, чтобы она не догадалась.
Мы пьем.
Зримо угасает вечер, и, вместе с теплой волной в грудь, накатывается на нас волна спокойной, сиренево-синей ночи.
Мы с Миленой родились в один и тот же день — на исходе июня, с началом цветения лип. Когда мы узнали об этом совпадении, то не поверили друг другу.
Конечно, это чистая случайность, но нам она показалась многозначительной.
В душе мы считали, что это перст судьбы. Правда, мы не часто говорили об этом, как вообще не часто говорят люди о своем счастье. И оба верили: как бы ни сложилась жизнь, в день рождения будем мы вспоминать друг друга, будем поднимать тосты и желать друг другу удачи, даже если не будет поздравительных писем и телеграмм. Мы знали, что из-за этого дня никогда не забудем друг друга.
И не то слышали где, не то сами выдумали себе сказку…
Есть на свете невидимый гномик. Всем новорожденным он привязывает к ноге цветную ниточку. На каждый цвет у него по две ниточки. Одну синенькую — мальчику, другую синенькую — девочке. А когда мальчик с девочкой вырастут, они должны найти друг друга. И совет да любовь будут тогда им в жизни.
Мы думали, что нашли друг друга.
Нашли, да кто знал, что ниточка может оборваться…
Несколько дней я не выходил из дома. Сидел, как птица в неволе, хотя никто меня на привязи не держал. Наступил сплин — не то чтобы на самом деле заболела селезенка, просто хандра одолела. Раньше такого не бывало со мной.
Я чувствовал, как медленно, неотвратимо подбиралась тоска, сдавливала горло, точно захлестывало петлей. Во мне росла апатия ко всему, застаивалась, как жара над головой, точила память. Со стороны было заметно, что я стал раздражителен. Какой-то дикий гнев желчно разливался во мне из-за пустяков, и несколько раз я чуть не сорвался на мат, как бывает иной раз на палубе, когда штормовая волна дает деру…
Крепился я долго.
Трубка днями торчала у меня в зубах; мать с горьким сожалением глядела на мои желтые, прокопченные пальцы, на горку исчезающего табака на столе и молча подкладывала спички. По ее морщинистому лицу, по тоскливо заиндевелым глазам я видел, что она хотела сказать: «Брось ты свою вонючку, передохни… Не мучь себя!..» — но она молчала и только на кухне воровато, с оглядкой, торопливо утирала рушником глаза. Однажды я застал ее со слезами, рывком спросил:
— Ты чего?
— А? Что ты?! А-а… рушник-то?! Соринка, должно, попала… Никак не выну. Слепнуть стала…
Может, зря я не положил руки свои на ее плечи? Ведь, живые, мы так часто опаздываем со своими ласками. А потом — что проку потом в нашем добром сердце, в наших добрых признаниях? Или нам, мужчинам, свойственно это — из века в век оправдывать свою холодность, жестокость и неприступность каким-то сверхобычным мужеством, выдержкой? Становимся ли мы лучше от этого?!
На улице в эти дни стояла жара такая, точно солнце и ветер азиатских пустынь сместились в середину России. Сизые вихри пыли буравили город, ввинчивались в улицы, переулки. Высохли огурцы, пожухла малина, с кленов и даже с лип и тополей сыпался лист, шурша по окостенелому былью придорожных трав. Возле серых изгородей торчали обугленные кусты цикория, похожие без листьев на колючки саксаула. И было что-то общее в моих переживаниях и в саксаульности этого лета.
Бесконечно долго тянулось время, иссушенное жарой.
Как крот, выползал я ночью в непроглядную темь. Трава колючками жалила босые ноги. Росы не было. Неосязаемо тихим и безветренным был ночной покой. Я навзничь бросался на горбатые пружины дивана в саду. Изжелта-зеленые звезды мигали, как сигнальные огни на мачтах. Какие тайны хранили они в своем вековечном молчании?
И все-таки я не выдержал, сдал…
Полетела к чертям трубка, на горле разжалась петля тоски, я отправился в гости.
Миленкина мать сказала мне буднично:
— Здравствуй… Проходи в комнату…
Я сел на краешек дивана, успев заметить, что ничего не изменилось в квартире, все вещи на прежних местах. Мать ее вошла следом, принесла пепельницу. А раньше, я знаю, в комнатах у них не курили. Она, видно, вспомнила это и сказала:
— Кури, кури, с дыму, может, голова пройдет…
— Я без табака нынче.
— Папиросы чьи-то остались, — ответила она, доставая из тумбочки початую коробку сигарет. — Ты кури, пожалуйста. Я буду помнить, что не одна в доме.
И я закурил.
Мы сидели не разговаривая, думая каждый о своем и об одном и том же.
Чуть наискосок от меня тумбочка, на ней радиола, на которой мы с Миленой проигрывали пластинки. И среди прочих была одна, нравившаяся Милене, а у меня она вызывала улыбку. То была песня Муслима Магомаева. Позднее при мне она ставила пластинку реже, но мать ее всегда, когда мы подходили к приемнику, шутливо закрывала уши, уходила на кухню, говоря уже с порога:
— Ну, опять сейчас закрутит бурю, пойдет дым коромыслом…
В Миленкиных тетрадках, которые мать отдаст мне, я найду несколько строк об этом:
«Им не нравится Муслим… смеются над песней, а сами ни разу не вслушались в нее. И он тоже… Для них весна — это когда ручейки звенят, распускаются и цветут яблони и жаворонки поют. Что ж, правильно, все так считают. Но ведь черные, как сажа, скворцы прилетают на белый снег. Это тоже весна. И так для каждого тянется она от зимы до лета, от первой, расколовшейся со звоном мартовской сосульки под окном до поры, когда уже дуб оперится и зашумит молодой зеленью. И правильно — весна.
А для меня она — один только миг, миг, с которого все начинается!.. Отзвенели капели, снег сошел — а дуб как стоял, так и стоит черный. Он не спит, в нем поднимаются к самой вершине, к каждой веточке соки, и вот — днем или утром — лопнет первая почка — весна! …Вот реки наполнились водой, дышит, как живой, лед, но вдруг ударило где-то, где-то лопнуло — и трещит уже шуба, вода хлещет по швам. Корежит глыбы, и гудит, сотрясается берег… — весна! А когда приходит большое, настоящее чувство, оно сильнее паводка. Тогда кажется, что земля вздрагивает от толчков в твоей груди. И ты как будто так сильна, что сама можешь сотворить мир. Потом уже придет песня, придут страдания. И я согласна хоть тысячу раз повторять за Муслимом: нет без тебя света! Нет от тебя ответа… Знаю, что ждешь где-то!.. Слышишь, зову!.. Слышишь, иду к тебе!..»
…Радиола накрыта кружевной салфеткой. На ней стоит металлическая рамка, отделанная темным серебром. В рамке под стеклом ее фотография, такая же, как на кладбище. А раньше там был мой портрет. Это, пожалуй, единственное, что тут изменилось без нее. И мне впервые страшно по-настоящему: здесь я никому уже не нужен. Никому… Нет ее, нет…
Ее мать уже рассказывала, что Милена сфотографировалась перед самым моим приездом. Поэтому нет у меня такой карточки, а просить у матери мне как-то неудобно… Дома у меня такая же точно рамка, — я сам покупал их в Риге, покупал в день, когда нам исполнилось по восемнадцать. У нас было за правило покупать друг другу одинаковые подарки. Берешь в плавании томик Лермонтова, думаешь: может, и она читает сейчас то же стихотворение… И еще, каждый день в девять утра мы заводили свои часы. Точно в девять. Думали в эту минуту друг о друге, желали удачи…
А мать все молчит и смотрит на ее портрет.
Мать сидит недвижимо, положив одну руку на стол, другой подперев щеку. Ее тонкие ноздри подрагивают, втягивая табачный дым. Бесцветные губы туго стянуты. Черная накидка держится на затылке на узле волос… Я вглядываюсь в ее лицо, и мне становится жутко: кажется, мать помолодела от горя…
Помолодела?..
Нет, она просто осунулась, похудела, обескровели щеки и непомерно глубокой стала ямочка на груди под шеей.
Так мы сидим с ней и делим горе.
Когда я ухожу, мать сквозь слезы улыбается и подбадривающе кивает мне: мол, тебе ничего, ты живи, ты еще найдешь счастье…
Говорит:
— Обожди… Мы с отцом поглядели, тебе решили отдать…
Она достает из тумбочки Миленкины тетради.
— Тут все про вас, про тебя есть… Вот еще Семеновы письма… Возьмешь?
Пачка конвертов в руках не толстая, писем, наверное, с десяток, не больше. Они туго зажаты канцелярской скрепкой, будто накладные к отчету.
— Это вы их скрепили так? — спрашиваю я.
— Нет… — вздыхает мать. — Она сама.
Я стою в нерешительности. Хочется взять и прочитать их. Знаю, там немного вранья… Милена рассказывала о них. Знаю… Я даже просил у нее эти письма, чтоб швырнуть их Сеньке в лицо, а она сказала:
— Зачем?! Хватит, что я их читала. Когда-нибудь это кончится, а нет — я их верну достойно.
И вот я могу взять письма… Но ведь теперь все кончено. А если и не все, надо ли осквернять память?!
— Интересно, — спрашиваю, — он знает?
— Знает, — отвечает мать спокойно, — а ни на могилку, ни к нам не приходил.
— Тогда, — говорю, — я не возьму их.
— Как хочешь. Пожгу их.
Она не спеша открывает топку печи, зажигает газ, бросает туда письма. Они обугливаются, как осенний осиновый лист, и скручиваются. Только скрепка на этом черном букете накаляется докрасна, словно не хочет, чтобы так безвозмездно, бесследно уходило из мира зло.
Сенька, Семен Шаров — мой лучший друг, лучший мой школьный товарищ. И сейчас он выглядит так же, как в детстве: круглый, румяный, точно свежая саечка, кудрявистый. Такая же кудрявистая, в завитушках его речь — единственное, что отличало и теперь отличает его от сверстников. Он никогда не ответит прямо — «да» или «нет», а обязательно с колесом: «Если взвесить все объективно, то — да!..» Или: «Если сравнить с тем, что мне уже известно по этому поводу, то — нет…»
В остальном он был хорошим парнем.
В школе нам всегда не хватало свободного времени: хотелось побольше почитать, в авиамодельный кружок сходить, научиться фотографировать, да мало ли еще что! Вот мы и договаривались: один день он готовит алгебру, другой день — я, сначала он немецкий переводит, потом я. Переписывали друг у друга и — амба! Но я мог позабыть о своей очереди, а Семен — ни за что, никогда. И чтобы он обиделся, не дал списать — такого не было и быть не могло!
Он всегда выручал. Пошли в поход, у меня на привале кто-то колбасу из рюкзака спер. И никто не признается, все только смеются. Стали обедать — Семен свой сыр пополам режет. Или, я уже в мореходке учился, а Семен в Москве, в мединституте, приезжаю к нему без денег. Он говорит, пойду к брату, займу. Приходит, дает сто рублен — деньги по тем временам немалые, а я как раз домой ехал, надо было гостинцев купить. Выручил. А когда знаешь, что есть на земле человек, который ради тебя все сделает, последний кусок отдаст, то и самому таким хочется быть, может быть даже лучше.
Мать часто говорила мне, что друзья просто-запросто не заводятся, никогда нельзя подводить их или обманывать. Так-то оно так, да ведь понимать это мы начинаем, когда в поучениях уже и нужды нет. Отец рассуждал проще: «С кем попало не водись, со шпаной не связывайся, а то потом не расчухаешься». Таким образом, логика обстоятельств уже в детстве вынуждала к предусмотрительности. Если я сказал, что дружу, то должен показать друга: мать с отцом посмотрят — скажут, можно или нет… Конечно, теперь, говоря так, я утрирую. Родители, если они того хотят, должны узнавать все от нас самих, но так, чтобы и тень подозрения не закрадывалась в наше сердце.
О дружбе моей с Семеном узнали они не сразу. Если я уходил из дома и меня спрашивали: «Куда?», я, конечно же, недовольный таким вопросом, отвечал: «Сами не знаете?! К Генке, куда ж еще!..» Генка Байдаков был отличник, учителя хвалили его на всех родительских собраниях, а матери почему-то считали за счастье похвалиться друг перед дружкой: «Мой Ваня (или Петя, или Коля) всю эту четверть дружил с Байдаковым! И знаете, вместо тройки по арифметике принес… четверку!! А я думала, он у меня совсем беспонятливый…» Знаем, как же! Этот Ваня просто контрольную списал у Байдакова, а они уж тут рады, понавыдумывают…
В надежности своего алиби я не сомневался. Во-первых, Генка жил далеко от нашего дома и даже случайно не мог попасться на глаза моей матери; во-вторых, я обзывал его подлизой и на физкультуре подставлял ему ножку на прыжках, он падал и хныкал, а физкультурник ставил ему за это четверку (так что, если в конце концов он не получил золотую медаль, то это по моей милости: ненависть к физкультуре — что значит условный рефлекс! — Генка сохранил на всю жизнь); и в-третьих, я пообещал натравить на него соседскую собаку, овчарку, если он когда-нибудь станет отираться на нашей улице.
В конце концов Генке тоже выпало счастье, и он однажды за все отплатил мне. Я прогулял несколько уроков, и завуч велела мне привести родителей в школу. «А что они вместо меня, что ли, учиться тут будут?!» — хотел я возразить, но вместо этого ловко соврал: «Мать болеет, а отец в командировке!» Она тогда спросила у класса, кто сходит ко мне домой? Все молчали. «Байдаков, а вы?» — «А что — я?» — «У вас же нет общественных поручений. Сходите, помогите товарищу. Как только родители его будут дома — скажите им, что я жду их».
Хоть Генка и видел мой кулак, я целый вечер караулил его на углу. А он приперся со своей матерью. Ну, пошли у них разговоры. Хорошо еще, что отца почему-то не было, а матери своей я сказал, что Генка противный, как аскарида. Она меня, конечно, шлепнула. Но что этот шлепок, да хоть десять таких шлепков, по сравнению с тем, как я помог Генке одеться, когда он уходил от нас. Я снял с вешалки его пальто, воткнул в рукав булавку и держу перед ним. Вот он сунет руку — коль! — он обратно: кусается. И так пока у него слезы на глазах выступили, чуть не разревелся. Еще мать ему крикнула: «Геник! Долго ты будешь копаться!..» Он, конечно, рассказал ей все на улице, а она, наверно, шипела, как гусыня: «Сколько раз тебе говорила, не связывайся со шпаной». В таком деле матери все одинаковые.
А может, и не все. Генкина мать наверняка бы отцу нажаловалась, а моя вот нет. Только погрозилась. А это — что, грозиться и я умею.
В конце концов, с того дня я Генку окончательно вычеркнул из своей жизни. Он даже для отвода глаз мне не мог пригодиться.
Но дело не в Генке.
Даже теперь не могу понять, почему долго скрывал я свою дружбу с Семеном. Потому ли, что для истинной дружбы унизительны любые проверки, почему ли другому, но Семена я привел домой только после одной истории…
Как-то наш класс на весь день отправился на экскурсию в плодопитомник. Нарочно ли или случайно, но мы с Семеном отстали от всех, и тогда я сказал, что догоним их на трамвае — раздумывать было некогда — тут трамвай, мы еле успели вскочить на подножку.
С окраины города древним, поросшим травою шляхом отправились на запад.
— А ты знаешь дорогу? — спросил Семен. — Не заблудимся?
— Молчи! Мы там первыми будем!
Что такое плодопитомник — я знал. Это место, где растут саженцы яблонь, слив, груш, вишен и даже северного винограда. За год или за два до этого мы с отцом были в таком плодопитомнике и привезли оттуда дюжину корней, посадили свой сад. Но то был плодопитомник какого-то колхоза, и я помнил только, что ехали мы как раз этим шляхом. Класс же наш был в городском питомнике, совсем с противоположной стороны, но нам и в голову не пришло подумать о таком расхождении.
Шли мы с Семеном не спеша, часа через три набрели на подлесок, огороженный со стороны дороги березовыми слегами. Решили, что это и есть питомник, потому как — кто же станет загораживать обыкновенный березняк!.. И стали мы «прочесывать» свой питомник вдоль и поперек в поисках одноклассников. Вышли на песочек на бережочек, искупались несколько раз, позагорали, пообедали своими припасами, а когда солнце стало заметно склоняться к закату, отправились ни с чем обратно, да заблудились и до темноты блукали. Не особенно страшно было, потому что Семен говорил, что он меня одного не бросит… Ночью, по зареву на краю неба, мы определили, где город.
Выбрались из леса, натропили прежний шлях. Где шажком, где рысцой, где наперегонки — но старая дорога оказалась теперь короче утренней. Пришли в город — трамваи ходят, значит, не так и поздно, — сами себе думаем. Я говорю Семену:
— Теперь с тобой — хоть куда, с завязанными глазами пойду!
— Ладно, — отвечает он, — до завтра тогда! А то на последний трамвай не успею!.. — я и рта не успел открыть, как он — фьюить! — и в вагон, и поехал…
Эх, Семен, Семен, думаю… А я только хотел к нему попроситься, чтобы дома потом рассказывать, как мы одни в лесу ночевали… Из леса он все равно не удирал! Если б я зарева не разглядел, мы б и всю ночь на дубе прокуковали. А сейчас… Наверное, он мать свою очень любит. Может, даже сильнее, чем я.
Я иду от Милены домой по старым улицам, где не раз мы бродили с ней. Дорога длинная, но всегда нам казалось, что мы прошли очень быстро и опять поворачивали: от нее ко мне, от меня к ней… Между нашими встречами лежала разлука. Самая короткая длиной в полгода. Мы могли бы проговорить вечность, но мимо одного переулка, не сговариваясь, шли молча. В том переулке дом Семена. Сейчас там живет его мать, старушка лет под семьдесят. Семен у нее младший. Она воспитывала его с прилежанием молоденькой учительницы, мыла, чистила, холила, как жеребеночка, и все говорила:
— Это моя надежда, моя опора. Мне с ним век коротать. Правда, сынок?!
— Куда ж мне деться! — заученно шутливо отвечал Семен, и она, довольная, смеялась, щекотала его и трепала за кудри.
Теперь она там, в доме, одна. И жива ли еще?!
Надо бы зайти, проведать, передать от Семена привет, хотя я и не видел его. Зайду, только не сегодня, не сейчас. Пусть забудется то, что вспомнилось. Тогда будет легче смотреть на нее и рассказывать, как Семен в Москве страдает без нее, как трудно ему вырваться из Москвы в отпуск, а еще труднее с пропиской. Своей квартиры нет, а к теще мать вряд ли пропишут, даже на дачу, на это специальное разрешение нужно…
Все это я скажу и утешу ее. Но надолго ли? Она ведь была умной женщиной. Понимала все с полуслова. Да, как же ее звали?! Татьяна Андреевна!.. Маленькая, сухонькая, с розовым ротиком, похожим на птичий клюв. Муж ее погиб, кажется, в тридцать седьмом, но она как-то не горевала по нем. И вообще она была симпатичной. Почему Семен не вышел в нее характером?!
Татьяна Андреевна, мать Семена, обладала не только проницательностью, но и юмором. Она умела войти в наши мальчишеские заботы, дать ненароком дельный совет. У нее хватало такта не вмешиваться в чисто «мужские» дела и предоставлять Семену полную свободу. Правда, когда нужно, она всегда успевала сказать:
— Как женщина я это осуждаю. Это некрасиво потому-то и потому… А как мужчина я бы сделала так-то и так-то…
Если мы принимали ее вариант, она восхищалась:
— Молодцы! Я век прожила, но до такого сама никогда бы не додумалась!..
Однажды, войдя в комнату Семена и на полуслове прервав наш шепот, Татьяна Андреевна сказала:
— Я вижу, вы усердно занимаетесь?!
— Мы тут слово одно никак не переведем…
— Давайте, давайте, — махнула она рукой. — Шепчитесь!.. Все равно я раньше всех узнаю вашу тайну.
— Какую тайну? Никакой тайны нет!
Она погрозила Семену пальцем.
— У меня есть секрет! — засмеялась и ушла.
Мы сразу подумали о Миленке. Задолго до этого Семен сказал, что любит ее, писал записочки, а я передавал ей. Ответов он обычно не получал, и это нас больше всего злило. Мы допускали все, что угодно, даже то, что сердце ее отдано другому, но чтобы нас так игнорировали?! С ребятами она не дружила, а предположить, что Семен — лучший, после Генки, в классе — мог кому-то не нравиться?! Это сверх наших представлений о дружбе, о любви…
Когда на переменах Семен подсаживался к Милене за парту и просил объяснить непонятную будто задачу, ее подружки, с которыми она делилась секретами, окружали его и со смехом произносили одно только слово:
— Семен?!
— Се-ме-ен?!
— Семен, Семен?!
И смотрели на него так выразительно, что он, боясь разоблачения, поднимался и бросал им сердито:
— Отстаньте, цыпочки! Привязались, что надо?! — и уходил из класса под их веселые иронические смешки.
И вот вдруг Татьяна Андреевна заявила, что знает секрет… Я смотрю Семену в глаза; он не должен моргать. И он выдерживает. Потом говорит:
— Я полагаю, у нас пока нет оснований сомневаться друг в друге. Это — ее предательство, либо… что-то непонятное. Узнать бы…
А как узнаешь? Не спрашивать же его мать: откройте ваш секрет, дорогая Татьяна Андреевна!..
Татьяна Андреевна будто слышит наши сомнения. Она опять заходит к нам. Мы не сводим с нее глаз. Мы, наверное, растерянны и серьезны до комичности. Она, конечно, не замечает этого и говорит:
— Свой секрет, кроме вас, я никому не открою!
— А про что секрет? — спрашиваю я равнодушно, во всяком случае, мне кажется, что я говорю равнодушно.
— Про любовь, про что же еще?!
Мы как воды в рот набрали, теперь и вовсе боимся выдать себя неосторожным словом.
— Слушайте, — звонко произносит Татьяна Андреевна, — и запомните: мальчики, когда они влюбляются, начинают сами мыть себе ноги.
Мы снисходительно усмехаемся: тоже еще — секрет!.. Отворачиваемся от Татьяны Андреевны с таким видом, будто нам известны секреты похлеще, а она, все еще улыбаясь чему-то, уходит.
Вечером, придя домой, я первым делом мою ноги. Мать увидела, позвала отца:
— Смотри, отец, парень-то наш, наверное, влюбился?! То, бывало, палкой не заставишь, а то сам ноги моет.
— Ды прям… — огрызаюсь я. — Уж и ноги-нельзя помыть…
Сомнений после этого никаких не осталось. Мальчики, когда влюбляются, действительно начинают мыть себе ноги.
Я не ревную Семена.
Иногда мне кажется, что я просто завидую ему.
Возьмись он рассказывать кому-нибудь о своих чувствах к Милене, о том, как добивался ее взаимности, так из этого вышел бы целый роман. В нем были бы и муки его души, и трепет сердца, и тонкие наблюдения ее характера, описание ее взглядов, и то предчувствие волшебства, что неосознанно возникает в подростке вместе с ощущением необычного волнения крови при виде румянца на ее щеках…
Татьяна Андреевна внушала Семену, что он будет доктором, хирургом. А для этого прежде всего надо стать наблюдательным, «остро наблюдательным», как говорила она.
— Люди не должны догадываться о твоей проницательности, — так обычно заканчивала она наставления, — в этом вся мудрость.
Я же мечтал о море. И эта мечта казалась мне достижимой скорее, чем внимание Милены, тем более — дружба с ней.
…Мы начали пятый класс. Объявили, что нашу, мужскую, школу соединяют с женской. Пришествие девчонок ожидалось притихшей школой с каким-то страхом, нетерпением и любопытством. И в то же время было уже и пренебрежение к ним, почти как предубеждение.
— Ты знаешь, кого от нас перевели к ним? — спрашивал Семен.
— Кто просился, того и перевели.
— Ну да! Самых отпетых…
Я пожал плечами, мне было безразлично, да я и не понял, куда клонил Семен.
— Ты думаешь, к нам хороших переведут?.. Эх, я б пошел в ихнюю школу! Вот там девочки остались — да!.. Считай, на выбор!..
А они, переведенные к нам, держались подчеркнуто независимо, своей кучкой, на переменах ходили по коридорам друг с дружкой за руку и были в своих коричневых платьях и черных передниках удивительно похожи, однолики, как бабочки.
Потом произошло вот что.
Я бежал со второго этажа вниз, прижимая ладонь к перилам лестницы, чтобы визг и скрип от трения был посильнее! А снизу шла девочка. Я налетел на нее, чуть с ног не сбил. Рука по инерции проскочила вперед и придавила ее пальцы. Смотрим друг на друга, не зная, то ли сказать что, то ли засмеяться или промолчать. Я чуть в сторону, чтобы пропустить ее, она тоже — чтоб меня пропустить. Я назад, и она назад. Опять стали. Тут будто искра проскочила меж нами, обожгла руки. Отдернули их и — за спину, друг на друга уже не смотрим. Кое-как разошлись. Она наверх, а я ступеньки три проскочил, остановился и жду: оглянется или не оглянется?!
Оглянулась!
Повернула голову и сверху вниз смотрит на меня через плечо. Курносая, а голова круглая, с косичкой — как редька с хвостом. Любопытство, пожалуй, во взгляде или смущение… Запомнился выпуклый, чем-то сосредоточенный лоб — точно и не девочки, а взрослого человека. Улыбнулась…
«Нечаянно улыбнулась!» — решил я, а в душе у меня трам-тарарам от ее улыбки. Не заметил даже, как сверху, облокотившись на перила, смотрел на нас Семен. С дикими воплями вихрем промчался я по школе и вернулся в класс. Семен ждал меня. Он показал на эту девочку и сказал:
— Ничего, а?!. Надо понаблюдать, в ней что-то такое есть… Узнай, как зовут… Мне неудобно, чтобы не вызвать сразу подозрений…
Если бы я первый сказал!.. Не пришлось бы наступать на горло своей песне… Но в детстве, как никогда, суровы и непреложны законы мужской дружбы.
А девочку звали… Миленой.
Мы кончали восьмой класс.
Повзрослели.
Многое стали понимать иначе, хотя фраза Татьяны Андреевны — «Мальчики, когда они влюбляются, начинают сами мыть себе ноги» — волновала нас так же, как в первый раз, когда мы ее услышали. В простых словах была какая-то необъяснимая притягательность, человеческая теплота и грусть, усмешка, наивность и предательски-невинное обнажение детской тайны. А может быть, просто шутка? Догадка, высказанная так осторожно и трогательно, что ни признать ее, ни отклонить было никак нельзя?! Как нельзя было не улыбнуться самому себе, когда, повторяя мысленно эти слова, подходишь к умывальнику и заранее вздрагиваешь и ежишься оттого, что холодная вода польется сейчас на ноги…
Чувство, похожее на это, было у меня, когда я решил объясниться с Семеном.
— Скажи, ты еще думаешь о Милене? — спросил я.
— О «дикарке»?! Мальчик, за кого ты меня принимаешь? — возмутился он, точно я оскорбил его самые лучшие чувства.
Мне и вправду стало неловко и обидно за себя: долго молчал, откладывая это объяснение. Не лишнее ли оно? Как будто и так все ясно!..
Семен пытливо, «по-докторски» взглянул на меня, словно ему нужно было определить диагноз, и продолжал:
— Кстати, ты почему спрашиваешь? Подозреваю, что тебе нравится моя новая пассия? Это такая, скажу тебе, фигура!.. Такая фигура… Она верна мне, и тебе не удастся отфутболить меня опять к этой, к «дикой»!.. Ты, безусловно, понял меня?!
Он прекрасно знал, что я не хочу ничего такого. Пустая болтовня. И, наверное, догадывался, как трудно мне говорить об этом. И ждал. Ему было интересно, как я буду выкручиваться. Сам он на моем месте сказал бы: «У тебя ничего не получается с «дикой». Беру ее на себя…» Он бы пошел прямо к цели. Может быть, доктор так и должен делать: надейся на себя! Его девизом были слова: «В ответе за все!» Правда, когда я уехал, он уточнил: «Один в ответе за все». С возрастом Семен стал брать на себя больше. Но его девиз не нравился мне: один — значит, один. Значит, нет друзей. А если совсем один — то ты не силен, а не силен — так какой из тебя ответчик?!
Только теперь я начинаю понимать, что уже в том разговоре, в том нашем объяснении он оставил себя одного, как будто отделился от меня, гордый, независимый, удачливый и почти всемогущий.
Мне было и больно и стыдно, я не хотел произносить имени Милены, даже имени, чтобы его не обидеть, чтобы чистой, незапятнанной осталась наша дружба на всю жизнь.
Тогда я спросил его:
— Семен, я виноват перед тобой?
— У меня нет оснований упрекать тебя… А если б они и появились, я бы счел это вражеской провокацией. Но не сомневайся, я бы и тогда сохранил нашу дружбу!
— Я не говорил тебе, молчал…
— Не тяни резину!
— Она мне… с самого начала нравится…
— Кто?!
— Кто-кто, сам не знаешь?!
— По моим данным, ты женоненавистник, мальчик! Ты же моряк, ты можешь нравиться только на час, и то если этого часа на берегу хватит, чтобы понравиться дамам! — Он бравировал, зная, как хочется мне быть моряком и как нелегка матросская служба. — Признавайся, ты рассчитываешь заманить «дикарку»? На какой крючок? Или на золотой якорь?!
— Я ничего не думаю! Я хочу сказать тебе, что она мне нравится. Точка!
Он поджал губы, с наигранным безразличием усмехнулся:
— Хочешь, чтобы я вручил ей твою ноту?!
— Это не должно мешать нашей дружбе.
— Ах, вон ты о чем, дружище… Не помешает, не бойся. А записочку — я ведь тебе обязан — давай снесу!..
— Ладно, — вздохнул я облегченно и махнул рукой. — Ладно и так, без записок!..
Страшило меня тогда, да и после, что однажды Милена спросит: «Зачем ты записки его носил? Писал бы сам!..» — а я не буду знать, как ей ответить. И если б она спросила это теперь, я тем более не нашелся бы, что сказать.
К счастью, она никогда не спрашивала об этом.
Я знаю, что был некрасив — долговязый, тощий, с длинным и тонким носом. Зимою бледный, летом «пегий» — с пятнами на лице от загара, — такой я не мог нравиться девчонкам. Красивых, опрятных мальчиков, которым красота их ничего не стоила, презирал. Мне казалось величайшей несправедливостью, что одним даны и матово лоснящийся цвет лица, и мелодичный голос, и слух, — так, что они могли ходить в хор, петь, плясать, нравиться и кружить головы даже старшеклассницам, а таким, как мне, надо вечно оставаться в тени. Мы могли, правда, свистеть почище соловья-разбойника, орать, топать ногами и срывать репетиции, а уроки пения превращать в ярмарку…
Красивые мальчики и одевались красиво, и вели себя отлично. На вечерах они танцевали с девочками и после, с чувством какого-то узаконенного права, провожали их с танцев домой.
Мог великолепно делать это и Семен, но его я не презирал, потому что знал, какой ценой доставались ему хорошие манеры. Часами тренировался он перед зеркалом, а потом, обращаясь к матери как к девочке, демонстрировал успехи. Знаю, как изматывал он ее в танцах, отдавливая ей ботинками носки, а она стоически сносила муки и улыбалась. Когда Семен переставлял пластинку, она без сил падала на диван, обращая его внимание на мою постную, равнодушную физиономию.
— Ах, Семен, вы ужасны… — говорила она томным голосом. — Дайте минуту отдыха!.. Займите меня! Познакомьте, наконец, с этим печальным рыцарем! — и показывала на меня.
Семен брал меня за локоть:
— Извольте, граф, пройти со мной! Я представлю вас старой графине Шаровой…
Не желая обидеть Татьяну Андреевну, я делал два или три шага, а она начинала смеяться над моей неуклюжестью и все сваливала на Семена:
— Я протестую, протестую!.. Я совсем не старуха, мне только осьмнадцать! А вы… вы… Злой мальчишка, я отказываю вам!
Боже мой, милая женщина, она ведь и тогда была совсем старушка!
— Граф, — протягивала она мне руку, — уведите меня. Идемте в гостиную пить чай с малиновым вареньем, а Семен, в наказание, пусть убирает комнату…
…Я не жалуюсь на свою долю, потому что такая была тогда жизнь. У Семена полегче, у других и потруднее. Война хоть и кончилась, но последние подводы ее голодного обоза еще тянулись через наше детство. В магазинах были длинные очереди за хлебом, занимали их с ночи, чтобы поутру успеть на работу. Нашей семье приходилось на всем экономить, иначе не свести бы концов: мы снимали частную квартиру и строили свой дом. И никогда белые, как простыни, накрахмаленные Семеновы рубашки с запонками, ботинки и туфли с пряжками, малиновое варенье и даже Татьяна Андреевна, так усердно учившая его изысканным манерам и обходительности, не заменят мне моего лиха, моей рано начавшейся взрослости, самостоятельности, того уважения и той любви, какие испытываю я теперь, как жалость или как вину, когда гляжу на мозолистые, посеченные черными трещинками руки моего отца или на рано поседевшую мать, которая и сейчас, глядя в зеркало, нет-нет да и скажет, в хорошем настроении:
— Старею… Ты бы, отец, повыдергал мне седины-то!..
— Ладно, мамульк, давай! — засмеется он.
Подойдет, посмотрит на сплошную седину, где прежний черный волос уже редкость, как зеленая трава на выгоревшем лугу, поднимет и выпустит из горсти сухой локон. Скажет:
— Это ж какую прополку учинить надо?! Тут и колхозу не справиться!.. Ладно, покупаю с получки машинку, мы тебя обработаем, под нулевку!
— Эх ты!.. — покачает мать головой. — Не нашел чего поумнее сказать… Хватит с нас одного лысого!
Помню, мы копали траншею под фундамент. Сидели на корточках с ведрами и выбирали щебень. Перемешанный с землей и глиной, он не поддевался лопатой, и каждый камешек приходилось выцарапывать пальцами, сдирая ногти в кровь. Сколько проклятий сыпалось при этом на голову мясника, у которого до революции стояла на этом месте каменная усадьба. В войну усадьбу разнесло бомбой. Хороший кирпич люди еще до нас растащили на печи и трубы, а мы выгребали щебень, лезли через воронку в глубину, до твердой земли — материнской! — и радовались, что фундамент бутить не из покупного, а из своего щебня. Очищали каменья от грязи, сортировали, кучками складывали на бруствер траншеи, чтобы высушило ветром.
В этой траншее я наткнулся на продолговатое металлическое острие. Стал откапывать, и в предчувствии мальчишеского счастья замирало сердце: то была сабля, ржавая, правда, с искрошенным жалом, но настоящая, с тяжелой витой рукоятью. Долго оттирал ее жженым кирпичом, отбивал окалину ржи, пока она заблестела сперва серо и тускло, а потом, когда тайком извел на нее банку керосина и несколько листов наждака, она засияла всамделишным сабельным блеском и только кое-где по желобу остались мелкие крапинки, похожие на брызги крови. Была на сабле и дата — 1812.
Вечером я выходил с саблей на пустырь, где ватагами бродили мальчишки с соседних улиц, как полководец, только в изодранных штанах, поднимался на холм, и мне казалось, что вся слава русского оружия лежала в моих руках. В целом свете не нашлось бы тогда человека сильнее меня. Другие сабли, выточенные мальчишками из дерева или выкованные из обручей с бочек, разлетались в щепки или гнулись как прутья, стоило нам схлестнуться. Весь бурьян на пустыре был порублен в неделю, точно это разудалые косари прошлись здесь богатырским размахом.
Я тогда не был знаком с Миленой, а думал, что ни одна красавица не устояла бы перед таким молодцом.
Еще помню, когда настлали сосновые полы, поставили стропила и окопные рамы, мы уже ходили ночевать в свой дом. Не было крыши, но на матицах лежали и сохли потолочные доски, в просветах между ними мерцало звездами небо. В углу, в стружках, шуршали мыши, я от непонятного страха прижимался поближе к матери и думал, что крыша вовсе не нужна, и хорошо бы нам всегда так: спать на стружках, не бояться ни дождя, ни снега, ни ветра…
И хорошо каждый день разжигать из стружек костер, ставить на кирпичи чугунок и потом хлебать из него в обжожку суп, заправленный жареным луком и сладковатым дымом.
Сколько-то лет спустя было однажды, что я пришел с улицы злой, обиженный, начал говорить матери гадости, упрекать ее, что она неправильно меня воспитала, что я бедный и нищий, а у других ребят все есть — и велосипеды, и фотоаппараты, и лыжи, а у меня ничего нет, и что вообще я зря живу на свете, и они зря живут, потому что ничего не могут для единственного сына…
Отец хлопнул дверью и ушел в сад. Мать сжалась от моих слов, лицо ее стало каким-то горько-полынным от обиды и страдания. Она показала на отцовский ремень, кожаный, с широкой солдатской пряжкой, едва слышно выдавила из себя:
— Надо тебя высечь, да руки не поднимаются…
И больше ни слова, будто не видела и не слышала меня.
Я пошел на кухню, там за занавесочкой был у меня отгорожен угол, лег на дощатую кровать и зарыдал. Оттого, что завидовал другим, оттого, что был бессилен, оттого, что дурак, оттого, что зря обидел отца с матерью.
Я нарывался на скандал, а они даже говорить со мной не захотели! Оттого, наконец, что никто на свете не мог унизить меня так, как я сам.
Я жевал, как теленок, край подушки, давился ею и всхлипывал, ненавидел себя за слабость, за свои последние детские слезы, которые текли по рукам, в подушку, на простыню и даже падали на пол, и все не мог остановиться.
А потом стало еще горше.
Мать подошла, в руках у нее тоже подушка. То ли она убирала свою постель, то ли она и в эту минуту не потеряла чувства юмора, помню только, как сказала дрожащим голосом:
— Подвинься, дай и я с тобой поплачу!..
Я, конечно, окаменел. А она:
— Я в свою подушку плакать буду…
И заревели мы в два голоса, потекли слезы в четыре ручья.
Последние мои детские слезы.
Теперь, доведись мне сызнова пережить такое же детство, не променял бы я его ни на чье другое. И не забыть мне никогда ту горькую и счастливую пору.
Ко всему, я не мог похвастать здоровьем.
Простуды, вечно красное горло, припухшие гланды, термометр, горькие порошки — как все надоедало, мешало жить. Врачи запрещали сквозняки. В холодную погоду, в дождь предписывали сидеть дома или надевать галоши, чтобы не схватить насморк.
Я был послушен, насколько мог, и… мечтал о море! О соленых брызгах океана, о штормах и буйных ветрах.
Если некому было удержать меня дома, а начинал хлестать ливень и шквальный ветер опрокидывал колченогие городские урны, я убегал на улицу едва ли не босиком, распахивал тужурку, шел навстречу ветру и непогоде. Полы за спиной реяли, как полы адмиральского плаща, который казался мне похожим на черкесскую бурку, и представлялось, что я на палубе странствующего фрегата… Ударит свирепая молния, разверзнется бездна, и в диком упоении захохочу я торжествующим смехом, через грохот и рев бури заору:
— Аиу утара, неведомая земля!
Никогда не умевший петь, не имевший слуха, я ломал свой мальчишеский дискант, орал и захлебывался стихами корнета лейб-гвардии Гусарского полка Михаила Лермонтова:
Хорошо было тогда!
Откуда и смелость бралась, и отвага!.. Врачи, если б знали, с ума посходили бы. А я смеялся, хохотал, мчался через лужи, прыгал, точно на скакуне, срывая на лету «то лавровый, то фиговый листок», и радовался, что ни милиция, ни чванливые прохожие не могут остановить меня, что весь белый свет безучастен к безумию несовершеннолетнего идальго!
И через годы, на учебной шхуне, я буду вспоминать эти минуты, сакраментально усмехаясь заботам врачей. Что бы они знали: сквозняки на море — залог здоровья! Нет, не было и не будет такого моряка, которого бы свалил сквозняк, сырой ветер или буря.
Тогда было хорошо. Под дождями не затухала, а разгоралась ярче мечта юнги, хотя и во сне он еще ни разу не видел моря.
Однажды, мокрый до нитки, в хлюпающих ботинках, посиневший от холода, как червяк, я забежал к Миленке. Не обогреться, не обсушиться, а скорее, чтобы показать, какой я!..
Миленка выскочила в коридор, вытаращила глаза, мнется, не знает: смеяться, на помощь ли звать?!
Вдруг позвала:
— Мам!..
— Тсс! — я приложил палец к губам, собираясь улизнуть незамеченным. А на коврик с меня уже натекла лужа воды.
Мать ее выглянула с кухни.
— Приплыл, — говорит, — гусь…
Я молчком ищу дверную ручку. Нащупал — цап за нее! И, чувствуя себя увереннее, киваю Миленке: пошли, мол, на улицу.
Она шепчет:
— Сейчас!.. Боты достану…
Да мать ее остра на ухо.
— Куда? Куда?! — кричит нам в приказном порядке. — Милка?! Сидеть дома!.. — тут же выносит тапочки, брюки, рубашку, велит мне переодеться, а дверь на ключ, ключ в карман фартука, чтобы я не удрал.
После недолгих хлопот мы с Миленой на диване, держим в руках алгебру, ждем, пока на кухне закипит чай. Она почему-то шепотом и с такой же, как у меня, дрожью в голосе спрашивает:
— Замерз?!
— Что ты?! — возмущаюсь я и подергиваю плечами, чтобы не так заметен был озноб во всем теле. И хвастаюсь:
— А я стихи сочинил! Под погоду!..
— Сейчас?!
Киваю головой, жду, что попросит прочитать, и вспоминаю торопливо Лермонтова.
— Прочитай, а?!
— Ладно, слушай, только тихо!
Шпарю от начала до конца Михаила Юрьевича:
Разве мог я после этого не стать моряком?! Ведь Милена верила…
Почему на земле так трудно быть одному?
На море спокойнее, хотя опасность подстерегает там чаще. И на море человек редко бывает один. Если лодку твою унесло от берега, тебя почти всегда будут искать, искать, чтобы спасти.
На земле, даже когда ты провалишься сквозь землю, другой закон. Скорее будут искать, чтобы узнать, где ты. И не всегда случайный прохожий подаст тебе руку на помощь. В море такого не бывает, потому что там каждый может оказаться в беде. А по земле люди ходят как будто застрахованные. Застрахованные от чужой боли и чужого несчастья, от чужой радости и чужой дружбы.
Может быть, поэтому люди и страдают так тяжело.
Каждые полчаса на морях смолкают рации. И каждые полчаса радисты забывают о своих трубках, папиросах и сигаретах. Каждые полчаса три минуты вслушиваются они напряженно в эфир. Они слушают океан, чтобы откликнуться на зов о помощи.
Кому и что крикну я?!
Неужели же во всем городе нет теперь человека, который бы выслушал, утешил меня? Просто поговорили бы о пустяках, но так, чтобы потом дышалось легче, чтобы сердцу стало просторней!
Вспомнил!
Милена писала, что в редакции комсомольской газеты работает Светка Демина, ее подруга.
Это была единственная девчонка в нашем классе, которая сидела на задней парте — всегда на последней парте правого ряда, в углу у стенки. Кажется, ни разу за десять лет не сменила она место. Тихая, худая, бледная. Не по возрасту большие выразительные глаза. Карие. И какой-то ломкий, как звук балалаечной струны, голос. Никогда бы не подумал, что такая может стать журналисткой. Другое дело — парикмахершей или кассиршей, пианисткой, наконец! Но журналисткой?! Тихоня, Галу́шка!.. — как звали Светку в школе — это может быть только в нашем городе, или больше нигде!
Когда на море после сильного шторма входишь в штиль, на душе хоть и хорошо, но все-таки неспокойно. Уже не в тягость заботы: можешь нежиться на солнце, сосать трубку, которая разгорается с первой спички, а ты, словно не веря себе, будешь бесцельно брякать в руке коробком, щуриться на блеск волны и смачно сплевывать, все еще переживая в душе тревоги авралов и невольно напрягаясь от длинных, как буксирные концы, распоряжений и команд вахтенного начальника с тугими, точно морской узел, ругательствами, что ожесточали тебя и злили и помогали перебарывать стихию. После сильного шторма хорошо идти по волне — небольшой, балла на три, встречь ветру, срывающему пенные гребни, чтобы морская пыль залетала в трубку и шипела в ней и клокотала, а ты бы время от времени накрывал чубук большим пальцем, не боясь обжечься приминал слегка жар и пепел, чувствуя, что ноги сопротивляются качке, и посмеивался бы и радовался победе.
Кто не испытывал такого облегчения и такой радости, тому не понять, какие чувства захватывают моряка, когда на траверзе судна замечает он темную полоску родного берега, а потом и белую башню маяка, и тонкие, как аистиные ноги, телемачты, и четкую линию мола близ гавани.
Нечто подобное испытываю теперь я, направляясь в редакцию, где должна работать Светка Демина. Не знаю, чем объяснить такое состояние. Может быть, тем, что трагедия с Миленой измотала меня, как буря. Или надоела, опротивела отрава одиночества? А может, встреча со Светкой кажется мне похожей на встречу с родным берегом, на котором все как прежде, только не светит маяк…
Мой маяк…
Я шел в редакцию первый раз в жизни и — взрослый человек! — чего-то побаивался. Скажут, чего шляешься, людям мешаешь!.. Впрочем, я решил никому не мешать. Открыл дверь в один кабинет — Светки нет, в другой — тоже нет, в третий…
Комната оказалась проходной. Из нее было еще две двери и, чтобы заглянуть в них, надо было, конечно, войти, поздороваться. Не успел я с духом собраться, как меня спросили:
— Э! Вам кого?
За одним из столов сидела равнодушная белобрысая девица, перебирала и сортировала письма. За другим, откинувшись на спинку кресла, в руке на отлете сигарета, изо рта дым клубом — молодой широкоплечий парень в очках с массивной оправой, пышной гривой волос, напоминающий не то Алексея Толстого, не то Тургенева. Сбоку от него сидел какой-то очкарик — маленький, замурзанный, с тихим голосом, и, не обращая на меня внимания, читал по раскрытой тетради.
— Эт-то не пойдет, — не дослушав, говорил ему похожий на Толстого и Тургенева, — давай дальше. А вы присаживайтесь, сейчас! — кивок мне на стул с другой стороны стола.
Делать нечего, присел. Смотрю, слушаю. На столе перед большим очкариком штук пять или шесть зажигалок. Он вертит их, щелкает крышками — если фитиль загорается сразу, парень довольно хмыкает, этак оценивающе прищуривается на зажигалку, но в конце концов решительно отодвигает в сторону:
— Эт-то не пойдет!..
А маленький очкарик переворачивает торопливо страницу, читает еще быстрее, почти взахлеб, и бисерный пот выступает у него на лбу… Бедный автор! Какие стихи отвергаются!.. Да так скоро! Впрочем, если бы не зажигалки, стихи отвергались бы, пожалуй, нечитанными.
— Все! — говорит с шевелюрой, сгребая зажигалки в горсть. — Эт-то не подходит. Приноси что-нибудь поинтереснее.
Маленький очкарик рассовывает зажигалки по карманам, кивает, дакает, свертывает тетрадку, задом пятится к выходу, обещая зайти на днях, а я не могу понять, что же ему вернули — стихи или зажигалки?! Но тот, кто вернул, мне нравится. Он говорит уже мне:
— Э, здравствуй! — и протягивает руку. — У тебя нет зажигалок? Я собираю, могли бы поменяться! У тебя что? Тоже стихи, поэма?..
— Нет, — отвечаю, — мне надо найти Светку Демину.
— Светку? Демину?! Старик, ты не по адресу. Тебе надо в адресное бюро.
— Сла-ва!.. — жалобно говорит белобрысая девица.
— Ах, да! Извини, пожалуйста!.. — Не разобрать, у кого он просит извинения, но я на всякий случай киваю головой, точь-в-точь как тот автор. Тогда Слава спрашивает:
— А эт-то что за Света Семина? Мы о ней писали? В каком номере, в какой статье? Числа какого, помнишь?
— Она должна работать в вашей редакции.
— Должна?! Кто же это? Свет, ты не знаешь?!
Белобрысая безразлично пожимает плечами.
— Подожди, — говорит Слава, — в каком отделе? Эт-то что, она наш нештатный автор?
— Мне сказали, — стараюсь я разъяснить спокойно, — она давно в редакции, в штате должна быть.
— В штате — нет. Кто у нас Светки? Ты… — задумываясь, показывает он пальцем на белобрысую, — потом Светка Борщева, потом Светка такая-то, потом такая-то… — Фамилии вылетают, как голуби, из рукава фокусника, а я жду, когда кончится этот поток, но фамилии Деминой так и не услышал. Слава разводит руками:
— Вот!.. Все Светы… Семиной нет.
— Деминой!
— И Деминой нет, я же знаю!
— Она училась в тридцатой школе.
— Э, тут все учились в тридцатой школе. Ты что-нибудь еще придумай, а то напутал…
— Нет — так нет, — говорю я удрученно и иду к двери, не замечая, как говорю вслух:
— Значит, была «Галушка» и пропала…
— Э! Стой, стой!.. Ты сказал: Галушка?! Тебе кто нужен?.. Повтори, как ты сказал?!
— Вроде — Галушка, а что?
— Голова… — он осудительно смотрит на меня и смеется. — Говорил: напутал!.. Какая ж она Семина? Она — Лавочкина. Лавочкина — Галушка! Она тебе срочно нужна?!
— Да.
— Сейчас мы тебя наведем на нее.
Пока я стою и раздумываю, в какой связи все эти незнакомые для меня фамилии, начиная от Семиной да Галушки и Лавочкиной, и что я скажу, если это вовсе не та Светка, которая нужна мне, Слава быстро набирает по телефону номера и какие-то звучные, необычные названия долетают до моего уха:
— Наборный? Галушки нет?.. Корректорская?.. Линотиписты?.. Черт возьми, офсетный? Как я попал…
Наконец:
— Нет нигде вашей Лавочкиной! Пропала…
Блондинка поднимает от писем голову, смотрит на меня, потом на Славу, говорит ему:
— Тимофея сегодня нет, ты знаешь? Она не у него заперлась?!
— Что, у Тимофея?! Сидит рядом, а мы ее разыскиваем?! — он опять набирает номер. — Галушка?! А тут к тебе автор!.. Как нет, как нет, когда ты есть! Когда он сказал, что из редакции не уйдет… Не кипятись, не кипятись, знаешь, какой парень? Светка от него в обморок падает, но делает вид, что занята почтой… Придет, придет, уже пошел!..
И мне:
— Ну вот, а ты говорил… Нашли же! Иди к заму, она там. Не знаешь?.. По коридору направо, потом еще два раза направо, потом налево, потом прямо — там найдешь!
Я перевожу дух.
Иду этой дорогой, боясь сбиться, хотя других поворотов нет. Вхожу наконец в кабинет заместителя редактора, а там — Светка! Светка Демина, Семина, Лавочкина и — Галушка.
— Ну, — говорю я, пока она смотрит на меня, узнает и не узнает еще, — и длинна же к тебе дорога!
Светка отодвигает… стол и кидается обнимать меня.
Так бывает: учился с человеком в школе, потом годы почти стерли память о нем.
Где-то от кого-то слышал о нем с пятого на десятое, а приведись вот такая, как у нас со Светкой, встреча — и поневоле вскочишь, будто ветер подымет! Сдвинешь рывком стол, потому что стул упирается в стену и некогда его отставлять, обнимешь давнего товарища, да и охнешь, а то и всплакнешь с радости…
Светка…
Она, конечно, это она! Но что с ней стало?! Тихоня была, худая, бледная… Ничего подобного! Буйная, звонкоголосая, и свежа, как утрешнее молоко! Лишь глаза по-прежнему карие и, как в детстве, кажутся не по-возрасту большими. Вместо гладко зачесанных волос, пробора и тонкой косицы — короткая стрижка, что-то взбитое, взлохмаченное — ни гребешка не нужно, ни заколок. Она хорошо пополнела, раздалась вширь, и я улыбаюсь, думая, что не зря ведь она — Лавочкина. Во всем ее облике чуть уловимая медлительность, будто человек встает со скамейки и намеревается потянуться…
— Ты чего?! Надо мной смеешься?! — вскрикивает она, топая по ковру белым каблуком. — Все выкладывай! Немедленно, все!..
— Ну как же, — я развожу руками, — ты теперь Ла-во-оч-кина… Так просто и не обнимешь!..
— Да-а…
Она усаживает меня на диван, бочком на краешек мостится сама, складывает на коленях руки.
— Давно уже Лавочкина, — рассказывает она, а глазами пожирает меня, и — то лукавость, то грусть, то какое-то онемение в ее взгляде или испуг, то снова радость. — У меня двое ребят: мальчик и девочка. Девочка на тот год в школу пойдет, мальчик в сад. Работа, как видишь. Кончила институт заочно — могу похвастать! Теперь я уже зав. Командую отделом комсомольской жизни. Вот и все. — Она подняла брови, будто раздвинула их шире, и без того широкие. — Ты?..
— Я?.. Я так же: штурман, отпускник.
И вот — первая пауза в разговоре, первая минута молчания, когда мы не столько разглядываем друг друга, сколько думаем, можно и нужно ли говорить сейчас о Милене… Лучше промолчать. Не может ведь Светка думать, что я н е з н а ю. А я, я не могу спрашивать — ведь никто не скажет о Ней нового, никто, и Светка тоже.
— Я пока в дрейфе, — говорю и сам не понимаю, то ли в шутку говорю, то ли всерьез, а она почти в голос со мной:
— Ничего, ничего, все обойдется… — и слегка трогает меня за рукав. Спохватывается, идет к столу, энергично двигает его на место, потом берет лист с газетным оттиском, держит его вверх тормашками, пытается найти, прочитать какое-то место.
Немного погодя мы начинаем весь разговор сначала, только подробнее. Оказывается, после школы Светка работала именно в парикмахерской, как я и думал. От нечего делать, говорит она, завела кондуит на своих клиентов. Выдумывала им профессии, добродетели и пороки, потешалась над ними всласть, а иногда и горевала — хоть и клиенты, а все-таки люди. Выдумка ее шла от какой-нибудь истории или фразы, оброненной посетителем, или от того, что сама видела: галстук, который перестали завязывать женские руки, подгоревший под утюгом воротник, рукава с одной запонкой или чье-то истерзанное бессонницею лицо…
Девчонки, с которыми работала Светка, знали обо всем и как-то раз, чтобы подшутить над ней, показали ее блокнот одному журналисту. Его Светка тоже не постеснялась расписать, да так, что он сперва хохотал до упаду, а потом умолял Светку подарить ему блокнот. Журналист этот, Тимофей Колобов, был заместителем редактора газеты. А кончилось все тем, что в один прекрасный день за Светкой прислали машину и отвезли в редакцию. Там дали задание — написать об ударницах с трикотажной фабрики, она сделала, но выступать под своей фамилией отказалась. Поставила псевдоним — С. Галушка, да так и осталась, как С. Галушка, в редакции, уже навсегда.
— А знаешь, — призналась она, — я тогда лучше писала, хоть моих фельетонов и сейчас боятся. Теперь привыкли, а то ведь и шантажировали, и угрожали, и подарками пытались задобрить…
Утомленная рассказом, взъерошенная, потому что когда рассказывала — в азарте лохматила космы, она жалостно вздыхает.
— Наболтала тебе три короба, а простое задание не могу осилить. И так бывает…
Я не верю.
— Ах, не веришь, — как-то ласково возмущается она, — на-ка тебе письма, сочини ответ. Один на всех, понимаешь?
— Зачем это?
— У-у!.. Я тебе объясню, — говорит она, а мне кажется, что уже нет ничего страшнее этого «у-у!..». — Раз в месяц у нас выходит полоска «Подруга». В прошлом выпуске мы затеяли разговор о любви, о дружбе. Вот и хлынул поток. Девчонки, мальчишки жалуются друг на друга, всем хочется «чистых» чувств, только они «пока в ссоре». А как их помирить?! В редакции все отказываются: сама заварила — сама расхлебывай! А у меня голова на части разламывается… Выручи, а?!
— Свет, я же штурман.
— Ничего ты не понимаешь! Представляешь, им отвечает сам штурман, штурман дальнего плавания… Сотни девчонок мечтают любить моряков. Тысячи мальчишек сами хотят стать такими… Ты… расскажи им о любви…
— Ну!.. — я подумал и… сдался, чтоб доставить ей хоть маленькую радость нашей встречей. — Ладно, письма прочитаю, а надумаю что — скажу.
— Великолепненько, гора с плеч! Сиди тут, никого не бойся, никому не открывай. Как будет готово — позвони по этому номеру, я прибегу. Вот так вот!..
Она пишет номер телефона, оставляет его на столе, берет газетные оттиски и уходит с коварной улыбкой. Дверь за ней защелкивается на английский замок.
Как странно все.
Я сижу за столом, на Светкином месте. Здесь работает, пишет местная знаменитость — Тимофей Колобов, правда, имя его я услышал сегодня впервые. О чем он пишет? Плохо или хорошо? Наверно, хорошо, иначе Светка бы не сказала, что «он у нас как писатель». Да и грешно жить на нашей земле и писать плохо. Колобову есть у кого поучиться. В наших краях подолгу жили Лесков, Толстой и Тургенев, Бунин, Фет… Как же после них писать плохо? Читатели засмеют. Но не позавидую я этому Колобову, хотя устроился он ничего: мягкая мебель, ковры, полированный стол, набор всевозможных ручек на мраморной подставке… Только пиши! Шелковистые портьеры на окнах. А вот и Бунин — портрет на стене. Верно, уважает, чтит его Колобов.
Долго всматриваюсь в лицо Бунина: сухощаво-болезненное, будто чахоточное, с впалыми глазницами. Взгляд проницателен и тосклив, безбрежно тосклив. В такие минуты в нем, наверное, просыпался черный человек Есенина. А ведь как он любил! Лику, Оленьку Мещерскую, Россию!.. И все же не могу понять, как смог он покинуть родину. Жестокое сердце. Понять не могу, а верю, сколько страданий вобрал он в себя, особенно там, на чужбине, сколько перемучился, сколько снов истосковал по отчей земле…
Почему-то вспоминается мне самодельный памятник из ракушек на братской могиле моряков под Севастополем. По серому ракушечнику мелом написано:
Какая связь между Буниным и этим воспоминанием?
Беру лист бумаги и пишу:
«Бунину нужен памятник».
Оставляю записку на видном месте. Пусть подумает Тимофей Колобов. Если он хорошо пишет и если он любит Бунина, он поймет, что это не шутка.
Да, письма…
Читаю одно, второе…
Звонит телефон. Отвечать или не отвечать? Поднимаю трубку…
— Это Колобов? Тимофей Иванович?!
— Нет. Он в командировке.
— Простите, а кто это?
Называю себя.
— Вы не знаете, к кому мне обратиться с таким вопросом?..
Отсылаю всех по номеру к Галушке.
— Ах, Галушка?! — в трубке то недоумение, то радость, то огорчение. — Спасибо, спасибо…
Я доволен.
…А писем много. Все интересные, но чем больше читаю, тем тоскливее мне, тем больше уверяюсь, что помочь Светке не могу. Не знаю, что ответить ребятам, а они как сговорились, все об одном: «Предлагал девочке дружбу, а она отказалась…» Или не ответила, или сказала, что ей нравится другой… Не лучше и девочки: «Я не могу без него!..» В заключение — «Посоветуйте, что мне делать?», «Напишите мое письмо в газете, тогда она сразу поверит и согласится со мной дружить…»
Что в этих письмах знакомо мне? Неужели в мире ничего не изменилось и поколение, которое идет за нами, не поумнело?! Хотя нет, поумнело!.. Ни в одном письме нет постскриптума, каким заканчивал свои послания мой друг Сеня Шаров: «Жду ответа, как соловей лета». Одной пошлостью меньше…
Не дождавшись моего звонка, приходит Светка.
— Ну что, Галушка?! — спрашиваю я, чтоб сбить ее с толку.
— Как что, готово?! Со штурманским приветом и пр…
— Нет, — говорю, — не писал и не буду.
— Почему?
— Потому что все они, — киваю на письма, — предлагают дружбу.
— Естественно, — пожимает она плечами, — а чего ты злишься?
— Да того, что знал я одного мышонка. Пришел он к кошке и говорит: «Кошка, кошка, давай с тобой дружить!» — «Давай!» — согласилась кошка и стала заботиться о нем ласкает, облизывает, поит его, кормит… Мышонок только на печи лежит, бока греет. Терпела-терпела кошка, а потом посмотрела на него, как на мышонка, мяукнула и чуть не проглотила. Говорит: «А катись-ка ты, мышонок, дальше, пока цел!..» И покатился он: сначала к зайцу, потом к лисе, до медведя дошел. Везде та же история. В конце концов докатился опять до мышиного царства, а мыши смеются. «Чем, говорят, трепаться, лучше б на самом деле другом был. Тогда б тебе не пришлось ни к зайцу, ни к лисе, ни к кошке бегать!..» Но мышонок каким уродился, таким и остался. Как в песне: орел степной, казак лихой… Хоть и женился потом, а живет плохо, и все на сторону поглядывает, все в друзья набивается, а только от него самого дружбой и не пахнет…
Светка пристально смотрит на меня, краснеет, я отвожу взгляд, собираю в кучу ее письма.
— Ты про кого рассказал? — спрашивает она настороженно.
— Не важно. Сказка — ложь, в ней намек — добрым молодцам урок.
— И превосходненько! — неестественно оживляется она. — Материал так и назовем: «Добрым молодцам урок!»
— Ты что? Я писать не буду.
— И не надо!.. Материал ведь уже готов, его только цитатками из писем разбавить…
— Давай, давай, дерзай, Светка!
— А все-таки скажи, это ты про Семена?!
Я молчу.
— Знаю, — говорит она растерянно, и интонации Миленкиного голоса слышатся в ее словах, — не скажешь, а это ты про Семена. Он и мне дружбу предлагал…
Вот этого я не знал.
С того вечера, когда я читал Милене стихи, и до отъезда в мореходку я был у нее только однажды, как раз в тот день, когда мы объяснились с Семеном. Он тогда еще предлагал отнести ей мою записку, а я отказался.
Вымытый, вычищенный с головы до ног (которые мальчики сами моют, когда влюбляются), в белой рубашке с отложным воротником, без единой кляксы на пальцах, в пиджаке, не совсем новом, правда, но зато из нагрудного кармана торчала головка новенькой китайской авторучки, в блестящих, как автомобильные фары, ботинках, от которых метра на три вокруг разило гуталином, явился я пред ее очи.
— О-о?! — сказала встретившая меня ее мать. — Мил, ты посмотри, кто пришел!..
Она провела меня в комнату, сама стала возле двери, догадываясь, что такой визит неспроста.
Я поздоровался еще раз, уже не так уверенно, как в коридоре. Скручивая за спиной в тугой жгут фуражку, собрался с духом, выпалил:
— Милена, пойдем, пожалуйста, в кино. Дети до шестнадцати лет не допускаются, но нас пустят. Билеты я уже взял… Теть Рай, отпустите нас!..
Мать ее качала головой, улыбалась.
— Разве я ее не пускаю? Дочь?!. — спросила она. — Не поздно только?.. — И то мне: — Милка — невеста, пусть сама думает, с кем ей ходить в кино… — то ей: — А, дочь?!. Пойдешь, что ль?!
Тут только я осмелился и посмотрел на нее.
Она стояла возле стола, одним коленом на стуле, с которого поднялась, когда я вошел, красная, как мак, внезапно встревоженная, растерянная. Неподвижно, как истукан, смотрела в тетрадку. Мелькнула мысль, что я обидел ее и она сейчас заплачет. Маленькие пальцы в трикотажном чулке не то шевелились, не то дрожали. Я уже видел, что она откажется, и, готовый провалиться сквозь землю, стыдился, понимая, что это моя первая и последняя попытка на всю жизнь.
Милена взяла тетрадку — промокашка вылетела на стол, потом подняла голову, удивленно посмотрела на улыбнувшуюся, вроде ничего не понимающую мать, затем на меня, и что-то в это короткое мгновение изменилось в ней, какая-то восторженность промелькнула в лице, в глазах.
Она сказала:
— Пойду, а чего ж! Кино хорошее, говорят…
Весенние сумерки торопливо спускались на город.
Дорога к кинотеатру вела через огромный тополиный парк, посаженный в годы первых пятилеток. В глубине парка, словно символ того далекого времени, из массивных, грубо отесанных плит ноздреватого известняка сооружен бассейн, повторяющий контурами пятиконечную звезду. В центре бассейна из остроугольной пирамидки бил фонтан. От «звезды» прямыми лучами разбегались к окраинам парка длинные темные аллеи. Ветви тополей густо смыкались вверху, и потому даже в жаркие дни в аллеях сумеречно и прохладно. Ночь наступала тут почти сразу, едва солнце закатывалось под крыши. В парке иногда шалили, вечером и ночью там было опасно. Мы с Миленой могли обойти его стороной, но, очарованные тихим и в то же время торжественно-светлым праздником в нашей душе, мы были горды, отчаянно смелы и уверены в бесконечности нашего счастья. Никто не заставил бы нас выбрать другую дорогу.
Шли рядом.
Наши руки едва не касались. Но чтобы преодолеть расстояние — может быть, сантиметр или такую узкую полоску, в которой застрял бы и тонкий листок ясеня, требовалось усилие воли — все равно как чтобы сдвинуть гору. Надо было остановиться передохнуть или сказать что-то, но язык не поворачивался. Не хватало моченьки даже голову повернуть и улыбнуться ей.
Что-то похожее, наверное, испытывала и она. Шаг ее был сначала неровен. Несколько раз я пытался подладиться, частил, а она косила на меня взглядом, старалась идти размеренно, спокойно. Наконец и один и второй шаг мы сделали вместе, как она снова сбилась. Остановилась от неожиданности, посмотрела на меня как-то изумленно-непонимающе и вдруг засмеялась:
— А-а, пошли-ка!
И я засмеялся. Стало легко и просто. Сердце перестало дурачиться. Оно будто плавало в груди и плавилось. Я притронулся к ее локтю, и она чуть отстранила его, потом порывисто прижала к себе. Так мы и шли — теперь уже совсем рядом, нога в ногу, — через темный пустынный парк, по длинной аллее, полной неясных звуков настороженно-чуткого эха, вторившего нашим вздохам, нашему шепоту. Далеко впереди слабо просачивался пятнами бледный электрический свет улицы, мелькали неясные, призрачные тени прохожих. И все это уже за парком, и так далеко, как будто в другой жизни. Над нами в тополях сонно взграивали на гнездах грачи, с костянистым звуком хлопали их крылья. А мы о чем-то говорили и говорили, забыв о страхе, одиночестве, и было тревожно-восторженно на душе от мысли, что эта наша первая прогулка, первый вечер и все это должно было наступить давно и навсегда.
У фонтана остановились.
Каменный парапет бассейна пропитался сыростью, от него веяло холодком, и горьковатый запах листвяной прели поднимался от черной воды, свежело. Невдалеке послышались чьи-то сбивчиво-торопливые шаги, говор. Мы невольно подались ближе друг к другу, и ее горячее дыхание, волосы ее коснулись моей щеки…
Шли двое: парень и девушка. Они приглушенно спорили. Не замечая нас, остановились у противоположной стороны бассейна, и девушка оживленно, с отчетливой надеждой в голосе спросила:
— А по-омнишь?!
Парень промолчал.
— Ну?! — повторила она капризнее.
С какой-то до боли знакомой, но неузнаваемой из-за шепота интонацией он торопливо ответил:
— Кажется, у тебя нет оснований упрекать меня в забывчивости…
Вдруг — чмок! чмок! — звонкий поцелуй. Кто кого — поди разбери!..
— Бежим! — сказала девушка. — А то опоздаем!..
С легкой и грустной завистью слушали мы их топот, и нам тоже хотелось поцеловаться, но теперь мы не могли, догадываясь, что парк и «звезда» фонтана — их место. Что ж, пусть так и будет. Если бы мы поторопились, нам было бы теперь неловко и стыдно, а почему — и сами не знали, как объяснить.
Пора и нам. Но так заманчиво ожидание таинственного еще «чего-то»!.. Постоять хотя бы минуту…
— Смотри, — шепчет Милена, — в воде… огни. Это звезды!
Вершины тополей над бассейном сошлись в черное сплошное кольцо, а в нем чуть светлело незакрытое ветвями небо, по которому звезды — будто брошенная россыпью горсть пшеничных зерен.
— Слышишь, тополем пахнет? — спросила она.
Я улыбнулся:
— А это не звезды?
— Пусть звезды… — согласилась она и, взяв мою руку, повела.
До начала сеанса мы ходили по яркому фойе и не то выбирали, не то искали среди молодых людей пару, которая недавно была там, у фонтана.
За весь вечер мы ни словом не обмолвились о Семене. Почему? Как будто его не было никогда, а ведь я знаю, мы думали о нем…
Годы не состарили парк.
Густые черные тополя все так же могучи, все так же их ветви застилают над аллеями небо, и днем здесь по-прежнему холодный просеянный свет. Серебристый пух медленно стекает с деревьев, инеем обметывая бровки аллей. Мальчишки ногами сгребают его в кучки, бросают спичку, и пух пыхает, точно зажженный порох. Разрушился лишь, обкрошился местами рыхлый известняк плит бассейна, да на месте изящной стрелы-пирамиды, из которой бил когда-то фонтан, торчит теперь ржавый огрызок трубы. В самом бассейне затхлая дождевая лужа, покрытая пухом, который дрожит и морщится на ветру, напоминая неизвестно почему измятую белую скатерть.
Возле бассейна — покривившаяся самодельная скамейка в одну доску. Повсюду вокруг кучи песка, грязные рассыпчатые комья извести, битый кирпич, щебень. Бассейн, видимо, собираются ремонтировать…
Раскуриваю трубку и вспоминаю целовавшуюся здесь пару.
Испуганно-ворчливый, торопливый возглас того парня знаком мне. Последний раз я слышал его не так давно, когда после двух или трех рюмок коньяка я спрашивал Семена:
— А по-омнишь?..
И он отвечал:
— Надеюсь, ты не намерен упрекать меня в забывчивости!..
Быстро, коротко произносил он слова, будто зубилом по железу рубил — привычно, не задумываясь.
Я могу ошибаться.
Я ничего не утверждаю.
Я сомневаюсь.
Сомневаюсь сегодня так же, как удивлялся много лет назад, когда на другой день после нашего «похода» в кино Семен многозначительно сказал:
— А ты, мальчик, успехи делаешь, успехи!.. Прими мои поздравления!..
Никто ведь не знал и не видел нас с Миленой. Откуда же?..
Теперь, воображаемые, они, как живые, сидят со мной рядом на скамейке: слева Милена, справа Семен. Она опустила голову, слушает меня, молчит. Молчит, соглашаясь со мной.
И Семен молчит. Только он ухмыляется. Откидывает небрежно кудрявое колечко с виска, готовый отмахнуться от моих назойливых вопросов или бросить с добродушной, ничего не значащей торопливостью:
— Помню! А что?!
Мы с Миленой встаем и уходим.
Семен остается один.
Мы знаем, если оглянуться, за тополиным пухом не увидать его тени.
Молча проходим мы с Миленой через город. Скоро уже и мой дом, надсадно болит сердце — не хочется расставаться. Я замедляю шаги, смотрю на нее, и она улыбается. Лучатся затуманенные слезой глаза, дрожит ямочка на подбородке и тонко трепещут ноздри, как у ее матери, когда я курил у них сигареты. Милена опирается на мой локоть и словно удерживает меня. Я останавливаюсь. Наваждение так сильно и реально, что я спрашиваю ее, воображаемую, вслух:
— Ты что?!
«Я не могу больше», — шепчет она.
«Что ты!..» — убеждаю я, пытаясь схватить ее за руку, а она ускользает, прячется за мою спину и растворяется в воздухе среди улицы.
«Пойдем, пойдем!..» — зову я, хотя уже и миража нет, осталось только ощущение мимолетного прикосновения ее щеки к плечу и шорох сиреневого платья, и скользящий шелест голубой прозрачно-переливчатой газовой косынки.
— Где же ты?
Я повторяю это вслух, машинально вынимая из кармана очки. Оглядываюсь… Оглядываюсь уже напрасно, уже чтобы посмотреть, не видел ли кто меня с очками…
Перед нашим домом между двух лип густо разросся куст белой розы. Идет мимо женщина, впереди нее прыгает девочка лет пяти. Ее синий бант замирает на лету, как синяя бабочка, и скачет с дорожки в сторону, к кусту. Маленькая рука тянется к матово-зеленому тугому бутону, из которого едва проклюнулись белые носики лепестков.
— Зачем ты? — спрашивает женщина, и детская рука нерешительно останавливается перед веткой.
Знакомая картина.
Так бывало, когда куст выкинул первую завязь. Мать моя боялась, что прохожие оборвут розу, не дав распуститься, и часто садилась за шторой раскрытого окна, караулила. Если кто наклонялся к кусту, протягивал руку, она величественно поднимала штору и говорила из своего укрытия:
— Ай-яй-яй!.. Нехорошо как, некрасиво…
Точно так на наших с Миленой глазах она выговаривала девочке постарше, школьнице с пионерским галстуком, а та понуро стояла перед окном, перед матерью, наверное, как перед учительницей, краснела и ничего не говорила.
Наконец мать, утомленная собственной нравоучительной речью, милостиво разрешила:
— Сорви одну веточку, которая тебе понравилась, но больше так никогда не делай.
А Милена потом сказала мне, но так, чтобы слышала мать:
— Если розу не обрывать, она перестанет цвести, зачахнет. Странно, но она не любит этого…
Помню, мать смутилась, как та школьница, и тоже молчала сперва, затем отодвинула штору, вышла из укрытия и стала говорить, что она вовсе не против, но надо же подождать хоть, пока весь куст распустится… С тех пор розу ощипывали нещадно, а та год от году хорошела, распускалась так буйно, точно каждый раз это было ее первое цветение.
…Маленькая девочка все еще склоняется над розой. Рука неуверенно дрожит. Я подхожу к ней, стараюсь спросить ласково, чтобы не испугать, не обидеть:
— Ну, какой цветок тебе понравился?
Она ничуть не удивляется, только на миг лукаво оглядывается на свою мать, смотрит еще раз на меня — не передумал ли?! — и рука ее кружит над одним, над вторым, над третьим бутоном… Все хороши, какой выбрать? Вот этот?! Пальчик неуверенно показал…
Отламываю ей ветку без шипов, подаю и спрашиваю женщину, осуждающе качавшую головой:
— А вам какую?
Она не ожидала вопроса и теперь за разрешением смотрит на дочь.
— Бери, мам, не бойся, — говорит та, — она совсем не колючая!
Я отрываю ветку, которая нравится мне. Они уходят, неожиданно счастливые. А Милена… Милена не возвращается…
Наши обедают на кухне.
Для отца обед дело такое же священное, как сама работа, вернее, обед для него — еще продолжение работы и уже как бы и отдых, и переход к домашней жизни, в которой иные радости, иные тревоги, хлопоты. В сосредоточенности, в однообразно ненадоедливой повторяемости слов, жестов, привычек, с какими проходит у него весь ритуал подготовки к обеду и сам обед, чувствуется здоровая сила, хозяйская крепость рабочего, знающего, как сладить с жизнью.
Сначала отец снимает тяжелые яловые ботинки, закоржавевшую робу, аккуратно вешает ее на гвозди за стенкой старого шифоньера и одной фразой напоминает матери о ее обязанностях:
— Мамульк, — говорит он, — я пришел…
Это значит, она может не спеша накрывать стол, если, конечно, приготовлена теплая вода, залита в умывальник. Потом он долго, тщательно намыливает руки, грудь, шею, соскребает с себя где мочалкой, где ногтями грязь, пот и усталость, осторожно и долго обмывается, фыркает, кряхтит и прочищает нос, пока наконец кончится вода в бачке. Тогда он обязательно скажет:
— Долей-ка еще кружечку!..
И, уже чистый, начнет обливаться и плескаться только ради удовольствия. Пока он до красноты будет растирать тело вафельным полотенцем, надевать чистую рубаху, нескладно застегивать на ней большими огрубелыми пальцами верткие пуговицы, на столе уже горкой нарезан хлеб, дымится тарелка горячих щей, на тарелку «на изготовку» положена большая деревянная ложка — отцовская. Вот он садится, берет ложку и, еще не начиная есть, велит матери:
— Долей-ка сметанки, чтоб плавало…
Мать усмехается или ворчит, смотря по настроению, но сметану ему подкладывает.
Ест отец медленно, тщательно разжевывая хлеб, и сначала молча, задумчиво, как будто все мысли его еще не дома, а где-то на заводе, в цехах, среди новых скатов, болтов, карданов. По мере наполнения желудка он оживляется, интересуется всеми домашними новостями, коротенько рассказывает и сам, а к концу обеда уже строит планы, что ему сделать на сегодня.
Но хорошее, веселое настроение приходит к нему уже после обеда, и кажется, что основательная, спокойная еда выместила из него всю усталость. Теперь, если он не займет себя чем-нибудь срочным по хозяйству, не будет покоя от его рассказов или бессвязных расспросов обо всем на свете, что ни взбредет в голову. И так часа два, пока по телевизору не начнут показывать футбольный матч, фильм или спектакль «про шпионов». Тогда он успокоится, сядет смотреть, а через полчаса уже свесит голову и засопит. Мать возьмет его под мышки, станет поднимать и тормошить:
— Отец, иди ложись!.. Что ты смотреть не даешь?!
— Подожди, мамульк, дай мне кино досмотреть, — забормочет он, не открывая слипшихся век.
Мать напрасно беспокоится. Не было случая, чтобы отец ушел досыпать, не «досмотрев» передачу, а она будит его каждый вечер и все уговаривает, как будто это с ним в первый раз…
Сейчас они уже кончают обедать. Мать убирает тарелки, отец сладко облизывает свою ложку и говорит мне:
— Сынульк, садись пообедаем, а?!
— Неохота, — отвечаю я, подходя к чайнику и отпивая глотка два из носика, — попозже…
Ухожу к себе в комнату. На столе в рамке Миленкин портрет. Он чуть сдвинут с места — мать вытирала пыль. Я ставлю его так, чтобы от света из окна не было на глянце бликов. Почти следом за мной входит отец.
— Ну что, устал? — спрашивает он участливо и ковыряет в зубах спичкой. Я пожимаю плечами, сажусь на койку. — А то в шахматишки сыграем? — предлагает он.
— E два на E четыре, — говорю безразлично и падаю на подушки, как от смертельной усталости.
Махнув рукой, как на пропащее дело, отец недовольно сопит и уходит. На кухне мать спрашивает его:
— Ну что?!
— А!.. — отвечает отец. — Опять злой, ругается!
Вот так всегда. Стоит мне сказать — «E два на E четыре», как он жалуется матери, что я ругаюсь. Сам он неплохо играет в шахматы, на заводе обыгрывает мастеров и гордится этим, но буквенного обозначения ходов не знает и злится. А я бы сыграл партию, все занял бы время в ожидании ответа с судна на мое письмо. Хотя и знаю, что ответ может быть только один: товарищи помогут устроиться на работу на берегу, а заменить глаза никто не сможет.
На кухне отец шелестит газетой, прочитывает в «Известиях» все международные новости. Причем читает сначала про себя, потом говорит матери:
— Ты знаешь, мамульк, что в Америке делается?
— Что? — недовольно спросит она, зная, что от него уже не отвяжешься.
— Ты послушай. Специальный корреспондент сообщает из Вашингтона, по телеграфу… — и читает от строчки до строчки.
На этот раз мать не слушает, идет ко мне. Отец там читает, а она стоит на пороге, чтобы услышать, когда он опять спросит, и ответить ему, а сама смотрит на меня, на передвинутую фотографию, участливо спрашивает, как будто больного о здоровье:
— Ну?! — и покусывает губы.
Что они, чего хотят от меня?
Утешать думают?!
Но ведь я же не стону и не плачу. Или им так интересно смотреть на мое настроение, как пенсионерам стучать после обеда по барометру, просто из любопытства, даже когда нет нужды знать, какая будет погода.
— Тебе нынче девушка звонила, — безразлично сообщает мать и пристально смотрит в угол, за полку с книгами: нет ли там паутины. Сама же видит меня, ждет, какая будет реакция.
А я лежу себе, медленно соображаю. С тех пор как приехал домой, мне вообще никто не звонил. Не звонили даже те ребята, кто знал, что я дома. Тем более странно, что девчонка. Кто бы это?
— А она что хотела?
— Сказала, чтоб ты к ней пришел. Сегодня, говорит, поздно, пусть завтра приходит.
Мать уже не ищет паутину, смотрит мне в глаза.
Я усмехаюсь:
— Разыгрываешь?
— Нет. Так и сказала.
Я наконец верю ей и понимаю, что обеспокоена она не звонком, а тем, что девушка приглашала меня к себе… Кто бы это?!
— Адрес-то назвала?
— Адрес — нет, сама назвалась.
— Кто же?
— Галушка… Но я что-то не поняла толком, спутала, может…
Теперь материны подозрения кажутся мне смешными.
— Чему ты не поверила?!
— У нас в городе одна Галушка, — объясняет мать вполне серьезно. — Что она к тебе привязалась? Заняться ей больше не с кем, или ты сам ей мозги закрутил?.. Поехал бы лучше в деревню к тетке!.. Молочка парного у ней польешься, позагораешь — лето ведь. Там ягоды, грибы пошли… Что тебе каменюка этот, город?.. Гарь, пылюка везде… Здоровье не справишь! А там кислород, воздух свежий, речка…
Ах, мать, мать!
Речь про деревню, а сама небось про Галушку думаешь. Дескать, привязалась к сыну, окрутит, а какая она?! Поди, и я не знаю!.. Да хорошая разве стала б приглашать, к себе звать? По полету видна… А он, сын-то, с горя может кинуться! Потерянного и не вернешь хоть, а Милену жалко. И не пропадать же ему теперь, понятно. Но пускай остепенится, одумается, дальше видать будет. Подходящий человек, хороший, всегда найдется, только не в спешке, не в суете…
Мысли эти будто написаны у нее на лице. И она страдает сейчас, пожалуй, больше меня. В глазах чуть ли не стон.
— Какая она, — не выдерживает мать молчания, — эта твоя Галушка? Уж и фамилию выбрала…
— Ты не волнуйся, — улыбаюсь я. — Галушка эта та самая, — опять испуг у нее в глазах. — Из редакции. Не помнишь, наверное, мы так Светку Демину в школе дразнили. Была тихоня… Теперь замужняя, двое детишек. Во всех смыслах образцовая. Я ее видел на днях. Вероятно, поговорить захотела, вспомнить прошлое… Надо сходить завтра в редакцию.
— Мать, мать! — зовет отец. — Где ты там? Иди слушай… Знаешь, негры-то что отчубучили?!
— Иду, иду, читай!
И мне:
— Ты поосторожнее с образцовыми, кто их разберет теперь…
Я грустно улыбаюсь ей вслед. Раздеваюсь и лезу под одеяло, потом беру со стола Миленкины тетради. Я уже читал их, но не могу не перечитывать. Каждый раз кажется, что разговариваю с ней, слышу ее голос. Открываю наугад… Но что-то мешает мне, не дает сосредоточиться. Радио!.. Передают барабанную музыку…
— Мам! — прошу я, как в детстве. — Выключи радио!
— Ты что, спишь уже? — заглядывает она, потом выключает в зале динамик. — А есть?!
— Спокойной ночи, — говорю я. — Завтра поем.
Скоро ложатся и старики — рано ложатся, как и положено старикам.
Тихо в доме, покойно.
Я перелистываю страницы тетрадей, которые трудно назвать дневником в привычном понимании этого слова. Тут есть что-то от самоанализа и отчета перед собой, но чаще это просто записи, сделанные по настроению. В них и грусть, и радость, и боль.
Оказалось, она часто страдала. И не оттого, что где-то задерживались мои письма (к этому, кстати, она относилась почти спокойно, зная, что бутылкой по морю письмо не отправишь), страдала оттого, что слишком медленно течет жизнь, слишком долго надо учиться, а ей хотелось скорее стать взрослой, самостоятельной, ни от кого ни в чем не зависеть и делать что-нибудь значительное, важное.
После школы она два года работала на обувной фабрике. От всех скрывала, как плакала по ночам, когда с непривычки болели пальцы и она не управлялась подшивать ранты к ботинкам, задерживала конвейер, или потом, когда уже научилась работать, но не выполнила вторую норму за больную подругу.
Поступая на отделение детской психологии пединститута, она писала: «Ну зачем людям расставаться! Почему так устроено, что я не могу, когда захочу, прийти на фабрику и опять стать на конвейер! Только потому, что учусь в институте?!» С фабрики она уходила ударницей, в красной косынке. Работалось ей в удовольствие, она даже грозилась «без гвоздя и заклепки» сшить мне модельные туфли, если я брошу свой якорь на суше. Шутила, но я верю, что она смогла бы сшить такие туфли, ей позавидовал бы любой классный сапожник.
…Но вот, наудачу, одна страничка…
Милена пишет:
«В суете можно подумать, что мы рождены копаться в себе, ловить блошек и думать о собственной персоне, как о звезде первой величины — единственной основе мироздания!..
Ничего подобного! Единица — ноль!.. Небо ярко не одной звездой, а тысячами, миллионами, и каждая прекрасна. Так и люди. Надо, чтоб земные наши дела, даже самые маленькие, были ярки, как звезды.
Сделав доброе дело, чувствуешь, что сама стала лучше, и уважаешь себя больше, но все это в тебе, никто этого не знает.
Я привыкла к городу, люблю его, а тут вот подслушала разговор детворы и даже жутко стало…
Серый, шершавый, как кожа доисторического мамонта, асфальт затянул площади, улицы, переулки. Даже дворы покрыты чешуйками этой кожи. На детской площадке ребята отколупывали кусочки асфальта и в темную, слежавшуюся землю втыкали цветы из палочек. Я слышала, как они называли их ромашками. Цветы не вырастают… Тогда я поехала в лес, привезла ромашек, а вечером, когда дети уже спали, посадила их там, где были воткнуты сухие палки.
Наутро ходила туда, смотрела. Ромашки к обеду увяли. Но дети, дети поверили в чудеса.
Да я и сама в них верю!»
Я откладываю записи Милены и тянусь за табаком. Большой палец с хрустом вминает табак в трубку, и медвяный запах «Золотого руна» щекочет ноздри. Я хочу покурить всласть, точно так, как хочется лежачему больному после выздоровления встать на ноги. Знаю, будет кружиться голова, мелкой дрожью задрожат поджилки, но надо пересилить страх, сделать шаг, еще шаг — к окну, к свету.
Не от горя, не от сердечной слабости хочется сейчас мне закурить. Знаю, с первой затяжкой истома вольется в грудь, как будто от колокольного звона загудит на мгновение голова и, когда разойдутся в глазах круги, станет ясно и легко на сердце.
Зажигаю спичку…
Первой затяжки жду сейчас, как очищения.
Погибла Милена.
Мало ли отчего могло это произойти?! Что изменилось бы в мире, если бы смерть ее была иною, не случайной?
В молодые годы мы вовсе не думаем о конце, мы лишь торопимся к нему, и эта жажда жизни чем-то похожа на наживу. Скорей бы день да еще день! Торопимся по жизни, как по Третьяковской галерее — скорей обежать всю! — как будто умышленно забываем, что потом уже нельзя будет вернуться, остановиться, оглядеться. Отчего это происходит? И счастливее ли Милены те, кто в своей марафонской торопливости проживет вдвое, втрое больше ее? Не думаю.
Я не судья, мне не судить их, не выносить им приговор. Но отчего так сильно во мне желание проучить самого себя, отчего не могу я сказать, что в моей жизни не было пустоты?.. Как не было случая с ромашками… Или надо иначе смотреть на мир? Так, как она, когда втыкала живые цветы в сухой песок городского двора…
Я любил ее такую, какою знал, но она была лучше. И, наверно, не потому, что верила в чудеса, а потому, что могла творить их.
Мы часто говорим о человеке: славен тем, что оставил добрый след на земле. Да, славен. Но если человек этот не строил Братскую ГЭС, если он не расщеплял атом, если не поднимал целину и не тушил пожаров, — что же, он тогда и не славен, и бесследен?
Как понять, чем измерить всю ценность человеческого бытия?
«Человек не может жить один», — часто писала она в письмах, часто встречаются эти слова и в тетрадях. Казалось бы, прописная истина, почему она волновала ее?! Однажды я возразил ей:
«Как не может, кто это сказал?! Посмотри, сколько на свете одиноких бакенщиков, смотрителей маяков, лесников на кордонах? Живут же люди…»
Она ответила:
«Глупый… ты совсем не то говоришь! Человек не может жить сам для себя. И не важно, лесник он или директор завода. Одинок не пустынник, а тот, кто среди людей знает, помнит, видит одного себя. Они так устраиваются, что никого не беспокоят. У них почти никогда нет врагов. Все для них «ближние», товарищи. Не обижайся, но есть такие среди наших знакомых, среди твоих друзей…»
«Кто?» — спросил я в следующем письме.
«А сам не знаешь?»
Я догадался, но признаться сразу мне было стыдно:
«Он для меня загадка».
«Для тебя! А для меня нет…»
Впрочем, речь не о нем. Сколько надо воли, чтобы заставить себя отвлечься от житейских мелочей и думать о самом важном — о месте человека в жизни. Ведь сколькие из наших сверстников плывут «по воле волн…» — тоже мне, моряки!.. Независимость в мыслях, опытность или умудренность к смелость какая нужна, чтобы в шестнадцать или семнадцать лет твердо знать, как будет прожита твоя жизнь!
Ее нет. Но ее помнят в школе, на фабрике, в институте и везде словно чувствовали, что жизнь ее будет особенной, она многое совершит… Трагедия оборвала ее замыслы, быть может, в ту минуту, когда начиналась самая деятельная пора ее жизни.
Ее нет. Но в памяти живых она осталась.
Она писала:
«Не представляю себя мотыльком, красивой геранью на кухонном окошке, ни даже самой яркой звездой… И, знаешь, даже дельфином, о котором столько пишут, я не хотела бы стать. Зачем? Что хорошего? Менять оболочку за оболочкой, переходить из одной формы в другую и — ничего не делать… Нам, людям, повезло. Мы можем созидать, творить. Одно это отличает человека от всего остального в природе. Звери и птицы, деревья и травы завершают земной круг воспроизведением себе подобных. Человек же, не руша этот вековечный закон, создает свой мир, одухотворенный поэзией, красотой.
Я хочу любить — и я люблю. Хочу строить — и я могу это!.. Перед разумом человеческим можно преклоняться, это не грешно. Грешно другое — человеку быть скотиной. Тогда не стоит жить.
Увидеть бы, как лет через триста или пятьсот новые люди посмотрят назад, в прошлое, и удивятся нам, именно нам: как это мы сумели, при всех наших пороках, начать жизнь совсем необыкновенную, в том смысле необыкновенную, что все мы как бы отреклись от себя ради других, только не ради личностей, а ради в с е х других, родного народа ради…»
Это ведь след на земле.
Жизнь человеческая похожа на свет маяка: пусть она только вспышка в тысячелетиях, но она видна, она путеводна.
И какая б ни была смерть, жизнь должна оставить след. Собственно, не жизнь — сам человек должен позаботиться об этом.
И я тоже.
И я тоже…
Мне не то чтобы перед Ней стыдно, стыдно перед самим собой. Я-то знаю, что дальше первой своей мечты о море я не поднялся, все, что было потом, — все уже шло по инерции. И теперь вот на суше — страдаю. Но ведь я не полосатая камбала. Не должен раскисать, не имею права!
Завтра же что-то делать! Пора начинать новую жизнь, пора.
Поехать в Москву, в министерство? Попроситься на Сахалин, на Крильонский маяк?!
Неужели я больше ни на что не способен?..
Эй, штурман, подумай!
Хорошенько подумай, прежде чем проложить новый курс.
А Галушка меня подвела.
Звонила, беспокоилась, приглашала в редакцию, самой же на месте не оказалось. Слава Половинкин, увидев меня, крикнул, щелкая зажигалкой:
— Э, здравствуй, старичок!
Я посмотрел на него удивленно:
— Здравствуй, старикашечка!
Он невозмутимо улыбнулся, словно не ожидал другого ответа. Подошел, осмотрел меня с ног до головы, похлопал по плечу:
— В порядке, годится! А Галушки нет. Она навела тебя на меня, а сама… Ну, раз готов, пошли?
— Куда пошли?
— Хм… Не знаешь?!
— Нет.
— К Колобову.
— Зачем?
— Она и об этом не сказала?
— О чем?!
— Так твой материал прошел, чудак-человек!
Это Галушкин материал «Добрым молодцам урок» прошел на ура. Его хвалили на летучке за оригинальное решение темы, за идею. Галушка от идеи отказалась, на меня свалила. Теперь сам зам — товарищ Колобов Тимофей Иванович хотели меня видеть.
Пока я отнекивался и упирался, в комнату вошел молодой мужчина, невысокий, плотный, светловолосый, в элегантном костюме стального цвета, при ярком, как этикетка, галстуке. Руки в карманах брюк — и это выдавало в нем редакционного завсегдатая.
— Боится он, — показывает на меня Половинкин, — идти к вам, Тимофей Иваныч. А я разве дотащу такого верзилу?..
— Так это вы тот штурман? — оживился Колобов. — Да?! Очень рад, рад познакомиться…
Он подошел к нам совсем близко, вплотную, смотрел прямо в лицо, в глаза, а говорил какими-то извиняющимися по интонации фразами, и оттого, что часто повторял полувопросительное-полувосклицательное «да? да-да!», казалось, будто он спрашивает о чем-то и уговаривает одновременно. Я растерялся, когда Колобов неожиданно стал теребить пуговицу у меня на пиджаке.
— Как наша редакция, только честно скажите, да? — спрашивал он. — Понравилась?!
— Не знаю, — говорю, — мало видел…
— Да-да! А вы насчет памятника Бунину хорошо заметили! Давняя моя мысль… Мы ведь тут двигаем помаленьку культуру, да. Идемте к Каплику, в мозговой центр. Вы были там, да? Нет?! Идемте, я покажу… Половинкин, Слава?! — окликнул он и покачал головой. — Пошли к Каплику!
Колобов напоминал добродушного, приветливого хозяина. Его плавный и раскатистый голос не умолкал, и я подозреваю, что сотрудники редакции, слыша в коридоре низкий перекатывающийся баритон, заранее улыбались, угадывая, в чей кабинет заглянет зам, кому начнет крутить пуговицы… В то же время я был насторожен к Колобову. Я почти не сомневался, что за простецким благодушием его прячется цепкий, ухватистый зверек, и, наверно, Колобов бывает крут и упрям, как нередки у нас на Руси даже свирепые характеры, особенно среди таких деревенских мужичков, тоже благодушных и гостеприимных. Быть может, я ошибался тогда, ведь очень обманчиво первое впечатление. Но до странности необычной казалась мне в нем щедрость на слова, тем более что знакомству нашему не было и часа, а такое добродушие и сердечность, если они и искренни, малознакомые люди скорее принимают за чудачество или за хитрость.
Колобов куда-то в простенок отодвинул дверь с надписью «Секретариат», и мы, словно из узкого коридора купейного вагона, вошли в просторный, светлый кабинет.
За массивным, дугообразным и необычайно низким столом покоился в кресле сухопарый блондин в коричневом грубошерстном свитере. «Наверно, баскетболист!» — первое, что подумал я о нем. Локтями он упирался в спинку кресла, длинные ноги во всей красе толстокожих спортивных ботинок — вразвалку на столе.
— Каплик… — представил Колобов. — Ответственный секретарь.
Скуластая челюсть подалась вниз, и ровным, без всякой интонации голосом Каплик спросил:
— Шеф, позу можно не менять?
— Карикатура, да, карикатура!.. А если б чужие зашли? Вот что, хватит, да!.. Пиши на себя приказ — выговор!.. Нет, да, замечание на первый раз, строгое…
Каплик умоляюще закатил глаза.
— Ладно, прощу, если к трем часам будет макет!
Каплик покачал ботинком, с той же флегматичностью ответил:
— Макет готов.
— Да, готов?! Где он?
— Тут… — Каплик шевельнулся, его тяжелые руки, казавшиеся неповоротливыми, легко соскользнули с подлокотников. Он прикоснулся пальцем ко лбу, а другая выбивала звонкую дробь по дверце стола. Жест был довольно убедительным.
— Вот-вот, — чувствовалось, что Колобов не может справиться с Капликом, и сам постучал себя по лбу. — Анархия, да?.. Гимнастика йогов в рабочее время… Уволю, Каплик!..
Каплик засмеялся. Резко убрал ноги, пружинисто выпрямился и, через стол ухватив Колобова за плечо, выдергивал из широкой тумбы ящики, доставал из них статьи, фотографии, гранки, клише, сыпал названиями материалов, где какой будет стоять, где какая отбивка, какие шрифты, фонарики, заставки!.. Получалось, что газета уже сверстана, не было только макета.
Колобов вырвался. Расправляя плечи, обиженно сказал:
— Вот видишь, штурман, да?! Хотел газету показать, да, но у него же ничего не добьешься!..
— Сэр, — обращается вполне учтиво Каплик ко мне, — разве вы ничего не поняли? Все на ваших глазах, без обмана.
— Быстрота рук и никакого мошенства, — ехидно вставляет Половинкин, щелкая зажигалкой.
— Понял! Понял!.. — смеюсь я. Мне кажется, что я действительно все видел, все понял и что нет в редакции человека важнее и главнее Каплика.
Колобов опять подцепил меня за пуговицу, говорит:
— Вот, штурман, поезжайте на силикатный завод, а Слава — на сталепрокатный. Народу у вас там немного, комсомольская организация маленькая, да, удобная, провернете быстро…
Я принимаю все как шутку. Ведь и наша, морская братва не может без смеха. Не раз мы доверяли газетчикам штурвал, когда судно стояло на якоре, а потом ругали их за то, что сбились с курса. Так почему и им не предложить мне сверстать номер или написать статью?!
Колобов с настойчивостью и педантичностью плохого учителя объясняет мне задачу рейда — проверить работу комсомола. Видимо, для пущей важности он добавляет, что в рейд меня рекомендовала Светка. Я, ухмыляясь, не возражаю, только спрашиваю:
— Что хоть это за завод такой — силикатный?!
— Ну, знаешь!.. — удивляется он. — Кирпич делают, белый. На каждом шагу дома силикатные… Шутишь, да?
— Шучу. А когда ехать, сегодня?
— Сейчас. Берите со Славой мою машину и поезжайте. Что не ясно — Половинкин объяснит дорогой…
Едем в «козлике», прижимаемся все ближе к окраине. Я думаю, что Слава привезет меня в какой-нибудь уникальный магазин, купим вина, поскольку я попался на их утку, проштрафился. Но решаю не сдаваться до последнего…
Половинкин сидит рядом с шофером, удобно откинувшись на спинку. Он травит анекдоты, совсем несмешные, оборачиваясь ко мне, много жестикулирует, стряхивая пепел на мои ботинки. Я твердо отвожу его руку, спрашиваю, как ему работается.
— А ничего, каждому свое, старичок! — меланхолично отвечает он. Подумав, достает пачку сигарет, щелкает ногтем по донышку — из пачки наполовину выскакивает сигарета — и предлагает мне закурить, чтобы скоротать дорогу. Я не отказываюсь. Беру и зажигалку. Огонь вспыхивает с первого же щелчка — Слава доволен.
— Дарю, зажигалочка японская! — говорит он. — И возьми заодно «Стюардессу». Лучшие сигареты. Между прочим, если ты заметил, в нашем городе «Стюардессу» курят одни журналисты.
— Дефицит?
— Шик.
— С твоей прической, — говорю ему, — тебе бы подошла трубка. Возьмешь?!
— Анахронизм, — равнодушно, если не презрительно, отвечает он.
А в кармане у меня две отличные паркеровские ручки. Одна была для Милены… Протягиваю свою Половинкину:
— В знак любезности, не откажи принять…
— Паркер?!
Я кивнул.
— Вот спасибо, старичок… Век не забуду! Теперь… Знаешь, какой матерьяльчик залью этой ручкой?! Каплик рвать и метать будет, но поверь мне, поверь, ни слова ему выкинуть не удастся. Хочешь на спор, на зажигалку?! А, нет! Зажигалку я тебе сам подарил… Ну ладно, ты мне так поверь.
— Силикатный. Приехали, — равнодушно сообщает шофер, тормозя у двухэтажной конторы, серой и неприглядной, запорошенной не то отрубями, не то мучнистой пылью.
— Ну и мельница! — говорю я, понимая, что шутка колобовская зашла слишком далеко.
— А ты не трусь, — смеется Слава, — пойдем, я тебя на комсорга наведу, а там все как по маслу пойдет. Да ты же штурман, что я успокаиваю!..
— Может, хватит хохмить? — спрашиваю я обиженно.
— Да чего там, теперь только материал осталось написать — на заводе уже был… — говорит Слава. — А вот и комсорг…
На пороге встречает нас краснощекий толстячок, похожий на неваляшку. Он ведет в маленький, завешанный плакатами и заставленный шкафами кабинет по технике безопасности. Ни о чем не спрашивая, достает из огромного и почти пустого сейфа папки с отчетами, бухает на стол, а мне — как по голове. Неужели все это надо изучить, чтобы быть «в курсе»?! С мольбой обращаю взор на Славу, а тот хлопает нас с комсоргом по спине, не прощаясь, спешит к двери.
— Значит, до трех часов, старичок! Машину подогнать, а?
И комсоргу:
— Ты тут помоги спецкору! Наведи на кого нужно — к директору, в партком… Одного не оставляй, понял?! Чтоб все в ажуре…
И опять Половинкин спрашивает меня:
— Так как с машиной?
— Спасибо, товарищ Половинкин. Найду дорогу. До трех в редакции. Будь…
— Будь! — хохочет он и убегает.
Смотрю на комсорга, покрытого белым налетом силикатной пыли, и мне не хочется обижать его. Словно про себя, я спрашиваю:
— Что же нам теперь делать?!
— Пожалуйста, — торопится он, — я все скажу…
Ничего путного из разговора с комсоргом не получилось. То есть, он-то рассказывал, как у него идут дела, сколько собрано металлолома, сколько членских взносов и даже сколько в организации «мертвых душ». И все это было мне понятно, но иногда, забываясь, что, наверное, не дозволено корреспондентам, даже если собеседники их — скучнейшие люди, я ловил себя на мысли — как неинтересно было бы это читать! Судил я, разумеется, по себе, да и откуда было взять мне опыт для обобщений…
— Скажи честно, — спросил я, устав слушать, — ты сам доволен работой?
— Нет. А что?
— Надо же что-то делать!
— Надо, — ответил он как-то заученно. — Вот, может, газета теперь поможет…
— Да чем она вам поможет?! У вас же скука, а не жизнь! И за что вам столько грамот понадавали… (Стены кабинета были довольно густо, как я заметил, увешаны красиво обрамленными Почетными грамотами.)
— А это давно, еще до меня давали… Понимаешь, я какой-то тихий… Мне б не комсоргом, а только членские взносы собирать…
— Ну, давай так прямо и напишем?
— А давай!..
С этой минуты толстячок-комсорг приоткрылся мне, стал понятен как человек, запрягшийся в не свойственную ему по характеру работу, как человек добросовестный и скромный, который, может, хотел, да не смог убедить товарищей, что ему не комсоргом быть, а в лучшем случае библиотекарем, выдавать вечером книжки в клубе, чем, кстати, он и занимался до выборов довольно успешно.
Потом он водил меня по заводу, показывал карьер и камнедробилки, печи обжига извести и прессовый цех, автоклавы и складской двор, сводил даже в душевые и угостил свежей газировкой, так что к концу нашей экскурсии я, по его мнению, должен был все знать, все понимать, а главное — он свято верил, что теперь-то, зная, как они делают этот вроде простенький с виду силикатный кирпич, я укажу путь к спасению.
Но недаром сказано, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Ни у комсорга, ни у меня ничего б не вышло, если б не желание (по серьезности замысла — чисто детское!) — утереть нос Славе Половинкину. Мы таки сели и написали с комсоргом! Я там что-то мазюкал, он подсказывал мне фамилии и тэ пэ. На наш взгляд, заметка получилась «ничего». В общем, это была и не заметка, а скорее интервью, если выражаться по-газетному. Как люди в этом деле наивные, в выражениях мы не стеснялись, ведь «для правды» старались. Жаль только, что комсорг категорически отказался подписать заметку.
Как бы там ни было, к концу рабочего дня, когда я вернулся в редакцию, я, как всякий начинающий автор, был убежден, что Половинкин, даже с паркеровской ручкой в кармане, будет посрамлен!..
Сомневался я в этом только одно мгновение, только в последнюю секунду, когда пригласили меня…
…Пригласили меня на растерзание в кабинет Колобова.
Он прочитывает страницу — передает Каплику, стоящему над ним коломенской верстой, тот — Светке, она — Половинкину… Они читают молча, торопливо, ждут Тимофеева приговора.
У Светки от волнения лиловые пятна по щекам, пятерня в волосах. Слава паркеровскую ручку грызет, я его зажигалкой чиркаю. Только Каплик невозмутимо уставился Колобову в затылок, двигает массивными челюстями. «Ну, думаю, такому аллигатору в зубы не попадайся…» Напрасно ждут они чего-то стоящего, интересного. Подумаешь, сочинение: десять ответов на один вопрос и комментарий… Да и заголовок, как просьба: «Разберите нас на активе!..»
Колобов отдал Каплику последнюю страницу, закурил и тогда только посмотрел на нас всех — на меня, на Светку, на Половинкина, остановился взглядом на Каплике:
— Валера, сколько у нас там в рейдовом материале строк?
— Разворот.
— Забит?
— Забит.
— А ужать?
— Сколько надо?
— Строк триста, да, — Колобов нацепил на мой материал скрепку, протянул Каплику. — Отсюда вымарывать не будем — для начала, а там — да, чтоб не задавался!..
Светка тискает меня за локоть, довольна, говорит:
— У тебя флотская хватка, разбойник!..
— Пират!.. — поправляет ее Половинкин. — Он у них там пресс захватил, хотел в редакцию припереть как вещественное доказательство…
— Как сувенир, — смеюсь я вместе с ними.
Отрезвляет всех голос Каплика:
— Снимать нечего. Клише одно выброшу, серое… И… — он посмотрел на Славу, — строк сто пятьдесят с Половинкина срежу… Остальное по мелочам наберу…
Слава стонет, мы смеемся.
— Поздравляю, — сухо кивает мне Колобов, — сработано профессионально, но материал не пойдет…
Что за шутки?! Даже я не понимаю.
— Подписи нет, — разводит Колобов руками.
— Ну забыл, — кричит Светка, — есть же у него фамилия!..
— А псевдоним? — спрашиваю я. — Мне же комсорг помогал!..
— Можно и псевдоним, — отвечает вместо Колобова Каплик. — Только чтоб от него морем пахло… А комсорг не обидится. Он всем так помогает, ты просто не знаешь еще.
Морской псевдоним находится не сразу. Отвергаются Штурманы и Капитановы, Матросовы и Адмираловы, Парусовы и Лодочкины, и еще целый десяток, если не два.
— Вот если… Волнов?! — спрашиваю я неуверенно.
— Что надо! — подхватывает Половинкин. — Без претензий. И морской, и речной, какой хочешь!..
Колобов подписывает материал, и с этой минуты И. Волнов идет в набор, в тревожное, неизведанное плавание.
Вечером мы сидим в кафе «Дружба» на Молодежной улице.
В прошлом году, когда кафе еще строилось, Милена говорила, что здесь будет студенческий клуб. Она сама отработала тут свой трудовой семестр. Через широкие оконные витражи, испятнанные известкой, она показывала пестрые стены, расписанные студентами под сказочный русский лубок, рассказывала, с каким трудом добились ребята права на оформление залов. Теперь это все позади, сбылась студенческая затея. Не сбылась только мечта Милены…
— Тебе, наверное, хочется вальсировать здесь в Золушкином наряде?! — пытался я угадать. — Представляю: искристый паркет, серпантин, конфетти, духовой оркестр и обязательно старинный вальс. Все вертится, кружится…
— Нет-нет, не угадал… Настроение, конечно, праздничное, как на маскараде… Но ведь не каждый день греметь фанфарам. А я… Я хочу нарядиться продавщицей мороженого… Белый кокошник с малиновой луной, фартук с лебедями и черный палехский поднос с горкой мороженого… Представляешь?!
— Кокошник обязательно с луной?
Она засмеялась:
— Обязательно!..
…Студенты не зря старались, здесь уютно. Мы сидим в широких мягких креслах: Светка, Слава Половинкин, Колобов, Каплик и я. Простая вечеринка — обмываем Волнова. Я думаю: с этого надо было начинать, а не с поездки на какой-то там силикатный…
Мы немножко захмелели от шампанского и коньяка. Хочется грустных песен и разговоров не о суетном, а значительных — о вечном и бесконечном в мире. Все считают себя сейчас верными товарищами, готовыми за друга в огонь и в воду. Это Колобов так сказал, да. А я не верю. Друзья обычно не так болтливы. Вот Каплик… Он молчальник среди нас. Цедит коньяк небольшими глотками, закусывает лимоном, много курит и словно забыл обо всех. Но он слушает, и как аист-вожак взмахом крыла ведет стаю, так и он управляет нестройным разговором, вставляя в чью-нибудь речь одну-две негромкие фразы.
— Слушай, старик, — говорит он мне после очередного длинного и, кажется, так и не завершенного Славкой тоста. — Плюнь ты на все. Море есть море, а ты — газетчик. Тебя не надо объезжать: запряг — и пошел!..
Мне иногда и самому приходит в голову мысль о том, что с морем покончено. Недавно опять был у окулиста. Врач ругалась — без очков совсем глаза испортишь, штурман!.. Хотя бы ненадолго мне надо уехать, дома я не освоюсь, дурацкий стыд мешает…
— Да-да, Волнов, у тебя — псевдоним!.. — говорит покровительственно Колобов. — Себе бы взял, да, да ты сам мастак!..
— Бросьте, — лениво отмахиваюсь я от них. — Не надоело?!
— Я брошу! — вскрикивает Тимофей и бацает кулаком по столу. Оправившись от непонятно чем вызванного приступа ярости, он сует мне под нос ладонь, чтобы я пожал и извинил его. Я пожимаю. — Извини меня, — говорит он, — извини, да, но я не могу спокойно, когда человек не понимает, от чего отказывается…
— Почему не понимаю, — возражаю я, — ты сейчас целоваться полезешь.
Светка предупредительно наклоняется к Колобову:
— Тимош!..
— Да ты не волнуйся, — успокаиваю я ее, — он ко мне полезет…
— Только нецелованных не трогай!.. — смеется Каплик и стукается своим бокалом с Половинкиным.
В глазах у Тимофея жуткая ярость — а что я такого сказал?! — испепеляюще смотрит он на меня и, кажется, хмель уже вышел из него. Медленно, внушительно говорит он мне:
— Ты не понимаешь еще, Волнов, что такое культура… А ты знаешь, что осенью я стану редактором — в принципе уже решено. И ты, ты, ты, Галушка, не знаешь, что будешь моим замом. А кого я на твое место посажу? Его, Волнова твоего! А он фордыбачится, да, как девица… Не знал, да, что штурманы такие пугливые…
— Цэ дило! — утверждает Каплик. — Выпьем?!
— Ребята, — говорю я миролюбиво, — море — тоже вещь.
— Ну, знаешь, да! — опять как-то ревниво возмущается Колобов, и я чувствую, что другие слова готовы сорваться у него с языка, и я жду, но Светка предупреждает их торопливо-испуганным:
— Тимофей?!
Все переглядываются и, будто вспомнив что-то, умолкают. Ну что ж, их дело!.. Тусклые люстры над головой начинают слабо раскачиваться. Мне мерещится — ведь море спокойно, настоящей волны нет. Хорошо бы накинуть теперь капюшоны и выйти с Миленой на ют. Ах, как заманчива зелено-изумрудная толща Тихого океана!.. Но легкий звон рюмочного стекла возвращает меня в реальный мир.
Каплик повторяет:
— А цэ дило, старик. Ты подумай.
Никто не перебивает и не поддерживает его. Говорят о росписи стен в кафе, хвалят худграфовцев и какого-то Иванюкина, организовавшего здесь показательный студенческий джаз, исполняющий народные мелодии в современной интерпретации… Я слушаю их разговор в пол-уха и вдруг понимаю, что все хвалят Колобова: если б не вы, Тимофей Иванович, если б не вы!..
Ребята-ребята, вас-то кто модернизировал?!
Вероятно, они все знают обо мне больше, чем я думал… Светка рассказала — проинформировала, больше некому. Возможно, она знает, что на море мне уже не вернуться, потому что если видела Миленкину мать, если говорила с ней обо мне, та могла сказать, что у меня испортилось зрение. Миленкина мать знает…
Ну что ж, раз так…
Подзываю официантку с белым кокошником, только без малиновой луны на нем, требую принести поднос мороженого.
— Сколько порций? — спрашивает она. — Сколько уместится!
Светка ликует:
— Как ты догадался! Я только хотела попросить…
А я уже жалею о своей выходке, но умная официантка приносит нам по одной порции… Общий разговор переходит со студентов на учителей, вспоминают, что настает пора учительских семинаров.
— Надо дать несколько проблемных статей, — предлагает Половинкин. — У меня есть щекотливые темки.
Он спорит с молчащим Капликом, а Колобов спрашивает меня:
— Поможешь нам, или решил концы отдать, да?!
— Помогу. Если надо — о чем речь. — Наверно, я сильно пьян. Или они. Неужели не понимают, что я для них чучело, а не помощник.
— Нужен очерк. Добротный, да, лиричный, душевный такой, о хорошей учительнице…
Я слушаю Колобова и незаметно для себя начинаю мыслить «для газеты». В памяти образ Евдокии Дмитриевны, нашей неизменной классной руководительницы, милой, доброй, тихой женщины. Я привез ей океанскую раковину…
— Слышишь, Каплик, — Колобов стучит вилкой. — Запиши в план за Волновым!
— Уже заметано, — с улыбкой отвечает Каплик и невозмутимо поглаживает коротко стриженную голову.
Даму провожаю я. На улице зябко, только что прошел холодный дождь, шастает по переулкам ветер. Светка ежится, но бодрится.
— А ты знаешь, — говорит она, — Милена была бы довольна…
— Чем?
— Ну, что у тебя так получается.
— С глазами? — спрашиваю ее, но поздно прикусил язык, сорвалось.
— Нет, с газетой, — спокойно отвечает Светка, и я теперь уверен, что она знала обо всем.
— Ты бы слышал, как о тебе Колобов отзывался! — продолжает она. — Ты бы только слышал…
— А как?!
— Тебя, говорит, беречь надо!.. Тимофей вообще-то чуткий человек. И к слову, и так… Сам пишет нежно…
— И томно? — усмехнулся я.
— Давай не придираться, ладно!
— Тогда при чем тут Тимофеева чуткость?!
— Я же говорила: ты ему понравился…
— И поэтому он лез целоваться?..
— Ну!..
— Внешность его привлекла!..
— Было бы странно! Внешностью ты даже мне не нравишься, — съязвила Светка.
— За глаза похвалы не тяжелы. Я думаю, тебя он тоже хвалит часто, да и сегодня — замом пророчил. Тебе нравится?.. А может, он задание дал тебе — меня обработать?! Только ведь на мне далеко не уедешь. Я ведь необразованный, некультурный, меня наизнанку выворачивает от этого джаза, каким вы все восхищались там…
Светка смущена, но она не спорит. Так же, как Тимофей, она не то спрашивает, не то предлагает:
— А что, давай вместе работать, а?!
Светка ловит каждое слово Колобова… Она, верно, влюблена в него, хотя возможно, сама не сознает этого.
— Что он любит? — спрашиваю я.
— Все! — простодушно отвечает Светка и тут же — многозначительно: — Живет полной жизнью…
— А Бунина?!
— Кумир!.. Тимофей, когда садится писать, как музыкант, настраивает себя по Бунину: та же интонация, ритм… Вообще, — вздохнула она, — в нем великий писатель погиб.
— Почему?
— А кто его знает, все так думают.
— Говорят или думают? — почему-то мне очень хочется уточнить это.
— Не все ли равно!..
— Нет. Я думаю, глубокий талант не может погибнуть просто так. А мелкий — что ж, тот пересохнет, как дрянной ключ, стоит в него корове копыто поставить.
Светка удивляется, как это я могу рассуждать о подобных вещах… Ну что же, рассуждать — это еще не судить и даже не осуждать. И если насчет Колобова все правда, то я бы рискнул назвать причину.
— Ну, философ, — подначивает Светка. Как бы там ни было, ей тоже интересно.
С чего бы начать?!
— На мой взгляд, — говорю я, — талант глубже всякого ключа… Это сам источник, из которого выходит родник. Поэтому его никогда не заглушишь. Талант — это когда человек может выразить то, чем живут, страдают, восторгаются другие. Другие — это народ. Значит, надо переживать и чувствовать, как твой народ. Надо знать его душу. Сплетать же красиво слова — это еще не талант… А Тимофей?! Готов «Дубинушку» как фокстрот танцевать…
— Ну, а другие, которые, допустим, танцуют — учти, их много! — разве они — не народ?! — возмущается Светка.
— Нет, не народ.
— Но кто же?..
— Так, может быть — полова, которую ветер носит.
— Ну, ты и загнул! Значит, меня носит, тебя — нет, ты — народ, а я — не народ…
— Ты, Свет, тоже народ, но только легкомысленный, ты — меньшая часть его…
— Да кто же, по-твоему, народ? Где он, покажи, дотронуться дай!..
Когда доходит до крика, серьезного разговора уже не получится, а жаль. И все же я говорю Светке:
— Мой отец — народ, и мать… И Миленкина мать, и сама Милена.
— Интеллигентка она, а не народ.
— А вот это напрасно! Народ — не специальность и не профессия…
— Только, пожалуйста, — нервно перебила Светка, — не цитируй мне, пожалуйста, «Философский словарь». Это мы уже проходили…
— Вот-вот, проходили…
— Ну и что?!
— А так мимо всего можно пройти.
— Сам-то ты не пройдешь?!
— Да нет, думаю, не пройду.
— Ну и отлично: поговорили! Какой же итог?
— Тимофею Колобову надо памятник заказывать, а не Бунину…
Но Светка не поняла меня. Ведь Колобов такой находчивый, такой проницательный, хоть и кажется скромным. Он по одному письму, присланному Половинкиным в редакцию, распознал его недюжинные способности. Специально в район к нему ездил (Слава в школе работал), заставил там написать какую-то справку с примечаниями, чтобы проверить, не ошибся ли, потом уже перетянул Половинкина в редакцию.
— Свет, — перебиваю ее, — а тебе не бывает тошно?
— Не знаю, — мирно пожала она плечами, ссориться-то надоело уже. — В общем, надо ведь как-то жить… А почему ты об этом?..
— Да потому, — говорю я опять, — что кудесник он, Колобов! Тебя из парикмахерской, Славу из школы, теперь за меня взялся…
— Ну и что?! Разве тебе хуже будет?..
— Да то, — вздохнул я, — веленью божьему, о Муза! будь послушна…
Не поняла Светка, к чему я сказал: о Муза, будь послушна!..
И она и Слава Половинкин считают, что им повезло — встретился в жизни Колобов! А по мне — так лучше бы вместо Колобова им встретился только Каплик. Тот хоть человеческое достоинство умеет ценить. А Тимофей?..
В нем есть цепкость на людей, мужицкая зоркость, это правда. Он откручивает пуговицы собеседникам, но совсем не простофиля. И не так просто ему командовать газетой, выискивать новых авторов, редактировать материалы, писать самому, а там еще всякие комитеты, бюро, собрания, заседания — нужные и ненужные мероприятия, присутствовать на которых до́лжно по долгу службы. Ясно, что при такой занятости ему нужны помощники, однодумцы… Но Тимофей посягает на большее — на личность… И думать не смей иначе, чем он. Этого не замечает Светка, не знаю, догадывается ли об этом Половинкин, кажется, только Каплик понимает все, а Тимофей-то как раз и побаивается его. Каплик — единственная муза, непослушная пока Колобову.
Что ж, Колобов разбирается в психологии. Знает: такой вот Светке из парикмахерской в него поверить легче, чем в себя. Нет, я бы не пошел с таким лоцманом…
Рядом с Капликом — да! Тот все поверяет делом. Он весь в мыслях, в макетах, в гранках. Похож чем-то на инженера-диспетчера или на механика судна, без которого ни штурман, ни капитан — ни-ку-да… Такие, как Каплик, не могут без дела, без забот. Их одержимости завидуешь, как таланту. И хорошо, что такие люди чем-то похожи на моего отца. Чем? Крепким внутренним ядрышком, силой своей и нравственностью, без которых так легки, так обманчивы фразы тех, кто только скользит по жизни. Что им пахари или пекари!.. Что им ткачи!.. Но ведь: жили славой, а умерли — только саван…
Возвращаюсь я через парк. Его пугающая холодная пустота отрезвляет меня.
Мокро, зябко и холодно.
Далеко впереди неровными языками проблескивает пламя. Там, у могилы воинов, павших за освобождение города, горит Вечный огонь. Чем ближе подхожу к нему, тем ярче пламя. Совсем незаметным, отсутствующим кажется туманный свет фонарей над аллеей.
Перед солдатской могилой стоит человек.
Кругом черно и полночь. Факел Вечного огня у надгробия полыхает синевато-призрачными языками.
От неровно дрожащего огня то меркнет, то фиолетовым озаряется скуластое лицо человека. Я подхожу еще ближе — его черные губы, видные на фоне огня как на негативной пленке, что-то шепчут.
Гулко стучат мои ботинки по плитам железобетона. Человек не слышит Я останавливаюсь рядом с ним, вздыхаю. Он поворачивается и кивает мне, как давно знакомому.
Я даю ему сигарету.
Покурив, мы расходимся.
На прощание я говорю:
— У нас у всех кто-нибудь там…
Человек скупо кивает, соглашается со мной. Приостановившись, говорит:
— У меня все там…
А я думаю, что минута молчания у огня печальной памяти и славы сблизила нас, мы стали друзьями.
Нелегко находить друзей, еще тяжелей терять их.
Так обычно говорила Евдокия Дмитриевна, наша учительница. Повторила она эти слова и на кладбище, когда мы встретились у Милены. И, может быть совсем некстати, я вспомнил, как на уроках литературы она убеждала: «Книга не только источник знаний и зеркало души. Книга — друг, который никогда не изменит».
Когда я уезжал в мореходку, Милена подарила мне книгу, завернутую в газету, и попросила:
— Только не разворачивай сейчас, вот приедешь — тогда…
Я хотел увидеть хоть какую-нибудь надпись, но она оказалась и не нужна, так красноречиво и многозначительно было название — «Я люблю»… Прочитал роман в одну ночь и вдруг на последней странице — строчки, написанные ее рукой: «Самому дорогому человеку от жестокой девчонки. Милена». Потом уже я узнал, что ей посоветовала этот роман Евдокия Дмитриевна.
Учительница постарела. Прибавилось седин, погустели морщины. Не изменился лишь голос, по-прежнему мягкий, ровный. Я почтительно слушаю ее рассказы о школе, о незнакомых мальчишках и девчонках, об их проказах, а думаю о том, что если бы не Евдокия Дмитриевна, не видать мне ни Архангельска, ни мореходки.
Дело в том, что директор наш стоял за обязательное десятилетнее обучение и ученикам восьмых-девятых классов без родителей документов не выдавал. Ждать еще два года, когда была возможность поступить сейчас, я не мог. Душа не вынесла бы такой муки. Мать же с отцом и слышать не хотели о моем морячестве.
Тогда я решил перехитрить директора.
Написал заявление с просьбой выдать документы, а в углу красным учительским карандашом наложил резолюцию: «Выдать. С. Опарин». Опаринскую — директорскую — подпись, скопированную с Почетной грамоты, ни одна экспертиза не могла бы отличить от настоящей, а вот «Выдать» скопировать было не с чего, да мне и в голову не пришло, что к этому слову, накаляканному детским почерком, кто-то может придраться. Улучил момент, когда Опарина не было в школе, и отнес заявление в учительскую. Секретарша посмотрела — велела подождать.
Немного погодя выходит Евдокия Дмитриевна с моей бумагой, красная, рассерженная, и я понял, что разоблачен. Она сложила узлом руки, опустила их и, беспомощно улыбаясь моей наглости и наивности, кажется, готова была вместо меня со стыда сгореть. Она качала головой, а в глазах немой укор: «Этому ли учила вас?!»
— Другой дороги мне нет, — пыжился я, стараясь разозлить ее, чтобы не начала уговаривать, иначе — пропал!.. Неужели же она не поймет, не поверит, что я хочу, что я могу поступить. Ведь учиться буду!..
Не знаю, как долго и путано я говорил, какие слова нашлись в ту минуту, чтобы убедить ее, она только спросила:
— Ты это вполне серьезно?
— Да.
— Кто-нибудь знает, куда ты едешь?
— Один Семен.
— А я думала, это не тайна…
— Как не тайна?! — удивился я.
— Так… — пожала она плечами. — Кажется, я слышала об этом… Не помню точно, где…
— Евдокия Дмитриевна!.. Не мог же он…
Она ничего не ответила, но сомнение шевельнулось в груди и уже не пропадало… Тогда мы говорили о другом, мне надо было убедить ее, что я прав, что если уеду — поступлю непременно, что это для меня — самое главное в жизни!
— А если ты растеряешься и… — начала было она, но я взмолился, чувствуя близкую победу.
Много времени прошло с того короткого разговора. Память сохранила черты лица расстроенной учительницы, взволнованные интонации ее голоса и тот взгляд, которым она ругала и стыдила меня и, любя, щадила и желала удачи. Теперь мне кажется, что она была не очень строга, что и сама хотела бы убежать в Архангельск, а то и подальше на край света. Она иногда говорила, что мечтает уехать со своими учениками, но проходил выпускной год, она брала себе новый класс и оставалась в той же школе, в той же вечной должности второй матери, а дальние края лишь грезились ей по редким письмам забывчивых учеников…
Я хорошо запомнил сумрачный коридор второго этажа напротив учительской, маленькое тусклое окошко (скорее даже форточку) над лестницей, из которого падал на нас зыбкий свет, какие-то неясные шорохи, разговоры и смех в учительской. Все это было непривычным. Ведь школа или гудела ребячьими голосами на переменах, или почивала в легком сорокапятиминутном забытьи во время уроков, когда только директор или завуч пугали коридорную тишину…
Неожиданно в окне над нами скрипнула форточка, и костяной трепещущий звук отвлек меня. Я посмотрел исподлобья вверх: на оконной раме сидела голубка Гуля с перебитым сизым крылом. Гульку кормила с рук вся школа, ее не выгоняли даже с уроков, а она почему-то никогда не пропускала химию, может быть, ей нравилась наша зобатая химичка, а мы с ребятами все придумывали, как бы научить Гульку подсказывать противные, незапоминающиеся формулы. И вот я гляжу на голубку, загадываю: влетит в коридор — тут останусь, а полетит на улицу — значит…
Гулька потерлась клювом о стекло, качнулась, трепыхая крыльями, и… сорвалась вниз, во двор…
Евдокия Дмитриевна тоже смотрела на окно, губы ее часто вздрагивали, и дышала она тяжело, словно только что вбежала сюда по темной крутой лестнице. Ей было, наверно, за сорок, но мы никогда не знали ее точного возраста, никогда не интересовались этим. Мы привыкли к тому, что она всегда «наша», и если у нас тогда была вера во взрослых, то это была вера в нее, потому что она всегда была искренна и правдива с нами и не было ни одного ученика в школе, даже в чужих классах, кто бы хоть раз солгал ей. Мы просто не смели…
— Хорошо… — словно про себя сказала Евдокия Дмитриевна. Она привстала на цыпочки, слегка качнулась. Я слушал ее:
— Мы поступаем неправильно, нечестно. Ты это понимаешь… Я хочу сказать, что это тот случай, когда я не могу не помочь тебе…
И она ушла в учительскую затем, как я бы сказал сейчас, чтобы пробить мое дело.
А школа с длинным коридором по левую руку стояла пустынная, сиротливая. В конце коридора на фоне черной классной доски белели деревянные козлы, на них старое, испачканное белым ведро и жалкие, как селедочные хвосты, измочаленные кисти. И от того места, где стояли козлы, до порога учительской пол заляпан лепешками известки и мела, из класса в класс натоптаны следы, будто от осыпавшегося с валенок снега… Из самой дальней, приоткрытой двери пионерской комнаты доносились неясные, искаженные эхом голоса маляров… Я наступил на известковую кляксу, она хрустнула, будто яичная скорлупа. И стало страшно, что сейчас вот выйдет кто-нибудь из учительской и упрекнет в неряшливости… Помню еще, что внизу, на первом этаже, резко перекликались женские голоса, скрипели по полам передвигаемые парты, что-то еще там стучало и бухало… Остро пахло свежей, сырой побелкой, как обычно пахнет мокрая тряпка, когда стираешь с доски…
В эту последнюю минуту молчаливой тоски и ожидания вышла Евдокия Дмитриевна — добрая, ласковая, как будто заплаканная, подала мне злосчастные документы…
Не знаю, успел ли я поблагодарить ее.
Лестничные перила, еще не выкрашенные новой краской, натертые ребячьими ладонями и штанами до блеска, скатили меня вниз, скрипнула растянутой пружиной парадная дверь и громко хлопнула вслед…
Кто бы знал тогда, кто бы думал, что строгой, сдержанной, добросердечной моей учительнице придется выслушать не один горький упрек и выговор, не одно замечание, не один десяток укоров в непедагогическом подходе к школьникам и что долго потом будет склоняться на педсоветах моя фамилия и ни разу не откажется от меня Евдокия Дмитриевна, не скажет, что все это она сделала из жалости ко мне… Как и потом, когда меня наградят медалью за спасение норвежских моряков, она не будет перебивать Опарина, ставившего меня в пример ребятам, называвшего меня своим учеником…
Быстро пролетел с того дня месяц, я получил вызов на экзамены, уезжал без провожатых… И не знаю, и теперь не догадываюсь, как узнала об этом Евдокия Дмитриевна, пришла на вокзал, нашла меня в тамбуре последнего вагона и спросила:
— Все правила повторил?!
Жар опалил мне щеки.
— В контрольной по русскому, — сказала она, улыбаясь, — запятых ставь поменьше. Ты это любишь…
С ее добрыми напутствиями, зеленый, самоуверенный — одним словом, подросток, — ушел я тогда в люди, ушел искать трудную к морю дорогу.
С разлукой, с письмами начались наши терзания.
Милена просила писать часто, по возможности каждый день. Она хотела знать, чем я живу, что делаю и — как там, на море?!
Она исписывала своими вопросами страницы, а я удивлялся, как она могла придумать их столько.
Она мечтала приехать: подстриглась под мальчика и просила приготовить для нее курсантскую форму, чтобы незаметно пройти в училище, послушать лекции старых профессоров-капитанов и посмеяться их веселым «бухтинкам».
Форма для нее была приготовлена, двое-трое надежных друзей предупреждены, но дома Милену не отпускали.
«Еще чего, за женихами гоняться!.. — говорила ее мать. — Подожди, никуда не денется, сам прискочит!..»
А мы в письмах зло смеялись над этим запретом:
«Небось сама-то бегала!..»
В отпуске я подробно рассказывал Милене о товарищах, об учебе, о том, как один курсант поджег мне в кубрике пятку и мы хотели с ним подраться, но потом стали друзьями.
Милена иногда останавливала меня.
— Подожди, — говорила она, — тут не так. Ты писал, что сначала сам насыпал ему соли в чай, а он тебе в отместку пятку поджигал…
— Ну да! Какая разница, кто первый? Чай же не пятка…
В чем я не сбивался — так это в рассказах о городе, о первой встрече с Архангельском, с морем…
Город лихо раскинулся на побережье Северной Двины, как ливенская гармошка, необъятно широкий, как и положено «воротам» Белого моря… Здесь помнят и чтят Петра Великого, от памятника которому начинается дорога по Ледовитому Северному пути мимо печально-безлюдного Мудьюга — могильного острова политкаторжан. В городе до сих пор не выветрился запах парусного флота, смоленых морских канатов, соленой рыбы, соленой ругани боцманов и шкиперов.
Здесь до сих пор любят крепкое мутно-красное бражное пиво, любят удалых семисаженных молодцов, таких, как богатырь Миша Лобанов — друг Поддубного. Миша одной рукой удерживал за причальный кнехт работающий мотобот, пока товарищи не приносили ему из шинка отходную — ведро ледянистого пива.
Архангелогородцы любили Лобанова за спокойный нрав, тихую улыбку и неуемную силу, за заступничество за слабых и обездоленных, за то, что чести русской не уступал он инородцам.
Часто приезжали крикливые заморцы мериться силой с Лобановым. Как ни хитрили — бросал он их на лопатки. Но — доверчивая душа — погубил его лукавый япошка. Братом назвался, на пир зазвал и отравным зельем опоил.
Стала сгорать лучина — гаснуть Мишина сила. Японец тогда его опять на ковер манит, думает реванш взять, на глазах стоязыкой матросской публики утереть нос Иванам у них же дома. Мишины товарищи говорили другу своему, чтоб не ходил он на эту схватку. Лобанов и сам знал, что ему больше не подняться.
Когда япошка похваляться начал, что одной рукой Мишу за хрипок к земле пригнет, не вытерпела у него душа. Вышел Лобанов, поклонился народу низко, попросил, чтобы злом не поминали в случае чего. Собрал он свои силы в последний раз и поднял злыдня под небеса. Захрустели у того холеные косточки, взмолился о пощаде и сознался миру в черном своем зле. Все думали, задушит его теперь Лобанов, а тот отпустил, наказывая не ходить на Русь со злом, не искать тут себе погибели. И хоть немало с тех пор воды в Двине ушло, Архангельск помнит славу свою, гордится Мишей Лобановым…
Теперь это город-рабочий, с заводами, бумажными фабриками, новостройками. Город, наступающий кладбищенскими отрубами на болота, город привозного камня и хранитель мрачной старинной архитектуры, город-песенник, причал матросских гюйсов едва ли не всех стран, город-франт, любитель цветных вывесок, торжественных морских парадов, искристых ночных фейерверков, город долгой полярной ночи и незаходящего летом солнца, но больше всего — город деревянного дьявола.
С железнодорожного Московского вокзала поражал он морским видом: обилием океанских лайнеров, рыболовных сейнеров, траулеров, караванами барж, большими и малыми парусами, катерами и моторными лодками, снующими по воде, как жучки, лесом портальных и плавучих кранов с прямыми и загнутыми, как хоботы, стрелами. Это и есть Архангельск, главный Архангельск, жизнь которого и в ночь и в день — на воде, и для которого берег — лишь временная пристань, снабжающая углем, провиантом, письмами и газетами, спецовкой и медикаментами.
Две или три центральные улицы, набережная и небольшая площадь скупо вымощены камнем и покрыты асфальтом. Дальше везде — лес, дерево и дерево. Бревенчатые дома, тесовые крыши, резные наличники. Бревнами загачены улицы, тротуары подняты на мостки и забраны досками. На базаре, в парках, кинотеатрах — буфеты, ларьки, тиры и танцплощадки — все из дерева. В однообразной, как загородка из штакетника, Соломбале даже бумкомбинаты кажутся деревянными, потому что цеха заставлены штабелями леса, кладями пиленой древесины и всюду запах свежих опилок, прелой коры и смолистых сосновых комлей. Удивляешься только одному: как и почему не деревянные здесь трамвайные рельсы? С холодным синим блеском, точно дружные змеи, вьются они по деревянному накату улиц…
Над всем этим — свежее дыхание моря и мое первое его ощущение…
Массивный, похожий на ленивого быка, морской паром причаливает к шаткому дебаркадеру… Грошовые билеты, со скрипом откатываемые сходни и в переговорную трубу — как в мегафон — хрипловато-простуженный басок красномордого капитана:
— Малый назад.
— Малый вперед…
Наконец:
— Полный вперед!..
Меньше мили от левого берега до правого, но ведь это моя первая миля!
С моря подхватывает легкий ветер — побережник. Волны лениво дыбятся, взметываются лошадиными гривами, и больше всего на свете мне хочется спросить сейчас:
— А сколько тут баллов?!
Мне нужны баллы!..
Грузный, страдающий одышкой океанский паром, списанный по старости и дряхлости на эту переправу, не замечает ни ветра, ни волн. Капитан — да и капитан ли это? — сонно зевает на мостике, кажется, у него трещат скулы, как сходни под грузовиками, медленно въезжавшими на гулкую металлическую палубу парома. Немногие пассажиры примостились на мешках, покуривают, смеются. Шоферы не то спят, не то задумались в кабинах машин за стеклами, им даже лень закурить, не то что сойти на палубу. Ни волнения, ни смятения ни в одном лице — безмятежность, равнодушие, скука…
Но как просто и эту прозаическую картину опоэтизировать романтическому сердцу! И я думаю: железная воля, выдержка, привычка, пренебрежение к страху, к морю…
Расставляя широко ноги — так ведь пишется во всех морских книжках, — я иду на нос парома. Перелезаю через пахнущие мазутом бухты стального троса, подхожу к якорным клюзам, дотрагиваюсь до ржаво-холодного железа якорных цепей. И вдруг:
— Эй, там!.. Проваливай с носа! А то огреет концом по шее!..
Это мне. Вздыхаю. Нет, не так должно было встретить меня море…
Но тут шальная грива бьет по парому, и брызги — настоящие морские брызги! — летят мне в лицо. Ха-ха-ха! Вот оно!.. Приветствие моря!!!
И свято верилось, что пахло морскими водорослями, крепкой солью, йодом, медузами! Пахло крабом и сельдью (конечно же, соленой!), китами и экватором. Это было крещение. Море узнало меня, потянулось ко мне, значит, я не вернусь назад без голубого гюйса, без широкого флотского ремня с якорем на бляхе и бескозырки!..
Волглые, накатистые, как волны, тучи стояли над головой, какой-то золотой шпиль сиял над городом, сипела и кашляла машина парома, а в груди моей громом раздавался оркестр, вечною клятвой звенела песня:
Разве можно было передать в письмах смятение, радость победы на экзаменах, непостижимую таинственность первого урока, рассказать о дробном стуке флотских «корочек» по трапу учебной шхуны, когда кажется, что не ботинки стучат, а сердце колотится так громко, или о первом училищном вечере с еще непонятной, но такой грациозной и притягательной мазуркой старшекурсников, о первом увольнении в город, когда хотелось чеканить все мостовые парадным шагом, чтобы только люди не сводили с тебя глаз.
И как было раскрыть ей сердце, сказать, что нет теперь для меня невозможного, все могу совершить, все, что захочу.
Может быть, это наивность бродила во мне с детским молоком, а нам обоим казалось, что мы стали взрослыми, всемогущими.
Сначала чудилось, что ночью нет разницы между нашим родным городом и Архангельском. Но надо было вглядеться! И Милена просила: напиши про белые ночи…
Белые ночи тоски, белые ночи одиночества!
Они начинались незаметно, как будто послушные часам, остановившимся с вечера. Солнце замирало над крышами, над самой чертой горизонта. Пустынность, как простыня, накрывала улицы, парочки влюбленных брели в глухие сумеречные закоулки. Почему-то ни восторга, ни тревоги, ни радости в душе — словно и в ней затянувшееся, застывшее светопреставление…
Мало-помалу глаза привыкают к местности, и видишь, как солнце дошло до заветной черты — есть у самого горизонта такая синяя, крохотная, как зернышко, риска: то ли там холм вдалеке, то ли тучка ночует там постоянно на одном месте. У этой риски солнце очнется от раздумий и вдруг покатится, как колобок, дальше, но не вверх к зениту, а покатится себе под горочку по горизонту. Солнце чуть вниз, а горизонт вверх, снова солнце вниз, а горизонт опять вверх, и так часа три-четыре будет катиться, катиться, полземли обогнет, пока горизонт не остановится. И солнце, довольное, что догнало, наконец, за чем бежало, станет подниматься, озаряясь радостью, сушить редкую росу, высветлять лесные просеки и темные переулки в городе…
На что похоже солнце в белую ночь?
Трудно сказать точно, оно — как бы тарелка, докрасна раскаленная в кузнечном горче. И вот, когда из этой красноты должны были уже искры сыпаться, кузнец выронил тарелку из клещей, и покатилась она под горку, медленно остывая и белея, пока вместо красного не сделается желтым, как подсолнух, потом телесного цвета, а тогда уж и ночь кончится, на улице свободно можно читать учебник или гонять футбол.
Но краски меркнут, и обо всем этом забываешь, потому что Миленки нет рядом, а думаешь и хочешь, чтобы эта самая ночь приснилась ей.
Пусть увидит она деревянные улицы и тротуары, затертые, зашарпанные сотнями ног так, что кажутся коричнево-серыми половыми дорожками. К утру они начнут белеть, до такой холодной синевы побелеют, что и не знаешь, то ли деревянные настилы убрали и на улице теперь одна пыль — за каждым следом, ждешь, облако поднимется, то ли, как в старину, бабы холсты выкатили, белить будут…
При этих побелевших улицах, в чуткой тишине, когда много разных звуков слышится и в самом городе и на рейде, начиная от теплоходных гудков и кончая руганью подвыпивших морячков и девичьей песней из Соломбалы, солнца не замечаешь, а видишь, что свет отражается от земли, ударяет вверх откуда-то снизу, подсвечивает балконы, карнизы и макушки деревьев.
Парочки возвращаются из закоулков на подсветленные улицы, идут и смотрят, как от дощатых настилов, от бревенчатой гати, от стен, крыш, от туманно блестящих окон — отовсюду, и от них самих тоже, отражается неземной рассеянный свет. И почему-то хочется петь и слушать песни. В одну сторону парочки идут — слушают, в другую — сами поют…
Чудный город. Город моего одиночества, город деревянного дьявола, очарованный белой ночью…
После третьего курса началась плавательская практика. Теплоход, на который меня назначили, сходил со стапелей «Красного Сормова» в Горьком — надо было принять его и привести на Двину. Но мне не повезло. На второй или третий день по приезде туда меня вдруг скрутил острый аппендицит. «Скорая помощь», потом больница, операционный стол… Все это быстро, только шов затягивался плохо, вместо недели мне назначили отлеживаться две.
Перед выпиской заходит сестра в палату, спрашивает меня:
— Больной, вы сможете спуститься на первый этаж? К вам посетительница.
— Шуточки, — говорю я. — Опять какой-нибудь крокодил из команды персики припер! У меня тумбочка ими забита, пусть обратно несет.
Сестра смеется.
— Идите, — говорит, — идите, ей уже халат дали.
Я повалялся немного, чтобы там, внизу, понервничали, ожидая, потом зашлепал по холодной мраморной лестнице на первый этаж. Под лестницей была небольшая площадка, там стоял диван, от которого напротив узкий коридор в приемный покой. И вот, когда дошел я до дивана, по коридору, вижу, торопится молодая женщина в докторском халате, на груди видна желтая кофточка, руки распахнуты, словно для объятий, и, хотя я плохо вижу против света ее лицо, что-то странно знакомое в походке…
На какое-то мимолетное мгновение подумал я о Милене и остановился, чтобы дать женщине пройти. Она тоже остановилась. Лицо, глаза, улыбка — Миленкины, но зачем волнистые кудри, белый медицинский халат, докторская шапочка, торчащая из кармана?..
— Ты?! — шепчу я.
— Ты?! — повторяет она.
Все захолонуло в груди, сжалось, и вдруг с такой силой рвануло меня к ней, что в сторону куда-то отлетели и потерялись тапки-шлепанцы, она вскрикнула и, неловко приседая, кинулась ко мне, будто я падал и она ловила меня.
— Милый, милый, — шепчет она, а я совсем не вижу ее глаз, они затянуты поволокой готовых вот-вот покатиться слез.
Я обнимаю ее, слышу тонкий запах ландыша от волос, чувствую, что это она — здесь, в Горьком, рядом со мной, и ее тонкие теплые пальцы на моей шее, а я не верю себе…
Мы сидим на диване друг против друга, между нами пачка чистых конвертов и шоколадная плитка с черным пингвином на голубой обертке. У пингвина неожиданно красные, как у гуся, лапы. Я придвинул к ней шоколад — «Пополам!», а о конвертах спрашиваю:
— Зачем это?
— Чтоб писал!
Оказывается, она встретила мою мать и та сказала ей, что я болен, на операции. Милена не поверила в аппендицит, взяла на фабрике отпуск и вот примчалась.
— Да даже если и аппендицит, — говорит она так, будто отвечает на чьи-то возражения, — я все равно решила ехать. Представляю: один-одинешенек тут, без друзей, тоска, скука. И мне, главное, ничего не пишет!..
«А написал бы — так ты, может, и не приехала бы!» — думаю про себя.
Я беру в руки конверты, улыбаюсь и виновато и довольно.
— Ладно, — говорю, — теперь буду писать. Только второго аппендицита уж не будет.
— И не надо!..
Она садится ближе, теперь ее колени касаются моих ног, и я почему-то краснею, а она протягивает руку к моей щеке, шепчет:
— Небритый…
— Небритый.
— Можно я тебя поцелую…
Мне тоже хочется сказать: «Нет, лучше я тебя поцелую», но вместо этого я неловко обнимаю ее за шею и… лампочки качаются в глазах…
Сплошным недоразумением кажется синий бумазейный халат на мне, белая докторская шапочка в ее кармане, обтянутый саржей диван и вся эта пронашатыренная, продезинфицированная больница.
После выписки из больницы Горький на несколько дней стал нам родной крышей.
Я остановился в общежитии речного училища, а Милена — у какой-то дальней-дальней родственницы. Она жила на тихой, почти деревенской улице на берегу Волги, рядом с обвалившимися и замшелыми стенами старого монастыря, где размещается теперь сельхозучилище механизации.
Это была негромкая трудовая окраина Горького. Жизнь здесь начиналась рано, едва занималась заря, когда пассажирские теплоходы на рейде и у причалов еще светились неяркими, как бледные звезды, огнями и трамваи еще не будоражили сон улиц своими пронзительными звонками. В эту пору малиновые отблески предрассветного неба красили воду, и издалека просматривалась тонкая ровная межа на стрелке, там, где сходились и долго, не смешиваясь, шли воды Оки и Волги. В эту пору, когда вместе с лаем дворняжек начинали простуженно чихать, удаляясь от берега, моторные лодки рыбаков, мы с Миленой брали неповоротливый хозяйский «кунгас», она садилась на весла, и шли к узкой протоке намывного острова, чтобы там искупаться, наловить быстроногих раков, позагорать.
Она следила за мной, как за ребенком, чтобы не бегал, не прыгал, и даже на берегу позволяла нести только одно весло. Переубедить, что опасения за мое здоровье и все ее строгости напрасны, Милену было невозможно.
— Что ж ты думаешь, — говорила она обиженно, — я приехала сюда, чтоб ты надорвался?! Я тебя беречь должна. И не спорь, не спорь, не спорь! А то уеду!..
Перед вечером мы ходили в кино, потом бродили по набережной, по Откосу, заходили в кафе или смотрели на белые, как облака, паруса вольных яхт, на стремительные трехвесельные байдарки, на крикливых прожорливых чаек, и от всего этого рождалось в душе ощущение полноты жизни, какой-то даже избыток счастья, словно сама Волга расплескивала его по берегам… И сладко щемило в душе от сознания того, что вот кончатся наши отпуска, мы опять разъедемся, но нам будет хорошо и мы будем много и красиво работать, и встретимся мы опять счастливыми, молодыми, и так будет всю жизнь…
— А ты переплывешь Волгу? — спросила она однажды и посмотрела на меня оценивающе, точно не знала, как я умею плавать, точно вообще виделась и разговаривала со мной впервые.
— На одной ручке или без?..
— Да нет, так…
— Я бы океан переплыл, если бы ты стояла на том берегу.
— Хвастунишка, — усмехнулась она. — Ты бы поплыл… И за что я тебя люблю?!.
— Разве любить надо за что-то?!
— Да.
Она говорила твердо, обдуманно, и глаза ее как-то встревоженно блестели, смотрели на меня удивленно и вопрошающе.
— Мне кажется, — продолжала она, — мужчину надо любить за ум, твердость, решительность и… нежность.
— А женщину?!
— А ты как думаешь?
Язык мой стал неповоротлив. Да и как это было сказать, если она правилась мне всем — нежностью то бледного, то румяного лица, голосом — спокойным или иронически-насмешливым, временами даже вызывающе насмешливым, своей доверчивостью, когда трепетала от нечаянного прикосновения моей руки… Как мог я объяснить, и сам толком тогда не понимая, что мне нравится смелость, с какой она отстаивала свои мысли, то, что она не стыдилась чувств, своей доброты. Я любил ее без вопросов, такую, как она есть, и никогда не думал, что можно спросить себя: за что?..
— Ну?! — повторила она нетерпеливо. — Думаешь отмолчаться? Тогда я сама скажу. Цени в женщине силу!..
— Ты хочешь восстановить матриархат?
Она засмеялась:
— Дурачок… Разве я это говорила?! — Милена положила руки на мои плечи, посмотрела в глаза: — Жизнь меняется, женщины с каждым днем становятся лучше. Мне тоже хочется…
Я торопливо сказал:
— Ты уже сильная!.. Только я не думал об этом раньше.
— Нет, — покачала она головой. — Еще ничего не сделано…
— Но ведь не каждая решилась бы приехать, как ты.
— Не каждая, — согласилась она просто, словно речь шла не о ней. — Но ведь и не каждая знает, что ожидание — это еще не любовь…
От ликования в душе я чуть не закружил ее на руках… Спросил, готовый выполнить ее желание в ту же минуту:
— Хочешь, я покажу тебе весь мир?!
— С тобой?! Да я хоть сейчас согласная в кругосветку!..
И мне было приятно, что она сказала это моим языком!
Перед отъездом из Горького мы шли по Откосу. Было тепло, солнечно. День воскресный, крутом много веселых, шумливых людей. Совсем неожиданно со стороны города, из-за высоких крыш, наскочила туча, ударил ливень. Народ кинулся с набережной врассыпную, все спешили укрыться, мы побежали тоже. Под ближайшей аркой людей битком. Стоять можно только под карнизом, с которого льет еще хлеще. Вспоминаю, что за углом, со стороны площади, над входом в мединститут, есть козырек, можно спрятаться!.. Но и там яблоку негде упасть.
Она со смехом спрашивает:
— Ты боишься дождя?!
— Чего?.. Не боюсь!..
— А люди?
— Кто их знает, вроде не глиняные…
— Ты любил мальчишкой бегать под дождиком… — напомнила она мне.
— Спрашиваешь!.. Да я и сейчас!..
— Пошли?! Через площадь!..
Я невольно поежился, но отступать было поздно. Да и что-то такое шевельнулось в душе от ее слов, что захотелось окунуться в ливень, как в детство. Не маленькая эта площадь имени Минина в Горьком. Мы прошли ее от памятника Чкалову до Дома Союзов, пошли бы и дальше по Свердловке, но дождь кончился. А под арками кремля, под козырьком института стояли и завистливо смотрели на нас молодые люди, кто-то хлопал в ладоши, кто-то кричал, размахивая зонтом, а мы шли под струями, и над нами полыхала на ветру голубая Миленкина косынка…
— Ты не простудишься? — участливо спросила она.
— Давай разуемся, — ответил я, — веселей будет!
— Не надо, все равно…
На крыше института были мощные динамики. Окна радиорубки выходили на площадь, и нас, видимо, заметили оттуда, потому что вдруг заиграла музыка и веселый голос запел:
— Кап, кап, ка-аплет дождик…
Пока мы шли через площадь, пластинку ставили дважды.
…Как память о том дне цела у меня косынка. Кажется, от нее и сейчас пахнет ландышами, запахом ее волос. И так же отчетливо слышу я сейчас ее голос:
— Ты бы хотел идти так всю жизнь?!
— Да, вместе с тобой.
— А я с тобой…
В одной из тетрадей Милены читаю:
«Допустим, я нравлюсь Семену, хотя сама я в это не верю. Почему он настырничает, пристает? Ему же было ясно сказано, а он все равно набивается в друзья. «Лучший из лучших, достойный из достойнейших» не может с этим смириться…
Жаль мне его будущую жену. Что бы ни творилось в ее душе, он будет считать все капризом, прихотью. Будет помыкать ею, вынудит плакать, когда весело, и смеяться, когда на душе кошки скребут… В его натуре жить приспосабливаясь, ловча, хитря. Так легче скрывать скудоумие и даже играть роль способного, одаренного человека. В крайнем случае — подающего надежды… Но зачем же такая жизнь?! Зачем? Неужели не лучше быть самим собой?! Ведь это надо быть от роду проклятым, чтобы всю жизнь таскать на себе маску и бояться потерять ее… Если жена будет умнее, он возненавидит ее, опасаясь разоблачения. Неужели вся эта мерзость из ростка честолюбия?..»
…Я старался найти, понять для себя то мерило, с каким подходила Милена к людям. Иногда мне казалось, что многие слова ее о Семене можно отнести к Тимофею Колобову. В чем-то Колобов оставался непонятен, и это злило. Зачем он упорно тянет меня в редакцию? Он, кажется, хочет приучить меня к маске Волнова, а ведь это совсем ни к чему. Я не охотник до славы, да и Милена сказала бы, что это не мое дело. Уверен! Странный народ эти газетчики и журналисты. Они уверены, что почти каждый, взявший в руки перо, может сравняться с ними. Оттого ли, что самим ремесло дается легко, или другая есть причина? С одной стороны, понять их можно: до газеты у каждого была другая специальность, а потом вот освоились и неплохо вроде получается, а?! Если б и у нас так было: подержался за штурвал, а тебе сразу — да ты штурман природный! Иди на корабль, жизни без тебя нет!.. А и с другой стороны поглядеть — как не понять Колобова? Газетка маленькая, город наш вроде бы и не так уж знатен, чтобы, положим, газетчики рвались сюда работать, тут даже знаменитых комсомольско-молодежных строек пока нет, а ведь Тимофею кадры нужны, кадры!.. Вот он и думает: штурман пока к делу не пристегнут, так дай-ка возьму его на прицел!.. И Каплик, кажется, намекал на это… Но нет, Колобов, я тебе все-таки скажу, что плох тот штурман, за которого кто-то прокладывает курс!..
…Позвонила неожиданно Галушка — оказывается, неприятная новость: Колобов прочитал мой очерк о Евдокии Дмитриевне и, забрав материал, куда-то уехал.
— Ну и что? — спрашиваю я. — Ты думаешь, на свалку повез?!
— Нет, я решила, что он к тебе…
— Зачем?!
— Может, не понравилось что… Заставит переделывать.
— Ясно, Светка, ясно… Ты всегда была такая заботливая… Сама в таких случаях что делаешь?
— Я бросаю в корзину, ведь Тимофей зря не скажет!
— Тогда чего же ты сейчас беспокоишься?!
— Так ведь я знаю Евдокию Дмитриевну! Очерк-то хороший, жалко…
— Значит, внутренние противоречия… Ну, матери на растопку годится.
— Ты ничего не понимаешь!
— Вот это да — в самое яблочко попала.
— Я тебя предупредить хочу, попросить…
— О чем, еще темка?! Я думаю, хватит с меня!..
— Нет-нет… Ты не кипятись, не ругайся с Тимофеем, ладно?! Пусть он выговорится, выбесится, остынет, а потом уже соглашайся с ним или не соглашайся — твое дело.
— А я сейчас приготовлю ковшик с водой. Как только твой Тимофей Иванович зашипит…
— Ладно, Волнов, я предупредила, а ты смотри! Но лучше помолчи сначала, ты ведь его совсем не знаешь…
Эх, Светка, хоть ты и не называешь уже меня по имени, а все Волновым да Волновым — вслед за своим Тимофеем, тебя ведь так легко успокоить, если уж не переубедить.
— Слушай, Свет, — улыбаюсь я в телефон, — давай поговорим по душам?
— Ну что еще?!
— Скажи мне откровенно, он хороший?!
— Хороший…
— Человек?!
— Человек.
— Какой человек?!
— Русский, какой же еще!
— Неужели ты думаешь, что два русских не найдут общего языка?!
— Правильно, найдут, если они умеют слушать.
— Ну вот и прекрасно, я тебе позвоню, как только мы договоримся.
— И если не договоритесь — тоже?!
— Ладно, будь!..
…Между прочим, насчет умения слушать Светка верно подметила. Милена писала об этом. «Главное, — считала она, — относиться к человеку без предубеждений. Вот у нас на фабрике кладовщик — неприятная личность на первый взгляд. Зовут его Кривым. У него на глазу нашлепка, сам синюшный весь, как с перепоя, говорит мало и голос тоже такой, брюзгливый… Приносишь ему с конвейера ящик обуви — он, мало того что каждую пару пересчитает дважды, еще в руках повертит, обсверлит глазом, а ботинки уже ОТК проштампованы. Говоришь ему: «Быстрей надо, дядя Вась!..» А он: «Не к спеху, не быть бы смеху…» — и копается до тошноты. Потом стали говорить у нас, что женская обувь пропадает, многие, конечно, на Кривого думают. После этого совсем неприятно идти к нему. Придешь — молчишь, скорей бы накладную подписал.
Я как-то оставила ему ящик, пошла на обед, не стала ждать, когда он все перекопает, а он вдруг заявляется в цех, приносит пару мужских ботинок и еще одна туфля женская.
«В чем дело?» — спрашиваю, а сама дрожу, предчувствую гадость.
«А у тебя, — говорит, — в ящике пара ботинок лишняя. Возьми, с другой партией сдашь».
«А туфля тоже моя?»
«Нет, в ей стелька отошла, контролеры недоглядели…»
Ушел он, я мастеру своему говорю:
«Кривой-то — чудной какой-то!..»
Она мне:
«Дядя Вася самый честный человек на фабрике. У него и с одним глазом промашки не бывает».
Я и сама не заметила, как стала думать о нем лучше. Нашлепка на глазу перестала быть отвратительной, оказалось, у него и почки больные — все из-за ран и контузий с войны. Теперь, когда приходила к нему, хотелось самой сказать что-нибудь ласковое. А что скажешь?
«Ну, дядя Вась, посчитаем ботиночки? Посмотрим, не отошла ли подметка, не распустился ли шов, а то ведь на ОТК только надейся… Люди же потом скажут…»
«Посмотрим, дочка, посмотрим, — отвечает он. — Давай мне пару, а ты другую смотри…»
Вроде бы ничего не произошло между нами, мы только стали лучше понимать друг друга и уже как бы друзья… А ведь ему тоже что-нибудь не нравилось во мне. Например, короткая юбка, или мой недовольный тон, настырный голос…
От симпатий или антипатий удержаться трудно, но исходить надо из общих взглядов, единомыслия, я бы даже сказала — единодействия… Трудно, но я должна научиться этому…»
…Откладываю тетради. Мысли мои возвращаются не к Тимофею Колобову (теперь он, если Светка угадала его замыслы, едет ко мне) и даже не к Светке, хотя в последнее время она уж как-то очень подчеркнуто заботилась обо мне. Я думаю о Семене — спокойно, если не насмешливо, а ведь раньше, встречая имя его в Миленкиных записях, переживал, как если бы речь шла о его встречах с Миленой. Ревность была?! Что же изменилось? Или успокоило то, что он бессилен теперь причинить мне обиду, зло?! Или появилось сознание превосходства над ним?! А может, только теперь до меня дошло, что приговор Семену был вынесен Миленой задолго до того, как я успел обидеться на него?!
Наша дружба с ним угасала незаметно. Я уходил в плавания, писал ему редко и мало, он не искал большего. Однажды в Москве встретил его с наивно-восторженной девчонкой, и он шепотом сказал мне, что скоро женится. Она была москвичка, студентка.
«Тоже медик?» — спросил я.
«Нет, физик, в МФТИ учится!»
Он говорил с почтением, благоговейно, и я невольно подумал тогда, что почтение это не к девочке, а к ее институту, даже в сокращенном названии которого было что-то внушительное, строгое и серьезное. Все-таки радуясь за него, я простил тогда все обиды. И не мог понять, почему, женившись, он предостерегал Милену от увлечения «прежними школьными товарищами». На что он намекал? Чего, собственно, добивался?!
Или боялся, что я как-нибудь напомню Милене о том анекдотическом случае с колбасой, которую сперли у меня в походе? Но ведь Семен однажды сам признался, что знал, кто это сделал. Я, конечно, возмутился:
«А что ж ты не сказал?!»
«В той обстановке?! Далеко от города, на диком озере, в камышах?.. Они, к примеру, могли устроить темную…»
«Да мы б им, знаешь?! Ты что, испугался?»
Скажи он «да», я бы поверил, плюнул — и дело с концом! А он:
«Ты подзабыл, в каком мы находились обществе? Там была и та, которую называем «дикаркой». — А дикаркой он называл Милену. — Шумиха могла показаться ей некрасивой. Сознайся, не подумал ты о последствиях…»
Возможно, он прав?..
В следующий мой приезд в Москву я вез Семену сто рублей, долг. Случилось же так, что первым я встретил в Москве его брата, да по наивности и сказал тому:
«Семен брал у тебя деньги для меня, так вот, возьми, спасибо».
«Что ты?! Семен пошутил! У него своя сберкнижка. Когда туго — бегаю к нему занимать…»
Значит, поопасался Семен. А еще говорил тогда: просил у брата двести, он дал только сто!..
Семен с блеском защитил диплом, получил направление в исследовательский институт и весьма гордился этим.
А мне это было непонятно.
«Как же так, — спросил я, — ты ведь мечтал об операционной?»
«Мечты, мечты! Благие звуки!.. — говорил он патетически и в то же время снисходительно — для меня. — Потрошить человечиков — не мой профиль. В конечном итоге — малоперспективное дело, если хорошо поразмыслить. Представь: я — и в роли мясника над вонючей брюшиной!.. Бр-р-рр!.. Не по мне, не по мне… Не по нам, правда?! — поправился он, заглядывая в глаза своей покрасневшей спутнице. — Природа более благоразумна!.. Ты ведь не книжный червь, поездил, повидал, должен согласиться: гнилому — гнить, живому — жить! Стоит ли вмешиваться в извечно справедливый принцип естественного отбора?! Природу, брат, не обманешь!.. Она хитра. Хитрее нас с тобой…»
«Что же остается вашей светлости?!»
«Тоже хитрый вопрос, коварный… Но я отвечу: разве ничего не значит философское осмысление наших проблем?.. Или хотя бы исследование практической целесообразности того же закона естественного отбора…»
«Ну, эту проблему, я вижу, ты уже решил!..»
«Не болей, старина, не болей, это главное! Тогда вопроса не возникнет…»
Не знаю, шутки ли то были… Я скоро простился с Семеном и его спутницей, хотя и не с легким сердцем. Видимо, права Милена…
Интересно, что главный опекун мой по газете не Светка, а назойливый Слава Половинкин. Может быть, Тимофей Колобов считает, что Слава мне больше всех приглянулся?! А тот не церемонится, звонит, когда хочет: приезжай скорее, есть дело!..
Приеду — во дворе перед редакцией, как по заказу, уже урчит «газик». Слава выбегает навстречу с папкой, кричит:
— Э, здравствуй, старичок!
— Здравствуй, старикашечка!..
Его всегда, по-моему, бесит этот «старикашечка», но и от своего «старичка» он не отказывается.
Прилипчивый Слава уже провез меня по всей области. То на молочнотоварную ферму — сливками угощал, то на птицеферму — показывал, как глотать целиком сырые яйца, то в «квасное кафе» завернули — там столы, табуретки дубовые — все без гвоздей, на шипах. «А квас-то!.. А дуб-то — мореный!..» Квас был действительно хорош, из бочонков, на выбор: с медом, с изюмом, с хреном… То возил на пасеку, на лесопосадки…
Слава, почти не покидавший меня в этих поездках ни на минуту, сдавал такие подробные и содержательные материалы, что я только удивлялся, как это ему удается.
— Тактика! — он многозначительно поднимал над головой сигарету. — Стратегия!..
Хороший парень, но почему так наигранны его движения, неестественны позы, любимая — сидеть, откинувшись в кресле, или рядом с шофером в машине, так, чтобы рука с дымящейся сигаретой на отлете, и рассуждать — многозначительно, веско, сурово, но ведь все знают, что это только треп… Из сигарет признает одну «Стюардессу», а в редакции смеются, потому что ни для кого не секрет, что ему их кто-то регулярно присылает из Москвы бандеролью наложенным платежом.
Как-то я спросил о его чудачествах Светку, она пожала плечами:
— Не знаю… Не думаю… Не помню за ним ничего такого… Тебе не показалось?! Он парень толковый, ты не думай!.. Ценный работник!
А я думаю. Всамделишный Слава мне кажется лучше, чем этот, каким он сам представляется. Почитаешь его статьи — ясные, правдивые. Кажется, сидит перед тобой друг, уверенный, что ты поймешь его. Умудренный опытом, как будто владеющий каким секретом, он видит больше, чем ты, умеет размышлять над фактами, которым ты не придавал значения. Сегодня он рассказывает об одном, завтра о другом, и, кажется, нет предела этой всеядности. Неужто же можно знать все? Но никого это не волнует, не настораживает. И как-то не вяжется такое с его бесшабашным возгласом, словно монету на мостовую бросит:
— А у меня темка!.. Кому подарить, продать, обменять — налетай!
Все знают, что Половинкин шутит, никто не подходит на зов. Но ни разу никто не слышал, и сам редактор тоже, какая эта «темка» в деталях, какую проблему Слава из нее «вытянет». Даже в командировку поедет, только и скажет:
— Что-нибудь там про молоко, про сыр, о доярках что-нибудь посмотрю…
А привезет статью, позарез нужную Каплику, Колобову, газете — как, например, четыре доярки растащили привезенный бригадиром фураж, а пятой, ходившей в это время за ветеринаром, кормов не досталось. Не доярке, конечно, а ее коровам. Да и не об этом напишет, а о нравственности, о морали человеческих отношений. Потом отклики идут на статью, Половинкин снова мчится на ту же ферму и привозит ответ самих доярок и на статью, и на письма читателей.
Чем больше смотрю я, как он работает, тем яснее понимаю, что сам ничего не могу. Хочется быть таким же зорким и уметь подойти к людям так, чтобы они всю сердечность свою раскрыли. А Слава на мои расспросы отвечает смехом:
— Эт-то секрет фирмы.
— Бери меня в свою фирму, хоть на время!
— Укомплектована: Половинкин и К°…
— Кто же это?
— Колобов думает что он, а Каплик — что он.
— Шутишь ты все, Слава!..
— Нет, старичок. Я получаю заказ, идею и — исполняю. Самостоятельности немного: узнать фамилии, адреса, слегка подфантазировать… Вот фантаст я был бы классный, но никто не верит.
И я не знал, верить ему или нет, а он, нимало не озабоченный моими сомнениями, поучал:
— Главное — эт-то не задавать казенных вопросов. От них людям скулы ломит. Поэтому я и молчу больше: народ, знаешь, напечатают — возражать не будет… Ну, ты этой глупистики не хватил, тебе и хорошо!
— Ты это серьезно — про людей…
Половинкина не проведешь — и тут отделался смехом.
В одну из наших поездок я не выдержал, сказал ему про его манеры, про то двойственное впечатление, которое он производит на меня. Думал, обидится. Он же только усмехнулся, правда, невесело усмехнулся.
— Я… Я скажу тебе. Ты, старичок, моряк, тебе это далеко…
— Что далеко?
— Ну, моя профессия. Она мне и самому кажется странной, моя теперешняя профессия… А насчет кривлянья — ты прав… Я несерьезно, поверь. У меня ведь всего-навсего три зажигалки, и те обменные. Одну отдам — другую возьму… Т-так, шило на мыло меняю. Ребята думают, что у меня их уже миллион.
— Чего возишься с ними?! — пожал я плечами.
— Для забавы. Журналист не может только писать. Если он к тому же не умеет думать, надо чем ни то увлечься. Хобби!.. Это не пустое, заметь! Снимает остаточное напряжение, похоже на обезболивающее…
— А что же душа твоя, Слава? — спросил я после долгого молчания.
— Я, знаешь ли, кто? Я ботаник. Был… Работал, иногда было время — думал… Считал, что причастен к великой тайне. Кому-то доступна тайна человеческого рождения, мне — вся жизнь растений. Их рождение и их смерть. Если хочешь — вечность… Скучно об этом говорить, а слушать и подавно, не поймет никто. Смешно, но я через травы учился смотреть на людей. Один кажется чертополохом, другой — слабой, но хитрой, прилипчивой повиликой, третий, как ни прозаично, — овсом, а кто-то — сладким, безвольным клевером… Я же, как Пришвин, ищу Фацелию…
— Ты не женат?
— Нет. Уйду из журналистики, тогда женюсь. Кто за меня такого пойдет?.. Я пока вроде перекати-поле, сам знаю…
В словах его прорвалось что-то безутешно-кокетливое. Я хотел возразить ему, рассказать о себе, о Милене, но, сам не знаю почему, смутился и промолчал. Может быть, потому, что не верилось, будто хочет он уйти из газеты. Никуда он не уйдет, а что тоскует — так это верно. Тоска пройдет со временем. Тоска всегда проходит, если человек может стоять лицом к миру. И что ж, что тоска… Она опасна, когда бывает как короткое замыкание — внезапная, сильная. Обязательно что-нибудь перегорит… Со мной, кажется, было такое, когда погибла Милена. Было… Теперь проходит… Да, проходит. Да и как иначе? Я ведь еще надеюсь, что впереди у меня — море…
Колобов Тимофей в тот день так и не приехал.
Светка, проницательная, наблюдательная, предупредительная Галушка, ошиблась. Она отвлекла меня от дневника Милены, но я не опечален этим. Все равно я читаю дневник отрывками, и каждый раз это — как свидание с нею. Мне чудится ее голос, слышится длинный, нескончаемый монолог… И мне некогда возразить ей, ответить на вопрос, да я и не могу. Не хочется нарушать вереницу мыслей, фраз, в которых по-прежнему ее дыхание, ее жизнь…
И не важно, что я молчу, а она говорит. Важно, что мы схоже чувствовали, понимали мир. Пусть не во всем, пусть расходились иногда, пусть разные были у нас профессии, разве в этом дело? И разве о профессии думаю, приходя на кладбище, садясь на скамейку у ее могилы…
Неподалеку, у границы старого кладбища с новым, там, где над зарослями акаций и сирени поднимаются высокие липы, там над чьей-то могилой стоит мраморное надгробие, похожее на университетскую кафедру — узкую, высокую, покрытую тяжелым бархатом. На кафедре — раскрытая книга, тоже из мрамора, в ней выбиты строки эпитафии:
«Мир праху твоему,
благородный и добрый человек».
Не одно поколение похоронено здесь после… И какое нам теперь дело до узкой специальности, профессии того человека! А мимо могилы его не бегут люди. Останавливаются, читают, с тихим благоговением в сердце, может, и с поминанием отходят своими стежками.
Мир праху твоему, благородный и добрый человек… Что́ бы такие слова венчали и наше надмогильное терние!..
По какой-то странной прихоти или странной моде века редко мы дарим достойную эпитафию, забывая, что дающему да воздастся!
Нет, я бы не стер на Ее могиле слова «Трагически погибла». Пусть останутся. Я бы не стал повторять и те, что выбиты на развороте черной мраморной книги. Я написал бы другие:
Неужто нашелся бы человек, готовый усмехнуться и не поверить в сбыточность невозможного! Почему ж я верю?!
Уходящее к югу лето зовет и меня. Судно мое направилось теперь в порт приписки; пора и мне бросить свой якорь.
Старики — мать с отцом — недовольны. Или встревожены. Хотя, что им в моем поведении?! Их волнует, пожалуй, неизвестность. Неясно, почему не кончается мой долгий, бесконечный отпуск. Я-то объясняю тем, что команда моя в загранке. А почему я перестал горевать, почему не темнее тучи мое лицо? Они бы, конечно, и тогда переживали, но зато была бы ясна причина. А теперь я часто ухожу из дома — утром, вечером или ночью — когда вздумается, и неизвестно, где провожу время, неизвестно с кем, как неизвестно им, милым и беспокойным, чем все это кончится.
А что мне говорить? Увлекся газетой?! Право, смешно.
Осень уже у порога.
Долгие занудливые дожди, тянущие в сон, все чаще приходят в полдень. Вовсю опадает пересохший по летней жаре лист. Иногда я собираю листву в парке над тихой и светлой, как лесное озеро, Орлеей. Милена любила поздние цветы и поздние листья, но эти букеты не для нее, ей я отнесу золотого чекана листву — багрянистую, охряную и белую, как холодное серебро… А эти листья еще сырые, они с легкой прозеленью, стоят у меня дома перед ее портретом. От листьев пахнет дождями, первой прелью и чем-то печальным, словно отзвуком нескончаемо вечного…
…Я собираю опадающую листву — символ грядущего обновления…
Однажды на углу Песковского переулка, у дома, выходящего к набережной Орлеи, я увидел белобрысого худого мужчину в бежево-палевом плаще. Случайный прохожий… То ли плоской тщедушной фигурой привлек он мое внимание, то ли неестественно напряженным выражением лица, но я стал наблюдать за ним. Вот мужчина немного согнулся, снял с головы фуражку-блин и левой рукой прислонил ее к уху, к шее — загородился от улицы, от Песковского переулка.
Мужчина слегка кланяется, словно хлястик на ветру. Он молится. Торопливо, боясь, чтобы не оборвали, он вскидывает пальцы ко лбу, но не касается его, и рука спешит упасть к правому плечу, потом дугой к левому и опять торопится вверх. Губы что-то шепчут… Изредка мужчина бросает косой взгляд на тротуар Песковского переулка. Людей мало, все они спешат прочь, никто не обращает внимания на молящегося.
Старая, как почернелый бронзовый шлем, церковь, перед которой стоит этот человек, давно уже не церковь: там какое-то учреждение, не то склад. Крестов нет. Но купола на вид еще строги, от них веет грозным могуществом.
Церковь слушает молящего.
О чем он просит, этот полусогнувшийся человек ни в бежевом, ни в палевом плаще, какой-то бесцветный, не запачканный осенней грязью? О чем он просит, не молодой уже и пока не старик — человек, даже возраст которого трудно определить?! В нем живы только глаза — яркие и зеленые, они резанули, точно хотели пронзить насквозь.
И эти глаза на нем — как две зеленые точки на желтом, сухом листу, упавшем с неведомого дерева.
Мольба его тщетна — ни бог, ни церковь не в силах оживить его. Он годен лишь на то, чтобы ветер играл им.
Еще немного — и пожелтеют и эти зеленые точки на нем.
Не надо молиться!
Оторванное от корня не живет дважды.
Нет, не слышит меня, как его самого не слышит эта церковь.
Исполнив обет, он спешно кланяется и с непокрытой, как сухая трава, головой, с фуражкой под мышкой уходит навстречу пестроте и разношумью улиц…
Я остаюсь один, как чудак, собираю опавшие листья, сухие и желтые, с зелеными точками…
Тимофей Колобов приехал только через несколько дней после Светкиного звонка.
В квартире Тимофей поначалу теряет свою редакторскую самовитость, уверенность. Еще раз здравствуется на пороге, из комнаты в комнату ходит осторожно, на цыпочках, внимательно разглядывает корешки книг, морские сувениры, раковины. Он словно оценивает все, стараясь понять мой характер и ту невидимую связь с материальным миром, который окружает меня в родных стенах.
Мы молча закурили, я подставил ему пепельницу. Ожидал, что он начнет разбирать по косточкам мой очерк о Евдокии Дмитриевне, но Колобов заговорил о том, как немного сейчас способных журналистов, пишущих, подчеркнул он, у которых есть чутье к слову. И он, Тимофей Колобов, век себе не простит, если я брошу писать.
— Бог простит, — пошутил я.
— Я серьезно!
— Я тоже.
— Ладно тебе… Со стороны, брат, лучше видно.
Я пожал плечами, мне не хотелось развивать эту тему. Тимофей же, считая вопрос решенным, спросил: — Да, ты вырезки собираешь?
— Какие вырезки? — не понял я.
— Ну, статьи, которые напечатал!
— Нет, а зачем?!
— Я так и думал, да!.. Вот, специально твои материалы подобрал… Держи-ка, — он протянул мне элегантную, как и он сам, бежевую папку. — И не тяни резину, да. Свято место, знаешь?..
Я попытался представить себя таким, каким хотел видеть меня Колобов, и — не то горько стало, не то стыдно, не то все вместе… Ну что мне газета?! Мимолетное!.. А к морю рвался напролом, веря, что с ним связан судьбою. С ним были мои мечты, к нему шла долгая и трудная жизни дорога…
— Хорошая папка, да?! — спрашивает Колобов. Она, верно, дорога ему.
— Могу вернуть, — говорю я.
— Да нет, что ты!..
— Ну ладно, на память о газете…
Тимофей замечает за Миленкиным портретом старинную икону, берет ее.
— Деисусный чин… Век семнадцатый, да?!
— Возможно.
— Откуда выдрал? — спрашивает грубо, как на базаре.
— Икона из Егорьевской церкви.
— Из Егорьевской? — переспрашивает, и вдруг все в нем противится этому ответу: — Как из Егорьевской?! — Он не договаривает, и я догадываюсь, что он знает все… И, может быть, не только знает… Ведь церковь снесли недавно, по сути, на наших глазах. Красивая была, памятником архитектуры считалась.
— Ты должен, да, должен подарить мне ее, — уговаривает Тимофей с улыбкой, но и с заметным нажимом.
— Почему должен?!
— А-а!.. Не знаешь, да? Не догадываешься?! Вот потому и должен… Посмотри внимательно, спас как две капли похож на моего Бунина! Где ж ему и быть, как не у меня, да?!
— Хитрый ты мужик, Тимофей, — говорю я твердо, и совсем не потому, что он уговорил меня, не потому… — Бери спасителя… Бери. Ведь ты духовную культуру поднимаешь.
Получив свое, Колобов не уходит, продолжает, казалось бы, уже законченный разговор:
— Так что скажешь, Волнов?
— Не нужен я тебе, Тимофей.
— То есть как?!
— Так, как сказал.
А он все надеялся, что я соглашусь.
— Ты правильно сделал, — говорю я, — что пригласил в газету Светку, Славу Половинкина. У них для такой работы вполне подходящий характер.
— Я не понимаю тебя, да.
— Газетой, как и морем, нужно заболеть. Бредить нужно!..
— Да я таких мальчиков, знаешь, сколько объездил!..
— О, это уже разговор! — усмехнулся я. — А с Волнова — где сядешь, там и слезешь. Вот не нравится же тебе Каплик!
— Ну, — мнется Колобов, застигнутый врасплох, а деться ему некуда: я жду ответ. — Каплик ершистый малый, не спорю, да, не спорю. Но дело знает. И зачем в бутылку лезть? Ты думаешь, не сработаешься с ним, — лукавит он вдруг, — да?! Не думай! Я тебе говорю!..
— Я с тобой не сработаюсь, Тимофей, вот что я думаю.
— Да брось ты, заладил!.. Ну, погорячимся когда… Не без этого, да, не без этого, но будь ты хоть каким рассамостоятельным, а газета требует…
— Вот и договорились: каждый должен быть на своем месте. В газете тоже.
Колобов поднял брови:
— Как заговорил!.. А мы с ним, как с писаной торбой, носимся: Волнов, Волнов!.. Думаем, мало ли что, человеку помочь надо… Так сказать, сели, да, обсудили, посоветовались…
— И риск небольшой, точно?!
Колобов не ответил.
Да и что он мог ответить: запланированная чуткость, кажется, вся израсходована…
И неужели он не понял, что Светка, когда рассказывала обо мне, — она ж ведь наивная еще! — она от всего сердца, бедой моей поделилась…
А она бы, пожалуй, поняла, как хорошо дома после разлуки. Все позабудешь, кажется, от всего вовек отречешься, только чтоб вволю воздухом родным надышаться, чтоб отца-мать не обижать, а потом — и такой день приходит! — подкатит ком к горлу, и если б в руки тебе — не судно, нет, а хоть какую-нибудь захудалую лодчонку с дрянным мотором, и то — посуху бы до моря дополз!..
Думаю:
«Тимофей, понял ли ты что-нибудь?» Сбежал.
А я, понял ли сам?
Столько места на земле, столько простора, столько дел кругом не переделано, а я — без руля, без ветрил…
Горько. Стыдно.
Погоди и ты, Милена, погоди, не торопи меня.
Ведь уеду — когда еще свидимся?
Вечером, необычно молчаливо совершив обряд умывания, отец сказал матери громко, чтобы и я в своей комнате слышал:
— Ужинать будем сегодня в зале, мать. Накрывай там, да повеселей, поторапливайся!..
— Ставлю уже, — удрученно отозвалась мать, и я подумал: раз у отца такое настроение, то не отстанет и от меня. Надо собираться.
Категорически настойчивыми предложениями отца обычно начинались все семейные ссоры. Кто, интересно, обидел его сегодня? Мастер, начальник цеха или опять нормировщица, беззубая кобыла, забывшая поставить ему в табеле прошлое воскресенье рабочим днем? Если хочется ему обедать в зале, значит, будет речь… На кухне тесно, там не размахнуться, и голос от соседства стен, штор, занавесок звучит приглушенно, в зале же акустика, как на площади…
Мать гремит тарелками. Возвращаясь на кухню, она попутно вытирает фартуком гитару, висящую на гвоздике с катушкой. Гитара — подруга ее молодости. Мать прикасается к ней по великим праздникам, когда гости в доме, когда сама слегка захмелеет от выпитого и захочется отвести душу в песне. Я точно знаю, что если перед обедом мать нечаянно вытирает гитару, значит, отец принес «белую головку». О, он уже открывает скрипучий буфет, звенит бокалами… Сейчас позовет…
— Сынульк! — слышу его приятно взволнованный голос. — Иди-ка, иди!.. Обед уже остывает, по маленькой тут у нас есть. Мать, садись-ка! Что ты там топчешься…
Садимся.
Мать уже всплакнула. Силясь улыбаться, сама расстроенная, она бросает на меня встревоженные взгляды, и мне это непонятно. Так обычно она смотрела на меня в детстве, когда я приносил двойку или прогуливал уроки, а отец срочно «принимал меры». Неужто и сейчас они решили за меня взяться?!
Чокаемся.
— Твое здоровье, сынок! — (Точно, будут меня прорабатывать!) — Я пью за твои будущие акадэмии! За твои труды!.. Давай, мать!..
Они понимающе, согласно кивают друг другу, чокаются еще раз и на меня не смотрят. Мать старается выпить горькую рюмку залпом, отец глотает рывками, судорожно ходит под рюмкой острый худой кадык. Потом в тишине все жуют долго и молча. Глаза отца постепенно влажнеют, вилка его тыкается в закуску неуверенно. Тяжелые думы одолевают его, и он время от времени трясет головой, чтобы освободиться от них, а может, ищет, с чего начать, чтобы разговор тек без скандала, убедительно, чтобы до меня «дошло» и я понял…
— Значит, так, сынулечка… Далеко ходить не будем, возьмем со вчерашнего дня!..
— Не надо, может, отец?! — всхлипывает сразу мать.
Я невольно сжимаюсь весь, мне обидно за мать. Вызывающе спрашиваю:
— А в чем дело?!
— Ты, мать, молчи! Вишь, он сразу голос повышает. Не обучили мы его поведению, не обучили. А в том!.. Ты видишь, мы уже старые, загнулись совсем! Ты скажи вот, ответь, зачем мы живем с ей. Зачем? Мы живем с ей для того, чтобы дать тебе образование, выучить, чтобы ты вышел в люди и не ишачил век, как мы… Для вас акадэмии пооткрывали, институты, а ты чем занимаешься?! Ты мне глаза не прячь, не утыкайся в тарелку! Ты мне прямо скажи, ответь, чем ты вчерась занимался? Где пропадал, с кем, с какими это теперь товарищами водишься?..
Я положил вилку, катаю хлебный шарик, леплю чертика, и мне все равно. Отвечать ему я не буду. Он теперь не поверит. Скажет: «С чего бы это вдруг у тебя товарищи в газетке завелись? Никогда не было, а теперь ни дня ни ночи без их не проводишь?»
— Молчишь?! — продолжает он. — А я тебе прямо скажу: сомнительные знакомства завелись… Ты что? Тебя из флота прогнали?.. За какую такую провинность, интересно бы знать?! И почему от нас с матерью скрываешь? Ты думаешь, мы с ей зря спину гнули? Думаешь, мы не должны знать, на какие такие средства́ ты выпиваешь?! Дружки все одинаково по́ют. Вчера они тебя угостили, и еще угостят, а потом придет твоя очередь, а как же?! Мы думаем, у тебя сначала горе… Правильно, горе. Я тебе за это ничего не скажу, сам четвертиночку тебе куплю, сядем, выпьем по-человечески, помянем…
— Отец! — перебивает мать, и, кажется, вовремя, не то бы я сам его оборвал.
— Подожди, молчи сиди! — машет он на нее рукой. — Я это все к примеру говорю, и ты на меня не серчай, ты слушай, я тебе скажу дело. Если тебя с работы выгнали, ты не отчаивайся, не заводи плохих знакомств. Они до добра не доведут. Ты признайся нам с матерью! Подумаем, обсудим, пойдешь к нам на завод. Я тебя сам в ученики возьму…
…Нет, все-таки отец у меня хороший, хоть и прямолинейный. Он долго рассусоливает, как хорошо было бы нам на заводе вдвоем. Я бы где и помогнул ему, где б кардан подтащил, а он бы посидел, старый, покурил. А как он меня поднатаскал бы хорошо — пошел бы прямо к директору и сказал бы: вот сын мой, грамотный, его можно хоть мастером или начальником смены ставить…
Впервые за многие наши разговоры и сидения за этим семейным столом я не перечу им — ни отцу, ни матери, не оправдываюсь, не выдумываю ничего, не спорю. И ему это странно. Странно и матери, которая решительно перебивает отца, спрашивает меня:
— Что ты угнулся, молчишь? Отвечай нам!..
Родная мама, что я тебе скажу сейчас, что отвечу, когда и сам ничего не знаю. Вы готовы к самому страшному моему признанию. Все что угодно, только бы не быть в неведении, знать, чем я дышу, что думаю. Но у меня нет плохого на сердце, нет! Я расстроен, растерян, это верно. И прежняя моя жизненная дорожка оборвалась — негаданно, нечаянно. Вы, пожалуй, правы: нечего мне сидеть тут сложа руки, лучше уехать. Нужно уехать, вдалеке от дома прийти в себя, а потом уже и сказать вам обо всем.
— Нет, мать, криком ты от него ничего не добьешься, я тебе всю жизнь говорил!.. Сынок, ну?!
Дорогие вы мои старики! Всю жизнь воспитывали, всю жизнь трудились — ради меня. Дайте срок, я вернусь к вам, оправдавшим надежды. А теперь…
Мне так хочется поцеловать их…
Но я иду в свою комнату, достаю маленький чемоданчик, бросаю туда носки, галстук, рубашку — вроде все!..
Выхожу к ним.
— Спасибо, — говорю, — закон морской.
Это значит, кто последний доедает — тот убирает со стола.
Мать плачет. Отец, стараясь казаться спокойным, несколько раз чиркает спичкой, закуривает папиросу.
— Я еду сейчас в Москву, — говорю я, чтоб они не томились, — меня не провожайте… С морем… вроде покончено. Ну, а как там дальше судьба сложится — не знаю, не ведаю. Долго не задержусь. Приеду — расскажу все. А о друзьях плохо не думайте, хорошие ребята…
— Обожди! — кричит сквозь слезы мать. — Обожди, непутевый!.. Сядь! Посидим на дорожку минутку, помолчим…
И мы сидим минуту, молчим, чтобы удача была в пути.
В Москву поезд пришел рано. Я взял такси, проехал по Софийке. За Москвой-рекой золотились купола кремлевских соборов, голубели малиновые блики рассвета в окнах. Среди первой осенней желтизны на тротуарах кувыркались голуби, и дворники, должно быть, по привычке, поливали засохшие клумбы…
На площади Пушкина вышел из машины. У подножия памятника в плетеных корзинах заметные издалека белые хризантемы. Среди них резко выделялась простая зеленая ветка, положенная на гранит неуверенной рукой, а перед ней — букетик маленьких желтоклювых цветов. Это был венок из бессмертников, на золотистой ленточке которого фиолетовыми чернилами и ученически неровным почерком выведено:
«Бессмертному Пушкину — бессмертники Михайловских лугов».
И стоило постоять тут минуту, чтобы осмыслить все.
…Было еще рано, и только несколько человек, наверное, таких же случайных зевак, как я, видели, как подошли к памятнику двое рабочих с лестницей и один стал подниматься к голове Пушкина. Держась за его плечо, он уселся поудобнее на верхней перекладине, окунул в котелок тряпку и стал протирать Пушкину щеки, лицо, шею. Он словно парикмахер намыливал его перед бритьем. В котелке раствор бронзы. Свежая, она ярко и необычно блестела на шее Пушкина.
Порывом ветра принесло откуда-то дубовый лист. Кружась, опустился он на пушкинские бакенбарды. Я думал: рабочий сбросит его и у меня будет еще один лист этой осени, пушкинский лист… А рабочий снял кепку и спрятал в нее тот лист.
Нет, все-таки хорошо быть великим!..
В министерстве меня ждали непомерно долгие ковровые дорожки, встречи с начальниками отделов, заключения врачебных комиссий и, наконец, беседа с секретарем парткома министерства. Я знал, что работа будет на берегу, и не ошибся в предположениях, когда секретарь под конец нашего разговора сказал:
— Повезло тебе! Сейчас договоримся о встрече с Матвей Степанычем, и если глянетесь друг другу, то…
— Мой будущий шеф?
— Да. Ему нужны люди, знающие флот. Не затоскуешь?!
Нет, не затоскую. Я знаю, что такое эксплуатационник в порту. Представляю себе, что такое хороший эксплуатационник! Не до тоски будет. А до работы я жадный…
На мягкие и в то же время «заинтересованные» запугивания Матвея Степановича, теперь уже моего начальника порта, ответил коротко:
— Согласен. Когда выезжать?..
Так вот и попал я в отдел эксплуатации Находкинского порта.
Ну что ж, Находка так Находка!..
До отъезда у меня оставалось несколько свободных дней. Немного, но вполне достаточно, чтобы вернуться к старикам, объяснить им, что к чему, проститься с Миленой и даже тут, в Москве, успеть заглянуть к Семену… Все складывалось удачно, хотя в ту минуту я никому не сознался б в этом.
Семен мало изменился. Был рад встрече, угощал коньяком, но сам не пил — торопился на ночное дежурство в клинику. Я тоже поднялся — у меня поезд домой…
— Кстати, — воскликнул он едва ли не обрадованно, — пойдем вместе! Танечка нас проводит. У нее все равно каникулы, ей полезно прогуляться перед сном, а нам будет веселее… Не возражаешь, золотко?!
«Золотко» не возражала. Но у первой же автобусной остановки Семен оставил нас одних:
— Пиши, заглядывай, не забывай! Будешь в командировки налетывать — гостиницы, то-се, — рассчитывай на нас!.. Ну, почтение! Приветы старикам!..
И уехал, сокол… Я хотел проводить Таню обратно, почему-то молчаливую и рассеянную, она неуверенно возразила:
— Ваш поезд еще нескоро… Если хотите, если не возражаете, лучше я провожу вас?.. Родители на даче, одной скучно дома… Разумеется, если я не мешаю…
Нет, она не мешала мне.
За пустячными разговорами о погоде, о кино прошло ее смущение. Но такой необязательный разговор был нам обоим в тягость. Тогда я стал рассказывать ей о редакции, о солидно-смешном Славе Зажигалкине, невозмутимом Каплике и беспокойной парикмахерше Светке Галушке. И уже не отрешенными, а понимающими глазами смотрела на меня Таня, смеялась над моей эпопеей, а я ловил себя на мысли о том, что это страшная ошибка, что она жена Семена… Невероятно, как могли ужиться такая непосредственность, такой откровенно-искренний смех и… словом, в голове не укладывалось, как она могла полюбить Семена.
Мне было жаль ее… Какое-то демоническое торжество зла: один человек будет терзать другого лишь потому, что тот лучше. Таня, Таня, надо бы понимать это!..
Она спросила:
— Вы думаете, он на свое дежурство поехал?!
— То есть как?
— Вот то-то и оно… Он работает над кандидатской, а в клинике дежурит за своего научного руководителя… Вы бы смогли так?! Только честно, вам не противно было бы, а?..
— Ну, Таня!.. Мы ведь с Семеном теперь совсем разные люди. И встретились уже не как друзья, а скорее… как знакомые. Может быть, в последний раз встретились…
— Нет, вы не правы. Все не случайно, я знаю!.. Семен мне многое рассказывал, но я знаю, где он врал. Он не умеет лгать, его всегда выдает голос… Не удивлюсь, если окажется, что вы совсем не знаете его… Как думаете, сколько он у матери не был?
— От отпуска до отпуска! — смело солгал я.
— Пять лет!.. Я сама ездила к старушке тогда…
— С ней что-нибудь случилось?!
— Нет, — она замялась, я хотел перевести разговор на другое. — Нет, но вы послушайте!.. Я расскажу… Вы только ничего не говорите, молчите. Мне надо высказаться, а сказать больше некому…
— Хорошо, Таня, я молчу…
— Знаете, сколько в Москве людей? Сколько здесь станций метро?! Здесь так просто, так легко потеряться!.. Встретить знакомого человека, особенно когда он не хочет этой встречи, просто невозможно! Это невероятно!.. Это должно быть такое случайное стечение бесчисленных обстоятельств, что оно неминуемо должно оказаться закономерным! Вы понимаете? Закономерным! Роковым!.. Так вот, я ехала с занятий, Семен был на очередном дежурстве в клинике. Вдруг я вспомнила, что обещала позвонить подруге. То ли я задумалась, уж не знаю, как получилось, то ли уж так тому и быть, но сошла я не на своей станции… Увидела линию автоматов, достала двушку… Все телефонные будки заняты, а в одной будке двое… целуются… Надо было постучать им, но тут освободилась соседняя кабина, я вхожу, набираю номер и смотрю через стекло — передо мной Семен, обнимает женщину… В глаза мне смотрит и продолжает обнимать… Потом он что-то сказал ей, и они ушли, не глядя на меня, она только прическу поправляла и улыбалась… Очень красивая… Вы представляете, что я чувствовала!.. На моих глазах… Тогда я собрала вещи и поехала к его матери — она в письмах просила навестить ее. Не знаю, почему я поехала к ней?! Не хотела, чтобы он меня видел… И спрятаться больше негде, у подруг он разыскал бы меня сразу, а вот что я у свекрови — это ему и в голову не пришло… В общем, сообразила!.. Приехала, на мне лица нет, бледная, чуть только не плачу. И мать его вижу впервые. А она посмотрела на меня на пороге, говорит:
«Проходите».
Заходим в комнату, хочу сказать, кто я, а она руку тянет почти к самым моим губам, бормочет:
«Нет, нет! Я сама… Вы — Таня?!»
«Да, — отвечаю, — Таня…»
А она:
«Несчастная девочка! У тебя горе… Известное, постоянное женское горе… Семен подлец, я всю жизнь это знала и боялась… Я воспитывала, как могла… Но теперь уже стара… Он не слушает мать свою… Я могу поплакать с тобой, девочка. Больше мне нечем тебя утешить. Семен трус… Он всегда боялся холодной воды…»
Так я и уехала от нее ни с чем…
— Как же вы решили дальше? — невольно спросил я.
— А мы не решили… Вернее, я еще не решила. Он просил… прощения… Уверял, что это случайное увлечение, а, по мне, так еще хуже… Пока все как во сне…
Слушая Таню, я открывал давно известное… А она уже молчала. Ждала ли приговора, поддержки, совета… Я мог бы ей сказать резкие слова о Семене, но нужно ли это теперь, когда она сама все понимает?! И кто дал нам право — Семену, мне или кому другому — решать чужую судьбу? Человек должен сам…
— Что я скажу, Таня… Разберетесь… Вы слышали что-нибудь о Милене?
— Да. Татьяна Андреевна рассказывала… Я верю, она была замечательной девушкой!..
— Не те это слова, Таня!.. Хотите, я пришлю вам страничку из ее дневника? Она писала еще задолго до вашего замужества. Она как будто заранее знала, предвидела многое…
— Хорошо, — ответила Таня и остановилась. — Теперь простимся!.. Я буду ждать.
И вот я снова — в который уже раз! — покидаю родину, отчий дом…
Я не моряк. Но все-таки:
полфута под килем — вперед, старина!
Грустные воспоминания остаются, кажется, позади. Ведь было в жизни и много хорошего! Хотя, например, коньков с ботинками у меня никогда не было. Не было и спортивных костюмов, и даже свитера приличного, чтобы сходить на каток. А тут получилось так, что на каток собрался весь класс — культмероприятие. Не пойти нельзя — кончался зимний сезон. В этот раз непременно должна быть там и Милена, а мне хотелось с ней прокатиться, так хотелось, как, наверное, никому никогда еще не хотелось.
И вот я сочиняю дома, что мне дали общественное поручение — организовать культвыход. Может быть, и на самом деле так было, только деньги, чтобы взять коньки напрокат, мне дали, а вот свитера подходящего даже у соседей не нашлось. Не идти же в пальто?! Что это за катание будет!..
Мою мать, как всегда в таких случаях, осенило.
— А вот это, — говорит, — чем не спортивная форма?
Берет свою фуфайку (у нее была легкая, стеганная на вате) и подает мне:
— Надевай, хороша будет! По росту в самый раз, и свободная. — разогнаться сможешь, и теплая.
Я посопел, но надел. Подошел к зеркалу — страхолюда: фуфайка-то домашняя! Где гвоздем клок выдран — вата торчит, где углем измазана, где известкой — курам на смех такая одежда.
Мать тоже смотрит и отворачивается, смеется, чтобы не обидеть меня.
— Сынульк, — улыбается отец, — а роба моя не лучше?!
— Пойдешь? — спрашивает мать. — Или из-за фуфайки мероприятие общественное срывать будешь?!
Повертелся я, покрутился, а вижу, идти никак нельзя. Мать и сама это понимает.
— Снимай! — приказывает она. — Сейчас я тебе сделаю!
Уносит фуфайку на кухню, через минуту приходит с новой.
— Та — конечно… — говорит со вздохом, не договаривая, что та уж слишком плоха. — А вот эта тебе в самый раз будет! Специально — спортивная, я тебе как сюрприз берегла.
Облачился — и насмотреться на себя не могу. Физиономию мою улыбка так и распирает. Полы и спина синие, из миткаля, рукава белые, чистые, чуть только длинноваты. Я их подвернул — так еще и манжеты получились — ну, просто чемпион-олимпиец!
Ухожу — вижу, что и мать рада, но уже на пороге она останавливает меня, предупреждает:
— Имей в виду: это старая фуфайка, я ее только наизнанку вывернула. Чтоб знал…
Снимать?! А может, и ребята подвоха не заметят, как я сначала…
— Иди-иди, не сомневайся, — подбадривает отец. — В своем идешь, а не в чужом, так что — не бойся!..
Видно, уж слишком красива и оригинальна была изнанка у моей спортивной формы. Как только вышли на лед, ребята меня сразу разоблачили, со всей своей мальчишеской жестокостью на смех подняли. Стыдно, а со стадиона не ухожу. Отъехал в сторону, смотрю, как Миленка катается, виражи выписывает. Как назло и ботинки попались размером меньше, пальцы жмут — я даже разогнаться как следует не могу. Эх, последний вечер в сезоне — и тот испорчен!..
Позаброшенный, позабытый, еложу на коньках в углу стадиона, с карапетами. Благо — в тени, куда лишь отраженный свет прожекторов попадает. А наши там, в крутящемся вихре, — с криком, с песнями, с улюлюканьем… Кружат, точно на карусели; для них и вальсы, и полонезы, и смех… А мне безразлично теперь все. Вот только нету сил въехать в их круг или хотя бы отвернуться и позабыть о них.
Вдруг — красная шапочка ракетой вырвалась с орбиты, развернулась по крутой дуге в обратную сторону. И белый шарф, как белый шлейф за ракетой, развевается за ней, сверкают острыми ножами коньки, сверкает и скрипит, как стекло под алмазом, лед. Остановилась рядом и не шелохнется.
Миленка!
В глазах синь, щеки пунцовые — от бега, езды по морозу, от света юпитеров, от музыки, счастья… И, видимо, от волнения, глубоко вздымается грудь…
И мне уже не кажется, а на самом деле так — рядом с нею светлее, просторнее. И музыка сначала слабо, неясно еще, но все сильнее, все отчетливее играет во мне и уже потом уплывает от меня куда-то на громкоговорители, слышится всем, гремит над стадионом.
— Поедем! Давай руку!..
А я смотрю на нее и не верю.
— Поедем! Я хочу кататься с тобой! — говорит она взволнованно и нетерпеливо, и я вижу, что она этого действительно хочет и уже не передумает.
— Давай же руку!.. — повторяет она капризнее, легко и незаметно поворачивается, готовая умчать меня в этот вихрь, в эту пеструю от множества людей кутерьму, в голубой, высвеченный прожекторами ночной простор!..
Я снимаю варежки, подаю одну руку, другой машинально вытираю нос и, набрав в грудь морозного воздуха, прыгаю, как будто с высоты и без парашюта…
Ничего не помню сначала.
Потом вижу, что ноги мои разъезжаются, я мешаю Милене и, как-то странно, не огорчаюсь, а ликую внутренне, оттого что разучился кататься. Она вытягивает руку, чтобы не потерять меня, и что-то хочет сказать, и боится, и смеется, а мы все быстрей и стремительнее врезаемся в толпу, с замиранием сердца предчувствуя неминуемое столкновение, свалку, падение… Но скорость как будто вбирает нас в себя, и мы идем с ней красиво и ровно, конек в конек, и уже ничего не боимся, лавируем среди пар, и догоняем кого-то невидимого там, впереди, за следующим, нет, за следующим, еще за следующим поворотом!..
В каком-то обаятельно-странном азарте, на вдохновении вырываемся на короткую дорожку, где и народу мало, и скорость выше всяких границ, и сами коньки ликуют, точно сердца, и как-то ненароком поправленный ею шарф вдруг падает мне на шею, и мы несемся будто что-то одно, неразрывное, неясное, бесконечное. Она берет крепче мои пальцы, пожимает руку, и я, только минуту назад потерянный, одинокий, а теперь самый счастливый из этих тысяч на стадионе, отвечаю стеснительно, робко, а потом горячо, до боли, и она тоже отвечает мне, изо всей силы, и как будто нет и не будет конца ледяной дорожке, раскручивающейся куда-то вверх…
И уже где-то на самом верху слышим музыку, текущую к нам снизу, словно из отворенного окна:
Мы слушаем, и кажется, она хочет сказать, что это ее любимый вальс. А другого, лучшего в ту минуту нельзя было придумать, потому что:
Сыплются, падают и кружат голубые снежинки. Падают ей на шапку, на волосы, на шарф, на мою вывернутую наизнанку фуфайку с белыми рукавами, на ее красный, как шапка, свитер, на руки, которые сжаты у нас так сильно, что мы не чувствуем своих пальцев. Крупный теплый снег похож на осенние листья, шуршание льда под ногами тоже напоминает осень, и ощущение давно ожидаемого счастья так велико в нас, что мы незаметно и все громче начинаем петь:
Ее теплый, пахнущий ландышами шарф будто до сих пор у меня на щеке.
Надо ли говорить, что мы не видели, как окружали нас и звали домой ее подруги, как дергал меня за руку Семен, что-то кричал и показывал на часы, как обиженно и зло отъезжали они от нас, как все единодушно решили не дожидаться нас со стадиона, как с каким-то непонятным, необъяснимым упорством договаривались они объявить нам бойкот, не здороваться, не разговаривать с нами и — никогда больше, никогда не звать нас на стадион, держать в глубокой тайне от нас все культурно-массовые мероприятия.
Правда, из замыслов этих ничего не вышло.
Потому ли, что тихая Светка Галушка одна из всех сказала о нас:
— Я тоже завидую им до кончиков ногтей, но почему же не здороваться?!
Или потому, что наутро всех больше занимали задачки по алгебре, переводы по немецкому, а мы с Миленкой ничем не выдавали себя, разве только иногда торопливым взглядом выражали, как хорошо было в последнюю мартовскую ночь на синем от света и музыки стадионе.
Последняя запись в Миленкиных тетрадях — как будто последнее, прощальное письмо ко мне:
«Милый мой, родной!
Я знаю, ты днями приедешь, мы опять увидимся и — как мне хочется, чтобы мы никогда не расставались! Никогда, слышишь! Я слаба и измучена. У меня нет сил! Неужели тоска может так иссушить?.. А я думала, что я сильнее…
Или все это потому, что наступили последние мои каникулы?! Мне нечем занять себя. Конспекты заброшены, экзамены сданы… Мне теперь осталось одно: ожидая тебя, ковыряться в собственной душе, чего я страшно не люблю, психологизировать, благо чему-то я научилась…
Нет, глупости, глупости, чепуховина…
Я просто устала, измучилась, истосковалась по тебе. Я буду трепать тебя за вихры, что ты не приезжал так долго! Неужели нельзя быть штурманом на суше, рядом со мной?! Тогда забери меня к себе! Я буду у вас поварихой, коком, буду ходить со шваброй по палубе, убирать ваши каюты и делать все, что прикажет боцман, капитан или… штурман.
Почему я такая непутевая!.. Почему не могу стукнуть каблуком и приказать: будьте у моих ног, сударь!..
Знаешь, я завилась. Новая мода: распущенные волосы, не очень длинные… Светка говорит, такая мода была до войны. И мать смеется: со старой карточки мою прическу сдула!.. Ну и пусть! Зато волны совсем как морские, тебе понравится!
Скорей бы!
Еще целых три дня. Куда себя дену… Не хожу ни в кино, ни на танцы… Хочу к тебе. Вот возьму и уеду в Москву, сяду где-нибудь в кассовом павильоне вокзала и буду ждать, когда ты придешь компостировать свой билет. Я обниму тебя сзади, и ты ни за что не угадаешь, кто это!.. Нет, угадаешь: запах ландышей выдаст…
Как ты там без меня?
Неужели можешь?! А бывает минута, когда ты совсем не помнишь меня? Это же страшно, если бывает! Я хочу быть в каждой твоей клеточке, в каждом нерве, раствориться в капельках твоей крови, чтобы всегда быть в твоем сердце. Я не дам ему стареть, я никогда не позволю ему остановиться: пусть оно стучит и стучит, и я буду в нем жить, и жить, и жить…
Бесконечно!..
Я немножко хандрю, мать ругает меня, по это пройдет сразу!..
А куда мы пойдем в первый вечер?
В парк… Ну конечно! — на берег Орлеи. Ах, какой букет мы набрали бы там с тобою, если бы сейчас была осень! Багряных кленов, золотистых лип! И обязательно зеленых тополей в крапинку…
Ты только не хандри, слышишь, никогда не хандри, чтобы мне всегда было весело…
Скорей бы в твою кругосветку!..»
Рассказ матери Милены:
— Она, верно, неделю целую сидела дома, никуда не выходила. Как ляжет с утра на диван, так и лежит, не спит, не читает, все думает, думает…
Белье отнесет в прачечную, за хлебом сходит и думает… Спросит:
«Мам, тебе не помочь чем?»
«Нет, дочь, я сама».
«А то давай?!»
«Нет, ты устала с экзаменов, отдохни».
«Ну ладно», — скажет и опять лежит.
А как тебе приехать — в этот день похорошела. Надела свое любимое платье сиреневое с кисточками, в нем и похоронили, причесалась, говорит:
«Мам, я такси возьму. Так быстрее».
«Возьми, — говорю. — Жалко, что ли, прокатись».
«Я уже заказала. Сейчас подъедет».
Машина подошла тоже сиреневая, как по заказу, она села, поехала на вокзал встречать. А потом сообщают: перед вокзалом, на повороте, такси в лесовоз врезалось. Стекла разбились, шофера поискалечило, а ее сразу, в висок ударило. «Скорая помощь» тут… Говорят, минут десять еще жила, сердце билось. Ничего не говорила, только улыбалась, так и отошла…
И погибла наша дочечка, родная наша былиночка, и остались мы теперь одни. Нет у нас теперь никого на свете. А я жду: вот она придет, вот придет. А то голос ее приснится, вроде: «Мам, открой! Что ж ты мне дверь не открываешь!..» Я встану, пойду в коридор:
«Дочь, ты, что ль?!»
Открою, а там черно, нет никого, и ветер воет. Я поплачу, а батька мне говорит:
«Спи, дай, что ль, душе покой…»
Я лежу, каждую ночь слушаю, не позовет ли опять…
А она больше не приходит, видно, успокоилась там…
Приду на могилку, и слез нету. Зову-зову, не откликается.
И хоть бы мне поскорей с ней увидеться…
После дождей, ливней, когда глянуло ненадолго солнце, просохли тропинки, я набрал осенних листьев и отнес на кладбище. В последний раз выкурил там я мою трубку с головой Мефистофеля.
И с окраины города — с кладбища, от ее могилы, я поклонился родному краю, родному небу и земле, праху ее поклонился — низким, земным поклоном.
И знаю теперь, где бы я ни был, какое бы лихо ни пришлось пережить, труднее не будет. И горькая память этого лета уже никогда не изгладится во мне, и от горьких воспоминаний о нем станет мне легче. И никогда не оскверню я земли, вспоившей и вскормившей меня, поставившей на ноги, с материнским благословением отпустившей меня в нелегкую дорогу…
Земной поклон тебе, родина, и ныне, и присно!.
…Я уезжаю. Поезд уносит меня на восток. Стучат колеса, и где-то в дреме видится мне тот иссушающе жаркий летний день, когда уже без Нее разразилась первая проливная гроза.
Тучи собирались над землею недолго. Кто-то невидимый сменил голубой фильтр неба на черный, свет померк, и порывистый вздох ветра прошел над землей.
Я стоял в это время у окна. Жалел, что не вижу разыгрывающейся бури, но и то, что осталось мне увидеть, нескоро забудется в памяти.
Перед глазами молодая раскидистая яблоня…
Мы привыкли, что девушек сравнивают с березками. И, правда, в березах много женственного, девического: и лирически настраивающий белый ствол, и густая волнистая крона, так похожая на распущенные волосы, и какая-то скромность во всем облике, точно наивная сельская девчушка вышла на луг с цветами. Романтично и верно подмечено, и немного надо воображения, чтобы уловить сходство, оправдать сравнение…
А перед моими глазами стояла яблоня.
Ее не сравнишь с девушкой.
По вот ветер полыхнул языком по веткам, поднял их снизу, почти с земли, и завернул, как подол зеленого платья… Женщина торопливо кинулась поправлять его — так и ветки яблони, упругие, сильные, как руки, одергивали назад подол, изгибались и выворачивались, не давая озорничать ветру. Под яблоней, совсем как ребенок, вытянув тонкую шею, стоял рубиново-красный, с нежно-фиолетовым румянцем мак. Тонкий и нежный, растерянный, не зная, куда спрятать себя.
Яблоня по-женски ласково и безутешно укрывала его.
Ветер пронесся, мгла сделалась еще гуще, и, словно в предчувствии ночи, мак торопливо угасал, складывая свой венчик.
Я вспомнил, что в наших деревнях цвет этот, ярко-фиолетовый, называют буксиновым. И в этой озвонченной неправильности от фуксинового есть какая-то особая, непередаваемая прелесть.
А гроза распалилась до полуночи.
Наутро, при солнце, я увидел, что темная от дождя земля под яблоней усыпана янтарно-зелеными яблоками. И мне подумалось, что яблоки — застывшие слезы, вырвавшиеся во вчерашней схватке, крупные, круглые, потерявшие связь с родным.
Маковый цветок под деревом надломился, последние соки еще текли к нему по тонкой, невысохшей кожуре. И из последних сил, в последний раз поворачивал он тонкую шею к солнцу, сгорая в своем буксиновом пламени.
ПО ЗРЕЛОЙ СЕНОКОСНОЙ ПОРЕ
«Придет или не придет?» — загадала бабка Настасья о зяте. Она сдоила корову, отужинала и не легла спать, как обычно, а стала ждать Любку. Кроме нее, внучки, некому бабке поведать свою кручину.
К старости предчувствие редко обманывало Настасью. Вот и сейчас не желала она позднего гостя, а сама подсыпала в дубовую солонку до краев соли и ставила на стол с тихим благословением, с улыбкою, с твердой памятью того, что соль хоть и зубы ломает, а вкус ласкает.
На крюку над столом зажгла Настасья лампу. Кажется, все дела поделала. Нет, не все… Босая, прошлепала она по широким и белым, как льняные рушники, половицам. Подвинула от окна к простенку табурет, с оглядкой встала на него, боясь пошатнуться. Подтянула вверх гирьку ходиков, потом, подумав, перевела вперед стрелки, чтобы было попозднее и чтобы поскорее пришла Любка.
Чтоб утолить тревогу, засветила она еще и лампадку. День хотя и будний, бабка не пожалела деревянного масла и теперь крестилась на темноликие образа, проглядывавшие из почерневших окладов, едва озаренных огоньком светильника. Молилась Настасья скорее по обычаю, но привычке поговорить с богом, может, в кои-то веки раз и услышит ее.
— Господи, охрани, помилуй мя, господи!
А думала сама о другом, о жизни. С открытого настежь окна она подняла невзрачную застиранную гардину, присланную ей позапрошлый год дочерью, и высунулась на улицу. Вечерняя зарница всколыхнула окрестную темь, осветила Настасьино лицо. Несмотря на морщины, кожа у бабки была светлая, только от волнения под глазами у нее синеватые мешки.
Сумерки плотно обняли землю, тяжелее стал воздух. Сильно парило. На лугу, за речкой, печально пилил свою песню коростель. За погостом глухо и не часто, будто распугивая темноту, куковала кукушка. Листья на молодых яблонях в палисаднике обвисли, слабый ветер почти не трогал их. Серая кошка Марья неожиданно прыгнула с завалинки на подоконник. Мурлыча, потерлась мордой о бабкино плечо, мазанула пушистым хвостом щеку и губы. Настасья потеребила сухими пальцами нос и, причмокивая от пряного, по-медовому свежего запаха семенной свеклы, цветущей через стежку под окнами, увидела зарницу.
— Должно, и правда дождь будет. Дай-то бог, а то земля калянеет…
Хотела сказать, что и урожай при дождике будет хороший, но забыла, прислушиваясь к шуму на улице. Донеслось гудение машины. Оно приближалось, и все у бабки внутри холодело и замирало. «Должно, едет!» — решила она и растерялась, не зная, куда деться, за что взяться. А гул моторов (бабка уже различила, что машин две) приблизился к переезду на речушке, там сделался ровнее, тише и как-то незаметно пропал. «Должно, не он, а может, уехал?!» — подумала она и испуганно встрепенулась на стук калитки. За кустами мелькнуло белым пятном платье, значит — Любка, и Настасья облегченно и слабо передохнула.
Любка городская. Она каждое лето приезжает в деревню, привозит бабке от своей матери поклоны, гостинцы. Рослая и крепкая, стриженная под мальчика, Любка рыжа лицом и волосами, в мать удалась. И характер у нее под стать материному: вспыльчивый, своенравный. Но бабке кажется, что Любка добрее своей матери, уступчивее и отходчивее. Настасья постоянно ворчит на внучку, особенно ругает за то, что та каждый вечер повадилась «на кино». Ругается бабка незлобиво, скорее по привычке: ведь и сама была молода, любила вольницу, ведь и ее самое пилила мать, не давая свободно шага ступить. Да и то сказать, в давние-то времена хозяйство поболе было, забот в доме на старых и малых — на всех с избытком хватало. «Ругань не что, — думает бабка, — к платью не пристанет», — а сама не забывает подставлять Любке кубаны со сметаной и будить чуть свет, посылая то на прополку, то за травой, или, когда подходит очередь, пасти коров. На бабкину трескотню Любка не обращает внимания, иногда только, ради смеха, огрызнется, зато все работы справляет с толком, так что Настасья довольна ею.
Вот и сейчас бабка, похожая в своей по-старинному длинной оборчатой темной юбке на индюшку, неразборчиво поругивая Любку, засеменила в чулан.
— Ну, завелась уже, — уныло сказала Любка с порога, пропуская Настасью в сенцы. — Опять двадцать копеек жалко, а нас сегодня механик за так пустил!..
Первым делом Любка прибавила фитиль в лампе, потом подошла к круглому, в ободке с облезлой никелировкой, зеркалу. Оно было снято с отчимовой машины и висело теперь на наличнике окна. Под ним Любка стала прилаживать ветку пихты с упругими, фуксинового цвета шишками.
В зеркале, среди сумрака отраженной комнаты, Любка увидела свое остроносое, сильно загорелое лицо, так что рыжинки на нем были почти невидны, только сизовел нос, облупленный на солнце. Она показала себе язык, покачала, как индийская танцовщица в кино, головой, плавно поводя плечами, и, довольная, засмеялась. В деревне она повзрослела. Правда, ей хотелось бы за это лето стать совсем взрослой, но не получается. Бабка ее все пустельгой величает, думает, что она, кроме как ягод набрать, варенья наварить, больше ничего не умеет. А Любка уже на сенокос ходила и не хуже подруг с травой управлялась.
Смотрится Люба в зеркало, и кажется ей, что лицо у нее похоже на землянику — румяное, сочное, рыжинки на нем как зеленые маковки по ягоде. Лохмы на макушке свалялись в завитки, и сосновые иголки в них — точно зеленые шпильки. Люба осторожно, словно это занозы, вытащила несколько сосновых шпилек, но тут взгляд ее остановился на глазах — синих, как скворчиное яйцо. В каждом зрачке горит по два окошечка — это через зеркало отражается огонь лампы. Глаза были веселые, но Любка подумала, что они печальные; она всегда думала, что ее глаза самые-самые печальные.
— Люб, Люба, — окликнула от дверей бабка. — Должно, приворожил тебя кто, что к стеклу прилипла?!
Настасья поставила глиняный кубан с молоком, накрытый краюхой хлеба, на стол и левой рукой крепко обтерла губы.
— Красота, голубушка ты моя, как омут… — Бабка степенно скрестила на груди руки и не досказала, приглядываясь к внучке.
Любка повернулась и увидела в бабкином лице перемену. Разошлись морщинки, опали темные пятна… С чего это замолодела старая?!
А Настасья шагнула встречь Любке и остановилась, не разжимая рук, любуясь и радуясь Любке, ее глазам, ее молодости.
— Красота как омут, — напевно повторила она, чуть покачиваясь. — Ты, как мать, вылитая… — и вздохнула. — Со стороны посмотреть — простая была, а в душе у нее ям наворочено, пропасть сколько…
— А при чем мать-то?! — насторожилась Любка.
— Нажила тебя, говорю, а отца не удержала… Всю жизнь перемутила…
— Я за нее не ответчица!
— Бывает… Ты у меня спокойная, образованная. Душа у тебя как стеклышко — до донышка видать.
Люба дурачилась перед зеркалом. Снова взяла в руки пихту, приложила к кофте и повернулась к бабке:
— Ну как?!
— Чтой-то у тебя? — всплеснула руками Настасья.
Любка засмеялась и пропела:
— «Скажи мне, ветка Палестины, где ты росла, где ты цвела? Каких холмов, какой долины ты украшением была?..»
Настасья подошла, потрогала пальцами хвою.
— Никак на Гаврюхиной поляне была?! На весь лес одна пихта там. И не грех в такую темь по лесу шастать! Как еще леший за ногу не хватил…
— А нас много, он испугался.
— Будет зря брехать-то! Попортит, тогда набегаешься… Ешь иди!
Косо воткнув пихту за зеркало, так, что ветка покачнулась к окну, Любка переоделась в сарафан и села за стол. Настасья, глядя, как ловко управляется внучка ложкой, снимая с отстоявшегося молока сметану, пришла, наконец, в себя. Она присела на лавку сбоку от Любки и решила высказать, что мучило и тревожило ее.
— Не знаешь, отчим приехал, — не то спросила, не то просто сообщила она. — Варькин шурей приходил, сказывал, видел его в леспромхозе. Грузился досками.
Любка нахмурилась, промолчала.
Молчала и бабка.
Облизнув ложку, Любка не выдержала:
— Приехал? Сюда приходил, да?!
Настасья поглядела на темное окно.
— Не, у нас не был. Вон машины гудят на переезде, должно, и он там.
— Может, засядет, будет ему тогда калым!.. — Любка бросила ложку и, отодвигая кубан с молоком, задела солонку.
— Дура, э-э, дура, что ты ему пророчишь! Хоть и чужой он тебе, а все свой человек, близкий… И обувает-одевает тебя, и кормит, — спокойно возразила бабка. Тут только увидела она рассыпанную соль, заохала: — Батюшки-светы, не ко времени просыпала — быть ссоре. Ой, грех, быть беде! Ну-ка, подставляй башку да посыпай скорее солью волосья-то! Обойдется, глядишь…
Любка отбежала от стола.
— Враки это, бабушка. Все равно, если уж ругаться, то хоть вылижи эту соль — не поможет. А лучше бы он не приезжал.
Но бабка успела несколько зерен соли бросить ей на голову и была довольна. Любка надулась. Вытряхивая соль из волос, пошла за печь, к кровати.
— Спать буду, — сказала она так, словно прощала бабку.
Настасья повздыхала, пошептала и утопала на крыльцо. Она сама недолюбливала зятя и не особенно огорчилась, когда бы зять, проезжая мимо, не заехал к ней. С крыльца она посмотрела в сторону реки, где дымчато волочился в понизовьях туман, прислушалась к гулу моторов, который снова доносился оттуда, и, забыв, что Любки нет рядом, говорила ей:
— Зять, он любит взять, а дать никого нету…
Неприметно для глаза, без резких перемен, сумерки уже сгустились в ночь, но по взгорью, на сизом небе еще выделялся черными выщербинами край леса. Кукушка уже не куковала, и коростель подавал свой голос короткими редкими очередями. Зато рев моторов на переезде нарастал. Там вспыхнули фары, и широкие столбы света легли через туман на другой берег, уперлись в глинистую кручу. Мужской голос послышался: «Ну, пока, Миша, пока!» Хлопнула звонко дверца кабины, и кто-то один поехал. Столбы света качнулись и поломались, вырвав из мрака куртины ивняка, и на миг осветили разбитую грозой ракиту на гребне съезда. Удаляясь, помигал за кустами красный глазок, и все стихло. Только на деревне звякнула цепь колодца и гулко загремело пустое ведро. Кто-то припозднился и по ночи набирал воду.
Миша — это зять бабкин, а машина уехала. «Тяжелая, наверное его, дай-то бог!» — и, перекрестясь, Настасья вернулась в хату. Спать было давно пора.
Она взялась подбить подушки, как по сеням тяжело прошагали и чья-то ладонь стала шарить по двери ручку. «Не приведи господь!» — подумала бабка и поняла, что нежеланный гость явился.
Дверь отворилась: высокий и нерасторопный бабкин зять ввалился с мешком за плечами и заполнил собой всю хату. Стены, по которым металась его тень, словно запахнулись в сумрак, насупились, недовольные таким вторжением, топотом сапог, запахом бензина, дерева, машинного масла и еще чего-то шоферского. Возле печки зять с маху шмякнул мешком об пол и повернулся к бабке, лицом широкий и суровый. Короткие подпаленные брови вздернулись, и он осклабился:
— Поздно уже, и не знаю, чего сказать… Здрасте, кажется…
Михаил подошел, пожал смирные бабкины пальцы. Сел на скамейку.
— Ну, что, не ждали, мать, а? А я днем приехал, думал уж было не заходить, да вспомнил: мешки занесть надо. Так что, мать, последний раз я у вас ночую, пустите?
— Помилуй господи, об чем речь?
— Э, не знаешь ты ничего, мать… Ну ладно, вот умоюсь — расскажу тебе все. Может, и не пустишь потом.
— Что несуразицу мелешь? — ворчала бабка, гремя по кирпичам заслонкой. Выдернув рогачом из золы чугунок теплой воды, она вышла на крыльцо поливать руки, шею зятю. — Или поругались? Небось она там с жиру бесится, ты тут, а мое дело тралитетное: муж и жена — одна сатана, сами по себе усоюзитесь! А раз приехал — стал-быть приехал, не на что и тарахтеть…
— Лей, лей шибче, «тралитет», — смеялся, фыркая, зять. — Пока не кусают, все мы нейтралитетные, а как цапнут ниже поясницы, дак каждому небось штанов жалко.
Любка еще не уснула. Она натягивала на макушку одеяло, чтобы не слышать отчима и не разговаривать с ним. Наутро он уедет, думала она, как не раз уезжал с зарею и раньше, когда приезжал за лесом.
До седьмого класса звала его Любка папкой. Мать, когда выходила замуж, сказала ей:
— Вот, Любаш, будет у нас новый отец. Ты ему не прекословь, он обижать не будет. Слушайся его… Поняла?!
— По-ня-ла… — хлюпала, отвернувшись от матери, и гундосила Любка.
— Не реви, мала еще! — посуровела мать. — Рано ревешь. Играй вон в дочки-матери. Тебе хорошо будет.
Отчим, привыкая к Любке, не навязывал ей своего отцовства, не «дочкал» на каждом шагу. Возвращаясь из рейса, он почти всегда приносил ей в бумажных замусоленных кульках гостинцы.
— На-ка, Люба, чего я тебе добыл!..
Вперемешку с дорожным сором там были жамки и паточные конфеты. Любка совала по конфете за щеку и бычком глядела на отчима:
— Спаси-ибо…
— Ну-ну, — гладил он ее по плечу, — ешь. Я тебе еще привезу.
Мать и отчим иногда ссорились между собой, но Любка не обращала на это внимания — пока не повзрослела, пока не стала вслушиваться в их перебранку. А тут вдруг и в школе произошла у нее большая неприятность. В тот день Любу принимали в комсомол. Она волновалась тем привычным и приятным волнением, какое бывает обычно перед экзаменом, когда заранее знаешь, что экзамен сдашь хорошо, а все-таки боишься… Она вызубрила от корки до корки Устав и, пунцовая от счастья, на вопросы ответила без запинки. Комсорг спросила у собрания, какие будут предложения, и тогда встала одна девочка и, помявшись, сказала:
— Есть предложение… не принимать.
Все удивились: почему?
— Потому что она за нечестные деньги покупает пряники и ест…
Стали эту девочку выспрашивать обо всем подробнее, и она обвинила Любку:
— Какая же комсомолка, если родителей не можешь перевоспитывать?! На нашей улице все говорят, что твой отец калымщик, за счет других живет. А ты еще на переменках угощаешь всех… постыдилась бы.
Любка со стыда сгорела перед ребятами. Дернула из парты портфель и выбежала в коридор. Промчалась по лестницам, на кого-то наткнулась, но не оглядывалась. В вестибюле, застегивая пальто, слышала, как наверху хлопнула дверь и их классная руководительница, должно быть, перегнувшись через перила, позвала:
— Вернись, Лю-ба!..
Люба толкнула дверь на улицу.
«Нет, не вернусь!» — решила она.
Среди незнакомых и безучастных к ее горю людей было как будто легче. О том, что произошло в школе, думать не хотелось. А не думать было тоже нельзя, потому что, при всей неправоте товарищей, Любка, знала: они правы. И эта заноза, у которой, как по циркулю, выверено каждое движение, обдумано каждое слово, тоже права. И что из того, что девчонку эту недолюбливали в классе, что из того, что она подлизывалась к учителям и задавалась перед ребятами? Любке ведь не легче. И не от той занозы, а от Любки отвернутся теперь подружки, и не на кого-нибудь, а на Любку учителя будут смотреть с непонятным вопросом в глазах, может быть, с осуждением или жалостью.
Неужели они правы?
Они правы, правы. Любка привыкла к отчимовым пряникам и конфетам, к его «гостинчикам» из калыма.
— Вот, Любуня, твой процент! — И он шлепал рублем, а иногда трешницей или пятеркой в Любкину ладонь. — Копи, заводись кукольным состояньем!..
И Любка в душе немножко гордилась своим богатством. Она хотела купить сначала лыжи, а потом коньки с ботинками — и обязательно беговые, «ножи», чтобы сверкали на льду, как острые сабли, чтобы пушинкой мчали ее по стадиону… Любке нравилось, что и мать просила у нее иной раз взаймы «до пятого числа», и всегда прибавляла:
— От меня с накидкой получишь, как в сберкассе.
Люба не тратилась на куклы и безделушки, хотя и вольна была. Ни мать, ни отчим спроса с нее не устраивали, и, может быть, поэтому она была равнодушна к деньгам, может быть, поэтому не задумывалась она, как и откуда достает отчим деньги. Знала, что он подвозит «налево» кому что придется; знала, что ему могли проколоть талон, но ни разу не пришло ей в голову назвать все это воровством или чем-нибудь в этом роде… А ведь по сути так оно и было. Любка брала у него деньги. И все, выходит, знали это.
Она шла из улицы в улицу, сворачивала в переулки, не запоминая дороги. Город, открывшийся после зимы черными тротуарами, седыми прошлогодними травами, кучами мусора, собранного дворниками у подворотен, как будто не существовал для нее. Любка не замечала высокого, розовеющего к вечеру неба, не видела кружащих голубей, которых со свистом, с длинными шестами в руках, гоняли мальчишки, проходила мимо мороженщиц и серых, одноликих старушек, торговавших у дверей магазинов десятикопеечными букетиками фиалок. А как бы внимательна она была ко всему этому в другой день. И понюхала бы фиалки, и «напополам» купила бы с каким-нибудь карапузом мороженое, и, сунув в рот пальцы, засвистала бы вместе с голубятниками на сизарей, ввинчивающихся кругами в вышину, и, придя домой, может быть, выпустила бы на волю своего пригорюнившегося щегла.
Она шла по улицам, и ничего ей не хотелось, и ничего ей было не нужно. Резкое бренчание трамвайного звонка и скрип тормозов словно подтолкнули ее. Она очнулась и увидела, что стоит на линии, сзади нее трамвай и в передней раме еще тоненько дребезжит стекло. Вагоновожатая высунулась из двери с железным ключом, заругалась сиплым голосом:
— Ты что, рехнулась?! Барыня какая!.. Себя не жалко, так чужую жизнь пожалей. У меня дети, полоумная, двое, кто их кормить станет?..
Надо бы хоть извиниться и уйти поскорее, а Люба отошла на обочину и, как вкопанная, смотрела на любопытные рожи, прильнувшие к окнам. Трамвай, наконец, с дребезгом укатил по линии.
В домах уже зажигались огни. Любка свернула с освещенной улицы в глухой проулок — узкий, сплошь из высоких заборов, за которыми в черных, еще не распустившихся садах метались на оцепках собаки. Нигде ни лампочки, ни встречного прохожего. Проулок сворачивал влево и круто вниз, наверное, к ручью — временами впереди слышалось журчание воды.
Она бы сейчас умерла назло всем плохим людям. Пусть бы они потом одумались и пожалели ее, пусть бы потом раскаивались в своей злобе к ней… И она бы, наверное, прыгнула в воду, если бы ручей, к которому подошла, не заставил Любу одуматься и рассмеяться. В нем даже воробью было не утонуть… На дне оврага торчала из обрыва старая, облепленная грязью труба, и на лист жести под ней вытекала мутная пенная жижа.
Домой Люба пришла уже совсем потемну. Лицо ее было строгим, даже суровым, наверное, потому, что она хотела скрыть от чужих глаз свои терзания.
— Что поздно так? — спросила мать.
Не отвечая, Любка бросила портфель на диван, стала умываться. Спиной чувствовала на себе взгляд матери и боялась повернуться к ней, боялась расплакаться. Мать, наконец, переспросила.
— Больше мне ворованных денег не давай, — сказала Люба и запнулась, закусила до боли губу, потом уже тише добавила: — Не возьму. И его отцом звать не буду.
— Что-о?..
— Копец! — как ругательство, сорвалось с Любкиных губ уличное словечко, подхваченное у ребят.
— Ее собака бешеная укусила, — подумала вслух мать. И вдруг закричала, замахнулась на Любку полотенцем: — Какой копец, дура?! Не фашист он тебе, а отчим, отец!..
— Тебе нравится — ты и называй.
Люба думала, мать поймет сразу все. Ей, наверное, тоже деньги руки жгут. Ведь бабушка Настасья сколько раз наставляла, что чужой кусок в горле петухом орет. Но мать, поостыв, все корила Любку за неблагодарность к отчиму и в пятый или десятый раз повторяла одно и то же:
— Чистюлей прикидываешься, а зря, без копейки сейчас не проживешь. Сумей-ка поди! А отец не жмот у нас, не вор какой-нибудь, а работяга. С темна до темна вкалывает, налево-направо носится, зазря, что ли?
Любка не отозвалась. Она вспомнила, как отчим привозил однажды уголь соседу со склада. Склад был неподалеку, отчим потратил на перевозку всего-то минут двадцать или полчаса. Стал сосед с ним рассчитываться, протянул две десятки, это еще по старым деньгам. Отчим хмыкнул и даже сплюнул насмешливо:
— Стал бы я из-за них связываться с тобой. Таксу не знаешь? Гони тридцатку!
И так это сказал, что мужичишка в фуфайке с разодранным локтем хотел бы сделаться еще меньше. Он виновато суетился, роясь в карманах, достал кошелек и долго вытряхивал мелочь.
Отчим пересыпал из горсти в горсть, как семечки, темную медь с серебром, потом спустил ручейком в карман, наставительно приговаривал:
— Знаю я вас… Поете тут, поете, а в шифоньере небось чулок битком набит.
— Не обижайся, Михаил, давай по-соседски. Гляди, и выручу чем…
Любка в это время непокрытая стояла за своим забором. Ей бы уйти, не слушать этого, а она не могла. Слышала, как сосед выругался матерно, погрозил вслед уехавшей машине:
— От, сволота, хоть руки об него пачкай! Достану гвоздь, все шины попрокалываю. Тогда уж посчитаемся!
Любке хотелось обласкать соседей, помочь им, да ведь она была маленькая, а они большие, взрослые, и знала она, что ее никто не послушает. Вечером отчим пришел с работы, она ждала его на пороге и грубовато спросила:
— Не стыдно тебе, да?!
— Да нет, что ты, — довольно говорил Михаил, дотягиваясь пощекотать Любку под мышками. — Я по закону… Пока нога на стартере — в рот ни росиночки! Ни-ни-ни! — Он мотал головой, жмурясь, как сытый кот, гордый от сознания собственной силы. — Я по норме рабочего класса: на сто пятьдесят процентов вкалываю, по сто пятьдесят за воротник. Можно и ерша: когда машина в гараже — это не страшно.
— Не о том я, — перебила нетерпеливо Люба, — послушай!
Она сложила руки пальцами в пальцы и опустила перед собой — материн жест. У той уже в привычку вошло складывать так руки и делать горестное лицо, распекая подвыпившего Михаила.
— Послушай, — качнула Любка сложенными руками, — так даже эксплуататоры не делали. Мало двадцати рублей, да? Тридцатку в день зарабатывают, а ты за двадцать минут с них чик-пык, отобрал, и готово?!
Михаил скинул с плеч ватник, бросил на порог, косясь на Любку. Мать, ничего не зная, не понимая, подняла голову от шитья, с которым сидела у окна. С интересом и недоумением перевела взгляд с дочери на мужа.
— О чем вы, про какую двадцатку? Тебе что, деньги нужны? — спросила она Любку. — Ну, комики, цирк устроили!
— Ах ты, стерва! — взвился при этих словах Михаил. — Девку подзыриваешь и еще глумишься! Цирк тебе показать… Я те покажу! Я те живо покажу…
Он схватил мазутный, пробензиненный ватник и кинулся стегать им жену по лицу, по плечам, спине.
Любка не ожидала такого. Она уцепилась за полу ватника, повисла на отчимовом плече, закричала изо всей моченьки:
— У-бью-у!..
Ночью Люба всхлипывала под простыней. Она казалась себе одинокой и несчастной в этом большом мире. Никто не понимал ее, никто не видел, что она хочет людям хорошего. Босая, осторожно подсела к ней мать. В ночной рубашке, непричесанная, пахнущая теплом и сладким потом, она вдруг поцеловала Любку в висок, погладила по щеке.
— Не горюй, кроха, дурь из тебя выйдет со временем. Я маленькой тоже дурехой была.
— Не хочу я с ним жить. Давай уйдем, мам?!
— От кого уйдем, куда, лапочка ты моя гусиная?
— Ну как ты не понимаешь, — возмущалась Люба, хотя и знала, что сейчас мать понимает ее. — Помнишь, как хорошо нам было одним, помнишь, когда мы в деревне, у бабушки жили?
— Помню. Помню… — вздохнула мать. — В деревне всегда хорошо. Там воздух… чисто.
Люба приподняла голову, ткнулась горячим лбом в материн подбородок.
— Ну поедем в деревню, а? Поедем! Я тебя слушаться буду!
— Что поделаешь, рыжок, — не то себе, не то ей говорила мать. — На миру все на виду! Кругом одинаково.
— А-а, не хочешь!.. Говоришь, а сама не хочешь… Люди так не живут.
Мать молчала, точно не слышала дочериных слов. И Люба повторила еще раз, чтобы убедить ее:
— Там откровенно живут и без обмана.
— Я тебе лучше велосипед куплю, — пообещала мать, — дамский, с сеточкой на заднем колесе.
Не сейчас бы матери обещать дочке подарок. Любке сердце материно нужно, а не велосипед. Но не понять этого доброй матери, не утешить ей свою дочь посулами. И в сто раз горше Любе оттого, что она одна понимает это.
— Не буду я кататься на твоем велосипеде, — говорит она, натягивая на подбородок, на нос одеяло, оставляя незакрытыми только глаза. — Сама скоро заработаю, сама куплю.
Мать всхлипывает:
— За что ты меня терзаешь, Любка! Меня уже ненамного хватит. Подумай о себе.
— Не пропаду.
— Знаю. Оторвешься да так где-нибудь и сгниешь падалицей недозрелой. Я-то что тебе? Необразованная… Сейчас такие матеря никому не нужны стали. Людей на свете много, а все с оглядкой живут. Зачнут тебя совестливые тыкать да научать, и куска хлеба не прожуешь спокойно. Верно отец говорит — загнешься. Пить вот он стал — горе это, правда, а с чего все? Хваток мужик, другие и завидуют. Он и хлещет, и сосет зеленую… Я к нему и так, и боком, и по-всякому, а сколько мы помучились в жизни, настрадались, за что все? И нам охота пожить, вас в люди вывести. Ты вот: «деньги ворованные» — а нешто он как зря ворует? Если где доску какую не возьмет, не продаст — другой подберет, или так, в грязи пропадет. Ты лучше не тронь его. В доме без власти нельзя. А по себе скажу, и ты передуришь, пройдут капризы твои. Опять — невеститься начнешь, наряды справлять надо — куда без матери приклонишься?
Рассеянно слушала ее Любка. Мать тянула слова, незаметно перешла на шепот и, казалось, убаюкивала дочку.
Ветер на дворе, поскрипывая ставнями, раскачивал на столбе у ворот лампу. Бледный электрический свет, схожий с лунным, только желтее, временами падал через окно на крашеный пол, захватывая обнаженное плечо и руку матери. Иногда на улице что-то хлопало от ветра, Люба вздрагивала и ловила себя на мысли, что у матери красивые руки. И отец, не отчим, а ее родной отец, наверное, помнит их. Где он — не знает Любка. И отец не знает, какая она сейчас, не знает, как ей несладко.
— Мам, — спрашивает она, — а где отец? Давай я к нему поеду?
Мать поджимает губы, машинально поправляет рукой волосы, думает.
— Нет, — говорит, — разлетелось стекло — не составишь, не склеишь. И не надо тебе с чужим позором знаться.
Она вдруг откинула назад голову, ловя открытым ртом воздух, и внутри у нее словно сорвалась какая пружина. И упала мать в Любкины руки, забилась не то в плаче, не то в приступе и, обнимая, целуя дочь, простонала:
— Ах, Любка, рана моя, раночка незаживленная! Изойдет вся моя кровь по капельке, высохнет через тебя!..
И Любкино сердечко сжалось, отозвалось горько на материно признание. Стала Люба целовать мать в щеки, в губы, в глаза, своими слезами поливала ей волосы. И давно они так не плакали вместе, давно не целовались так. И успокоилась мать, улыбнулась Любке, прошептала:
— Сама я виноватая, не думай ничего… Сама я от него ушла, — повторила мать и, перекрестив Любку, ушла в свою спальню.
Несколько дней прошло без скандалов. Отчим возвращался трезвый. С Любкой не здоровался, она тоже — как чужие. А мать все воспитывала ее. В обед садилась напротив Любки и то увещевательно, то с повинными нотками в голосе говорила:
— Чураешься меня, по глазам вижу… А зачем? Я тебе плохого не делала. Другая бы дочь сказала давно: прости, мол, глупая я, и все. А ты как с камнем за пазухой… И отец тебе не докучает. Как мы живем — ты на ус мотай, не хуже людей у нас!
Умолкала, ждала, что дочь поднимет голову, скажет… А Любка жевала хлеб или водила пальцем в луже супа по клеенке. По ее насупленному лицу трудно было понять, слышит ли она, доходят ли до нее материны слова. Потом Любка уходила от стола и говорила, пряча глаза:
— Спасибо. Я наелась.
— Ешь! — срывалась мать на крик. — Доколь изводить меня будешь, ложки во рту не было!
Любка молчала.
— Хоть вешайся! Правда говорят: нету отца родного, некому и проучить. А что я могу? Руки отсохли! С мужиком воюешь-воюешь, всю силу изведешь, а еще ты, настырница…
В эту минуту мать не притворялась. Но Любка не осуждала тогда отчима. Он не лез к ней в душу, — не в пример матери, — и за это она была не то чтоб снисходительна, а как-то более спокойна в неприязни к нему.
…Тем временем, пока вспоминала Любка свое городское житье-бытье, бабка принесла на стол чашку творога, несколько головок зеленого с грядки лука, картошек, шматок вареного сала и нацедила с донышка трехлитровой бутыли стакан розовой самогонки, варенной на сахаре, с карамелью для прикрасы. Подавая кушанья и угощая, Настасья бросала на зятя настороженные взгляды, чувствовала, что гроза, которой она боялась, теперь пришла и надеяться, что ее пронесет стороной, нечего. Зять, однако, не спешил. А ей так хотелось поторопить его, узнать, что же стряслось в городе, как там, что сейчас с дочерью.
Толстыми, в зачернелых ссадинах пальцами Михаил отломил кусочек хлеба. Думая, с чего начать тяжелый и, как хотелось ему, откровенный разговор с тещей, поднес мякиш к губам. Хлеб сильно пахнул печью, поджаренным капустным листом и теплой золой. Совсем давно и очень похоже пахли и дышали таким вот жаром хлеба, вынутые из печи его матерью. Было это в детстве, лет тридцать назад. Но мать давно умерла, а сам он с тех пор повидал жизни.
Был в ремесленном училище, да там не столько учился, сколько с дружками по забегаловкам и барахолкам околачивался. Бывало, что останавливали они ночью прохожих, отбирая кошельки и снимая редкие в те поры часы «Победа». Попадался в милицию — и один, и со всей братией, но люди встречались добрые, верили слезам, отпускали. Пожалуй, не миновать бы ему отсидки, да в армию призвали служить. А корешей его всех пересажали. С тех пор Михаил и поумнел. С прошлым, как говорил, «завязал начисто» и разрешал себе «только честным способом зашибать копейку». Но без оглядки и тут было нельзя. Поставил себе дом крепкий, а нервы сдали; подлечишься рюмашкой — голова вроде и посветлеет. Вот только жена норовистая. Как сама — так на что попадя деньги тратит, а на водку дуре жалко, и вообще — сатана. Электропила. Дрель!..
Михаил сильно, как легавая, потянул воздух и, берясь за стакан с самогонкой, решил, что если бабка толк в хлебе знает, то поймет и его, не ошибется.
— Пей, пей, и закуси хорошенько, — бабка придвинула ему под руку сало.
Зятек осушил стакан залпом, чмокнул, крякнул, набирая полную грудь воздуха, и сказал бабке:
— А хлеб у тебя хороший, мать. У нас в городе такого не пекут. Вон, припер я тебе десяток буханок.
— Ешь, милый, ешь на здоровье. Хлебушко свежий, утрешний. Бог даст, и в нонешнем году урожай задастся. Тогда и жито соберем, и на самогоночку будет. Все с земли, милый, с земли.
— А как этот год картохи?
— Да вот пошли теперь, пошли. Мы с Любкою протяпали их, а то трава прямо задушила. Да и сухмень — сушит прямо все! Без сорной травы хоть на росах наберутся влаги картошки-то, а какие уж зацветают — те окучиваем. Урожай будет — и вам в город соберем, насыпем машину, чем есть поделимся.
Михаил слушал внимательно, но то ли снисходительная улыбка осталась у него на лице, то ли выражение довольства и превосходства над бабкой от выпитого самогона застыли на губах и не проходили. Настасья заметила это и подумала; «Хи-ит-рый. Ишь, хитрина в нем так и сидит, так и играет».
Зять воткнул тонкую, изъеденную ржавчиной и временем вилку в картошину с голубиное яйцо и поднял над столом, чуть в лампу не ткнул. Спросил:
— Почему у тебя картошка мелкая, а?!
Настасья смутилась, развела руками, не соображая, что ответить. А он и не ждал ответа. Откусил головку лука, сунул картошку за щеку, зачавкал.
— А крупную ты дочери сплавила, в город, да?! Жизнь там у нее чижолая?! То-то! А дочь твоя — умная, сплавила картошку на базар. Хорошую загонит, а дробней этой, гороху, накупит и сидит потом целый день, чистит.
Бабка сначала изумилась такому, но после подумала, как бы не было тут подвоха, а на дочь все-таки обиделась. Ради нее отрывает от себя лучший кусок, а она, поганая, вишь, что делает… Но не гоже при зяте хаять дочь, и Настасья схитрила:
— Жизнь ваша городская непутевая, мы ее плохо знаем. Почем знать, может, там и надо продать.
— Рожна ей надо, а не картохи, мать! — Михаил обтер ладонью губы. — Денег ей мало стало, а?! Ну ты скажи, это при моей-то работе!..
И он, больше опьяненный своей решимостью, чем хмелем, рыкнул теще в лицо:
— Все! Кончено! Больше мы с нею не живем! Потому, бабк, и приехал к тебе… А то скажешь, мешки забрали, а привезть не привезли… Что ж я тебе, жулик, что ли…
От града его слов Настасья подрагивала, словно заезженная лошаденка под дождем. Иногда к глазам подступала резь. Дочку свою она любила, а выходило, что опять у той жизнь не задалась. С первым мужем разошлась, лейтенантом был. А все из-за дурости, за лихачом пожить захотелось. Теперь и с этим нелады. Быстрокрылые они все такие, рано садятся… От первого Любка и от этого теперича внук, Юрок, — все наследство, и выхаживай их, как знаешь. «А им ли не жить, — трепенулась в голове у бабки мысль, — в доме все есть, сами при деле. Михаил на машине всякого добра понавезет столько, что и не работамши жить можно. С нечистой руки, видно, не идет впрок. А тут вот, — бабка жалко улыбнулась, — горбячишь, и никто тебе спасиба не скажет. Одна надежда на огород да на коровку, а кинешься сенца достать…»
И когда задумалась о сене, поняла бабка по-настоящему, что дочерина беда, как плугом, режет и ее. Вот уже сколько лет о сене заботились сперва старик, а после его кончины — Михаил. Каждое лето приезжал он на несколько дней, перевозил деревенским мужикам с лугов сено, набивал себе карман денег. Бывало, мусолил да раскладывал их вот тут, на полу возле печки, при тусклом свете ночника. Но это мало трогало бабку. Радостная да сияющая ходила она, когда зять один-два воза сена складывал у нее на дворе. А теперь, как они и вправду разойдутся, кто же достанет, кто привезет сена? Неужто придется ей из-за этого и корову свести?
Бабка качнулась встречь Михаилу:
— С чего расходиться-то надумали, милый?!
— Собрался я, мать, сюда за лесом, а она у меня из кармана последний червонец выгребла. Ты, говорит, разживешься по дороге, не впервой… Злость меня обуяла: конец, думаю, рабству моему. Пропади ты пропадом, а Юрочке буду по тридцатке, по полбумаге слать! Я-то заработаю, хребет не переломится. Пусть она попробует с командами своими, пусть поживет… Да и других делов, бабк, тоже много… Довела она меня до ручки.
Любка скинула с головы одеяло. «А вдруг у них и вправду что-нибудь такое случилось, что разойдутся?» — думала она про себя и сомневалась. Уж на что крупный скандал был, когда он с матерью дрался, так и то ничего. Мать пьяного его не пустила тогда ночевать. Он до утра от окна к окну шарахался. Соседей перебудил, чтобы те мать уговорили, а они только посмеивались.
Утром мать кричит с крыльца:
— Ну что, очухался?! Денежки пропивать будешь или под полицу спрячешь?
Отчим смолчал, а потом дал матери двести рублей. Она обрадовалась, а он поглядел, да схватил босоножку и ею избил мать.
Та — в больницу за справкой, на другой день в суд. Любку за свидетельницу выставила. Что там у нее спрашивали — Любка и не помнит, твердила сквозь слезы одно: «Разведите их, дайте нам с мамкой нормально жить». Ну, а после суда мать показала ей «нормальную» жизнь — ремнем.
— Ты что, дрянная дочь, не в свое дело суешься? Я тебя учила про развод говорить? Осина ты, на что жить будем… Я вас обоих проучу. Вот посидит пятнадцать суток, очухается, поскладней станет!
С той поры дом опостылел Любке: ждала лета, чтобы уехать к бабке, а осенью и зимой заявлялась только спать. Уроки делала в школе, в пустом классе. По дороге домой шла мимо вокзала по навесному мосту, отворачиваясь от едкого паровозного дыма, точившего глаза и горло. Но даже на мосту, когда ветер обжигал докрасна лицо, было легче, чем дома.
Частенько забегала Люба на вокзал. Большим подземным туннелем, выложенным на манер московского метро кафельными и мраморными плитами и где из решеток под ногами дул теплый, с запахом сливочного мороженого воздух, шла она в зал ожидания с высокими окнами и расписным потолком, садилась где-нибудь в углу на деревянный диван с буквами «МПС» на спинке. Буквы эти расшифровывала по своему настроению: «Мой Поезд Скоро» или «Мне Пора Спешить». Положив портфель на колени, Люба разглядывала людей. Когда подходил поезд, они хватались за чемоданы и узлы и, взбудораженные, растрепанные, шумно вываливали на перрон. Непонятная тоска и обида на свою судьбу теснили Любке грудь. Подумать только: свободные люди, они могли ехать, куда им хочется!
Люба ходила среди провожающих вдоль вагонов и, когда поезд трогался, махала, как все, рукой, пока три красных фонаря на последнем вагоне не убегали за зеленую ладонь высокого семафора и не пропадали за поворотом.
Ворчливая толстозадая тетка-дежурная, похожая на корову с выпученными, косящими вверх глазами, приметила Любку. Похлопывая озябшими ладонями, она грубо покрикивала, язвя:
— Что-то ты часто провожать навадилась! Чай, уж вся родня по пять раз уехала?! Кого нынче спровадила, а?
— Счастливых.
— Видали мы таких. Много, чай, было!.. Сама, чай, метишь со счастливым на край света умотать! Эх, бестолочи, сидели бы дома, не терпится.
Любе на самом деле хотелось уехать, она и маршрут наметила — в Кулунду, в степи. Не знала, где денег взять на дорогу. А то бы укатила и зажила там по-настоящему. И училась бы, и работала, но не за кусок хлеба, не за копейку несчастную, а за жизнь — хорошую и светлую. Там бы в нее не тыкали пальцем, не попрекали бы отчимом… Там друзья говорили бы: «Умеешь ты жить, Любушка! И откуда в тебе силы, и откуда в тебе мечты светлые! Щедрая ты, хорошая…» Она бы все для людей делала!
Однажды в феврале, когда улеглись на время метели, поубавились морозы и посветлело поднявшееся небо, Любке было особенно тоскливо. Природа в тот день жила неясным еще предчувствием весны, но уже по-весеннему томило душу. Любка шла на вокзал и радовалась, замечая непривычные для зимы приметы: то капель, тенькающую по цинковой водосточной трубе, то подтаявшие на солнцепеке тротуары, сразу ставшие темными и, кажется, теплыми, то вдруг тополиные черные ветки, еще вчера сизые и неброские на взгляд среди холодной белизны снегов и улиц.
На вокзале ее удивило обилие народа, суматоха, необычная оживленность уезжающих и торжественность на их лицах. Десятка три парней и девчонок, не то из техникума, не то с завода, собрались на целину. Они смеялись, беззастенчиво целовались, сходились кучами и пели не в лад песни, не обращая внимания на шип и грохот духового оркестра, — так, словно все было не ново и давно привычно для них. Сразу обжитым, как будто родным домом, показался им и вагон, в котором ехать несколько суток до далекой и неизвестной, как чужая планета, целинной земли.
Не хватило у Любки смелости сесть с ними вместе. Боялась, засмеют ребята. С чьими-то вещами заскочила в соседний вагон и, забившись в самое дальнее купе, со страхом и нетерпением смотрела на вокзальные часы, ожидая отправления. Вот уже две минуты до гудка, как чем-то знакомый грубовато-ликующий голос послышался рядом:
— Вот она где, милая! Я ее давно приметила, глаз не спускала. Куда, кумушка, собралась? Со счастливыми, чай?!
Обмерла Любка. Около нее стояла дежурная, все надоедавшая ей на перроне своими расспросами. Щеки ее от удовольствия были такими же пунцовыми, как фуражка на голове. Она тараторила, пучила глаза и руки ее то теребили за рукав милиционера, которого она привела, то указывали на Любу. И больше всего боялась Люба, что пухлые, как сосиски, пальцы коснутся ее.
— Не притрагивайтесь ко мне, — сказала она и теснее прижалась в уголок, — я вам ничего такого не сделала.
— Как же, как же, ничего — знаю я… Билет-то есть, а покажи билет, ну, живенько, живо!
— Обождите, — оборвал милиционер, протискиваясь в проход мимо дежурной, — я сам спрошу, — и козырнул Любке. — Билет есть у вас, гражданочка?
— Нет, — ответила Люба. — Я так, сама.
— Как сама?
— Ну как… Зайцем.
— Никак нельзя, — пожалел ее старшина.
— А вы разрешите!
— Правила, — он покосился на приведшую его, — уважать надо.
— Слезать?
— Слазь, слазь, а как же ты думала. Поезд, чай, не подвода. Ты-то, девк, у меня давно на примете. Маршируй в отделение, там поговорим, — начальственными распоряжениями козыряла пучеглазая.
Когда вышли из вагона, поезд тронулся. Если бы ее провожатые были подальше, Люба кинулась бы назад, уцепилась бы за ручку и — на подножку!.. Но милиционер и тетка шли рядом. Печальным взглядом проводила Люба поезд. Весна показалась ей обманной, ненастоящей. Надвигавшийся вечер уже дышал холодом, подлимоненное желтое закатное небо обещало сильный мороз, может быть, метель.
Привели ее к лейтенанту, начальнику дорожной милиции, составлять протокол. А Люба не могла понять, какое преступление сделала, зачем протоколы и свидетели?! Высадили ведь из поезда — и ладно, пусть теперь идет, куда хочет. На вопросы она не отвечала, пока на какое-то ехидное замечание дежурной, записавшейся свидетельницей, не сказала лейтенанту:
— Я при ней разговаривать не буду, она нехорошая.
Какая тут поднялась буча! Но лейтенант — с новыми звездами — все-таки нашел предлог и тактично выпроводил дежурную. И тут Любка схитрила:
— Если будете писать протокол, я умру, а не скажу ни слова. Что хотите делайте!
Лейтенант затянулся папиросой, долго смотрел на Любу, стучал себя пальцем по лбу и, наконец, согласился. Люба тогда рассказала ему все, как есть.
— Если хочешь, Люба, мы поищем твоего отца. Ты учись в школе пока, не убегай, а я тебе потом скажу… Куда ты молоденькая такая? Одной жить не просто. Я вот мужчина, и то, по правде, с матерью лучше. А к отцу — на законном основании, имеешь право.
Люба просияла. Представила, как будет возмущаться отчим — не потому, что ему жалко ее, а потому, что без него решили, обошли, не спросили позволения: он ведь хозя-и-ин!.. Ну ничего, вот она выучится, станет инженером, приедет тогда к ним, привезет гостинцев, с первой же зарплаты чего-нибудь купит…
Представила Люба, как накинет она пуховый платок на плечи матери, но… против ее воли, в воображении, сняла мать платок и протянула его обратно. Наверное, она скажет Любке: «Что ж ты, ушла, а теперь отдариваешься». Не возьмет мать платок, от обиды на нее не возьмет… И Люба вспомнила ту ночь, когда они выплакивали друг дружке свое горе, вспомнила, как называла ее мать своей раночкой кровной, незаживленной, и поняла, что никуда не уедет от нее.
А лейтенант все ждал Любкиного ответа.
Она покраснела, покачала головой:
— Нет, не поеду… Не имею права. Я материна, не отцова.
Лейтенант взялся за телефонную трубку, хотел, видно, позвонить и раздумал. Опять побарабанил пальцами по лбу, насупился.
— Хорошо, а что же мы будем делать?
Любка подумала еще, вздохнула:
— Ничего пока. Кончу школу — там видно будет… Вы, пожалуйста, не говорите никому ничего… А то я и пешком уйду или еще что придумаю.
Долго потом Люба боялась, что лейтенант кому-нибудь расскажет про нее. Начнутся охи, вздохи, перевоспитывать будут. Но ничего подозрительного она не слышала. Только предложили ей снова вступить в комсомол. Та девочка, которая в седьмом отвод ей дала, подошла на перемене и сказала:
— Пиши заявление, я тебе тоже рекомендацию дам. Ты теперь у нас совсем другая, тебе обязательно в комсомоле надо быть, чтобы от коллектива не оторваться.
Но Любка гордая. Она ответила:
— А что изменилось? Ты будто не знаешь, что я обедаю за тем же столом?!
Та не нашлась, что возразить. А Люба, может, и вступила бы в комсомол, если бы подружки не смотрели на нее слишком жалобно. И вообще, она хотела жить свободно и самостоятельно, чтобы никто не нянчился с ней.
…Люба отвлеклась от своих воспоминаний. Краешком глаза посмотрела на стол, прислушалась к громкому чавканью отчима, ожидая продолжения разговора.
Михаил раскраснелся от выпитого самогона. Глаза его округлились и потемнели. Бабка Настасья один только раз заглянула в них да и отвела взор — каким-то больным показалось ей лицо зятя. Уж не захворал ли он часом?!
— Понимаешь, мать — горячился Михаил, — жили мы так, что многие завидовали. Может, и сглазили, черти полосатые… Я ночами не спал, крутил баранку, абы десятку лишнюю в лапу! Все на дом шло. Кости с натуги трещали, а душа радовалась. С бабой мы крут постройки с зари до зари, как ласточки, зыркали. Да теперь разве в этом дело? Черная кошка стежку мне перебегла…
Михаил провел ладонью по лицу, повернул голову и сплюнул к порогу. Скривив губы, усмехнулся над своей судьбой. Но вот он задумался чему-то своему, невысказанному, и вдруг устало уронил голову на грудь. Темные короткие волосы его жестко распрямились, точно сзади на них подуло ветром.
Бабка пожалела его в эту минуту. Он без утайки рассказал ей, как втихомолку собирал деньги на мотоцикл и как жена теми деньгами распорядилась. Накупила облигаций займов, выиграть захотела. Перепродавала их, тратя выручку на всякие безделушки, на халву… Бабке была понятна его горечь. Не столько зять и денег пожалел, сколько того, что жена распорядилась ими без спроса и по-бабьи впустую. Бабка успокаивала зятя.
— Ты не убивайся, — говорила она. — Деньги — дело наживное, пропади они пропадом! Свяжешься с ними — как сатана опутает.
— Да я уж и не об этом, мать. Стало быть, она и тогда перестала о совместной жизни думать, на самостоятельность линию повела, а я слепой был, не понимал ничего. Вот еще был случай…
И опять рассказывает бабке, как пригласил в гости двоюродного брата из деревни. Само собой, приготовил на встречу сто рублей, положил их под клеенку. Сядешь есть, проведешь ладонью по столу — бугорок чувствуется, значит, целенькие лежат. А потом кинулся — там кусочек газетки свернут. «Я ей слово — она мне два!..» — так и поругались. Жена разгневалась, попрекнула Михаила, что он только своих родичей привечает, а потом размахнулась да взашей и погнала его.
Бабка не хотела, а верила Михаилу — куда денешься! С пьяным, что с дураком: веришь — не веришь — кивай головой, поддакивай. Дочку она ругала мысленно — нечего с мужиками цапаться: пьют, так и пускай, а твое дело — сядь на шесток, плюй в потолок. Да, знать, нету трав на чужой нрав. Совсем не то, что раньше. Тогда не очень-то позволялось бабе в мужицкие дела нос совать.
Со стороны бабке говорили, что горяч у нее зятек и дочка неуступаха. А Настасья по своей простоте считала, что все от людской зависти. «Ссориться-то им, — думала, — не с чего. В доме не голо, на стол есть накрыть, а чего еще надо? Нечего им делить, знать, брешут бабы-то…»
Но, видно, не брехали. Вон и Любашка, когда приехала, то же самое говорила, и зятек теперь с разводной сидит.
И соглашалась Настасья с зятем, что жить так — не дело, но тут же понимала, хоть и молчала о том, что одного хлеба или картошки, да и вообще — достатка для человека мало. Что же это за жизнь такая, если в ней ничего для души нет?! Нужно что-то еще, сильное и большое, как вот у ее деда — об земле ласка, или как у Гаврюхи Матрениного — не может тот без леса. И стар стал, а и зиму и лето, точно лешак, слоняется в обходе. С кордона, поди, и дорогу позабыл на люди. И у самой бабки много светлых сердечных праздников было. Бывало, жито жать, снопы молотить или траву кошеную огребать — да с песней! Бабка-то первой певуньей, первой хороводницей была! Эко горюшко — помутила все война, попутала — и землю, и людей. Люди пошли без памяти к земле, без тоски, все к городам рвутся. Вот и платятся за тот грех. Да, не спешат назад, а тут уж и леса от ран отошли, подлески во-она какие вымахали, и мины уж на полях перепаханы.
Не знала бабка, что и делать.
А Любка разве могла уснуть? Да ни за что! Хоть ей дома и опостылело гроханье кулаков по столу, рыдания матери и обида на них обоих… Как понять ей мать свою, как осудить? Боится та остаться одна — без мужа, без дочери. И проклятые деньги все бы она сама тратила… Вот бабушка не такая. Сто раз на дню скажет: «Без труда меду не едят. И хлеб не стыдно, милая, добывать горбом, стыдно хлебец, внученька, добывать стыдом».
Как что-то постыдное прятала Люба в памяти своей бабкины слова: «Эх, чуть не укатали сивку крутые горки!» Позднее дозналась Люба, что когда ушла мать от ее отца, работала она сперва в сельпо, да связалась там с каким-то ревизором и догуляла, докрутилась с ним до растраты. Не миновать бы беды, но поставил к тому времени дедушка новый сруб — продали его, выручили мать — спасли от дорожки в казенный дом…
Зять между тем совсем осоловел. Глаза его прилипали к стакану, язык заплетался. Бабка поправила на себе кофту, облокотилась на край стола, поближе к Михаилу.
— Ну что, спать постелить тебе, что ли? Скоро петухам орать, а?!
— Спать так спать, — махнул Михаил рукой, не поднимая головы. — Только ты погоди трошки. Дай задымлю да еще, мать, сверчков послушаю. Странный зверюка, невидимка вот, а горластый!
— Ну-ну, — откачнулась бабка назад. — Мне что, корову выгоню, а там день да вечер, назавтра высплюсь.
Говорила она мирно, соглашалась и сидеть с ним за компанию, а сама костила его мысленно, что нескладный он такой, бусурманный и несговорчивый.
— Давно, мать, я по-человечески с людьми не говорил. Душа у меня клапана рвет, наружу просится. А сверчки у тебя сверчат и говорить не мешают. Как исправный мотор в машине — гудит, с ним, сердешным, только и покалякаешь.
— Однако, — отозвалась бабка и смолкла, раздумывая, говорить ли дальше. — Однако вчерась не пели.
Михаил налил еще стакан, выпил и успокоил бабку:
— Не горюй, это они к грозе. Они электричества боятся.
— Может, твоя правда, — согласилась Настасья. — Пусть свиристят.
Они замолчали. Сверчки разошлись пуще, рассвистелись до звона в ушах. Михаил откашлялся:
— Видишь, хорошо тут у тебя, покойно. Была б моя воля — завел бы и я себе сверчков. Самца б и самочку на развод…
— Э-э, у тебя и так пара: Любка да Юрка! Меньшой-то, поди, и день и ночь свиристит, без перерыву!
— Да, мужик пробивается, крепкий, в меня. С собой ли его забрать? Без отца собьется.
— Что буровишь, ай и правда помешался? Нехристь!
— Брал я ее с Любкой, думал, мировая баба будет, уцепится. А она сдурела…
— Такой она и была, — покривила бабка душой, — сорочьей породы.
— Не любит она меня. А какая это жизнь? Баранка с дыркой! Чего добивается — не пойму. Меня перешибить? Дудки! Не такой я слабак, чтобы бабе поддаться. Фонарей друг другу навешаем, а стоим, упираемся каждый на своем. Горячую-то бабу хорошо иметь, да в меру бы… Шарабан у меня работает — мог в большие люди выбиться, поучиться бы только… Перемотал себя на бумажки — по ниточке, а назад этот спидометр уже не крутится. После армии, думал, остепенит меня баба, да где там.
Он помолчал.
— Устал я, покоя хочу. Любка выросла, соседи тоже в глаза корят. Одно спасенье — сивуха. Зальешь ею бензобак свой — так и свет перед тобой ластится. — Он вздохнул: — Пропадаю я, бабка, пропаду!
Любка ушам своим не верила. Отчим-то пьяный, а в разуме, говорит не зычно, и, правда, жаль его.
— За сына я, бабк, не тужу, а вот Любка…
— Что тебе Любка! Девка как девка, спокойная, рассудительная, работой не гребует.
— Может, стыдно мне перед ней, бабка. Без отца сам рос, знаю. Думал, воспитаю, папкой звать будет. А та, ведьмачка, говорит: не трожь, не твой ребенок!
— Любушка про тебя дурного не говорит.
— Знаешь, — Михаил не слушал бабку, свое гнул, — я намедни отца ее встретил. Поговорили. Добрый мужик и хваткий. Складный. Думаю, про меня он знает или так с полета сокола определил. Спрашивал за дочку. Сознался я, что не любит меня девка. Правду сказал. Думал — обрадуется, к себе затребует — нет. Спросил: мать-то свою она, мол, уважает? Уважает, говорю. Ну, это хорошо. Ты, говорит, знай, Миша, что любил я их обеих, а на тебя зла не имею. И забрал бы к себе дочь, да, говорит, нельзя, матери слово давал. Это, бабк, понять надо.
— Да где ж ты встретил его? Постарел, поди, уже, семейный?
— Где встречал, там уже нету, а отсюда не видать.
— Ох, гора с горой, — вздохнула Настасья, — и дома сказывал?
— Ни к чему, обойдутся.
— И то верно. Пускай ему добрым помянется, хороший человек был, не буйный. Нрава тихого, справедливого. И чем же моей не угодил — век не пойму.
— О, ей норовистый нужен, как я…
Любка не знала, что и думать. Вот не поверила бы она никогда, что отец и отчим могли спокойно разговаривать. А мать не велит и думать о нем. «Но, может, — осенило Любку, и она даже чуть не ойкнула от догадки, — может, мать и мается потому, что бросила его!..»
— Правда, я буйного нрава, — досказывал Михаил, — а и лихо же мне можется!
Настасья всплакнула. Михаил словно догадался о ее мыслях:
— Ты ничего дурного не думай, мать. Только одно прошу — прости меня. Уйду, и неизвестно, когда свидимся. Хотя и чужие мы люди, а мало-мало ты меня понимаешь. А что, мать, — вдруг спросил он, — косят хорошо нынче? Трава, кажись, богатая.
— Не была я в этот раз на покосе-то. Старая, кости, как немазаные, скрипят. Внучка позавчерась водовозила. С лугов прискакала духмяная от трав. Не знаю, трудодня три записали, должно. Бригадира спросить хотела, да он в страду на месте не сидит. Да это ладно! Сама на бугре подкашиваю в обед, с копенку наскребется, дай вот усохнет.
— Кабы я в мужиках ходил — накосился бы вволюшку!
— Дак чего же? Отведи душу. Косу я те займу. У деда Артема под застрехой всегда справные есть. Пойти, что ли, или ты зубы чешешь?
Михаил поскребся в затылке, потрогал зачем-то бицепсы на руках.
— Машина у меня на переезде, с досками. Растаскают… Ты лучше приготовь утром троячку на похмелку, да я уеду.
— Помене бреши тогда, — обиделась бабка. — Спать бы лег, не колобродил!
Когда Михаил заикнулся про покос, Настасья вообразила, что разговор серьезный, и чуть не среди ночи хотела бежать к Артему за косой. Артема она уговорила бы. А там, глядишь, сошел бы с зятя дурман, и зажили бы тут вместях. Дочку в кооперацию опять бы записала, или нет, лучше в животноводки пусть идет.
Но опять заговорил зять про машину, и стало бабке скучно и неспокойно. Был бы он человек трезвый, она разругала бы сейчас и машину его, и город — с грохотом, сажей, копотью. А тут тебе и сосны, и речка под боком. Колхоз хоть и не шибко богатый, да и не бедный, мужики все при должностях. Шофер — первый человек. Тут бы Настасья и дочку приструнила — с глаз людских никуда не делась бы, голубушка.
Бабка встала и постелила на широкой лавке телогрейки, взбила подушку зятю.
— Тут ляжешь или на доски переслать? — спросила она.
— Все равно, стели, где хошь…
Михаил поднялся с табуретки, пересел на лавку, довольно позевывал, треща скулами и почесываясь. Бабка не уходила.
— Глянь, — сказала она, — оставайтеся тут жить. Я помру скоро. Дом, хозяйство — все вам отпишу. И председатель у нас хороший, ладком бы и жили?!
И опять, обнадежившись тем, что слушает зять внимательно, стала Настасья расхорашивать деревенскую жизнь. Она знала, что затеяла дело почти немыслимое. Хорошо, если он велит ей замолчать, а то двинет нечаянно. Боялась и все-таки говорила.
Любка выпросталась из-под одеяла и лежала, руки под голову, уставясь в обклеенный желтыми проржавевшими газетами потолок, и не боялась, что могут увидеть ее неспящей и придется о чем-нибудь говорить с бабкой да и с отчимом. Рыжее лицо ее пылало, как в горячке. От разговора, который слышала Любка, разные картины мерещились ей. Но даже в мыслях она не могла смириться, признать, что если выйдет по-бабушкиному, то хорошо будет.
Она представила, как привозит косарям на луг бочку ключевой воды. Бабы оставляют на валках белые грабли и, подбирая на ходу волосы в платки, подтыкая в юбки выпроставшиеся и темные от пота блузы, с шуточками подходят к ней. И мужики, чуть поодаль, обтерев травой косы, поточив их подпилками и оселками, закуривают самосад и тонкие папиросы. Обождав, пока бабы напьются, они тоже идут к Любке негромко гудящим табором. Кто-нибудь даст Любке ягод. Она сидит на прохладной росной бочке, зачерпывает ковшом воду и, слизывая с веток ягоды, пересмеивается с косарями. Несколько девчат, что работают здесь же с матерями, стаскивают ее с телеги, тащат к кустам. Дают ей там хлеба, молока, крутых яиц — обедают и расспрашивают, какое кино привезли и не встретила ли она по дороге леспромхозовских ребят. А то вдруг кто-нибудь придумает, как нынче:
— Девки, сходим зарей на Гаврюхину поляну!
— А зачем?
— Пихта там. Веток наломаем, побалуемся, а оттуда в клуб. А чего?! — И все согласятся.
Объехав до вечера на пегой кляче другие покосы, выполнив бабьи наказы по догляду за ребятней, Любка отведет лошадь к конюшне и, скинув тапочки, бросится в луга — только засверкают пятки. Незаметно подкрадется вечер, и, наработавшиеся девчата, зайдя на старые копани искупаться, набрызгавшись там и нахохотавшись, уйдут в лес, а потом в леспромхозовский клуб «на кино» или в Тишино за семь километров на танцы… Все это вчера, позавчера, сегодня и каждый день, пока нет тут отчима. А если он пришьется в колхозе, то все станет хуже. Любке кажется, что и трава поникнет, и солнце будет светить суше, и ягод ей никто не поднесет, и сама она уже не будет так бегать и смеяться. А бабы колхозные нет-нет да и скажут ей жалеючи:
— А твой-то, знаешь, что отмочил…
Не хотелось Любаше этого. Какое-то предчувствие, просыпающееся в ней, тревожило ее, наводило тоску и грусть на сердце. И чтобы не терзаться больше, не слушать бабкиных уговоров, Люба надумала тихо подняться и уйти, так, чтобы не скрипнула дверь. Самохины девчата спят в сухом сене на погребе. Она пристроится с ними, а утром спокойно уйдет на покосы.
Фитиль в керосиновой лампе обгорел по самое горлышко, и в хате затускнело. Лица бабки и отчима сделались расплывчатыми, зато выросли, грознее и чудовищнее стали тени: одна на стене возле двери, другая на печке. Тени лениво шевелились, как большие птицы, и вздрагивали от потрескивающего фитиля.
В неплотно прикрытое окно потянуло сырым ветром. Охая и поддерживая себя за бока, бабка подошла к окну, распахнула его настежь, пуская в хату свежий ночной воздух, густо напитанный ароматом свеклы, и поглядела на небо. Не искрилось ни звездочки, и было оно таким низким, что казалось: сунься, протяни руку и — достанешь тяжелые, черные, как земля, тучи. Где-то за хатой сильно полыхнуло. Тучи на миг озарились красным отсветом, и почти тут же прогремел гром. В соседнем хлеву испуганно замычал теленок. «Скоро уже рассветет, — решила Настасья, прислушиваясь, не кричат ли петухи. — И зарницы вечерние, ишь, как молоньей рассверкались — дождь будет скоро».
«Развелись бы они и вправду!» — блаженно подумала о родителях Любка и тут же приподнялась, настороженная. Бабка, пробурчав что-то, старательно прихлопывала створки окна, задевая головой ветку пихты, и говорила с растяжкою:
— Помилуй, господи. Тут разводиться не будете… И крута гора, да забывчива, и лиха беда, да избывчива. Да и как тебе жить снова-то одному, разве легкое дело? Дитятко у тебя, свой Юрочка, маленький… Как-никак и Любка не чужая. Ложись-ка ты, милый, спать. Утро вечера мудренее, видно будет.
Кровать заскрипела, зашуршало одеяло, и Михаил и Настасья повернули на шум головы — отпрянули назад их тени, и в углу посветлело. Держась одной рукой за печку, а другой убирая со лба прядь, там стояла Люба, бледная, как полотно:
— Что ты, бабк, его уговариваешь? Матери, дурочке такой, давно надо было выгнать его. А то он на водке помешался, приходит каждый день как зюзя.
— Любка, ах ты, малахолка, ложись сейчас же и не смей встревать!
— А чего он разжалился тут?!
Михаил вскочил, как бык, — замотал шеей, растопырил руки. Любка недобро усмехнулась. Тогда он плюхнулся на скамейку, чувствуя, как сильно колотится под ребрами сердце. Он прохрипел:
— Вот, бабк, за все мое добро к ней, даже не поздоровалась. Вскочила, ужалила! Знать, правду отец говорил: огонь и воды прошла, в милиции перебывала.
— Дьявол всех попутал! Кроме кина, они никуда не ходют, порядков никаких не знают. А нешто так можно молодой-то девушке, а?! И той, дурочке здоровой, сколько раз говорила: погубила жизнь с одним человеком, нечего и другим людям голову морочить. Говорила ей, чтоб не ходила за тебя замуж, жили бы одни себе бабьим колхозом. А теперь вот мучаетесь!
Михаил хлопнул на стол из кармана пачку десяток:
— С этими красненькими нигде не пропадешь! И сварят тебе, и нажарят, и обмоют всего. Эх, и жизнь будет!
Совсем низко, над трубой, прокатился гром.
Михаил сгреб деньги со стола, кинулся в сенцы:
— Уйду! Прощай, бабка, прощай, не поминай лихом.
— Врешь! Не уйдешь! — кричала Любка. — Никуда ты не уйдешь, нету тебе дороги! И мать не уйдет, потому что вам тогда делиться нужно, а вы из-за дома горло друг другу перегрызете. Я уйду! Слышишь, уйду! Навсегда, навеки!..
В ответ на ее слова звякнула щеколда уличной двери, потом рывком тонко и жалобно скрипнула калитка. На минуту все стихло, и вдруг внезапный, оглушающий ливень упал на землю. Молния то и дело сверкала над хатой, над лесом, от грома тонко забились в сухих рамах стекла. Бабка упала на колени перед образами, роняла слезы и била поклоны.
Любка вернулась на кровать и, облокотясь на подушки, немигающими глазами смотрела на грозу. При вспышках молнии вода лилась по стеклу голубыми и серебристыми ручьями, розовые отблески падали на вздрагивающую от грома ветку пихты. Безотчетный страх, охвативший Любку, медленно уходил, приятно млело тело. Она закрыла глаза. В голове будто оглушило все мысли, и только обрывок давней песни вертелся на языке:
— Поведай, ласковой рукою, кто в этот край тебя занес?..
Опять увидала ветку пихты в раме окна и почувствовала родство с этой оторванной жизнью. Ей показалось, что это и не пихта, а она сама, и не здесь, а где-нибудь в Кулунде или на самом краю земли. Другая жизнь и другие люди — молодые, сильные…
А на дворе еще долго не утихала ночная, по зрелой сенокосной поре, гроза.
ИСПЫТАНИЕ НА МОЛОДОСТЬ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Люди привыкают к однообразию. Быстро, незаметно для себя и уже раз и навсегда заведенным порядком живут изо дня в день, из года в год. Не с удобствами или невзгодами, а именно с однообразием человек свыкается скорее всего. Это открытие Сергей Горобец сделал в Пояркове, а может, оно вообще было первым открытием в его жизни. Друзья Сергея — Володька Кержов и Алик Синько, такие же молодые специалисты, как он сам, признали открытие, и странным казалось лишь то, что равнодушными остались поярковцы. Никого больше не потрясла, не взбудоражила эта новость в далеком селе на Амуре. А ведь у поярковца на новость особое чутье! О, тут ему и расстояние не помеха… Уж на что Москва далеко, а стоит там какому командировочному гульнуть, так телеграмма еще до Пояркова не долетит, а уж тут все знают: надо выручать — не переться же ему пешком в такую даль. Понятно — земляк!..
Поглаживая ус, сидел перед Сергеем старик Реснянский, рассказывал под руку Горобцу, подписывающему наряды. Как только закрылась навигация, рабочие обедали у Сергея в мастерской. Собираясь после обеда на участок, Реснянский обычно заходил в конторку, успевал рассказать что-нибудь Сергею.
— Э-э, милый!.. Разве у нас тут пристань была… Названья такого не было! Помню, дебаркадер ткнули к берегу — может, когда катеришко пристанет, а то — баржи с Благовещенска идут, шкипер с матросом лодку отвяжут — и к нам: картошки взять, хлеба… У нас тогда свойский хлеб-то еще был, домашней выпечки. Давно такого не ели… Да… Пригнали первый эшелон с углем с Райчихи — пароход подошел — мы ему в бункер лопатами кидали!.. Теперь вот, — лукаво усмехнулся старик, — горя не знаем, не то что… — он махнул рукой на прошлое, на воспоминания. — Кнопку ткнул — стрела сама поехала. Транспортер крутит — уголь идет… Подталкивай его бульдозером — и вся недолга. Так-то, Сергей Никандрыч! Годков пять — десять пройдет — еще не то будет, посмотришь тогда.
Будь Горобец летами постарше, поопытней, он без труда уловил бы в словах Реснянского поучительный намек. Наверное, от Кержова или Синько, а может, и от самого Сергея, вылетело какое слово — поди поймай теперь, Реснянскому стало ясно, что заскучали, запечалились ребята в Пояркове. На родину ли потянуло их или в шумные города, где молодежи много, а и по большой работе могли стосковаться, все равно плохо — уедут. Гусь, вон, и с подбитым крылом, а осень пришла — все шею тянет, вверх косится. Стая над головой пройдет — шуму-то, крику не оберешься. До этого зерно с рук брал, а тут взъерепенится, гляди, кабы в глаз не клюнул…
Ведь вот и эту историю, думает Сергей, Реснянский тоже неспроста рассказывал. Что правда, то правда: в навигацию тосковать не приходилось, некогда было. А теперь, вздохнул Горобец, собираясь попечаловаться Реснянскому, но ему помешал телефонный звонок.
Это секретарша начальника пристани Люба Калинович. Костя (он же — Константин Николаевич Подложный, начальник пристани) бродит по участкам, а Любке делать нечего. Но Сергей знал, что даже когда ей делать нечего, Калинович не станет раззванивать понапрасну, наверное, ждет, пока он сам догадается или спросит у нее. Но о чем! Сколько ни думал Сергей, на ум ничего не шло.
Горобец уже было коснулся пальцами блестящих рычажков телефона, но Люба, будто почувствовав его намерение, успела сказать на другом конце провода:
— Ой, Сергей!.. Чуть не забыла… Тут приказ на тебя — надо расписаться. Придешь?!
Уж не разыгрывает ли она?! На последней планерке ни о каких приказах речи не было. В командировку ехать он не договаривался, а предпраздничный — еще рано.
— А я тебе не верю, Люб, — смеется он в трубку. — Прочитай!..
— Так я тебе и прочитаю, нашел тоже артистку!
— Ты все шутишь?!
— Я б с такими шуточками давно из конторы полетела. Самому небось не до шуток на службе.
— Ну ладно, а о чем приказ? — спрашивает он миролюбиво. — Наверно, премию подкинули к празднику?!
— Ага, такую премию, что закачаешься… Тебе «леща» подкинули. Иди, иди, узнаешь…
Захохотала, готовая продолжать разговор, а Сергей с досадою поморщился и придавил пальцем рычаг телефона.
…Всегда некстати улыбающаяся, с зализанной прической, так, что и волос не мог упасть на крутой, с гусиное яйцо лоб, толстушка Люба открыла шкаф и, подперев носком лакированной туфли скрипучую дверцу, поискала среди скоросшивателей и картонок папку с приказами. Она улыбалась при этом, но как-то плутовато… Полистала коротышками пальцами бумаги, освободила нужный лист из-под скрепки и протянула Сергею. Розоватые ноздри ее дернулись вместе с верхней губой, и она, чтобы не прыснуть от смеха, торопливо закрыла рукой рот. Потом сказала:
— Копия мне не нужна, я тебе нарочно экземпляр отстукала. Только распишись.
Сергей заковыристо расписался.
— Можете идти к начальнику, — по привычке официально начала Люба. Она кивнула на дверь Подложного и смутилась, встретившись глазами с Сергеем. Нет, она не хотела обижать его и сменила холодный тон на более ласковый: — Константин Николаевич сейчас на участке. — Люба пыталась даже успокоить Сергея. — Скоро ему должны позвонить из пароходства. Ты подожди, если хочешь, он вот-вот придет…
Горобец ее не слушал.
Люба надавила плечом на скрипнувшую дверцу и, опять дернув носом, крутнулась перед Сергеем так, что из-под юбки мелькнула розовая полоска рубашки. Раздосадованная его невниманием, Люба села за машинку, и каретка «Прогресса» запрыгала от ударов по клавишам, как старый тарантас по ухабистой дороге. Глядя на мелькание Любкиных пальцев, слушая клацанье букв по бумаге, Сергей рассеянно подумал, что у секретарши голос тоже отрывисто-сухой, щелкающий. И в приказе слова показались ему клацающими, неживыми…
Уйти бы теперь в мастерскую и хорошо обдумать все, но Горобец ввалился в кабинет главного.
На столе чертежная доска, на ней миллиметровка с неровными краями, похожая на тонко раскатанный лист теста. Алик Синько, насвистывая и согнувшись над доской как вопросительный знак, водил карандашом по бумаге. Одного взгляда мельком ему было достаточно, чтобы понять: Сергей рассержен. Не отрываясь от бумаги, Алик продолжал свистеть.
Сергей бросил мичманку на край стола и, пригладив рукой волосы, потянулся за сигаретой. Пачка «Лайки» лежала тут же, на столе, рядом с круглой крышкой чернильного прибора — Алик уже затрусил ее пеплом. Закурили. Синько сунул карандаш за ухо и сел на доску, прямо на чертеж. Метровой рейсшиной потянулся к окну и распахнул форточку.
— Выговор! — равнодушно сказал Сергей, не дождавшись вопроса друга.
— А у меня в кармане гвоздь…
— Алик, я сам ничего не понимаю.
— Покажи. Не будем гадать.
— Понимаешь, — Горобец нехотя доставал из кармана кителя скомканный приказ, — тут все аргументировано… Замаскированная мина! Не угадаешь, с какой стороны взяться. Так скажи: есть же порядок? До строгача обычно несколько простых выговоров вкатывают, а не с бухты-барахты…
Он развернул лист, скептически посмотрел на него и швырнул на стол:
— Читай сам!
Алик поймал приказ на лету, передвинул в угол рта сигарету и, щурясь от едкой завитушки дыма, стал читать:
— «…В связи с тем, что инженер Горобец не выполнил мое указание по наведению порядка в мехмастерской, утеплению гаража и подготовке его к работе в зимних условиях, объявить последнему строгий выговор. Предупредить, что при повторении подобных случаев с гаражом будут сделаны оргвыводы.
§ 2. Райпожарному инспектору наложить материальное взыскание на раздатчика инструмента Копишева за нарушение норм пожарной безопасности в мастерской.
Приказ объявить личному составу.
Начальник пристани Поярково — К. Подложный».
Алик тронул Сергея за плечо:
— На, спрячь. Еще пригодится…
— Зачем?
— Тут же русским языком сказано, что в случае чего — оргвыводы будут с гаражом. Да и выговор — гаражу…
— Как будто мне от этого легче!
— Ну, давай расстроимся, возмутимся, кинем ему заявления, и что, тебе сразу легче станет?!
Нет, легче ему, конечно, не станет, да не в этом дело. Ему надо разобраться, почему так получилось, за что он в конце концов выговор получил.
Алик между тем говорит:
— Ты утверждал, что однообразие утомляет. Помнишь? Так это тебе — для разнообразия…
— Да ведь я не об одном себе думал, — начал было Сергей, но Алик не дослушал, засмеялся и перебил:
— Точно! Костя побеспокоится, чтоб и мы с Володькой не скучали.
Костя… Последний раз, наверное, неделю назад, когда заходил в мастерскую, он указал Сергею на мусор во дворе: повсюду щепа, разбросана ветошь, обрезки металла где зря. Непорядок… Сергей не спорил. Сказал: уберем. И сделал. В гараже для бульдозеров покривились дверные петли, филенка в двух местах выбита, из угла в угол ветер гуляет. Но гараж было поручено ремонтировать Бочкареву. Сергей хорошо помнит ту планерку, на которой решался этот вопрос. Подложный тогда еще, вроде смехом, упрекнул главного инженера:
«Что, Николай Васильевич, власть в руки не забираешь?! Сказать честно — я уж устал, до последнего дня план выжимали… Думал, закроем навигацию, ты сразу людей расставишь по участкам, командовать возьмешься, а я отосплюсь себе… А у тебя что рабочие, что мастера — шляются друг за другом из конца в конец или в затишке, в траншее, покуривают…»
«Я уже раскладочку приготовил, — сказал тогда с извиняющейся улыбкой Бобков. — С понедельника начнем — как в навигацию, когда за теплоходы дрались!..»
По этой его раскладочке и вышло, что гараж ремонтировать Бочкареву. Дали ему бригаду, и тогда же еще Бобков предупредил Бочкарева: «Подчиняться будешь мне! Учти, халтуру не приму и наряды подписывать не стану». — «А мы — процентовочку!» — засмеялся Бочкарев. «Процентовоч-ку… — с растяжкой передразнил Подложный. — Там работы от силы на неделю!» — «Ладно, Константин Николаевич, мы постараемся…»
И вот прошла эта не запамятованная Подложным неделя, гараж имел прежний вид, а выговор за него свалился на Горобца… Сергею казалось, что только за мусор строгач ему влепить не могли. Было жаль и инструментальщика Копишева, мужика, правда, болтливого, но сообразительного. С ним у Сергея только-только вот хорошие отношения наладились, а теперь Иван опять обидится, скажет: век стоял гараж этот расхлябанным, а при других начальниках с него пятерки не выдирали, а у него дети… И всегда Иван канючит…
— Ну при чем, при чем тут Копишев?! — обозлился Сергей. — Про Бочкарева так и полслова не сказал!..
— Так, так, — согласился Алик. — Старая калоша твой Бочкарев! Скользкий, он и из-под Кости, и из-под кого хочешь вывернется. Ты спроси у главного, он, поди, давно сунул Бочкарева на новый объект. По ремонту гаража тот все деньги уж слопал.
— А Копишев?
— Ну, этого Костя за то, чтоб не огрызался. Да ему и стоит — лишний раз пальцем не шевельнет.
— Зря ты на Копишева. Иван мужик ничего. К нему только подход нужен. Я другого не понимаю: Костя может приказывать райпожаринспектору? Он что, предрик уже?!
— Как где, так ты умный, — усмехнулся Алик, — а тут вроде ничего не понимаешь. Пожарному инспектору еще лучше: оштрафует без претензий. Он ведь не обидится на Подложного, что тот пропустил в своем приказе словно «просить»… А вообще… — Алик съехал со стола и, разглаживая измятые брюки, иронически закончил: — Не забывай майора Кульденко с его наукой: мыслить и сопоставлять! Сильного врага победить не трудно, надо только знать его карты!
Сергей тоже встал. Погасил в чернильной крышке окурок и надел мичманку.
— Все бы, конечно, и ничего, — сказал он, — но приказ-то нарочно выпустили под праздник. Это чтоб позлить нас, да?! Специально? Или у Кости это называется педагогическим подходом к молодым кадрам?.. Воспитание и перевоспитание! Но нельзя же, в конце концов, под дых бить! Все-таки Октябрьская годовщина, не святая неделя…
— А-а, точно! Тут все просто, — ответил Алик. — Строгач лишил тебя премиальных, а денежки из итээровского фонда. Другим же больше достанется. Заодно еще и нас с Володькой причешут.
— Он же вроде не мелочный?!
— Кто, Костя? А ты спроси его самого!
— Ладно, — пообещал Сергей. — Будь здоров!
Алик поднял ладонь к плечу — как семафор — путь открыт.
Горобец хлопнул по карману с приказом и, еще не соглашаясь с какой-то мыслью в себе, сомнительно покачал головой. Хотел ли он сказать другу, что на этом не успокоится, или просто не нашлось у него в ту минуту слов, чтобы выразить и недовольство свое, и недоумение, а может, и некоторое опасение за будущее, которое вдруг да и зависит от этой нечаянной-негаданной бумажки с приказом. Так ли, иначе ли, но, невесело улыбаясь, вышел Горобец из кабинета.
Приехав в Поярково, Горобец поселился в небольшой комнатке деревянного барака — первого пристанского общежития. Стены оклеил цветными обоями: розовыми — «спальню», зелеными — рабочую половину, где притулился стол. Рука не поднялась заклеить небольшой простенок от окна, названный Сергеем «домовой книгой».
Здесь оставили автографы благовещенские механизаторы — «замостырившие» «балалайку», два инженера-путейца из Хабаровска, «Вера, вышедшая замуж по любви», «Семен — рыжепьян», какой-то «Колоток — мотаю на «кулички!», «скромные Зина и Катя», «хулиган и ухажер Думбровский», Маруся, которая отрезала в этой комнате косу «в знак женщиностановления», и уж совсем непонятно как попавший сюда старшина милиции Бубнов. Судя по датам, он-то и был симпатией Веры, вышедшей замуж по любви.
Что-то роднило записи, не в одно время сделанные и разным способом — от химического карандаша до перочинного ножика. Их сближали простоватость и легкая насмешка, ирония жильцов и жиличек… Храня традицию, Сергей нацарапал на стене, что приехал в Поярково первого апреля, кто, мол, не хочет — пусть не верит…
За полцены он приобрел в комиссионном «Рекорд». Приемник старый, но с хорошей настройкой: чисто принимал Москву, а ближние станции и подавно. Валяясь на кровати и слушая музыку, Сергей иногда злился на себя за то, что не остался после училища в Горьком. Поступил бы в водный институт, а свободными вечерами ходил бы в консерваторию, концертный зал. Правда, ругал он себя только для блезира, потому что, с одной стороны, людям свойственно жалеть о прошлом и о неосуществленном, а с другой — они ведь редко бывают довольны настоящим.
…В Поярково Сергей прилетел рано утром. С борта «ЛИ-2» прыгнул в глубокий снег. В ботинках, проваливаясь, сделал несколько шагов и на минуту закрыл рукавом глаза от снежного вихря, поднятого ревущим самолетом. Из кабины выкинули вслед Сергею чемоданы, и «ЛИ-2» улетел дальше.
Торчком уткнулись в снег коричневые чемоданы, и легкая поземка обкручивала их снежными усами. Распластываясь в равнину, белый аэродромный холм вытягивался в степь, перерезанную льдистой полосой Амура — точно из фольги… На ближнем к Сергею левом берегу стояло чистенькое, ровное, опрятное село — с высокими соснами на улицах, с огородами и кое-где даже садами. Узкая лента припорошенных снегами кустов вилась от Пояркова, огибая вдалеке аэродромный холм… За этими кустиками, под снегом лежала маленькая речонка Завитинка, в устье которой, как у доброй хозяйки на квартире, разместился затон… Обширное белоснежье упиралось у самого горизонта в сопки — встопорщенные складками, окуренные сизым дымом… Свежо, морозно, тихо. «Неужто это для меня уже и край света?! И Поярково ли это еще?!» — думает Сергей, усмехаясь. Ему немного жаль, что деревня стоит не в сопках. По его-то мнению, край света — это такое место, когда дальше и ступнуть некуда. Край — он и есть край, а тут еще столько простора, столько раздолья кругом, что невольно думается: край ли это или начало земли твоей?..
Хрустел под ботинками снег, солнце едва прорезалось через белый туман над крышами. «Какая же это весна? — опять недоверчиво подумал Сергей. — Апрель, а на Амуре ни протоки, ни проталины…» Удивило его лесное ожерелье: по реке, во льду, цепочкой зеленые елки. Под ними вилась безлюдная стежка. Куда она? Если на противоположный остров, то почему не напрямик, а на дальний край его?
Потом уж поярковцы растолковали Сергею, что елки — это контур государственной границы, а тропой ходят дозорные пограничники.
Еще никогда Сергей не видел так близко чужой страны, никогда так остро не чувствовал, что вот здесь, под его ногами, стоит и начинается необъятная земля, красным отмеченная на глобусах и картах, и имя ей — Россия. Мордовали ее и душили, потом заливали ее и кровью, а она вот стоит — своими людьми, своей верой и правдой, своею силой неизбывною. И в этой силе, в этой мощи, в чувстве родины заключена и его сила, его, Сергеева, жизнь!
Тем же днем Горобец побывал на планерке. Подложный кратко, по-кульденковски точно отдавал распоряжения. Чувствовалось, что его уважали.
— После Горьковского речного училища к нам приехал техник-механик, — представил он Горобца. — Диплом с отличием. Куда поставим, а, Павел Иванович?
— Давайте! — Черемизин махнул рукой, будто подгребал к себе что-то. — С виду неплох, хоть и красный диплом. — Павел Иванович был настроен добродушно, говорил и улыбался Сергею. — К навигации еще бы парочку техников, с любыми дипломами!..
— Приедут, — сказал Сергей, — через месяц тут будут, если я их к тому времени не отговорю…
Вечером Сергей ходил в клуб. Закрытое шатром высоких сосен здание когда-то было церквушкой. Но купол давно разобрали, иконостас вынесли, росписи забелили и провели внутрь электричество, а по углам навешали громкоговорителей. Пауки — эта нечистая сила — опутали динамики паутиной, да такой толстой, что шваброй не проткнешь, и, наверное, от этого динамики хрипели на разные лады.
Что бы ни играли — танго, фокстрот, румбу, — парочки на середине зала потопчутся-потопчутся и разойдутся к стенкам. А раз или два за вечер из маленького закутка на сцене выбегает растрепанный радиольщик и, растягивая до ушей улыбку, орет:
— А теперь танец! Дамский!..
Сергей сидел на стуле и совсем растерялся, когда после такого вот объявления подошла к нему высокая смуглая девушка. В черных лакированных туфлях на низком каблуке, в красном платье в талию, она сразу приглянулась Сергею. Что-то в ней было притягательно-простое и доверчивое даже на первый взгляд — то ли глаза чуть раскосые, то ли улыбка, как бы неуверенная от волнения и робкая…
— Давайте станцуем? — спросила она и тут же смутилась, видимо, вспомнив, что не сказала почти обязательной для таких случаев фразы: «Разрешите вас пригласить?!» Она, наверное, и хотела так сказать, но, видя, что Сергей не поднимается, поторопилась, и все ее недоумение и недовольство собой выплеснулось в отчаянности слов:
— Я же пригласила вас…
Заметив, что девчата, стоящие возле стен, торопливо толкают друг дружку и кивают на него, Сергей подумал, что его разыгрывают, и решил повалять дурака.
— Видите ли, — он встал и тут же предложил девушке сесть рядом, — вы извините меня…
— Дина.
— Извините, Дина, я… я не танцую. Может, поговорим?
— О чем же? — Она, кажется, не обиделась на него, успокоилась и теперь улыбалась, стараясь, однако же, не смотреть в сторону подруг.
Сергей тоже улыбнулся.
— Меня зовут Сергеем… А почему у вас такое старье играют? Допотопная музыка, ни одного джаза!..
Между ними начался банальный и нелепый разговор, какой ведут между собой еще мало знакомые люди, делающие вид, что давно знают и хорошо понимают друг друга. Их странные на первый взгляд вопросы имели немалый тайный смысл — как можно больше выведать друг о друге, хотя и не без того, конечно, чтобы и самому не произвести впечатления… И ах как многозначительны были их паузы, как полупрозрачны намеки и как жеманны были они сами и в словах своих, и в каждом движении. И все это искренне, в духе лучших традиций захолустных наших мест, где в общем-то одинаково преступно в глазах местного танцобщества девушке пригласить первой незнакомого парня на вальс, а этому молодому человеку — отказаться от танца…
Сергей был в новом, сшитом перед отъездом на Восток, темно-синем кителе. Ровной полоской выступал на шее белый подворотничок, блестели пуговицы — все строго на нем и даже э-ле-гант-но! Это восхищало его самого! Ну еще бы, не каждого ведь так встречают на танцах! Можно подумать, что он поразил тут всех с первого взгляда. И с озабоченным лицом интересовался он поярковскими нравами. Но что могла рассказать ему в тот вечер Дина? Разве признаться, что теперь уж ей надолго хватит девчачьих насмешек? Неужели же не понятно Сергею, что в Пояркове, как в любой деревне, на одном конце собака гавкнет — на другом слышно…
…Домой он ушел один. Ночью, в безветрии, мороз окреп. На Амуре трещала шуба — будто из винтовки стреляли. Училищные «корочки» — так называли курсанты громовые ботинки — сдавали, и Сергей нет-нет да и выбивал чечетку, чтобы согреться.
В общежитии рабочие из затона, с которыми он жил первое время, сказали ему:
— Грубка остыла, сушиться не на чем. Тут те не газ, а уголек-папа.
«Для прогрева» поднесли ему стакан спирта, стали спрашивать, с кем познакомился.
— Да там, — небрежно отвечал он, — смуглянка одна. Коса на макушке закручена, как кочан… Все напрашивалась, чтоб домой ее проводил.
— А-а, Динка! — догадались они. — Продавщица из раймага. Строгая деваха, зато поет хорошо, а на танцы идет — красится.
Сергей вспомнил, что губы у нее были, как в вишневом соку. Он подумал и молча опрокинул стакан.
— Ничего спиртяга! — говорил Сергей, нюхая хлеб и отказываясь от воды. — Мы на флоте привычные, не впервой, чай…
Пил он первый раз и хмелел быстро, как-то весело и бесшабашно, не думая и не заботясь, каково с утра похмелье. Постепенно терял он над собой власть, чувствовал в себе новые наплывы сил. Если хотите — он может пройти на руках от стола до двери (шлепнулся только два раза) или, не качаясь, на вытянутой руке поднимет за переднюю ножку стул и прокатится босиком с ледяной горки. Но на улицу его не пустили, а заставили спеть ямщицкую песню, сплясать на пяточке «яблочко», а когда он пошел по одной досточке и сбился, его подняли на руки и бросили на кровать.
Уже теряя сознание, чувствуя сквозь сон, что пьян, Сергей не жалел об этом. В конце концов он теперь самостоятельный человек и может позволить себе такую роскошь хотя бы потому, что в жизни все надо испытать — все! — и ничуть не меньше…
Утром его разбудили чуть свет, дали холодной воды и кусок ветчины.
— Дуй, москвич, в сарай, растапливай печку. Мы поваляемся часок, а ты пожарь картошку.
Сергей хотел было обидеться на новых друзей. Но за работой все у него валилось из рук, уголь долго не разгорался, и к тому времени, когда он окончательно протрезвел, понял, что во всем виноват сам. «Нет, — решил он, — если и дальше так пойдет, то пропади все пропадом, а я отсюда удеру!»
Стояла холодная осенняя погода. Пронзительный ветер с Амура шало разгулялся по пристани, отрывая и выворачивая на берегу с причалов, с крыш и построек все, что не выдерживало натиска. Укрыться от ветра можно в диспетчерской, в мастерской и, не говоря уже о конторе, в узких проходах глубоких траншей. Летом в них оживленно: гудят транспортеры, снуют механизаторы, озабоченные работой, а сейчас тихо. Кажется, что от холода и ветра пристань обезлюдела, насупилась…
…Алику не нравилась эта история с приказом. Подложный хоть и крут иногда бывает, но Сергей, видно, сам виноват. Когда-нибудь нос задрал, Костя его и осадил. Обычно Подложный довольно спокоен, но заденешь — ответ даст, будто пружина сработает, которая у него всегда на взводе. И вот интересно — несколько раз Алик пробовал рисовать Подложного, в каком только ракурсе не пытался, а все ничего путного. Не дается ему главная жилка Костяного характера.
В окно Алику видно, что Сергей остановился у радиостанции, ждет кого-то. Из-за угла вышел начальник пристани. Он высоко поднимал ноги в хромовых сапогах, осторожно перешагивал с гривки на гривку глубокие борозды, наезженные в глине и гравии машинами и бульдозерами. Поравнявшись с Сергеем, Подложный кивнул ему и пошел было дальше, но Сергей окликнул его…
Через стекло они оба перед Аликом как на киноэкране, только губы шевелятся, а звука не слышно. Сергей покраснел, машет руками, а Подложный ему слегка кивает. Вот отшвырнул носком сапога ком глины, повернулся и пошел в сторону мастерской. Молодец, Серега, видно, уговорил Костю!
«Но Костю он не проведет, — подумал Алик. — Константин Николаевич по пустякам в драчку не полезет. Он скорее дождется, пока ты сам к нему в пасть сунешься…»
Алик смотрит им вслед. Сергей юлит — то заскочит вперед, то сбоку доказывает что-то Подложному. «Молодой…» — иронизирует Синько и тут же с грустью думает, что весной Сергей был сдержаннее и проще. А сейчас в нем появилось что-то непривычное, настораживающее. Это еще нельзя назвать солидностью, свойственной обычно рано созревшим людям. Нет, Сергей не такой. Пожалуй, Алик догадывается, в чем дело. Горобец сейчас в положении человека, поднявшегося на заветную высоту. Теперь он осматривается, думает, правильной ли дорогой шел, верно ли то, что он делает, что собирается сделать. Да, человека в таком положении надо было бы пожалеть, не бить наотмашь, и Костя, наверное, спохватится, если не будет поздно.
Зато Подложный — всегда сам собой. Утвердившийся, устоявшийся характер. Такого с панталыку не собьешь. И хоть он ростом и не велик, все в нем прочно, надежно, гладко. Голова сидит в цигейковом воротнике, как в гнезде, руки в кожаных перчатках будто срослись за спиной. Сережка перед ним — воробей…
Алик выдернул карандаш из-за уха и начал рисовать их. Подложного сычом посадил на сук. Глаза ему сделал тускло-белыми, под оловянные пуговицы. От страха перед ними у воробушка дрожали крылья.
Лупатые сычиные глаза понравились Алику. Крылья у Подложного вышли кривые, изогнутые, как сабли: махнет — воробья не станет…
«Да-а, — посочувствовал Подложному Алик, — глазики у тебя приличные. Но получается черт те что: их живыми делаешь, а сходство пропадает… Надо понаблюдать за глазами», — решил он и положил карандаш на чернильницу. Рисунок спрятал под чертеж. Наверно, потому, что торопился в столовую, Алик спрятал его небрежно: уголок белой бумаги остался торчать из-под желтого поля миллиметровки.
…С участка пришел в кабинет главный инженер. Разглядывая Аликов чертеж, он и вытащил за этот уголок — как за ушко — рисунок. Привык уже, что Алик чертежи замалевывает рожицами. А тут вдруг узнал он Константина Николаевича и Сергея.
— Надо же, отчубучили пацаны! — Бобков ухмыльнулся и щелкнул ногтями по карикатуре. — Это я подкузмлю Подложного…
Турурукая веселый мотивчик, Бобков спрятал картинку в стол. Потом вытащил дюжину папок с документами и стал их сортировать. Надо сказать, что порядок и чистоту в бумагах главный инженер ценил очень высоко. Может быть, поэтому никто на пристани не портил скоросшивателей больше, чем он. Но, к счастью, Люба Калинович вела секретарские дела исправно, и недостатка в скоросшивателях не было.
Вдоль берега и причалов ветер закручивал особенно сильно. Подложный и Горобец свернули на запасной путь за эстакаду, где было тише. Шпалы покрыты голубовато-белым, как маленькие пузырьки воздуха, инеем — предвестником больших холодов. Сергей иногда вскакивал на рельс и, мелко семеня, держа руками равновесие, обгонял Подложного. Он проделал так несколько раз, как будто чувствовал, что раздражает начальника пристани, но Константин Николаевич молчал.
Скучно Подложному с Горобцом. Нового в мастерской он не увидит, убьет только время да покажется на глаза народу… Перед складом ветер катит порожние бочки из-под солидола. Подложный вспоминает, что по разным углам на пристани видел еще штук десять. «Надо сказать кому-нибудь, хоть Бобкову, — думает он, — пусть бочки выжгут и поменяются с рыбозаводом — кета у них славная…»
— Константин Николаевич, — отвлекает его Горобец, — а за что выговор? Ваш срок для наведения порядка кончается только сегодня.
— Ну какая разница! — сердито и не сразу отзывается Подложный. — Что сегодня, что завтра… Порядка там нет.
— Такой сюрприз руки отбил.
— Скисли!
«Глупый ты», — хотел сказать Горобец.
— Ловко… — отвечает Сергей и краснеет.
— Что?! — переспрашивает Подложный.
— Да недавно приезжий чудак спросил: «Как попасть в милицию?» А ему говорят: «Идите через сельпо!» Спроси на пристани: «Как попасть за ворота?» — ответят: «Идите через мастерскую!» Сколько здесь начальников было — ни один не удержался. Мне тоже такая дорожка?.. Я ведь приехал сюда по разнарядке министерства.
— Кто же так шутит? — Подложный поднял бровь и сбоку глянул на Горобца. — Не знаю, насколько это точно, но сказано остроумно. А насчет того, кто командует мастерской — мне, право, все равно: был бы руководитель там и соответствующий порядок. Дипломат же вы, Сергей Никандрович, никудышный… Дескать, дай намекну начальнику, что министерство прислало — министерству и подчиняюсь!.. Нет. Хозяин всегда тот, кто платит. Ну, надеюсь, кто вам платит — вы знаете…
— Кто удерживает, тот, наверно, и платит, — буркнул Сергей.
— Логично, — усмехнулся Подложный. — Так мы скоро научимся понимать друг друга, а?!
— Вы могли и предупредить…
— Я, Горобец, в ваши годы работал начальником нефтебазы. И как раз за несоблюдение подобных требований получил три строгача подряд.
— С тех пор вы и не работаете на нефтебазе?
По лицу Подложного видно, что он собирается возразить, но Сергей опережает его:
— Мне заявление подать, или еще рано?!
Они миновали железнодорожный переезд и пошли медленнее. Начиналось Сергеево хозяйство: серый сарай гаража, потом длинный приземистый барак — это мастерская. Сбоку от нее, в избе на курьих ножках с вечно коптящей трубой, — кузница. На пустыре за кузницей ржавые скелеты барж и прочий лом — кнехты, леера, покореженные шпангоуты, якоря — заснувшие как мощные плуги в борозде, поросшие дерном цепи. Это корабельное кладбище было золотым дном. Отсюда сдавали «на план» утиль и брали металл на ремонт механизации. Но год от года кладбище не убывало. К концу навигации Подложный вызывал в Поярково несколько барж с кирпичом, шифером или другим не особенно спешным грузом. Буксиры отправлялись назад, а одна-две баржи оставались возле мастерской и вмерзали в лед. Их якобы не управлялись отвести в затон. Из пароходства приезжала комиссия, топталась возле барж и тяжко вздыхала. Чтобы ледоходом не унесло баржи на рейд, подписывался акт на списание.
Сейчас Подложный высматривал, много ли в тупике свободного места.
— Тут вот бульдозер не пройдет, — сказал он Сергею. — Оттащите этот остов за кузницу, — кивнул на разобранную в прошлом году баржу, — и пока грунт не прихватило, расчистите съезд к Амуру…
Ветер подгонял их. Обогнув кузницу, они остановились у гаража, перед бульдозером со снятыми гусеницами. Мастерская была теперь шагах в тридцати, на крутом берегу. Ее окна, обитые широкими, грубо отесанными досками, отсвечивали черным глянцем. Начальник пристани покачал головой и показал на гусеницы, растянутые через дорогу. Бульдозер с голыми катками стоял рядом, на шпалах.
— Им тут место? За Копишевым не смотришь, начальник.
Под бульдозером зазвенели ключи, послышалось чертыхание Копишева.
Он вылез из-под машины, маленький, в лоснящейся от мазута телогрейке, вислоухой шапке, с обиженным лицом. Сергей про себя называл его «морковкой». Когда Иван сердился, то лицо его бычилось, краснело, а брови и морщины становились как бы темными зазубринами, рисками на моркови. Иван держал в руке разводной ключ, на плече полукувалдочку и подступал к Подложному:
— Где что ни случится — все Копишев?! И тут Копишев, и там Копишев, и в приказе Копишев… Что я вам? На одном Иване свет клином сошелся, так, что ль?!
— Не шуми, Иван, у тебя дети, — ответил Подложный. — А требовать надо с тебя покруче. Ты всему хозяйству голова.
— Я-то голова, да шея у головы одна. Семерых держит, а вы всю пристань хотите посадить.
Подложный не ответил ему и прошел в гараж. Там на козлах два разобранных трактора, вдоль стен подметенные верстаки и наспех беленная печка. Лампочки-двенадцативольтовки светят тускло, дневной свет едва пробивается в узкие окна. Бликами он ложится на машины, и от этого темное железо кажется еще чернее. Прохладно. Подложный ткнул пальцем в светящиеся щелки над воротами, но Горобец отмахнулся.
— Чепуха, — сказал он. — Потолок тепла не держит. Хотели шлаком засыпать, а там две матицы лопнули. Балки подвели, но все до поры. Новый бы гараж, Константин Николаевич, с кран-балкой и попросторней! С одним бульдозером развернуться негде, а мы два загоняем. Наказание — не ремонт. Плечом заденешь — все на башку рухнет.
— Понимаю, Сергей Никандрович. Мы начинали — над головой одно небо было.
— Ну и что?! Не снимать же нам из-за этого крышу!.. Вы подумайте лучше, что в РТС закончат скоро отделку технологического корпуса и как бы наши механизаторы, бульдозеристы туда не ушли. Что мы тогда с вами делать будем?.. Если б тут город был — по другим предприятиям давно б все разбежались. У нас же, кроме «давай-давай!», никаких условий для нормальной работы.
— В свое время этим лозунгом жила вся страна.
— Да, когда-то! А теперь принято, чтоб энтузиазм держался на сознательности, дисциплине, точном инженерном расчете.
— Хм-хм!.. И чего вы, Горобец, демагогию разводите?! Полагаю, государство вас не этому учило.
— Нам трудно спорить, Константин Николаевич.
— Почему?! — удивился Подложный.
— Не знаю. Почему бывает, что два человека, прошедшие один и тот же курс наук, об одном предмете говорят на разных языках? Знаете, попадаются иногда и такие люди.
— Однако, любопытно!
Горобец взял из ящика ветошь, вытер руки. Направляясь к двери, ответил, не повышая голоса:
— Я не преувеличиваю. Работать здесь трудно. Уйти с пристани — значит уехать из Пояркова. А рабочие привыкли, молчат… Гром не грянет — мужик не перекрестится…
— Этого вы могли бы не говорить мне…
Через окна Подложный заметил с противоположной стороны мастерской фиолетовые отблески электросварки. Обычно возле сварочного агрегата валяются куски проката, обрезки дефицитного швеллера. Надо на это указать Горобцу. Но он вовремя осекся. Отремонтированные ролики лежали стопкой, бракованные — рядом.
Молодой сварщик в твердой брезентовке оторвался от работы, заворотив щиток на затылок, засмеялся Подложному:
— Порядочек, Константин Николаевич?! Мы как знали! Думали, из Москвы комиссию пригонят. Я себе даже будку сварил. Во-он стоит, завтра крышу приладим, и хоть под воду…
С новыми роликами в руках, как с охапкой дров, подошел его подручный и с ходу встрял в разговор:
— Константин Николаевич, а на верстаках — скатерти стели и закусь ставь! Сроду такой чистоты не было! Болт какой или гайку куда зря не швырнешь!
— Прибрали, говоришь? — переспросил Подложный. — Молодцы, так и надо. Действуйте дальше!..
— Пойдемте в мастерскую? — предложил Сергей.
— Нет-нет. — Подложный уже несколько раз смотрел на часы. — Мне пора, должны звонить из пароходства. Вижу, что поработали. Впрок приказ-то, а?! До порядка идеального далеко — старайтесь! Москва ведь не сразу строилась…
…Теперь ветер дул в спину, и Константин Николаевич поднял воротник. Что-то похожее на усталость чувствовал он в себе. Горобец со своим гонорком раздосадовал его, что ли? Почему так тяжело говорить с парнем? Вот Копишев хотя и любит поартачиться, а начальника пристани слушает не прекословя. Другие и подавно слушают. Минович, например, из всех бульдозеристов мастер, хоть крикун, алкаш, и то с ним поладить можно. Главный инженер Бобков степенен, исполнителен; даже начальник участка Черемизин и то на рожон не лезет. Они, конечно, не зеленые, как Горобец, но ведь молодости рассудительность не заказана…
Правда, не заладилось у него что-то с парторгом Колесовым. Райком поддерживает того, разумеется — дело временное, перегиб. И сами скоро поймут: не дело с Подложного авторитет сбивать! Не дело… В конце-то концов не Колесову, а ему, Подложному, вести дела на пристани. И на кой черт райкому самый золотой парторг, такой бы хоть, как и Колесов, если план на пристани полетит и тогда уже самого секретаря райкома возьмут за шиворот… Нет, от его, Костиных, услуг они не откажутся. Плохо только, что парторг потакает Сергею, а тот рад, в ответ все по колесовским советам старается сделать! Между собой незаметно сдружились, а с народом довоспитались: Копишев уже начальнику пристани рта открыть не дает… Горобца еще самого воспитывать и воспитывать, в ежовых рукавицах держать!.. Вот Бочкарев молодец, прошел такую школу! Сейчас техник, а на него, как на Черемизина, положиться можно. Куда ни пошлешь, что ни скажешь — сделает, не подведет, с полуслова понимает…
Пароходству давно пора перевести Подложного на новое место, попросторнее, где было бы показать себя. Из поярковской пристани он вырос, но на Суражевку не пойдет — там такая же дыра, хоть и город. А вот в Благовещенск или на ветку в Хабаровск — можно. Вожжастого руководителя, знающего местный колорит, на перекате не бросишь. Недавно по селектору ему намекнули, что ожидаются перемещения. И, надо думать, неплохие, а то бы замначальника пароходства предупредил его — как-никак старые друзья…
ГЛАВА ВТОРАЯ
Проводив Подложного, Сергей спустился с кручи к реке. Усевшись в затишье, в старой вымоине, он достал папиросы. В протоке перед ним волны грузно вздымали сизые гривы. Встречный течению ветер срезал с них пенную стружку, докатывался до берега и хрустел слюдинками наледи. Метрах в трехстах от берега был остров, поросший густым тальником и карликовой березой. Остров разделил Амур на две протоки, и в малой, похожей своим изгибом на лук, была пристань. Большой Амур виднелся Сергею за краем острова. Там безудержно и свирепо шастал ветер. Волны дыбились, напоминая то изорванные паруса лодок, то разбегающихся беляков-зайцев, то вдруг целое стадо акул, ударивших по воде черными хвостами.
За бурлившей водой стояла маньчжурская земля. Грязно-серый с зеленоватыми метинами берег откатывался к выщербленному сопками горизонту. У этих сопок клубились дождевые тучи, и Сергей догадывался, что к вечеру принесет дождь, а то и снег.
Папироса грела пальцы. Сергей злился на Бочкарева. Тот бросил ремонтировать гараж и втихомолочку перепросился у Бобкова на новый объект. Теперь забивает с бригадой костыли в шпалы. А Бобкову что?! Бочкарева перевел, Сергея не предупредил, а в случае чего, скажет, что забыл, — и спрос весь. Не будет же он Подложному объяснять, что к чему. Да хоть бы и объяснил — с Сергея выговор уже не снимут.
…Длинный, как оглобля, Бочкарев всегда появлялся неожиданно. И обязательно с подковыркой! Да еще улыбается при этом. Начальство поругивало его, но не крепко. Механизаторы нехотя отшучивались, а дружбой его не брезговали: при случае он мог замолвить словечко перед Бобковым или Подложным.
То ли видал Бочкарев, как Сергей прыгал с обрыва, то ли ему сказал кто, но он подкрался тихонько и швырнул сверху камешком в Сергея.
— Эй, суслик, чего нахохлился? Зализываешься? Здорово Костя натыкал?! Понял теперь, как работать? Вперед батьки не лезь, а то…
— Тебе что? — спросил Сергей, подымаясь. Пальцы сами собой захватили увесистый ком глины.
— Айда гараж принимать! Глянешь, что мы поделали, а то Бобков мне проходу не дает, говорит: почему это Горобец не чешется с гаражом? Я ж не буду ему тебя продавать, что ты еще не принимал гараж… Ну, айда, что ли?!
— Иди, я знаю.
— Да ты не обижайся, Серег, выговор тебе понарошке…
— Уйди! — замахнулся Сергей. — А то свистну…
Бочкарев опять хохотнул, но убрался. Голос его послышался возле мастерской — он уже и там кого-то разыгрывал. Сергей отшвырнул глину и вытер руки.
Он снова закурил. Ясно, что Костя будет прижимать, поэтому лучше перевестись в Благовещенский порт. Там специалистов ценят, не заставят загонять костыли в шпалы, как тут Бочкарева…
Дело было, конечно, не в костылях. Просто в эту минуту Сергей почувствовал тяжесть и тоску одиночества. И хотелось ему, по сути, немногого: чтобы был рядом человек, на колени которому можно положить непокорную голову, чтобы были руки — тонкие, нежные руки, которые могли перебирать волосы, и губы, которые могли ласкать его… Молодая цепкая память услужливо вспоминала, казалось, забытые уже имена… И ему показалось странным, что тех, кого он мог любить теперь, он давно отлюбил, еще в детстве, и первый раз это было в третьем или четвертом классе. Тогда ему нравилась Катя Дормидонтова, девочка его лет, дочка их учительницы… Он сказал ей однажды: «Катя, можно я буду любить тебя?» — а она: «Я у мамы спрошу…» Разумеется, Дормидонтиха не разрешила, да еще нравоучение прочитала Сергею при всем классе. Он дал зарок — никого не любить больше! Но боже, уже через месяц ему нравилась другая, это была семиклассница, еще лучше Кати! И тогда, если бы он знал, как объясниться с ней, он не задумываясь пошел бы ради нее на эшафот. Через три года эшафот уже не казался ему таким страшным — Сибирь, вечное поселение… но все эти воображаемые муки его никому, кажется, не доставляли радости.
Когда он, взрослый уже человек, действительно поехал, но не в Сибирь, а на Дальний Восток, он знал, что полюбит лишь ту, которая готова разделить муки его и страдания, но такой благородной натуры около не было. Это особенно не опечалило и не встревожило его. Ведь ехал он не страдать, а творить, созидать новую жизнь и был даже счастлив оттого, что молод и одинок, оттого, что никто не удерживает его, и, значит, всего себя, без остатка, он посвятит работе, труду, благо знаний для таких намерений было достаточно.
А теперь вот не утешения, не помощи старшего друга не хватало ему, а простой ласки. Он знал, что в общежитии, в его комнате, ждут на столе недоделанные, незавершенные чертежи и расчеты, но если бы хоть одна живая душа ждала его! Собственно, а почему не завести ему дворняжку или — нет, лучше лохматого длинношерстного сеттера…
Озорная Динка впервые и беспричинно затосковала и закручинилась, когда плечи и грудь стали терять детскую худобу и угловатость. Она уже стеснялась короткой, выше колен юбки, розовые бантики привязала на фикус, а пышную косу научилась ловко перекидывать через плечо или укладывать короной.
Это была пора, когда открытки с кинозвездами летели в ящик комода, а из журналов вырезались фотографии модниц с необычными прическами и декольтированными платьями.
Перед сном, распустив волосы, в ночной рубашке, она подолгу разглядывала себя в зеркало. Тряхнув головой, вздыхала и запевала:
Бывало, охнет, заберется на кровать, сядет, поджав ноги, и пригорюнится. Нет ей, уточке, счастья-радости, нет соколика на ее перо…
Отца Дины убило в войну на западе, брат Вадим служил в армии, и осталась Дина с матерью. По утрам мать убирала в райфо, топила там печи, а днем подрабатывала на стирке чужого белья и столовских фартуков. В столовой ей давали иногда денег, зато каждый день приносила она оттуда по ведру отходов, выкармливала то телку, то поросенка.
С годами стала мать слепнуть — не могла уже вдеть нитку в иголку, да простудой заложило ей правое ухо. От стирки с содой, от угля руки ее изъедены глубокими черными трещинами.
Говорила тетка Аня: не замоча руки — не умоешься, — так то правда. Не сладость вдовья доля, сделала из нее мужика-бабу. Где забор подбить, где дверь насадить, на все одни руки — свои. Детей она не баловала, а по жалости своей от большой работы берегла. Динка у нее не так шаловлива, как Вадик, и училась лучше, но характером тоже строптива. Однажды пропала, никому не сказавшись. День нету, другой, мать голову потеряла, думать не знает что, а на третий день трактористы из степи приехали за хлебом и сказали, что Дина у них поваренком. Кинулась тетка Аня на полевой стан, да хорошо еще, что хворостину с собой взяла, не то пришлось бы ей одной возвращаться.
После восьмилетки устроилась Дина санитаркой. Но в больнице ей не понравилось, и она кончила курсы продавцов.
Матери казалось, что вчера еще бегала Динка кривоногой в школу, коза козой, а теперь гляди какая стать! Перед ее прилавком покупатели по делу и не делу, а особенно мужики, целый день топчутся.
Есть у Дины подруга — Люда Малыгина, вернется скоро из фармацевтического училища — будет хоть кому о Сергее рассказать. Тот обычно, как зайдет в магазин, пускает на прилавке заводных медвежат отплясывать, тут детвора соберется, смеются, — а он подзадоривает:
— Ну, кто смелый? Кому медведя?! Пляшет по заказу, лапу сосет, а стоит два девяносто!
Ребята хнычут, мамашам деваться некуда — раскупают неходовой товар.
Дома по вечерам Дина брала в руки шитье и садилась у окна, смотрела на пристань. Из-за гор угля торчали бело-голубые трубы теплоходов. Как на ладони видны эстакада и трап, по которому поднимались рабочие. По небрежной, вразвалочку, с ленцой походке Сергея Дина догадывалась, что на работе у него все нормально. А если Горобец вприпрыжку носился от вагонов к причалу, значит, где-то затор, что-то не ладится.
Если работы не было, Сергей садился с механизаторами на настиле эстакады, доставал курево. Грузчики зажигали спичку, подвигались к нему ближе, часто смеялись. Дине подчас казалось, что Сергей смотрит на нее. Хотя и знала, что против солнца не видно ему ее окон, она вспыхивала, шитьем укрывала лицо.
В его ночные смены Дина вставала ни свет ни заря. Небо еще лиловое, цветы под окном в росе, а она уже выдоит корову и ждет восхода. Солнце разгонит остатки сна, полыхнет по мокрым, туманным крышам, зальет розовым пристань. И если Дина увидит Сергея, то уж, как по примете, поверит, что наступающий день сулит удачу.
Алик Синько, Сергей и Володька Кержов собрались на третьем причале, у «балалайки». Так пристанский люд окрестил самый маленький транспортер, лет десять назад положивший начало пристани. Давно собирались его выбросить, да год от года находились более спешные дела. Слева и справа от «балалайки» выросли новые причалы, а «балалайка» так и осталась, как память о прошлом. Работала она безотказно, но мало, наполняя углем бункера пароходов. «Бренчит наша балалаечка, — любовно усмехались рабочие, — бренчит, а не подводит!»
Народу на третьем причале почти не бывает. Здесь можно спокойно курить и говорить о своих делах.
Амур трется о стенку причала, с приплеском шлепает волной. От морозов полиняла в Амуре летняя синь и вода побурела. Примечая это, старожилы говорили: «Осенних дождей не было — необычно как-то! Лето не поймешь какое, градом било, а осень заласкивает. Те года все в тумане, слякоть кости ломит, а нынче красотища! Неизвестно, как зима ляжет, а то взъерепенятся морозы…»
— Тоскливо на душе, братцы, — канючит Кержов.
Горобец улыбается Володьке, но молчит.
— А я на Волгу махну! — вздыхает Алик.
— Махай, — соглашается Володька.
Никто не перечит Алику, он ведь волжанин. На Амур приехал по совету майора Кульденко. В училище майор внушал курсантам страх — настолько он был требователен и строг. Никто, а застенчивый Алик в особенности, и не думал, что майор увлекается чем-нибудь, кроме своих артнаук. Но как-то после отбоя майор застал Синько за красками. Алик вскочил перед ним — руки по швам — и ожидал наряда в гальюн. Кульденко полистал альбом, постучал костяшками пальцев по переплету и… отправил Алика спать. На другой день Синько вызвали к майору. Кульденко показал ему свои картины, отругал за скрытность и уже совсем неофициально, но с обычной своей вежливостью сказал:
— У вас, Синько, есть способности. И не мне вам объяснять, что такое дар божий. Загубить его очень просто. Я только любитель, но могу научить правильно держать карандаш и подчинять его глазу. Приходите ко мне — и через пару лет, при упорстве, конечно, — подчеркнул он, — вы освоите все, что я знаю. Для молодого художника багаж немалый.
Часто вспоминает Алик майора. Говорят, что художники рассеянны и неряшливы, запачканы красками и чудаковаты. На Кульденко форма как с иголочки. Речь собранна, лекции читает без конспектов, а словно по писаному: четко, внятно. Ответа требует ясного и вразумительного. Пожалуй, одна только его пословица: «А при чем здэсь рваная галоша?!» — вызывала у курсантов улыбку.
Но с Аликом майор не шутил. Пришла пора выпуска из училища, и ом предложил:
— Вот что, друг мой. Можно устроить вам направление в Академию художеств. Но вы мало жизнь видели, мало сравнивали. В искусстве без этого ничего не сделаешь. Поездите по России, пока молоды. Езжайте на Амур. Мужественные края. Оттуда и Волга покажется вам иной. Впрочем, вы уже не маленький, выбирайте сами…
— А что, — говорит Алик друзьям, — давайте пошлем в училище телеграмму к Октябрьским?!
— Уже отставил Волгу? Я думал, ты завтра на самолет и — фьють! — Володька присвистнул и сделал ладонью вираж.
— Года два я отработаю.
— Какая тебе разница? — подзуживает Кержов. — Вода везде мокрая…
Алик смотрит: шутит друг или всерьез? И вздохнул, понял, что никакие объяснения не помогут.
— Красоты и силы полны, хороши Амура волны… — кривляясь, шумит Кержов. Сергеи просит не паясничать.
Володька парень задиристый, но не обидчивый, так он сам о себе говорит. Голова у него темная и круглая, как футбольный мяч. Нос курнос, да перебит. Когда-то занимался боксом, а теперь только расплющенное переносье да традиционная боксерская челка остались на память. Сам низкорослый, на людей смотрит насупя бровь, так что морщины сбегаются к межбровью. Похож он на бодливого теленка. Где какая потасовка — норовит встрять, кого-нибудь «на кумпол взять» или в зубы «тычка дать».
В Пояркове Володька первым же вечером увел с танцев из-под носа у жениха девчонку. На обратном пути, как он сам выразился, ему «фотокарточку поцарапали». Впрок, видно: на следующий день провожал другую.
— Вы! — кричит Кержов. — Седьмое-то на носу! Трахнем телеграмму! Испытание выдержали отлично!! Больше ничего, — забеспокоился он, — а то дай волю — вы на трояк разгонитесь…
— Послать можно, — вяло согласился Горобец.
— А что? — спросил Алик.
— А ничего! Выговор я схватил?
Кержов с улыбочкой успокоил:
— Тю-у-у… Забеспокоился! Еще и лучше — скажут: действительно работали пацаны!..
— Вот черт! — Сергей набрал горсть голышей и бросил в реку. Они упали с дробными всплесками. — Никогда, наверное, не будет такого счастливого времени, как в училище!
— «Счастливого»?! — передразнил Кержов. — Не будет. В самоволку не уйдешь и на камбузе ДП не получишь!
— В училище хорошо было, — вздохнул Сергей. — Мы с Санькой Голубевым запирались после строевой в техкабинете. Викулов нам ключи оставлял. До утра сидели. А раз баллон с газом взорвался, чуть пожар не наделали. Набрались страху… — Сергей укоризненно посмотрел на Кержова: — А тебе камбуз да самоволка… Думаешь, у нас не было? Как начальник училища на выпускном сказал? Настоящая учеба только начинается! Попробуйте выдержать со своим запасом прочности… А я боюсь, сядем мы тут в галошу…
— Кульденко тебе такого не говорил? — серьезно спросил Кержов Алика.
— А что ты на Кульденко! — вспыхнул Сергей. — А дух непримиримости в тебе откуда, с неба свалился?!
— А-а, да! — вставил Алик. — За правду ты научился драться?
— Наплевать мне!.. Непримиримость, товарищество, братство… Вы мне еще моральный кодекс прочитайте! Живу — и точка!
— Да не живешь ты, — нахмурился Сергей. — Ищешь, где приткнуться…
— Ну, Горобец, если ты такой умный, скажи лучше, сколько нас было на первом курсе? Сорок, сорок гавриков! А кончили? Двадцать, наполовину меньше!
— Не двадцать, а двадцать один.
— Подумаешь…
— Зато восемнадцать, — сказал Алик, — вот такого дурака из огня, из воды тащить будут.
— Свет не без дураков, — осклабился Кержов, — а кто же два отщепенца?!
— Мы!.. — Алик чуть заметно подмигнул Сергею: — Возьмем? За руки, за ноги — обмоем его светлую душу?!
— Ну ладно, ладно… Кончайте! — забрыкался Володька. — Ослы, шуток не понимаете…
Они сходили на почту, отправили в училище телеграмму. Горобец хотел приписать, что через два года они обязательно приедут на встречу выпускников, но Алик усомнился в этом.
— Тут два года не вытянешь… — сказал он. — Сдается, хотят нас выкурить. Надо бы нам штыки наточить!
— Или лыжи навострить? Ха-ха! Не паникуй, художник! Скажи лучше, как Седьмое отмстим? Надоело: то о железках, то о выговорах… Чего молчишь? А ты, Серега?!
— Тут не Горький.
— Динка не намекала тебе? Рублей бы по десять — пятнадцать с носа, и точка! Алик, ты согласен?
— Спрошу, — пообещал Сергей. Он торопился на совещание у начальника пристани.
Синько и Кержов приехали перед открытием навигации. Ростом один из них пониже Сергея, глазами нагловат, одет в короткое зеленое пальто с красным шарфом. Это, конечно, Кержов. На Поярково он смотрел презрительно, нижняя губа, пухлая от недовольства, все время отвисала в усмешке. Алик держался скромнее. Его тощая длинная фигура была словно тенью Сергея. Синие, как у девочки, глаза смотрели на встречных пристально, с какой-то загадочной полуулыбкой, будто про каждого Алик знал что-то особенное.
В магазине Володька Кержов показал на Дину пальцем, ухмыляясь, спросил Горобца:
— Это тоже достопримечательность?!
Сергей дернул его за рукав. Володька повернул голову и, догадавшись, заржал на весь магазин:
— Ага! Тут нечисто! С ходу разоблачу…
Алик не обращал внимания на друзей. Среди ярких игрушек из стекла и пластмассы он видел только смятенную Дину. Улыбка и суровость словно боролись на ее лице. Девушка то порывалась что-то сказать, то опускала голову, продолжая вытирать марлей стекло витрины. Брови ее вздрагивали, изо всех сил она старалась остаться спокойной.
Алик в тот день все зазывал Володьку и Сергея в магазин, но друзья отнекивались. А вечером все трое встретились с Диной в клубе. Володька принес пластинки с «модерной» музыкой и горделиво рассказывал девчонкам, с которыми уже успел познакомиться:
— Мне их в Москве на черном рынке сплавили. — Пальцами показывал — «за бутылку»: — Гроши остались лишние, все равно я бы их пропил, а то — вещь!
Он сам поставил первую пластинку на проигрыватель. Это оказались не «буги», а старомодный вальс. Снять бы — вальсы предрассудок, но друзья уже танцуют — чего не сделаешь ради них! — и побежал по залу выбирать партнершу.
«Колготной какой-то, как юла!» — оценили Кержова поярковские девчата за суетливость, а танцевали с ним охотно.
Сергей пригласил Дину на вальс. Она решила, что это шутка, и пошла, смеясь. Вел он легко, уверенно, глаза же его смеялись, и Дина поняла, что в тот первоапрельский вечер он обманул ее. Она зарделась, чуть не сбилась с такта, но вовремя взяла себя в руки. Голову чуть склонила набок, улыбнулась. Так, она думала, вальсирующая пара будет привлекательнее. Она ожидала, что Сергей извинится, но он смотрел на ее смуглые полуоткрытые плечи, улыбался… молчал.
— Ладно, ладно, — сказала она, скрывая обиду и лукавя, — когда-нибудь и я тебе… — И грозила пальцем.
В этот вечер он проводил ее до калитки.
— Постоим?
— Постой! — засмеялась она и побежала на крыльцо. — Ну, хоть спокойной ночи!
— Ладно, спокойной! — ответила Дина и ушла.
…Сергей долго бродил по улицам, освещенным редкими фонарями, надеясь встретить друзей, но ему не везло. Алик давно спал, а Володька бродил где-то по окраинным улицам, отыскивая дорогу к дому, в котором он стал на квартиру…
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Планерные совещания Подложный проводит ежедневно. К двум часам приходят в его кабинет начальники служб, капитаны и механики из затона, диспетчеры. Из окон виден Амур, глухая стена завешена картой речных путей СССР — она придает кабинету строгость, а начальнику — деловитость. Подложный сидит за коричневым столом, под тяжестью которого две массивные тумбы раскорячились прямо-таки с медвежьей неуклюжестью. На столе черный телефон с белой трубкой, единственной на весь район.
Подложный не курит, но для высоких гостей держит на столе пепельницу — керамический кирпично-красный лапоть. Бывает, во время спора кто-нибудь из подчиненных заскребет спичкой по коробку, и Подложный медленно скажет ровным, точно с магнитофонной пленки голосом: «У нас не ку-рят!»
На тумбочке, сбоку от начальника, как и полагается хорошему начальнику, — сейф с печатью, на сейфе маленький вентилятор и блестящие никелированные спортивные кубки из магазина. Впритык к столу-медведю стоит маленький тонконогий стол, почти совсем убогий. Хорошо еще, что убожество его закрыто скромной голубенькой скатертью, правда, заляпанной чернильными кляксами. На этой скатерти с кляксами лежит, как большая луна среди звезд, только не круглая, а четырехугольная, пухлая оранжевая тетрадка. В ней — докладные, объяснительные, рапорты и чуть ли не стенографические записи всех выступлений. Все хлам, какой с улыбкой называют пристанские «деловыми бумагами»…
Почти все уже собрались, когда показался Бобков. Косолапистая походка, вечно измятые, жеваные брюки и китель с подвернутыми рукавами подчеркивали его простецкий характер. Бочком, бочком, плутовато щурясь, направился он не на свое место за маленьким столом наискосок от Подложного, а в угол, к окну, где сидел начальник участка Черемизин.
— Двинься, Пал Иваныч! Ну двинься, я те скажу что…
Черемизин один занимал два стула, подвинулся на третий, уступил краешек от стенки Бобкову. И, догадываясь, что Бобков сел к нему неспроста, Черемизин поинтересовался:
— Ты что нынче веселый? Уж не выиграл ли в лотерею?!
Бобков колебался всего какую-то долю секунды: говорить или не говорить? Потом вздохнул:
— Да-а, чуть «Москвич» не выгорел! По таблице восьмерка, а у меня тройка на конце серии, а номер сошелся.
— Да ты бы подвел хвостики!
— Я подвел.
— Ну и?..
— Послал Любку с билетом в кассу. Чуть ее там не арестовали. Да баба моя, она там кассиршей работает, подпись мою узнала на билете. Рубль дала, да еще погрозилась!..
— Ох и брехать ты здоров! — смеется Черемизин. — Она ж тебе и рубля не дала. Она Любке троячку сунула, чтобы та хлеба купила тебе сухари сушить!
— Да ну!.. — возражает неуверенно Бобков.
— Что «да ну»?.. А за шкафом у тебя мешок с чем?
— Это я велел взять — корове подмешивать. Скоро телиться будет.
— И что у тебя за корова, два раза в год телится?!
— Ой, я и забыл…
Здоровяк Черемизин, кажется, больше всего на свете любит похохотать. Смотришь на его добродушное лицо, большеглазое и густобровое, похожее на ковригу румяного сдобного хлеба, и думаешь: как же это сумели люди такого детину на чистом смехе замесить? Другой-то человек, поглядишь, пигалица, и на наперсток в нем смеха нет, одна слизь сочится…
— Ну ладно, хватит, — неловко улыбаясь, просит Бобков. И чтобы Черемизин поскорее кончил издеваться над ним, Бобков торопливо сует ему в руки лист бумаги: — Ты вот скажи лучше, это тебе нравится, а? Как?!
Подложный уже постучал линейкой по столу, призывая к тишине. Черемизин смотрит, что ему всунул Бобков, а главный инженер шепчет громко, для всех:
— Пал Ваныч, передай Константину Николаевичу… Как я его?! — И весь он уже — нетерпение: ерзает, попискивает, предвкушая удовольствие. Еще бы! Такую штуку выкинул!..
Черемизин разглядывает картинку и, загораживая рот ладонью, рыкает смехом. Привстают соседи Павла Ивановича, вытягивают шеи и, взглянув на карикатуру, тоже смеются. Бобков закинул ногу на ногу, ладонь на колено — барабанит пальцами. Физиономия сияет, как раскаленная печка. Черемизин пускает рисунок по рукам:
— Нет, вы посмотрите, Константин Николаевич, до чего схоже!.. А он еще говорит, что не сумел тройку на восьмерку подвесть! — И своей разлапистой клешней шлепает Бобкова по колену, нога соскальзывает, и Бобков опять ерзает, потеряв позу. — Ублажил так ублажил! — грохочет на весь кабинет Черемизин. — С лотереей не вышло, так он вот что отмочил! Хоть раз за всю жизнь…
Подложный достал было из стола футляр с очками, а как взял в руки картинку, так и без очков разобрал, что к чему. Глазам своим не поверил — еще раз глянул, потом только засопел, засопел, локти на стол, большими пальцами захватил нос и к окну отвернулся. Черемизин все еще успокоиться не мог, пока на него Бобков не цыкнул. Стало тихо.
— Николай Васильевич, что же вы молчите? — спросил Подложный. — Объясните! Я, по-вашему, на сыча похож?
Бобков не знал: то ли ему сидеть, то ли встать. Он порывался вскочить, а Черемизин положил свою руку ему на колено и сидел как ни в чем не бывало, не давая Бобкову подняться. Тот проканючил с места:
— Ну, Константин Николаевич, это же… шарж.
— А вам больше заниматься нечем? Так-так…
Подложный наконец отвернулся от окна, посмотрел на Бобкова (тот уже и дергаться перестал) и повысил голос:
— Хоть бы пристань выручили: плакаты по технике безопасности некому оформлять. А, Николай Васильевич?!
Бобков вырвался из лап Черемизина, вскочил. А тот дергал его за полу кителя и показывал большой палец — дескать, во! Картиночка что надо!
— Так, Константин Николаевич, — с хрипом, взахлеб торопился Бобков, — вы ж знаете, что я не то что рисовать, а пишу-то как курица лапой! Мой Женька первоклашка, а корову лучше меня нарисует. Я и не думал, что так получится. Я, я…
Подложный ободряюще покачал головой. Он взял рисунок за уголок и поднял над столом, будто прикидывая, сколько весит. Весило достаточно, потому что лицо Подложного говорило: что вы, Бобков, рассказываете, когда факт — вот он, налицо?!
— Да вы не догадываетесь?! — изумился главный инженер. — Из наших салажат кто-нибудь схимичил! Валялась у меня в кабинете, и я решил показать. Синько, больше кому? Он все чертежи рожицами запачкал.
Черемизин опять хохотнул.
— Так это не твоя мазня? — спросил он. — Везет тебе, Бобков! Да тут все свои, признавайся, хоть раз грех на душу не бери. Ведь это ты же, да?! Твой почерк, сразу видать…
Тут хлопнула дверь, вбежал запыхавшийся Горобец. Все повернулись к нему, а Бобков тем временем улизнул от Павла Ивановича на свое место.
— Разрешите?! — спросил Сергей и извинился за опоздание, но по ухмылочкам, по взглядам собравшихся понял, что без него что-то произошло.
Бочкарев, который всегда вел записи в «амбарной» книге, наклонился к Подложному и потянулся за рисунком:
— Что, Константин Николаевич, вклеим в сегодняшнее заседание?
— Нет!
Подложный спрятал бумагу в стол.
— А может, он в нерабочее время, почем я знаю! — все еще возмущенно оправдывался Бобков, но Константин Николаевич не смотрел на него. Он кивнул Бочкареву:
— Запишите Горобцу, под личную ответственность: седьмого числа обеспечить явку личного состава мастерской на демонстрацию.
И уже Сергею:
— Бобков проверит.
Сергей достал блокнот, сказал:
— Ладно, я… законспектирую…
А сам думает о Подложном: «Моргун!..» Вот сидит в синем сукне — пуговицы блестят, из рукавов торчит тельняшка. Приземист, крепок — будь здоров! А наодеколоненная голова с плешью — как сизый голыш, кажется, срослась с плечами. Обычно Подложный ставит локти перед собой, ладони складывает вместе и закрывает рот и подбородок. Торчит между пальцами острый нос, и быстрые, луженные оловом глазки следят за каждым. Не глазки, думает Сергей, а стальные шарики из подшипника. Говорящий делает паузу, а Подложный хлоп — моргнул, потом хлоп еще, хлоп — опять моргнул, и кадык ныряет под воротник кителя, точно поплавок. Можно подумать, что так Подложный проглатывает чужие слова.
Скучно Горобцу… Вон Черемизин перечисляет по своему кондуиту, чем занимаются рабочие на участке. Потом с Костиных слов запишет им задание на завтра. Такая участь ждет и Горобца, и других командиров производства. И так каждый день…
— Все, товарищи, — говорит наконец Подложный. — Есть вопросы?
Горобец поднялся:
— У меня есть, Константин Николаевич. Зачем мы без толку гробим время? Минут бы двадцать поговорить о делах, и хватит! А то как день — так два-три часа…
Каков Горобец-то?! Замахнулся на систему!.. Обиделся Подложный. Думал, что Горобец непричастен к карикатурам, а теперь ему кажется, что это выдумка не одного Синько.
— Все у вас? — моргнул начальник.
Сергей пожал плечами.
Подложный подумал немного и согласился:
— Не возражаю, Горобец. Вы можете заходить и один раз в неделю.
Сергей смутился, покраснел, вздохнув громко, пошел уже к двери — что на такой ответ скажешь? Но он нашелся:
— Разрешите самому выбирать такой день?! Или пусть Люба предупреждает, когда я буду особенно нужен.
— Непременно, Сергей Никандрович! — убедительно, чуть не улыбаясь, подтвердил Подложный. — Надеюсь, товарищи, больше ни у кого ничего нет.
После планерки Бочкарев догнал Сергея в коридоре. Впопыхах задел головой лампочку, ощерился в улыбке и хрюкнул в самое ухо:
— Как тебя Костя хряпнул, а?! — И запузырился смехом. — Он таких, знаешь, где видал?! Гони скорей заявление, пока он тебе по собственному желанию подпишет.
— По своему? — спросил Сергей, но Бочкарев не понял…
— А то по чьему же?!
Сергей круто повернулся, загораживая Бочкареву дорогу. Тому показалось сразу, что Горобец взъярен, и он попятился, отмахиваясь от Сергея:
— Шучу, шучу. Он, я и забылся, к главному забежать надо…
Сергей облегченно вздохнул и вышел из конторы. На улице Павел Иванович, надевая на руки и хлопая одна об одну варежками, улыбнулся Сергею.
— Ну и ну! — покачал головой, точно он и радовался за Горобца, и удивлялся одновременно.
— Павел Иванович, на следующей планерке и вы можете! Цыплят все равно не высидишь.
— Ха-ха! Зато «рябчика» можно! Ну, пойдем! Может, и попробую — чем черт не шутит?!
Они вышли за ворота, говоря о том о сем, но у Сергея было свое на уме:
— Павел Иванович, ты Подложного хорошо, давно знаешь. Скажи: после строгача следующая мера — увольнение?
— А-а, — протянул Черемизин, — ясно, какая тебя собака укусила! Если б после каждого строгача был расстрел, нас бы тут давно никого не осталось. У меня как-то сразу пять «лещей» было. А ты: караул?!
— Нет, справки навожу. Неприятно, под праздник такой фитиль. Алик говорит, это чтобы премия по итээровскому фонду больше была?
— Премия премией, но Подложный смотрит дальше. Тут моральный фактор важен. За работу в праздники люди по двойному тарифу получают. Выговор тоже как бы двойным получается.
— Умгу, похоже.
— Ты не тужи! Остерегайся «оглобли». У него язык без замка, зато уши как локаторы!
— Понимаю, Павел Иванович. До свидания?!
— До свидания, а сказал ты правильно! Куда к лешему! Планерка, а на участке самотек. Колосов бы уцепился за твое предложение. Ты как подслушал: он перед больницей все талдычил Косте про это самое…
На перекрестке улиц, у аптеки, они пожали друг другу руки.
Сергей и раньше примечал, как просто Черемизин глядит на жизнь. Слона из мухи не делает, черное за белое не выдает. Как-то, после приезда Горобца, рабочие разделывали на льду очередную баржу. Потрошили ее, как тушу поросенка, и вздыхали: «Зазря погубили судно».
— Чего зазря, — возразил кто-то, — лесоматериала под рукой нет, а погляди, какой особнячок отгрохали Косте из такой ошвы!..
Слово за слово, как зуб за зуб, и перемыли тут все косточки Подложному. У него не один особняк, а и персональный колодец во дворе, и забор, как Великая китайская стена. Что ему — теперь за удобствами гонится: прилаживает на веранде помпу с насосом, краники, вентиля.
— Вот, Сергей, — шутили рабочие, — ты парень грамотный, пойдешь теперь по начальникам — учись по людям жить.
— Ладно, поучусь, — смеялся Сергей. — Где живет-то? Схожу посмотрю!
Проходил мимо Черемизин, остановился.
— Костя? Ты его имеешь в виду? — спросил он Горобца. — Пройдись из конца в конец по Амурской — приглянется какой домик — стучи! Только штаны береги, когда драпать будешь!
Посмеялся Павел Иванович, позвал зачем-то Сергея с собой и сказал всерьез:
— Парень ты молодой, рабочие верно заметили. Над начальством они мастера подтрунивать. Соображай только, где ругают, за что ругают, а где попусту языками звякают. Особняк Подложного за себя скажет, тут небольшая арифметика нужна. А вот что Костя в людях разбирается, руководить умеет — в это пальцем не ткнешь.
Не поговори с ним Черемизин — и не подумал бы Сергей искать Амурскую улицу, а тут выбрал время — пошел, убедился.
Дом Константина Николаевича издали привлекал белой оцинкованной крышей. Обшитый тесом и крашенный в голубое, дом смотрел четверкой высоких окон на улицу. Палисад перед окнами огорожен штакетником, а вся усадьба с садом в глубине обнесена забором, козырек которого не достанешь и вытянутой рукой. Со двора чуть ли не выше трубы нацелился в небо журавель колодца. И было Сергею непонятно, зачем Косте колодец, зачем журавель, когда по соседству, в двух шагах от дома, колодцы с воротами. Даже хилая бабка легко вертит ручку — цепь позванивала, и ведро поднималось, как перышко.
…А Черемизин нравился Сергею. Сила в нем чувствовалась не только по бицепсам, по ребрам. Эта сила еще полсилы. Силен ли характер?.. Видно — да! Не то не потерпел бы его смеха главный инженер Бобков, да и Подложный давно бы усмотрел, что Павел Иванович распоряжения его принимает молча, спорит редко, а на участке все делает по-своему.
Павел Иванович коренной амурец. А в родных краях легко дышится. Было время — скитался и он по свету, а вернулся домой — пошел на пристань механизатором, хоть к тому времени и речное училище кончил. Бригадиром, мастером, сменным техником — все работы перепробовал, пока начальником участка стал. С механизаторами он ладит — и непонятно как: за дело так отругает, как они от родного отца не потерпели бы, а его слушают.
Синько и Кержова Черемизин взял к себе на участок, хотя Подложный и говорил, что ему Горобца с Бочкаревым хватит. А Бочкарева Черемизин как раз и не ценил. Тот это чувствовал, рад бы и уйти от беды, да подходящего места нет.
…Во второе дежурство Кержов перетягивал транспортерную ленту и незакрепленный конец утопил в Амуре. На участке это ЧП. Стыдно и бригадиру, а Володьке и подавно. Павел Иванович посмотрел на них, усмехнулся:
— Ну, техник, снимай штаны. Вытащишь лепту — молодец, а не вытащишь — выговор объявлю, за простой вычту.
— Вычитайте, вычитайте, что я, виноват, что ли, лента сама съехала… — забубнил Володька и пошел к привальному брусу, расстегивая ремень.
И Бочкарев тут как тут:
— Володь, давай штаны подержу! Нырять-то умеешь? А то тюкнешься и…
Он шутил, но, конечно, не без дальнего прицела.
— Нет-нет, Кержов, — уверял он, — какой из тебя техник? Спроси Павла Ивановича, он хоть раз оголял транспортер? Ни разу! Он сперва головой подумает. Вот его народ и уважает! Правильно я сказал, Павел Иванович?!
— Правильно, за эту ленту не с Кержова, а с тебя штаны снять. В другой раз сниму! Ты тут крутился, а допустил… Не с краю ли хата?
— Не-ет…
— То-то! Тяни с Кержовым ленту.
…Идет Сергей, задумался и чуть не своротил головой столб — километровый указатель на околице. Порядочный бы рог на лоб посадил, если бы не остановился вовремя.
Эх, размечтался, Серега!..
Вот Колесов — трудно живет. А поставил на уме — честным быть и шагает. Ему подножки, ямы и шлагбаумы на дороге, а он с пути не воротит. Кто перед людьми виноват, тот на него злится. Подложный как-то уволил товарного кассира за то, что она отказалась оформлять груз на судно задним числом. Приказ Костя «оформил» по закону, ни один суд не подкопается. А Колесов сказал ему: «Не мудри. Ей за наши ошибки не страдать. Восстанавливай!» Подложный туда-сюда и на попятную. От мира бумажками не укроешься. Правда, потом Костя в райком бегал: уймите, мешает, указания игнорирует. Пошумел немного, успокоился. Если бы Колесов теперь не болел, смотришь, планерка повернулась бы по-другому…
Вернулся Горобец к перекрестку, где расстался с Черемизиным. Через дорогу напротив аптека. В ней Люда Малыгина работает. Вспомнил Сергей, что ребята просили договориться с девчонками о празднике, и поднялся на крыльцо.
Рабочий день уже кончился, но дверь еще открыта. Из-за прилавка ему приветливо кивнула заведующая — Капитолина Ефимовна Горкушина, женщина миловидная, загорелая и крепкая, лет тридцати пяти. Развязывая на рукаве тесемки халата, она встряхивала маленькой кучерявой головой, чтобы не мешали глазам волосы. Она словно смущалась, поглядывала на него с лукавостью опытной женщины и чему-то улыбалась. Наконец повесила халат на шкаф, вздохнула. Заглянула в зеркало, поправила воротник, одернула зеленую шерстяную кофту, облегающую полную грудь, и опять вздохнула, опять улыбнулась Сергею:
— Вы что-то сказали? Я не расслышала…
Сергей смутился — он ничего не говорил. А темные глаза заведующей смотрели выжидающе и приветливо. Сергей перевел взгляд на витрину, спросил, почему-то краснея:
— Скажите, а Люда Малыгина здесь еще?
— Ах, Люда… уже ушла, молодой человек, Сережа, кажется?
— Спасибо…
Хорошее было время, вспоминает Сергей, когда они только начинали здесь работать!..
Несколько дней оставалось до навигации. Железнодорожные пути на пристани забиты составами, по обеим сторонам эстакады надрывно урчат бульдозеры, вгрызаясь сверкающими стальными лопатами в уголь и передвигая его к транспортерным питателям. Издали угольные кучи похожи на черные горбы верблюдов, отогревающихся на солнце.
Незаметно для глаза линяли и истаивали заснеженные поля, обнажались коренные пласты оледенелых дорог. Ездить по ним в эту пору опасно. В иных местах дорожный гравий раскиселился в кашу, машины буксовали по нескольку часов, пока не поднималась большая луна и мороз подмащивал путь.
В природе наступило то сомнительное равновесие тишины и спокойствия, что случается чаще всего перед сломом погоды, перед каким-нибудь взрывом в ней. Снег мало-помалу сошел почти весь.
Земля бурела мерзлотой, нигде не проглядывала трава. Потемнели деревья, хотя соки еще не тронулись и почки не набухали. Ветры ушли через границу в сопки, словно не решаясь потревожить Амур. От Пояркова мимо зеленых елок протянулась по льду санная дорога на Полуденный остров. В последние дни ледостава с Полуденного торопливо везли скошенные по лету травы.
Но в зеленовато-лунные ночи, когда пустынная дорога отпугивала своей пепельной чернотой, сквозь тишину пробивались редкие стоны — река словно просыпалась, потягиваясь, как богатырь, пробуя крепость ледовых пут. Чуя это близкое пробуждение, собаки на деревне отзывались протяжным и тоскливым воем. Иногда три всадника в белых тулупах на черных скакунах цоканьем копыт нарушали покой ночи. Как призраки появлялись они на дороге и молча скакали вдоль границы, осаживая беспокойно фыркающих коней, которые чувствовали под собой бьющийся Амур и с храпом задирали морды.
С каждым днем ожидание близкой перемены становилось все нетерпимее. Люди осунулись. Они нервничали, злились по пустякам, переругивались по делу и не делу…
Внезапно все стало меняться. С юго-востока подул влажный низовик. Лед потемнел за ночь. Протоку перед пристанью размыло, а еще через день вода вышла на перекатах и хлынул поток из Завитой — небольшой речки, впадающей в Амур со стороны Шапки-горы.
Ухнуло на Амуре, как будто взорвалась бомба. Накренились и, уже подкошенные, безжизненно упали на лед несколько елок из пограничного контура на льду реки. Остальные нарушили свой порядок, и только кое-где стояли рядком две или три, сиротливо уплывая на одной льдине. Так же вот изломалась и стронулась вместе с елками тропа и наезженная, как асфальт, дорога.
Если глянуть на протоку сверху, покажется, что кто-то перемешал кубики с привычной взгляду картиной и стоит их немного поправить, как все установится по-прежнему… Но у выхода из протоки льдины корежило, они дыбились громадинами, с тяжелым кряхтом шлепались одна на другую и рушили берег. Перемеленные, перекрученные водоворотом, как чудовищной мясорубкой, с клочьями рыжей земли на сверкающих хребтинах уходили в Амур.
На берег неподалеку от пристанского клуба вышли три друга. Ветер трепал их шинели, и они, надвинув на лоб мичманки, стояли тесно, встречая на Дальнем Востоке первый ледоход. Льдины то подныривали, то переваливались на бок, и их остро-зеленые грани, похожие то на моржовые клыки, то на гигантский костяной гребешок, синевато поблескивали на солнце. Изредка льдины расходились, образуя темные крутящиеся розводи. Алик карандашиком колдовал что-то в альбоме. Дыша время от времени на пальцы, он просил ребят загородить его от ветра. Сергей, ежась, переступал возле него, а Кержов не обращал внимания.
— Вот краюшечка прет, — восхищался он, — с футбольное поле, не меньше! Серег, айда погоняем?!
— Пошел! Я тут буду — на воротах.
— Убери кумпол! — злился на Кержова Алик.
— А где мяч, не знаешь, есть в клубе? — спрашивал тот как ни в чем не бывало.
— Вот интересно, — будто самому себе говорил Сергей, — лед, дождь, снег — материя разная, а все из воды.
— Ты только сейчас узнал, да? — ехидничал Володька. — Кругом вода, одна вода! А что?
— Да зачем все? Это же не напрасно: сперва замерзнет — потом оттепель, ледолом…
— Спроси алхимика!
— Ледоход все очищает, — сказал Алик.
— Ох и умны! А землесос на что?
— Землесос на безводье, на гнилую речку ставят. Только хорошая земля сама знает, где водную жилу пустить…
— Ну, — ершится Володька, — Петр Первый тоже не дурак был!
— Он здоровой воде путь давал.
Неохотно ввязывается Алик в болтовню друзей, он сейчас больше думает о Волге, представляя, как разлилась она на плесах низким берегом. Отец небось мазайничал, собирая на дальних островах очумелых зайцев, небось и ружьишком побаловался — принес с перелета пару крякуш. А пацаны сачками, поди, все лиманы обшарили, звякают друг перед другом ведрами — кто больше рыбы поймал, и с ознобу зубами бьют, как горохом сыплют, пока не догадаются костер разжечь… Алик и сам замерз окончательно. Спрятал альбом, побежал отогреваться в столовую, Кержов за ним.
Сергей по обвалу спустился к воде, присел на корточки. Клочья пены обдавали ботинки. Иногда корчилась возле бережка льдина, цепляясь остроигольчатыми присосками за песок. И Сергей невольно пятился.
Дикая сила несла мимо несчетными мерами богатства земли. Потоки ила сделали бы плодородной не одну каменную пустыню; тут тебе и трава с живым корнем, семя — еще не умершее для посева, деревья, пусть и отжившие свой век, но еще годные на постройку. И неужели все это смывалось только затем, чтобы дать в конце концов путь чистой воде?!
Горобец прыгнул на застрявшую у берега льдину, подошел к самой воде. Льдина накренилась. Сергей опустился на колено, черпнул пригоршню мутной, обжигающей, как кипяток, воды и выпил залпом, без передышки, как пил спирт.
На берегу в это время вскрикнула Дина. Она давно стояла у клуба, а когда Синько с Кержовым ушли, хотела подкрасться к Сергею и не успела. Льдину с ним потянуло от берега.
Поняв, что медлить нельзя, Сергей прыгнул. Удачно прыгнул. Посмотрел назад — себе не поверил, — так далеко уже ушла льдина. На ее месте вода отсасывала от берега и с хлюпом заглатывала глинистые валуны… По спине Сергея ползли мурашки.
Подошла Дина — ничего не говорит.
— С весной тебя! — усмехнулся Сергей.
— У нас поверье такое: кто выпьет воды из Амура, куда бы потом ни уезжал, вернется сюда.
— А кто не собирается уезжать?
— Не знаю, — пожала она плечами, — наверное, жить будет хорошо!
Помолчали.
— Мне пора на работу… — сказал Сергей.
— Мне тоже.
Они пошли от Амура в разные стороны, каждый своей дорогой. Дина с досадой думала, что больно лют ветер на Амуре…
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
…Несколько дней и ночей раздавался над округой треск напирающих льдов. Временами шум ледохода становился спокойнее, убаюкивая берега своей песней.
Над Поярковом потянулись перелетными тропами неровные косяки уток, караваны гусей, журавлей. Стаи пролетали хребтину Полуденного острова как погранзаставу, над нашим берегом утки сворачивали в верховья, гуси, весело гогоча, сверкая из вышины неба белыми подкрылками, неслись в сторону Райчихинска, опускаясь на родной земле за первым же холмом на соевое поле. Только журавли проходили село поднебесьем. Услышишь курлыканье, гортанно-трубную перекличку — запрокинешь голову на звук и увидишь, что стая, будто вышитая пунктиром на голубой занавеске неба, унеслась уже далеко вперед, а голоса вот остались, манят тебя в вышину и вдаль.
Пришла весна красная, а люди ходили по пристани немного встревоженные и смущенные. Они улыбались, нетерпеливо потирали руки, точно застоялись без дела, толкались и хлопали друг друга по спинам, хлопали так сильно, как бабы вальками по белью, и в смехе их было что-то от гусиного гогота. Все поглядывали на Амур, разлившийся, как синее море, и со дня на день ждали теплоход.
В диспетчерской шумно от многолюдья. Кроме горобцовских рабочим, сюда заходили люди из ночной и вечерней смены. Они спрашивали огонька, интересовались международными новостями, а разговор непременно сводили к радиограммам с теплохода. Прикидывали скорость судна, спорили, в чью же все-таки смену он придет! Сергей, глядя на выбритых, помолодевших в ожидании работы людей, удивлялся: куда подевались раздраженность, сонливость — все как рукой сняло!
Алику выходить в ночь, но он все утро торчал возле Сергея.
— Дядя Митя здесь, — говорил он, — а день погожий, дома из рук все валится, дрыхнуть неохота.
— Ну, тогда хоть на телефоны отвечай, — сказал Сергей, — а то замучили, как будто тут междугородная.
Даже конторские сидни выползли из своих конур. Какое-то дело нашлось на участке у бухгалтера и экономиста, надумали что-то проверять нормировщики, и все к Сергею:
— Что там, когда теплоход?
— Идет, — небрежно бросал Сергей, делая вид, что занят бумагами.
Шутил, заговорщицки подмигивая, покрикивал на рабочих Черемизин. Начальника пристани тоже, видно, разбирало нетерпение — Подложный часто заходил к Павлу Ивановичу, хотя ведь лучше других знал, когда подойдет теплоход.
Дверь в диспетчерской хлопала, как автомат, глотая и выбрасывая людей. Иногда в нее робко просовывались незнакомые любопытные рожи — молва о том, что теплоход будет нынче, уже разнеслась по Пояркову. И вдруг с вышки над диспетчерской, где у электриков свалено нехитрое осветительное хозяйство, загорланил Кержов:
— Те-пло-хо-од!
— Ур-ра! Тепло-хо-од иде-ет!!
Посыпал на берег из диспетчерской, из траншей пристанской люд. Иные загрохали сапогами по шаткой лестнице на вышку, а Володьку как пружиной сбросило по перилам вниз. Поплевывая на обожженные ладони, он нос к носу столкнулся с Подложным. Тот моргнул по привычке.
— Показался, Константин Николаевич!
— С первого дня небрежничаете? Техника безопасности не бирюльки…
Володька покривлялся вслед Подложному и побежал к причалу. Там столпилось много народу — ожидали, что отсюда теплоход будет хорошо виден.
Горобец и Синько вышли из диспетчерской.
— Слушай, — спросил Алик, — а не нахохмил Володька?
— Не должен, — оглядывая Амур, подумал вслух Сергей. — И пора. Теплоход близко, связь с ним уже прекращена.
Глазами Сергей поискал Реснянского, своего бригадира. Дмитрий Алексеевич, если он на берегу, не поддался бы, конечно, на Володькину провокацию. И уж кто-кто, а Алик должен бы это знать лучше всех — вот уж, наверное, неделю стоит он на квартире у Реснянского. Обо всем этом Сергей подумал торопливо и встревожился, не увидев на причале сутуловатой фигуры старика. Надо посмотреть, решил Горобец, может быть, он в будке управления уже?
— Пошли на причал! — позвал Горобец Алика. — Найдем Дмитрия Алексеевича, у него узнаем лучше, чем у радиста, когда теплоход будет. Старики сейчас такие дошлые пошли… Ветер дунет, а уж они на все лето погоду знают!..
— Да, — согласился Алик, — мой старик больно занятный! Чудак… Ему бы вентеря плести или бока на печке греть, а он на работу бегает! Он, наверное, где-нибудь у сварщиков, от электрода прикуривает! Принципиально спички экономит на работе! А дома последнюю рубаху отдаст, ничего не жалко…
Оба засмеялись причуде Реснянского экономить спички, причуде, которая внушала невольное почтение к старому рабочему и уважение. Ведь не каждому человеку сварщики дадут прикурить от электрода. А Реснянскому дадут всегда, это что-нибудь да значит! Народ трудовой пустого человека уважать не будет, не заставишь!
Друзья пошли было к первому причалу, как сипловато-простуженный басок остановил их:
— Не туда, казачки!
Они оглянулись. Дмитрий Алексеевич сидел на солнышке на завалинке диспетчерской с подветренной стороны и из-под руки щурился на них. Потом послюнявил самокрутку, отряхнул с брючной складки табак.
— Вы, Алик, идите вон куда, — шевельнул Реснянский пшеничной бровью, — на бережок.
— А что так, дядь Мить?
— Вам же теплоход надо?
Ребята улыбнулись.
— Ну вот! — засмеялся и Реснянский, кивая на береговой выступ в стороне от причала. Дескать, о чем и речь!
Судя по таким же пышным, как брови, усам, похожим на пшеничные колосья, опущенным вниз, настроение у Дмитрия Алексеевича было хорошим. Дойдя с техниками до уступа, он сказал:
— Все на причал кинулись: думают, теплоход сверху пойдет, вокруг острова… А вода-то поглянь какая высокая! Нет, «Мечников» снизу в протоку сунется. Капитан — казак! Да на Амуре кто Мостового не знает! Этот зря не станет время тратить. Посуху чуть не на брюхе проползал, а по такой воде и подавно… Да что я, сами увидите!..
Не успели друзья закурить, и впрямь в протоке показался высоко задранный нос теплохода. Сизый дым вываливался из трубы. Теплоход легко, словно катер, небрежно и стремительно шел прямо к причалу.
Алик и Сергей посмотрели друг на друга, хотели что-то сказать, как над берегом, над толпой и дальше — по реке, за село прокатился баритон гудка. На причале по летели шапки, заорали «ура». Белый теплоход, видный теперь всему Пояркову, отзывался пристани долгими торжественными гудками.
Забыв о степенности, с какой они держались последние дни, чтобы казаться механизаторам взрослее и солиднее, чем на самом деле, Сергей и Алик ребячились, подбрасывали мичманки и даже обнялись в порыве какой-то внезапной восторженной нежности.
— Не подведем? — спросил Алик.
— Не подведем! — ответил Сергей, и для обоих эти слова были полны особого смысла.
Стоявший поодаль Бочкарев склонил по-гусачьи набок голову, перетаптывался на месте, восклицал:
— Вот прет так прет! Как торпеда режет!
Разве лишь один Подложный в плаще-реглане сохранял серьезность, необходимую при его должности. Он стоял с Черемизиным на пороге диспетчерской и видом своим будто хотел сказать: «Что за гам?! Решительно никаких причин к тому!..» Черемизин, и тот махал рукой капитану «Мечникова».
Бочкарев, случайно наткнувшись взглядом на Подложного, подумал минуту и завертел головой, заорал:
— Сирену! Сирену давайте!.. Почему электрики не подключили?.. Растяпы! Опозорились на весь бассейн…
Его не слушали. А сирена вдруг завыла. Это Кержов опять забрался на вышку и усердно крутил там рукоятку сирены. Немазаные шестерни так громыхали, что Володька махнул рукой — все равно на «Мечникове» не слышно. Бочкарев подошел к вышке:
— Кержов, я говорил, сирену надо смазать. И мотор надо было подключить.
— Кому говорил, с того и спрашивай. Я тебе не приводной ремень — ручку вертеть не буду!
— Ты техник механизации, смотреть должен!
— А ты кто? — уже с вызовом напирал на Бочкарева Кержов.
— Моя смена завтра, — огрызнулся Бочкарев. — Я сейчас для порядка говорю.
— Поменьше говори… для порядка! — усмехнулся Кержов.
Черемизин посмотрел было на них и отвернулся. Затаив улыбку, он пошел к причалу. Там могла потребоваться его помощь. Судно уже развернулось на рейде и теперь, сбавив ход, приближалось.
Сергею предстояло начинать погрузку, а он не знал, где ему быть сейчас. Решил не отставать от Реснянского. Алик угадал его муки, засмеялся:
— Ты чего такой?
— А что, красный?
— Ну! Как мак!..
— Это я так…
Реснянский подошел к спуску в траншею. Достал из-за голенища свернутые в трубочку рукавицы, потрепал их о перила, выбивая складскую пыль. Строго глянул на молодежь.
— Для кого праздник — смотреть, — сказал, — а для кого — работать. Ты, Алик, поди в сторону. Ты, Сергей Никандрович, побудь на причале, а я в траншею… Ленту так не пускайте, сперва посигнальте. Ребята порядок знают, да чтобы нетерпежа или заминки не было. Ну, — мигнул он и ус пригладил, — держись, казаки!..
Судно швартовалось, и пристанский люд хлынул на палубу. Матросы и механизаторы сбились гурьбой возле рубки. Речники находили знакомых, обнимались, поздравляли друг друга с началом навигации.
Веселая суматоха длилась недолго. Капитан Мостовой знал дело. Свободных от вахты матросов он отпустил на берег, а остальные заняли свои места. Быстро сдвинули крышки с трюмов. Мостовой, высокий и худощавый, поднялся на мостик. Убедившись, что у него все готово к погрузке, капитан снял фуражку с золотым крабом и махнул Павлу Ивановичу и Подложному, которые подошли к кромке причала. «Начнем!» — должно быть, сказал он, слов не было слышно.
— Начинайте! — также деловито скомандовал Подложный Черемизину.
Павел Иванович, взволнованный не меньше других, встретился глазами с Сергеем. Горобец ждал у пульта управления.
Как передавалась от человека к человеку команда, так и внимание собравшихся перемещалось следом за ней. Минуту назад все было просто. Сейчас Сергей почувствовал, что все сосредоточено на нем.
Черемизин кивнул ему и крикнул:
— Давай, Сережа, пускай!
Вот он, его миг! Первое начало и первая ответственность.
В другой раз сам Подложный, Павел Иванович и Реснянский могут дать такую команду. Она будет точно выполнена. Но в день открытия навигации соблюдается обычай, простой и строгий, сложившийся не по приказу, не за день и час, а за долгие годы. В такой день — как в праздник — все делается четко, по порядку.
Сергей думал, что его сегодняшнее дежурство но счастливой случайности совпало с прибытием «Мечникова». Но начальник пристани и Черемизин ожидали теплоход именно сегодня. Знали они и кого поставить дежурным техником в смену. Обычно расторопный и находчивый, Сергей не должен был растеряться на вахте. И только сейчас спохватился Павел Иванович, что не поговорил с Сергеем, Глядишь, парень меньше волновался бы. Впрочем, надо ему когда-то делать первый шаг без оглядки. Окончится смена, тогда видно будет, ошиблись они с Подложным или нет. Константин Николаевич-то отстаивал Бочкарева. Тот, дескать, тертый калач, из любого положения выкрутится…
Сергей одернул и огладил китель, вытирая о сукно потные ладони. Посмотрел назад — из траншеи неторопливо шел бригадир.
— Как в траншее, Дмитрий Алексеевич?
— Порядок! — Реснянский говорил не спеша, громко. — Ребята готовы.
— Хорошо. Дайте сигнал.
Обмахнув усы, Реснянский трижды повернул на щите управления переключатель. Сигналом к работе прозвонил на причале и в траншее звонок.
Заулыбались механизаторы, отлегло сердце Черемизина. Он ободряюще кивнул Сергею, тот тронул за плечо Реснянского и сказал:
— Стрелу, Дмитрий Алексеевич!
Реснянский буркнул под нос что-то вроде «господи, благослови!» и включил пускатель. Пятнадцатиметровая стрела, похожая в профиль на нос щуки, заскрежетала и поползла к теплоходу. Сергей включил главный мотор. Дрогнула транспортерная лента, со свистом провернувшись на барабанах, закрутила ролики, потянула, как на спине, в трюм щепки, куски прошлогоднего угля и всякий хлам, наросший на ней за зиму.
В пульте управления зажглись синие лампочки. Значит, питатели включены. Теперь главное — уголь. Уголь, и только уголь.
— Уголь! Ура-а! — закричали Володька и Алик.
Из траншеи, в туче пыли, отяжелевшая на роликах лента волокла черную гряду. Шел уголь. Он посыпался с транспортера, гулко рокоча по днищу пустого трюма.
…Прошла волна радостного возбуждения. Теплоход встречен, транспортер пущен. Теперь — работа. Такая, чтобы потом всю навигацию по этому дню равняться.
Володька и Алик ушли. Сергей помахал им рукой и направился в траншею.
С улицы, со света, здесь темь, ничего нельзя разобрать. Угольная пыль висит клубами, как дым. Она свербит в носу, липнет к телу, даже в горле першит. Не догадался Сергей прикрыть ладонью рот, и его сразу разобрал чох, потом кашель.
Пообвыкнув в сумраке и отдышавшись, добрался Сергей до первого питателя. Тут все нормально. У второго питателя механизаторы ругались. Раздосадованные, потные, вымазанные углем, они долбили ломиками и кайлами «шапку» — уголь, слежавшийся над люком питателя. Бригадир ломом отжимал крышку. Усы его теперь, как у рака, торчали вверх.
— Дмитрий Алексеевич, почему питатель не на ходу? — построже спросил Сергей и тут же накинулся на чумазого бульдозериста, который равнодушно смотрел из-за спины Реснянского и мял в пальцах папиросу. — А ты, Минович, чего стоишь? Давай наверх! Давно бы расковырял кучу бульдозером, а то чикаетесь тут…
Минович, обычно жадный до разговоров, не отозвался Горобцу.
— Дай-ка прикурить, дядь Мить, — попросил он сдержанно, глуховатым голосом.
Реснянский протянул ему цигарку. Крякнув, перевел он усы, как стрелки, вниз и спросил Горобца:
— О чем хлопочешь, Сергей Никандрович?
— Как? Питатель пустить! Чтоб загрузить «Мечникова» за смену.
— То-то верно, — согласился Реснянский, — загрузить надо. А человек пускай курит. Во-на жизнь какая долгая, наработается еще…
Сергею казалось, что бригадир ошибается.
— По-моему, бульдозером скорее, чем вы так ковыряетесь.
— И что прилип! — Минович чертыхнулся. — Бульдозером, бульдозером. Заладил одну речь! Да ты лбом ткнись, может, поможет, если не расшибешь!..
— Ну?.. — грозно загудел на Миновича Реснянский.
— Что «ну»?! Соображать надо, а потом с советами лезть.
Минович отшвырнул папиросу, сплюнул и молча протиснулся в узком проходе мимо Сергея. Выдернув из рук отдыхавшего механизатора кайло, рьяно взялся рубить угольный пласт над люком.
— Теперь та-ак… — пробасил удовлетворенно Реснянский и объяснил Сергею, что если разгребать «шапку» бульдозером, то придется гору угля передвигать. На это день уйдет, не меньше. А вручную, если как следует «повкалывать», они за час управятся. Дело проверенное — не первый год такое случается.
Вникая в бригадировы слова, Сергей медленно заливался краской. Хорошо еще, что в траншее мглисто, не видит никто. Стоило ему подумать, и сам догадался бы, что Дмитрий Алексеевич прав.
— На будущий год иначе сделаем, — неуверенно предлагает Сергей. — Осенью оставим над питателем бревно потолще, а от него выведем трос с петлей. Как навигация придет — бревно выдернул, и никакой «шапки» не будет.
Дмитрий Алексеевич соображает, теребит ус.
— Слышь, Иван, — зовет он Миновича, — а начальник-то дело говорит. Чего бы самим додуматься, а?!
За работой обида уже сошла с Миновича. Да и идея Горобца ему нравится.
— Пожалуй, что и выйдет, — говорит он, выпрямляясь, обтирая пиджачной полой лицо. — Где раньше был? Теперь не мучились бы…
И, будто извиняясь за свою недавнюю грубость, Минович добавляет погодя:
— Ладно! Ты, Никандрыч, не обижайся. С зимы на лето попробуем, как оно…
— Сейчас дай-ка я разомнусь! — просит Сергей.
Он скидывает китель и остается в тельняшке. Для порядка плюет на ладони, крякает, как это делают бывалые грузчики, и половчее берет кайло. Минович уступает место. Механизаторы теперь закуривают, приглядываясь, как замахивается Горобец, на что способен.
А он почти сразу понял: силы надо экономить. Люк узкий, развернуться для удара негде. Кайло все время на весу, мышцы не отдыхают, и с непривычки сводит лопатки. Бить же надо точно, как по гвоздю, и сильно, чтоб при каждом ударе отваливался уголь.
«Шапка» мало-помалу поддается. Камни стучат по стенкам бункера, густая пыль садится Сергею на лицо, попадает в рот, слюна хрустит на зубах. Сергей отплевывается, но кайлом машет без передыха, зная, что остановиться нельзя, не хватит тогда сил для нового взмаха.
Реснянский передал Миновичу лом, которым подпирал крышку люка, и нагнулся к Сергею:
— Дай-ка!
— Нет, дядь Мить, не устал, еще поколю.
— Кончай рубить! — отстраняя Сергея за плечо, приказывает бригадир. Глядя в люк, он тянет руку назад: — Иван, лом!
Сколько времени прошло, Сергей не знал. Но пока он рубил, механизаторы успели выкурить по папиросе. Боялся Сергей, что они заметят его усталость, засмеют, но им было не до него. Минович кинул бригадиру лом, а сам ухватил крышку руками.
Дмитрий Алексеевич, шевеля бровью, велел отойти всем назад. Высмотрев что-то, Реснянский потрогал уголь острием и вдруг стремительно, как рогатину в медведя, вонзил лом в пласт. Поднатужившись, он с вывертом дернул его назад и отскочил в сторону. Лом ударился о дубовую стойку, зазвенел, а угольная «шапка» рухнула в питатель. Минович уже бросил крышку, но ее выперло, и уголь вываливался на ленту. Транспортер забуксовал.
Теперь пыль зависла стеной — ни зги не видно. Надрывно свистел, стонал барабан, а лента даже не шевелилась, как оборванная. Сергея толкнули, оттерли к крепежной стенке, но он сообразил, что народ кинулся к ленте. Тогда он протянул руки и тоже шагнул вперед. Вот стал с кем-то рядом и по крикам «раз-два, взяли!» догадался, что надо подталкивать ленту.
Сергей налег на край скользкой резины, стал подтаскивать изо всех сил, но лента пружинила под ним, изгибалась, хлопала по роликам, а с места не трогалась. Прошло несколько секунд замешательства, и Сергей почувствовал вдруг, что лента вздрагивает ритмично и понемногу, рывками подается вперед.
— А ну! Е-ще!! — рявкнул над ухом Минович. — А ну! Раз-зом! Ещ-ще р-раз!
Натужно, а потом все тоньше, все слабее заскрипели ролики. Лента сдвинулась и, отдавая запахом жженой резины, пошла, понесла уголь, раструсывая на стороны крупные куски.
Когда вышли из душной траншеи на солнце, Минович, нащипав под ногами горсть зеленой травы и вытирая ею щеки и губы, засмеялся:
— А ты, Никандрыч, руками груженую ленту не толкай больше. Зря все!
— Как зря? — смутился Сергей. — Она пошла…
— Пошла-то пошла! Да ты на холостую ногами становись и прыгай, чтоб сильней провисала. Натяжение создастся, понял?! Барабан и провернет!..
Теперь Сергей понял…
До нынешнего дня он думал, что на пристани все просто. Транспортеры, по училищным представлениям, техника самая примитивная. О каких-то сложностях и хитростях и речи не было. А на практике вот иначе. Приходится даже такие мелочи учитывать. Но ничего, на другой раз умнее будет!..
Погрузку к концу смены все-таки закончили. В диспетчерской Сергей подписал путевые документы. Сменить его пришел Алик. Вместе они вышли на берег, на то место, где утром встретили теплоход.
Матросы уже убрали концы. Нагруженный углем по самую рубку, теплоход сидел на воде ниже ватерлинии. Мостовой и тут схитрил — по полой воде взял груза больше нормы. Нелегко будет другим капитанам угнаться за ним.
Течение незаметно отбивало судно от причальной стенки. Капитан махал рукой механизаторам, собравшимся на причале. Увидав Сергея, Мостовой сложил руки над головой и энергично потряс ими.
— Это тебе капитанское рукопожатие, — сказал Алик.
Сергей улыбнулся в ответ и мичманкой дал отмашку: понял, желаю счастливого плавания.
— Хорошей воды тебе, капитан! — крикнул он.
«Мечников» загудел и пошел на разворот.
— Смотри! — Сергей толкнул Алика. — А я и не заметил сначала… вот разини!
На мачте теплохода рядом с алым государственным флагом бился на ветру треугольный, с белой клинообразной полосой посредине и уже выгоревший от непогоды флаг пароходства, флаг навигации.
— Да, — согласился Алик, — это же наш флаг теперь, и мы под ним ходим.
— Я бы на месте Подложного поставил мачту на пристани. Открыть навигацию — флаг поднять. Здорово!
— Ничего, больше ждали, теперь дождемся!
— Чего? — не понял Сергей.
— Когда ты начальником пристани станешь. Подумаешь, лет десять — пролетят, и не заметишь как. Как не замечаешь ты каравана…
Гуси, на которых указывал Алик, летели над протокой, над «Мечниковым». Косяк выходил будто из-под флагов, открывших портовикам тревожную и радостную пору — навигацию.
Прощальные гудки теплохода уже едва слышатся, а крики гусей все сильнее. Стая эта летела непривычно низко и, должно быть, сразу за Поярковом опустилась на черно-жирные по весне поля.
Вечером пристанские рабочие с семьями собрались в столовой. Ломились от закусок столы, женщины пили красное, мужчины — спирт. От него быстро тяжелели ноги, но голова долго оставалась «при себе». У Сергея было такое ощущение, будто попал он на большой праздник или на свадьбу. Сейчас обязательно запоют песню…
Скоро и правда завели радиолу, народ пошел танцевать. Сергей увидел Дину. Она кружилась с Черемизиным. Поглядев на Сергея, улыбнулась, что-то сказала Павлу Ивановичу, Черемизин показал ей большой палец и вдруг, на середине танца, подошел к Горобцу, вытащил его, не церемонясь, из-за стола:
— Гуляй, именинник! Такие девчата по тебе сохнут, а ты… — Не договорив, махнул рукой.
Позже к Сергею с Диной подошел раскрасневшийся Копишев.
Всунув им рюмки, пока они переглядывались, ничего не понимая, Копишев заорал весело:
— Горько! Горько!
Со смехом пристанские подхватили крик и окружили «молодых». Дина смутилась, юркнула под чью-то руку. Сергея держали цепко, по-мужски. Попробовал он было ускользнуть, да куда там — напрасно. Выпил рюмку, ему дали вторую — за невесту. Выпил и эту, не зная, обижаться ему или посмеяться вместе со всеми. От него наконец отстали, как будто ничего не было, тогда он нашел в раздевалке шинель, оделся и ушел.
Было около десяти вечера. Одиноко светил фонарь над пристанскими воротами, гляделись в Амур с высоты звезды. Тихо. Мороза нет. Слышно, как на деревне скулят собаки. Кажется, эта тишина и покой над землей вечны, кажется, все в мире — так же, как вчера и несколько дней назад… В глубине пристани, над эстакадой, горят прожекторы. Аликова смена выгружает уголь. Завтра с новым теплоходом уголь пойдет вниз, на теплостанции Комсомольска.
Сергей глубоко вздохнул, прислушался. Ему почудился неясный свист. Он оглянулся — никого. Поднял голову — утки. Крыльями они рассекали воздух, и этот звук доносился на землю.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Алик снимал комнату в доме Реснянского. Просторный пятистенок с садом стоял в устье Завитой речки, при ее впадении в Амур. Сад был молодой, и хлопот с ним хватало хозяину круглый год. Дмитрий Алексеевич, посмеиваясь над собой, рассказывал, как долго ходил он Фомой-неверующим: нешто уродятся в Пояркове яблоки или груши?! По первозимку же закаленеют саженцы! Да нашлись строптивцы на деревне: привезли из краевого питомника саженцы, а через пяток лет сады зацвели. Тогда и западские переселенцы ахнули, но уж они ли садов не видели.
— Сомневаться не в чем, — снисходительно пояснял старик, — на Полуденном острове виноград-дичок стеной стоит, кисел, правда, а все ж виноград. Нешто ему тепла меньше яблони надо? Антоновке и штрифелю без ухода не выжить — это да! Наш мороз ее не берет, зато вьюга, паршивка, донимает: как закуролесит, как завинтит ветки, только сучья трещат. Недосмотришь, не откинешь снег — так на корню и задушит…
В усадьбе полно черемухи. По весне дом утопает в белых кострах цветостава. Быстро набиравшая рост, черемуха загораживала окна, непролазной чащей укрывала молодой сад от ветров и сбегала по небольшому угору к быстрым водам Завитинки.
За полночь приходя с вечерней смены, Алик распахивал окно. Упругие пахучие ветки раскачивались в комнате, будто росли на подоконнике. Алик оставался в майке. Сунув за спину подушку, приваливался к спинке высокой деревянной кровати. Ночная прохлада обволакивала усталое тело, но спать не хотелось.
Сигаретный дым перьями тянулся через окно в ночь, которая будто опрокинулась над округой и смешала привычные глазу краски. Амур угадывался через ветви по расплывчатой ряби на черных волнах. От лунного света листья под окном казались коричневатыми, а гроздья цветов фиолетовыми. Если бы не ни с чем не сравнимый черемуховый запах, особенно сильный в ночи и под утро, черемуху можно было принять за сирень.
Алик подвигал этюдник. Положив на влажную бумагу несколько щедрых мазков акварели, он убеждался, что старания его тщетны, а краски безнадежно грязны. Луна у него светила прожектором, мягкие полутона не давались. И горько думалось: никогда не сумеет он передать красками этот покой и гармонию ночи — ее цветов, лунного света и того таинственного подсвечивания, что таится за каждой гроздью черемухи, неуловимым бликом лежит на каждом лепестке.
Синько не выдерживал, вскакивал, и кисть катилась по столу, по газете, оставляя малиновые пятна.
— К черту! Бездарь! Тупица! — орал он на себя и, побушевав так, ставил на этюдник новый лист.
— Нет, — погодя успокаивал он себя, — мне нужны железные нервы, больше ничего.
Вспоминал майора. Единственный человек, у которого, по Аликовым представлениям, нервы железные.
— Что бы вы сказали, майор? Как передать эту картину, чтобы, кроме красок и света, можно было услышать черемушный запах? Его не убивает даже табак!
И сам отвечал, иронизируя:
— Верно, мой молодой друг, надо работать. До пятисот набросков в день! Но сколько же можно, черт подери?!
Он перелистывал альбом. На страницах часто в профиль Дина — все наброски сделаны торопливо, по памяти, но сходство сильное. Как-то альбом попался Кержову. Володька захлопнул его с презрением.
— Думаешь, это серьезно? — спросил он. — О чем ты?!
— Не маленький, сам понимаешь, что значит одна физиономия в таком тираже!
— А-а, ты про это… — Алик забрал альбом и сунул под книги на полку. — У нее, понимаешь, интересная анатомия лица. Трудно поддается.
— Знаем мы эти анатомии. Сперва не поддается, а потом, запоешь: спи, малютка, сладко-сладко и не прыгай из кроватки…
— Ты лучше Сергею скажи. Ему это интереснее!..
— Я тебе говорю. Сергей без нас управится.
— Ладно, Вовик, ты хороший, только не надо воспитывать…
С тех пор Алик не оставлял альбом на виду. Правда, он не стал от этого думать о Дине меньше. Сейчас, поправляя на одном из рисунков губы, он будто слышал ее низкий насмешливый голос. Он тогда выбирал в магазине кисточки, а она смеялась:
— Видно, вы готовые картинки разукрашиваете?!
— Почему?
— Девчата наши обижаются: что бы их нарисовать, а?
— Вас я нарисовал бы…
Она прямо-таки прыснула, закрываясь рукой:
— Я узкоглазая, гуранка. Вон, в «головных уборах» красавицы стоят!
Однажды Алик от кого-то услыхал, что Дина хорошо поет, и позвал Сергея на репетицию в клуб:
— Там спевка — послушаем Дину?
— А ты почем знаешь? — насторожился Сергей. — Или она всех подряд приглашает?!
Алик обиделся немного на Сергея и вместо ответа принялся шарить по карманам, отыскивая спички, которые держал в руке.
— Я устал что-то, — сказал он наконец, — отдохнуть хочу.
— Акклиматизация, наверное, — решил Сергей. — Пойду в клуб один.
Был еще случай. К Алику ввалился Кержов и заорал с порога:
— Альбертино! Я такую шикарную шлюпку достал — закачаешься! Айда паруса ставить.
— Валяй! Ты на моторе мою плоскодонку не обгонишь.
— Ха-ха! Твое корыто от зависти перевернется. — И, убегая через сад к Завитой, послал Алику воздушный поцелуй. — Догоняй скорей, со мной девочки!
Алик достал под крыльцом весла, спустился к реке. Пока отвязывал лодку, Володькина шлюпка была уже на середине реки. В ней пищали девчонки, а незнакомый Алику верзила сидел на веслах. Володька правил рулем. Оглянувшись, Кержов погрозил кулаком:
— Догони свои уши!..
Синько не беспокоился. Если бы на шлюпке гребли двумя парами весел, тогда догнать трудно, а так… Алик схитрил. Он держался у берега, по сильному течению. И когда большая шлюпка вышла на амурскую протоку, Алик поравнялся с ней. Володька с досады вздумал шутить: резко повернул руль, и шлюпка вильнула влево. В носу шлюпки Дина обмахивалась веткой черемухи. Она упала бы в воду, но Алик успел повернуть свою лодку. Он опустил весла, пригнувшись, уперся руками в борт, самортизировал удар. Девчата от испуга побледнели, Володька, хоть и ожидал этого столкновения, покачнулся, а Синько, не долго думая, выхватил у растерянной Дины черемуху.
— Спасибо, — сказал он и оттолкнулся.
Дина просила:
— Нехорошо… Кинь веточку, Алик!
— Алик, отдай! — приказывал Володька. — Она мне ее обещала. Давай сюда!
Синько бросил ветку в корму плоскодонки и, подойдя к шлюпке вплотную, сказал:
— Берите, кто смелый.
Девчата стали поддевать ветку веслом — ничего не получалось. Тогда Дина встала и, одернув подол, перешагнула в Аликову лодку. Теряя равновесие, она ойкнула и присела, чтобы не упасть. Синько в два счета обогнал неповоротливую шлюпку и пошел так ходко, что о погоне нечего было думать.
Они долго молчали.
Алик сосредоточенно рассматривал на ее белом платье янтарного паука. Дина закрыла колени платьем, подняла с днища злополучную ветку. В тот момент, когда Алик открыл было рот, она спросила:
— И куда мы?! — Засмеялась, нюхая ветку. — Сильно пахнет!
Издалека донеслось:
— Ди-ина-а, иди к на-ам!
Алик поднял весла и не узнал своего голоса, так глухо он прозвучал:
— На берег или… в компанию?
— Не хочется туда.
— Уже повяла, — кивнул он на черемуху. — За такую храбрость букета мало.
— А ты на такую ерунду позарился…
— Я так, шутя. На острове местечко знаю — хоть захлебнись черемухой. Пойдем туда?!
Дина пожала плечами.
— Не страшно было? — спросил он, имея в виду, как она перепрыгнула в лодку.
— Там все какие-то бестолковые, шумят. Скучно стало…
— Бывает… — согласился он. — Я другой раз рисую и вижу, вроде как все есть: форма похожа, цвет как настоящий, тени выдержаны, а рисунок кричит. Подумаешь — не вышло, а присмотришься — натура тоже кричит. Только мы привыкли ко всему, часто не замечаем этого…
Они обогнули песчаную косу возле Полуденного острова, и перед ними открылся залив со склоненными к воле черемушинами. Кусты были в безудержно-пьяном цветении, на верхушках даже листвы не видно. Глаза разбегались. Алик не знал, куда причаливать.
Дина неловко повернулась и выронила свою ветку. На зеркале воды трудно было разобрать, которая ветка настоящая, а которая — отражение. Солнце просвечивало кусты, и едва уловимые блики на воде придавали отражению живой вид. Опомнившись, Дина наклонилась за веткой и… зачерпнула воды. Она так долго смеялась над собой, что как будто от звонкого смеха, а не от движения ее руки поплыли круги по тихому сонному заливу…
К пристани они вернулись с вязанкой черемухи. Дина попросила:
— Алик, отнеси черемуху Сергею. Только не говори от кого, ладно?!
— Ладно, отнесу, — ответил он со вздохом, которого она не могла не заметить. — Мне-то можно кисточку или Сережкиного разрешения ждать?
— Можно. Вот эту!
И она подала ему ту увядшую ветвь, которую сорвала в саду старика Реснянского.
…В речное училище Горобца привела… матросская форма. В пятнадцать лет не слишком разбираются, какая разница между моряком и речником, если у того и другого одинаковая форменка с голубым воротником и широкий ремень с якорем на бляхе. Матросы носили еще и бескозырку с лентами, зато речники — мичманку. От этого их форма выглядела ничуть не хуже, даже романтичнее: мальчики в черных фуражках с белыми кантами были похожи на офицеров. Окончив курс, они получали по военкоматскому ведомству лейтенантское звание, а по речному — направление «в гражданку».
На вступительных экзаменах Сергей срезался. Но какой настоящий мореход возвращается в гавань, не достигнув желанного берега? Сергей забрал документы, а домой отправил телеграмму: «Все в порядке, пишите на главпочтамт».
Работал он в порту. На элеваторном участке пыль от зерна пробивалась через спецовку, через марлевую повязку на лице, разъедала потное тело. Ко всему тут было жарко, как в парной. Семь часов каким-то чудом выдерживали одни женщины. Сергей перетягивал и клепал транспортерные ленты, ремонтировал подъемники — терпел этот ад ради общежития, ради крыши над головой.
По осени он написал заявление:
«Поступаю в училище второй раз. Год, который я потерял как курсант, не прошел впустую. В порту я видел тяжелую работу и плохую механизацию. Думаю, что, окончив училище, смогу помочь людям…»
Приемная комиссия снисходительно посмеялась над заявлением. Но доцент Викулов запомнил его фамилию. Горобцу и его сокурснику Голубеву он доверил ключи от техкабинетов.
Друзья не раз открывали «новый свет» и изобретали колесо. Это была тренировка мозга. Дипломы Горобец и Голубев защитили самостоятельным изобретением. Сконструированный ими ограничитель грузоподъемности кранов пустили в производство. Таков был итог юности и первый шаг в самостоятельную жизнь.
Через несколько дней после открытия навигации Сергей зашел к Черемизину. Без Павла Ивановича в его кабинете свободно умещались человек пять-шесть. Они бы рядили свои дела и не смущались ни теснотой кабинета, ни его тонкими стенами и ненадежными окнами. Сухие одинарные рамы и стекла начинали дребезжать, стоило здесь, появиться Черемизину и сказать два-три словечка полным голосом. Когда он садился на высокий табурет, загораживал спиной окно да еще раздвигал по столу широкие, как лопатки, локти, кабинет словно сжимался, в нем становилось трепетно-боязно, неуютно, точно в карточном домике.
Черемизин, угрюмый, сидел над графиком движения теплоходов. Кивком указав Горобцу на скамейку, Павел Иванович широким, с пятак, ногтем подчеркнул нижнюю графу.
— Знаешь, жарко придется тебе в мае. Выпадают белые дни, — он отвернул воротник тенниски, будто самому ему стало жарко. — Да не унывай! Старайся на погрузке не срезаться.
— А что не срезаться, когда сам график под корень режет! С «Мечниковым» мы же хорошо выскочили!
Черемизин поглядел с осуждением.
— Тогда у тебя все на мази было, — сказал он, — а теперь ремонты пойдут, аварии. Ты у меня комбат — думай, как выкручиваться будешь. Перепиши-ка график, внизу вон твои теплоходы отмечены…
Горобцу понравилось такое обращение — комбат. Он улыбнулся и подсунул Черемизину бумажку, полагая, что момент самый подходящий.
— Что за кляуза? — Прочитал, нахмурился, но улыбки все-таки не сдержал. — Думаешь, я после каждого «Мечникова» буду твоей бригаде благодарности выписывать?!
— Не после каждого, — согласился Сергей, — но за того можно. Если бы не раскайлили тогда «шапку», «Мечников» не ушел бы так скоро.
— У меня на навигацию орденов немного. Премии только в ноябре, по общим показателям.
Но авторучку Черемизин достал и, похмыкивая, длинно расписался.
— Учти, авансом.
Скоро пришлось отрабатывать аванс. Из гнилого угла поднялся ветер, нагнал туч, и зашумел проливной дождь. Теплоходы стояли у мертвых причалов: дождь сек пустые палубы, хлестал по кабинам онемевших бульдозеров. Механизаторы чертыхались. Иногда кто-нибудь из бригадиров со зла включал транспортер, но уголь тестом накручивался на барабаны, ленту заносило ветром, точно юбку, железные очистители гнулись и лопались, как нитки. В общем — вынужденный простой. Простояли уже две смены, пришла и Сергеева очередь.
С утреннего разгона у Подложного Черемизин вернулся на участок злой. Откинутый капюшон без толку болтался на плечах и мешал ему. Возле диспетчерской он встретил Горобца и подковырнул его:
— Ну, комбат, что не несешь распоряжений? Подпишу, пожалуй!
— Я, что ли, виноват?
— Собери-ка людей в курилку. Редактор «Амурского водника» лекцию прочитает.
— Люди в курилке! — огрызнулся Сергей и пошел к причалу.
Он стал под навесом, закурил. Стенка дождя не давала вытягиваться воздуху наружу, и дым перьями плавал вокруг Сергея. Нахлобучив поглубже капюшон, Сергей пробежал по скользким доскам в будку управления. Смотровые рамы были опущены, дождь ручьями катился по стеклам.
«Не без пользы водичка, — усмехнулся Сергей, — причалы обмоет…» Но на душе было тоскливо. Небо казалось ему прохудившимся, наверное, раздождило теперь еще дня на два. Зато стекла чистыми станут, а то закоптило углем, хоть сварщику в щиток ставь!
— Чисти, чисти, водолей, грязи нашей не жалей…
Сергей вдруг оторопел от неожиданной мысли. Это же так просто: водой против воды!
Он выскочил из будки и кинулся через ограждения причала на теплоход. На спасательном кругу мелькнуло: «Мечников»! «Везет же мне на него, — подумал Сергей. — Только бы капитан согласился».
Ручка капитанской каюты не поворачивалась. Неужели нету? На всякий случай Сергей забарабанил погромче.
— Да! — рявкнули за дверью. — Кого черт несет?
Сергей не сразу нашелся. Потом крикнул:
— Это с берега, откройте!
В каюте было двое: помощник, который открыл дверь, и сам кэп. Он лежал на койке и жевал помидор.
— Что скажешь, почтенный?
Капитан, кажется, не узнал его. Впрочем, это не важно.
— Пожар! — сказал Сергей с вызовом и посмотрел на обоих. Ни тот, ни другой не шевельнулись.
— Брандспойты работают?!
Капитан и помощник занялись помидорами.
— Что вы как истуканы? — взъярился Сергей. Он пришел со спасительной идеей, а его даже замечать не хотели. — Вы думаете грузиться или будете ждать погоды?!
— Юноша, это хорошо, что вы с характером. Выпейте!
— Старпом, — сказал капитан, — объясни, что уже десять лет, если нас прихватывает в этой дыре ливень, мы стоим на приколе и ждем милости их величеств отца и сына и святого духа.
— Аминь, — грустным басом закончил помощник.
Но что-то насторожило их, и оба смотрели на Сергея с любопытством. Ждали объяснений. Пожалуйста, Горобец готов.
— Вот что, — сказал он спокойно, — мы снимаем очистители, а вы даете матроса и брандспойт. Включаете помпы, струю на барабан, и через семь часов вы уходите в Комсомольск.
Минута молчания.
Капитан встал, накинул на себя китель, прошелся по каюте, резко остановился перед Сергеем:
— Слово?!
— Брандспойты!
Мостовой сдвинул на столе бутылку и помидоры, накрыл все газетой. Повернулся к помощнику, едва заметно повел бровью:
— Аврал! — Чувствовалось, что капитан не любит повторять дважды.
В курилке сонные механизаторы слушали хабаровского лектора. Моложавый еще человек, с отечным лицом, он задержался в Пояркове из-за дождя и теперь рассказывал о далекой и никому не известной здесь Малайзии. Горобец хлопнул дверью, и с улицы пахнуло сырым воздухом, застоявшейся непогодой.
Лектор выжидательно смолк, посмотрел на Сергея, вежливо попросил:
— Прикройте дверь, пожалуйста!
— Подъем! — ответил Сергей. — Выходим работать!
Лениво шевельнулись на скамьях и на полу люди. Один подобрал ноги, другой удивленно протянул: «Чи-во?!» — и положил голову на плечо товарища, третий сплюнул далеко в угол.
Сергей повернулся к лектору, но взгляд его перехватил Черемизин. Павел Иванович сидел, сжав кулаки, должно быть, сам не замечая этого.
— Погрузку начинаем на всех причалах, — твердо сказал Сергей. — Очистители снять! Вместо них… — маленькая пауза, — барабаны очищать судовыми брандспойтами. Павел Иванович, я вот только сомневаюсь, — теперь Сергей заметил, что льдинки в глазах начальника гаснут, — я сомневаюсь, хватит ли нам бульдозеров? Может, вызовем подмогу из других смен?
Предложение Горобца оказалось простым и верным. Поднялся Реснянский — он и слова еще не сказал механизаторам, а они уже посмеивались, встряхивали накидки, подгоняли бульдозеристов.
Неизвестно, понял ли что лектор, но он собирал со стола свои бумажки, газетные вырезки. По полному лицу, по залысинам шли красные пятна.
— Извините за лекцию, но… — еле сдержал Сергей улыбку, развел руками.
Черемизин сунул руки в брюки и по-мальчишески поддернул их. Он не сердился.
— Ничего! Интересная была лекция, не мешало бы повторить так в другой смене… — и непонятно было, иронизировал он или всерьез благодарил лектора.
На главном причале шла погрузка. Вода вырывалась из трубки шланга, словно бритвой счищала барабан. Он сверкал как зеркало, лента шла по нему свободно, ровно. Уголь ручьем тек в трюм.
В пульте управления хохотал в распахнутом капюшоне Мостовой и рассказывал Черемизину:
— Я ему: выпей, потом думать будем. А он мне: не хотите грузиться — проваливайте порожняком! Нет, ты от меня так не отделаешься, — обращается он уже к подошедшему Горобцу. — У меня хоть язва, пить нельзя, а за доброе дело да за твое здоровье переверну стаканчик!..
— Боюсь, не успеем, — хмуро сказал Сергей.
— До конца смены?! — удивился и замахал рукой Мостовой. — Не поверю, не говори.
Черемизин подмигнул:
— Так держать, комбат!
— Есть так держать!
Заранее собрал Сергей путевые документы. Чувствовал, к концу смены некогда будет с ними возиться. В диспетчерской его разыскал бригадир. Промокнул замусоленным платком усы, разгладил. Сергей усмехнулся: усы висели вниз.
— Управимся, Дмитрий Алексеевич?
— Казаки мои нажимают, без обеда…
— Не гудят?
— Понимают… Самим интерес большой.
— Четыре теплохода.
— То-то и оно, что четыре. Сроду такого не было. Тьфу, тьфу, — плюнул он, — не сглазить бы!
— А не подведет нас «балалайка»? Там «Пирогов» стоит?
— «Пирогов».
— Слабо там ленту тянет.
Дмитрий Алексеевич потеребил ус, покашлял. Сергей нахмурился:
— Что кашляешь? Говори!
— Придется… «оглобле» оставлять.
Горобец вспомнил: Алик уехал за кислородом в Райчихинск, смену его ведет Бочкарев. Оставь ему, так он вместо «спасиба» еще посмеется потом…
— Дмитрий Алексеевич, а что, если «Мечникову» не дадим ни грамма лишнего. Сядет на ватерлинию и пусть отваливает. А на его место «Пирогова»?
— Добре, казаче, добре. Тут мы его и «добьем»! Иду «Пирогова» уговаривать.
За полчаса до смены «Мечников», был на рейде. Сергей так и не отведал искристых помидоров из хабаровских теплиц, — впрочем, жалеть об этом было некогда. Погрузка «Пирогова» тоже подходила к концу, но все понимали, что догружать придется второй смене.
Бочкарев ворвался в диспетчерскую, гремя своим проолифенным плащом. Не здороваясь, накинулся на Сергея:
— Не хами, Горобец, останавливай ленты! Зря я, что ли, по такому месиву хлюпал!..
Сергей встал. Все документы были оформлены, он теперь не волновался.
— Время не вышло, — сказал спокойно; посмотрел на часы: — Еще двадцать две минуты.
— Ты инструкцию читал? Зачем ее Костя подписывал?
— Принимай смену на ходу.
— А чихал я на такие фокусы.
Сергей запахнулся в плащ.
— Твое дело!
Он пошел в курилку к рабочим Аликовой смены. Они о чем-то галдели, но при нем затихли.
— Ну, мужики, что делать будем?
— Валяйте в душ, парьтесь! Косточки небось намокли?!
— А может, хватит и того, что вы парились?
— Наша смена сейчас по закону.
— Не спорю, — Сергей сдерживался, — смена ваша, а каша наша.
Бригадир, молодой парень, вернувшийся недавно с флота и еще сейчас не снявший бушлата, подошел к Сергею.
— Давай без жмурок? — спросил он.
— Давай! — согласился Сергей. — Бочкарев хочет сам догрузить теплоход. А нам бы еще минут двадцать пять!
— Раз Бочкарев решил — так и будет! — пробубнил кто-то в углу.
— Подожди, — осадил его бригадир, — дай с одним поговорить.
Сергей повысил голос:
— А вы на нашем месте бросили бы погрузку?!
— Мы по четыре теплохода не отхватываем.
— А мы не оставляем.
Бригадир почесал затылок, поглядел на свою команду.
— Что, ребята, — решил он, — мы не жмоты?! Нос они нам утерли крепко. Пусть либо кончают?! Нам на ихнем месте тоже жалко было б…
С ним затеяли спор. В самый неподходящий момент вошел Бочкарев.
— Волыните? Не натрепались еще? Люди вон вкалывают, а вы подсолнухи грызете. Дома на печке грызть будете, а тут производство. Выметывайси давай!..
Спорить с Бочкаревым бессмысленно. Сергей поглядел на бригадира, спросил его:
— Ну так как? Наша или ваша?
У бригадира руки в карманах, нос, хоть и багровый, поднят гордо:
— Ладно, Горобец, не дури, кончайте сами!
— Что?! Олухи! Вот дурацкая смена! — плюнул Бочкарев. — И на что я с вами связался!.. Кто так делает, нелюди?!
— Добро, — усмехнулся Сергей, — в долгу не останемся.
Через час он сдал смену. Груженые теплоходы в дожде ушли на Комсомольск.
Черемизин, шагавший торопливо и размашисто даже по грязи, нагнал Сергея возле душевой. Он шлепнул его по надутому ветром дождевику, засмеялся:
— Значит, порядок, комбат?
Сергей пожал руку Павла Ивановича, ничего не сказал. Черемизин вдруг вспомнил:
— Чего я спешил-то! Тебя Костя вызывает. В контору поздно, зайдешь к нему домой вечером.
— Зачем, Павел Иванович?
— Я слышал, у него лектор ночует — может, он тебе там про Малайзию доскажет… Любка говорила, что это приказ.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Вот и дом Подложного. Из занавешенных гардинами окон бьет розовый свет, через его широкие лучи дождь сеется как через сито. Сергей повертел щеколду калитки. Залаяла собака, зазвенела по проволоке цепью. «Однако!..» — Сергей решил не торопиться.
— Чапай, на место! На место, Чапай, кому говорю?! — послышался во дворе женский голос.
Это жена Подложного. Она открыла калитку и, кутая плечи и шею шалью, пропустила Сергея. По тому, как она сказала протяжно «заходите…», Сергей почувствовал ее улыбку.
— Пес — злюка. — сказала она, — при нас не тронет.
Подложный в пижаме с закатанными по локоть рукавами встретил Сергея в прихожей. Протянул ему пухленькую ладонь. Рукопожатие его неожиданно оказалось энергичным, но каким-то скользящим, словно рука была натерта тальком.
— Я жду, жду! У нас там звонок, ты не нашел кнопку? На калитке! Придется ввернуть лампочку, чтоб собаку не травили. Проходи, Сергей Никандрович, не стой в двери.
На крашеном полу беленые половики, как песчаные дорожки. В сапожищах тут не потопаешь — надо разуваться…
Екатерина Федоровна пришпилила булавками фартук, извинилась и ушла хлопотать на кухню. Полная, но не тучная, она все время застенчиво улыбалась, ходила плавно и осторожно.
В квартире чувствовался хозяйкин взгляд, ее вкус. На овальном столе до хруста накрахмалена скатерть, чехол дивана вышит желтыми лилиями. На стене несколько ярких вышивок, между ними репродукция «Незнакомки» Крамского. Сергей обратил внимание на зачехленные стулья. Каждому из них, наверное, единожды и навсегда, отведено здесь свое место. Не удивительно, если бы он увидел на них табличку: «Не садиться. Экспонат».
Вполне комфортабельным оказался и кабинет Подложного. Полированный стол со стеклом, венские стулья, диван-кровать, настольная лампа, телефон… Но отчего нигде не видно следов гостя? Сергей вопросительно посмотрел на Подложного:
— Павел Иванович говорил, что у вас из газеты…
— Да-да. Он еле успел на «Пирогова»! Ты его чуть не подвел — спутал все графики. Позвони я на минуту позже, оставаться бы ему тут!
— Я не знал, — польщенный, усмехнулся Сергей, — я тогда пойду!
— Посиди, закусим, тогда и пойдешь.
— Да нет, спасибо.
— Катя уже все приготовила, — сказал он уверенно.
И, точно она и впрямь стояла за дверью, дожидаясь этих слов, Екатерина Федоровна вошла с подносом. Три стопки, вино в графине, помидорный и огуречный салат. «Не там, так тут», — подумал Сергей, вспомнив помидоры Мостового. Пригубив стопку, Екатерина Федоровна ушла.
Подложный вдруг напружинился и прихлопнул на столе муху.
— Ну, — сосредоточенно отрывая добыче голову, сказал он Горобцу, — работал ты хорошо. Знаю.
— Просто повезло!
— Не прибедняйся, Сергей Никандрович. Управлять людьми — большое искусство, древнее и не каждому дано. У нас руководящих кадров много, а вожаков раз-два, и обчелся.
— Это верно, вожачки вместо вожаков не годятся.
— Ты по партийной линии?
— Нет, я беспартийный, — схитрил Горобец и отвернулся от Подложного, словно затем, чтобы посмотреть на книжный шкаф. За стеклом стояло несколько кирпичей Детской энциклопедии и десятка три разномастных книг. На шкафу потемневшая от времени или от пыли модель теплохода. «Как флотский начальник, — подумал Сергей, — так у него или теплоход, или катер. А у врачей небось черепа на шкафах…»
— В наше время руководителю надо быть в партии. Она тебе и щит, она тебе и меч! В молодости вы избалованы, думаете о жизни мало, а надо всерьез. Прибивайся к причалу. Без партии, — он покачал головой, — никуда. Я кое-что повидал, знаю. Издалека многого не видать, Горобец. Только голову не теряй. У меня правило железное: плохой отец, хороший ли, а уж какой есть — поминать добром.
…Не вязался домашний Подложный с тем, какого знал Сергей по пристани. Там он строгий, речь отрывиста, будто одними приказами шпарит, а тут размяк, нежится в кресле, редкие волосы на лоб свесились и блестят, как натертые жиром. «А я, — подумал о себе Сергей с сожалением, — везде одинаковый: и дома, и на работе…»
— Хотел тебе благодарность объявить, — усмехнулся Подложный, — теперь не выйдет.
— Я не так что сделал?
— А как ты думаешь?! Сорвал работу бочкаревской смены, а мы тебя по головке гладить?
— А-а, вы и про это знаете…
— Согласись, что ему обидно?
— Бочкареву? Зато рабочие не обижаются. Они даже помогали нам — товарищеская взаимовыручка.
— В этом твое спасение!
Сергей слегка горячился — коньячная настойка давала себя знать. Глядя соловыми глазами на начальника, думал, что хоть он у него и в гостях, а не даст себя переговорить. Правильно он поступил сегодня — и никаких гвоздей!..
Выпили чаю. Сергей собрался уходить, но Екатерина Федоровна встала раньше его, засуетилась, убирая чашки:
— Не торопитесь, Сергей. А то у нас гости редко, поговорите, не буду мешать вам…
Она опять ушла, и Сергею ничего не оставалось, как улыбнуться Подложному и остаться хоть на немного.
— Вот так! — покачал головой Подложный, словно осуждая жену. — Катя считает, что она всегда права, последнее слово за нею… С умной женщиной одни муки!
Помолчали. Сергею хотелось курить, но Подложный не выносил табачного дыма. Будто не заметив, как Сергей вытащил и опять спрятал сигареты, Подложный спросил:
— Работа тебя устраивает? Замечания есть или так что? Не заедает быт?
— Что вы, Константин Николаевич, как на партийной комиссии спрашиваете…
— Помилуй! Разговор конфиденциальный. Нет же протокола…
— Не устраивает: ни быт, ни работа.
Впервые за вечер Подложный моргнул по-сычиному, как это бывает с ним на планерках.
«Ну, ты сам захотел откровенного разговора, — пьяно ликовал Сергей. — Глотай, коли напросился!..»
— У меня в заботах один план. А когда мыслить? Вот, думаю, почему не поставить на транспортер автоматические весы? — И Сергей стал рассказывать об очередной идее, что пришла ему в голову.
Подложный не перебивал, только щурился, а когда Горобец перевел дух, скептически заметил:
— Да, мало у тебя хозяйственной чуткости.
— Если весы поставить — освободим шесть человек, — не сдавался Сергей. — Выигрыш налицо.
— А какую же тебе работу дать?
— Мне?!
— Интересно знать! Мы хоть не решаем вопрос о переводе, мечтаем, так сказать, но мало ли что!..
Сергей махнул рукой, будто поддался уговорам Подложного, и сказал:
— Ладно, ставьте на место Бобкова!
— Главным инженером?
— А чем плохо? Сделал бы из пристани порт!
— А ты крючок с зазубринкой, — отшутился начальник. — Бобков, если узнает, прохода тебе не даст. Заест. Ну да вот что. — Подложный хлопнул в ладони, а Сергей подумал, уж не муху ли он опять сцапал? Но Константин Николаевич просто подводил черту: — Ты хорошо начал, изучай получше людей. Бочкарев, например, тебе не по нраву, а он дельный мужик, практик. Сойтись вам не мешает.
— Мы и то, — понимающе улыбнулся Сергей, — каждый день сходимся, к вечеру, правда, расходимся…
— На тебя, Сергей, надеюсь. Пароходство план спрашивает — его надо дать! Сумел — молодец. Конечно, легко ничего не дается, но к плану все приложится…
Горобец ушел неожиданно. Почувствовал, что его начинает развозить — встал и сказал:
— Хватит, засиделся я тут…
Проводив его за калитку, Екатерина Федоровна вернулась к мужу. Она села рядом и, положив голову на руку, заглянула ему в глаза:
— Что с тобой? Ты не обидел его?
— Его коньяк сморил.
— Хороший мальчик и решительный. Чапай сбоку кидается, а он — ноль внимания…
Никто лучше Екатерины не знает Подложного. Она видела, что Костя не слушает ее.
— Он тебя обидел? Что ты молчишь?
— Не так он прост, чтоб обижать начальника. Да какой тебе интерес?
— Хорошо, — огорчилась она и не могла этого скрыть, — я буду молчать.
— Ты помнишь, — заговорил он мягче, — был и я когда-то молодым… Пускай не красавцем, но все-таки — без лысины. — Она улыбнулась. — Горобец напомнил мне те времена. Он рвется за железками, а не видит, как липнут к нему люди! Через навигацию можно ставить и главным. Он-то думал, что это шутка!
— Ну и пусти Бобкова в Суражевку, он давно просится.
— Не то!.. Горобец силен. Если он напрет, полетят головки повыше Бобкова! Не то он, правда, наивный, не то притворяется…
— У тебя лирическое настроение?
— Вот-вот!
Подложный замолчал. Он волновался и пожалел, что отвык курить. Сейчас крепкую затяжку — и снова вошел бы в форму.
— Горобец не чувствует, что у него есть недоброжелатели. Понимаешь, уже есть! Значит — идет борец. Черемизин рано или поздно будет за него. Даже на Бочкарева рассчитывать трудно. Этот — мочало, враг своим врагам. Вот тут и понадобится Бобков.
— Послушай, — перебила Екатерина, — зачем ты пророчишь Сергею такое? У тебя тяжелое слово. Дай ему работу, не бойся.
— Он еще молод.
— А нефтебазу помнишь? Сколько было нам?!
Подложный не ответил. Да, ему в свое время повезло. Он и сейчас на лучшем счету в пароходстве. На пристань перешел — вывел ее из прорыва. Теперь ему предлагают Свободный. Но Благовещенск лучше…
Екатерина Федоровна собрала конфетные обертки и уже у двери засмеялась:
— Ничего не понимаю. Теперь за версту буду обходить твоего Горобца. Как будто от него зависит наша судьба.
Подложный сунул руки под мышки и удобнее лег в кресле. Итак, разговор по душам не состоялся. Не похоже, что Горобец это понял. Коньяка выпито немного, но достаточно, чтобы размыть краски! Все же одной фразой Горобец проговорился. Как это: «Вожачки вместо вожаков не годятся!..» И тут же оговорился, что беспартийный, будто начальнику пристани неизвестно. Вот с кем надо бы Колесову работать — с Горобцом, а не с Подложным! И как человек этого не понимает?! Мысли Подложного с Горобца невольно обратились к парторгу пристани, который лежал теперь в больнице и без которого Подложному сейчас было не то чтобы легче, а спокойнее. Но он понимал, что спокойствие это только кажущееся, во всяком случае — временное. Ведь скоро вернется Колесов, снова полетят палки в его, Костину, машину, налаженную с таким трудом! Целыми годами… И неужели не в силах понять Колесов, что нельзя перестроить порядок при нем, при Косте, порядок, который Костя развивал и совершенствовал как систему единовластную, может, в чем и нескладную, но послушную и поворотливую — стоит только слово сказать или пальцем шевельнуть…
Все это придумано историей не зря! Если ты в силах сам и людей за собой вести и хозяйство всесторонне знаешь — веди! Зеленая тебе улица, широкая дорога!..
А не можешь совмещать в едином лице — делись! Вот тебе Горобец — кроме техники, знать ничего не знает, знать ничего не хочет. А на массы — хомут покрепче — да руководи! Вот тебе и вся производственная коллегиальность…
Подложный считал себя выше принципов. В нем еще много сил!.. Придет он завтра в контору, Люба принесет ночные сводки и радиограммы. Потом он вызовет Черемизина, спросит, почему Бочкарев и Кержов работали хуже Горобца, даст всем вздрючку, и тогда они увидят, что он — Подложный, он — начальник пристани, он — всему голова…
Заметку о Горобце первыми прочитали девчонки-сортировщицы на почте. Они знали, что у Сергея с «универмаговской Динкой роман», и потому судачили о нем долго и обстоятельно, будто обсуждали не меньше, чем мировую проблему. Перед обедом почтальонка Клава занесла газету в магазин:
— Дин, с тебя причитается!..
Заметку читали вслух, при покупателях, и держались за животы от смеха над эпитетами, которыми редактор щедро разукрасил «портрет нашего современника».
В конце очерка была приписка от редакции:
«Материал о Сергее Горобце был набран несколько дней назад. Но мы решили приурочить его выход к дню рождения нашего героя. Сегодня Сергею двадцать один год. Мы желаем ему счастья, неутомимых творческих поисков, успехов в труде. Мы желаем ему делать жизнь по Николаю Островскому, по Павке Корчагину!
Пусть девизом его жизни будут слова: «Бороться и искать, не найти, но не сдаваться!»
Почтальонка Клавка, прыщавая и некрасивая девчонка, громко сказала:
— Иду на пристань искать героя твово! Ему тут телеграмма с редакции. Сказать ему что, ай нет?!
— Иди-ка ты!.. — обиделась Дина, правда, не столько на Клаву, сколько на Сергея. Мог бы предупредить, что у него день рождения…
— Подожди, Клавочка! Подожди, не уходи, — остановили ее девчонки. Они пошептались, и не успела недовольная, но любопытная Клава спросить: «Чего еще надумали?» — как те подали ей огромную коробку из-под дамской шляпы, перетянутую голубой лентой.
— Клавочка, передай Сереже: от универмага!
В коробке лежал подарок и записка: «С. Горобцу за образцовое обслуживание маленьких покупателей». Когда Сергей прочитал ее, рассмеялся:
— Не забыли, как медвежатами торговал…
С запиской они прислали ему пластмассового крокодиленка. «Символический подарок, — решил Сергей, — если только девушки знали, что крокодил единственное животное, которое не может пятиться назад».
В магазин к Дине пришел Алик Синько.
— У тебя что, зуб болит? — спросил он.
— Болит, а что?
— Понимаешь, не знаю, что Сережке купить…
— У меня нечего. Спроси у девчат в галантерее, в парфюмерии.
Алик прошел в другие отделы, потерся о прилавки и опять вернулся к ней.
— Не купил, — развел он руками. — Посоветуй на женский вкус.
— Какой тут вкус! Ему бы, по газетке, персональный трактор подарить…
— Ну, а что бы ты ему подарила?
— Нарви цветов полевых. Помнишь, как он черемухе обрадовался?!
— За цветами проводник нужен, один я только курослепов наберу.
— Ну пойдем вместе, — оживилась Дина. — Девчата, вы меня отпустите?
— Зуб лечить? — засмеялись они. — Иди!
День стоял жаркий. Почти невидимые, звенькали высоко жаворонки, над гнездами испуганно пищали сойки, и косой дугой вылетали из-под ног куропатки. Высокие травы хлестали Дину по коленкам, цветов было пропасть, но она все говорила Алику:
— Не те, не эти!..
Они прошли выкошенный пустой аэродром, посмотрели на полосатый мешок без дна, что болтался на конце мачты, как рукав тельняшки, и стали спускаться с холма.
— Вон за теми кустами, — указывала Дина вниз, на нитку черных зарослей, — там и колокольчики, и незабудки, и дикие розы есть.
Но Алик думал не о цветах. Дина, наверное, не догадывается, что нравится не одному Сергею.
— А что такое гуранка? — спросил он ее.
Она остановилась и, откусывая травинку, удивленно уставилась на Алика.
— Это ты про меня, да? — И засмеялась. — Гураны у нас в Чеснокове живут, недалеко отсюда. Люди как люди, ничего особенного, только чай гуранский пьют, жеребчик он называется. Ты не улыбайся, да-да, жеребчик. Накалят докрасна камень — и в холодный чугун. Вода булькает, как жеребец ржет, вот и прозвали…
— А я думал, гуранами диких козлов зовут.
— Зовут, но мы ж не бараны, — вроде обиделась она.
Дина прошла немного вперед и остановилась перед ромашкой на высокой ножке. В желтом сердечке работала пчела. Дина наклонилась к цветку, протянула руку и вдруг опустила ее.
— Нет, ты сам. Не могу я…
— Ты что?
Пчела полетела, белый венчик упруго закачался на ножке.
Они обогнули дикий орешник и в луговине набрали охапку цветов. Среди синих колокольчиков, незабудок и сорванных у дороги васильков особенно красивы две алые кукушки, похожие на тюльпаны. Алик нарочно прошел мимо них, а Дина обозвала его ротозеем и теперь ликовала. Потом они набрели на родничок, напились горстями и наполнили водой терракотовую вазу, которую Дина взяла в магазине.
— Между прочим, — сказала она, — из Свободного вернулась Людка Малыгина, моя подружка. Хочешь, я вас познакомлю? Она с Вадькой дружила, братцем моим, но он не пишет давно.
— Познакомь, — согласился Алик.
На дороге они разулись. Шлепали босыми ногами по пыли и хохотали. Пыль протекала между пальцами, как горячая вода, и щекотала, а Дина еще притопывала, выбивая между пальцами фонтанчики.
— А что такое дороги?! — плутовато подняла она бровь.
Алик пожал плечами. Длинная, раскаленная от зноя дорога была похожа на блеклую выгоревшую ленту. Почти пепельно-серая вблизи, дорога убегала по холму в деревню и там, у околицы, где начиналось гравийное покрытие, становилась вишнево-темной.
— Мне дороги кажутся телом земли, открытым, как лицо и руки у человека. А мы идем по этим рукам. Видишь, какая земля мягкая, теплая, ласковая…
Алик молчит. Он мог бы и сам сказать что-нибудь такое, но он не фантазер…
Горобец их встретил пачкой телеграмм.
— Вот! — смеясь, подкинул он телеграммы, и серые листы зашелестели по комнате. — От семнадцати парней! Девятнадцатый — я, двадцатый и двадцать первый, — посмотрел на Алика, — ты с Володькой.
— А восемнадцатый?
— Нет из Волгограда.
— Мигунов?!
Сергей кивнул.
Алик начал собирать и перечитывать послания, а Сергей взял у Дины цветы. Она хотела сказать ему хорошие слова, но он опередил ее:
— Покорно благодарю вас, мадам! — и жеманно поцеловал ей руку.
Нарочно он это сделал, чтобы позлить ее, или пошутил так неудачно, но Дина обиделась. Правда, обида была не настолько велика, чтобы ответить ему реверансом, и Дина просто ушла. Сергей всплеснул руками — ох-ох! — и закатил глаза.
— Зачем ты так? — спросил Алик.
— Не знаю, — дернул Сергей плечом. — Да, знаешь, у меня в кармане не звенит!
— На что тебе?
— На банкет. Ушли бы в степь. Погода славная, а?!
— Ладно, — согласился Алик, — достану. Ты еще в баню? Девчат предупредил?
— Не-ет…
— Ну ладно, до вечера, на танцплощадке!
Из душа Сергей зашел на смену к Кержову. В диспетчерской они пропустили по маленькой.
А на танцплощадке Алик знакомился с Людой Малыгиной. Она была в сером, дорожного цвета платье, которое, точно колокол, колыхалось среди танцующих пар. Люда кивала знакомым и улыбалась так, будто радость изнутри распирала ее. С локтя языкатым пламенем развевалась желтая косынка.
Из темноты, из-за ограды, наблюдал за Людой и Сергей. После танца девушки подошли к Алику.
— Красиво вы танцевали, Люда, — сказал он.
— Не думаю, — усмехнулась она, все же довольная его похвалой. — Я устала с дороженьки. Появилась как снег на голову, так и растаю…
— А банкет?
Тут Сергей, забыв о своей именинной элегантности, о новом костюме, перемахнул барьер танцверанды, засмеялся.
— Банкет за нами, — сказал он весело, — предлагаю удалиться в степь! Место по вашему вкусу — на выбор…
Ночь была везде одинакова и темна.
— На гору Шапку, — предложила Люда, чувствуя, как что-то в груди у нее замирает от страха. — Немного страшновато, зато интересно!..
— Люд, — дернула подругу за рукав Дина, — нам ли волков бояться? Дома-то?!
— Идем!! — Алик азартно сгреб Сергея за плечи. — Завитинку переплывем на дедовой лодке.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Около полуночи взбалмошная четверка снарядилась в путь. Узкой береговой тропкой шли Сергей и девчата, Синько плыл в лодке. Вынимая перед этим из подкрылечной похоронки весла, он услышал скрип двери и шлепающие шаги Дмитрия Алексеевича.
— Куда, полуночники?! — спросил Реснянский. — Дня мало?
— На Шапку!
— Места вам нет, — прогудел старик, — небось казачонок подбил?
Так пренебрежительно говорил он о Кержове, считая того баламутом, без царя в голове. Ни разу не назвал его — казак, все — казачонок да казачонок.
Алик хотел обождать Кержова, ведь смена его кончается, по теперь раздумал. В лодке одному Алику было томительно-грустно, как в предчувствии беды. Сильная вода тянула утлую посудину вниз, выгребать против течения было трудно. Негромкие голоса Сергея и девушек запутывались в побережных кустах, Алику слышались только обрывки речи. Изредка он окликал их:
— Э-гей! Где вы там, живы?!
— Выдохся? — спрашивал Сергей. — Принимай буксир — девчата пояса свяжут!
Луны нет. По весельным гребкам, похожим на всплески тяжелой рыбы, лодка недалеко. Правда, на крутых излучинах лодка тыкалась носом в берег, но в темноте никто этого не видел, а Алик обиделся бы, если бы подвергли сомнению его лоцманские способности.
Гора Шапка километрах в четырех на запад от Пояркова. Днем она хорошо видна на равнинной степи, даже густой кустарник по-над берегом извилистой Завитинки не прятал ее. Издали гора и впрямь похожа на шапку, брошенную удалым молодцом наземь.
Ходит легенда, что много лет назад пришел в эти края нойон (военачальник). Много войска было с ним. Глянулись раздольные места нойону, и задумал он тут остаться. Под крепость велел в долине Амура и Завитой насыпать холм. Воины будто бы шапками таскали землю. И выросла гора, за ней так и осталось название «Шапка». До сих пор целы на Шапке следы древнего городища, потому верят люди в легенду…
Девушки часто просили Сергея посветить им фонариком дорогу. Лапы тальника стегали по ногам шершавой и холодной росной листвой. Под каблуками осыпалась глина, шуршала по откосу и булькала в воду. Пролетала ночная птица, и застойный воздух свистел под крыльями, будто кнутом кто-то вжикал над головами. Подруги невольно приседали, а Сергей поворачивался к ним и включал фонарик.
— Во, куры на насесте! Алик, забери их, пусть водички похлебают…
Алик отзывался свистом. Теперь он плыл у самого берега, чтобы не пропустить разлапистую коряжину. От нее надо переправляться на тот берег. Но глазастей всех оказалась Дина.
— Все, — крикнула она, — не могу. Да и коряга-то вот, под нами…
Переправились с горем пополам, чуть не перевернув лодку. На правой стороне, в высокой траве, среди троп, выбитых дикими козами, искали тропу к Шапке.
— Вот след, — указал Алик. — Старик мой говорил, озеро возле Шапки есть, рыбное. А вот чешуя, крупная, как гривенник, осыпалась, когда рыбаки домой шли!
Скоро уперлись в гору. Поблукав, набрели на крутой въезд, будто наезженный машинами — со старины еще дорожный след. Наверху выбрали ровный пятачок, выложили на газету припасы. Чтобы не вызеленить травой одежду, Алик припас бумагу. Он налил в стаканы ликер. Ему, как мужчине и другу, поднимать первый тост, а Синько медлил…
Тихо. Ни ветра, ни плеска волн не слыхать, ни привычного сельской ночью крика полуночных петухов, ни собачьего лая. Не видно звезд, но низкое небо угадываешь по тому, что воздух сделался гуще, насытился парами вечерней влаги, и по тому еще, что небо кажется странно потемневшим, чернее самой земли… В такую минуту хочется застыть и не шевелиться: может быть, произойдет чудо.
— Давайте, — сказал Алик, — за дружбу!
Он чокнулся с Сергеем и добавил:
— Чтобы ты жил, человек!
Рассеянный свет фонарика, положенного между банок с консервами, выхватывал из тьмы носатые силуэты. Тени на лицах падали вверх.
— Что же мне сказать вам? — тихо спросил Сергей.
— Читай «Фауста», — пробурчал Алик. — Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой!
Грязная, как прошлогодний лист, ночная бабочка прилетела на свет фонаря и била неровными крыльями. Она распустила веером крылья и замерла так на фонаре, словно пила неяркий свет, как пьют нектар с цветка. Потом, неровно петляя, улетела в темноту.
Сергей достал сигареты, протянул Алику, закурили.
— Да-а… — прошептала Дина. Вытянув ноги и сложив руки на груди, она прижалась головой к плечу подруги. Люда покусывала травинку и молчала.
— Вам невесело? — усмехнулся Сергей. — Слушайте:
…Фонарик стал гаснуть, и Алик предложил разжечь костер. Сергей нехотя повернулся на бок, земля под ним была теплая, он пригрелся и не встал. Люда вскинула голову, усмешливо посмотрела на ребят.
— Джентльмены, а хворост нам таскать?..
— Дружина моя хоробрая, дружина моя верная! — дьяконовым басом загудел Алик. — Осушим чарку за славного землепроходца Василия Пояркова, чьим именем наречено достопочтенное село наше!
И будто не продукция амурского ликероводочного завода, а старинная медовуха запенилась в бокалах, и нестройно грянула над Шапкой про удалого казака песня.
Не дотянув и второго куплета, Алик растолкал Сергея. Изодравшись в кустах, они наломали веток, девчата притащили валежину. Костер разгорелся высоко. Оживились девчата, запели песни про атаманов, про молодую пряху, про то, как не цветут цветы зимою — поливай не поливай… Они вели на двух голосах, и чуткому на слух Алику трудно было сказать, кто поет лучше — Дина или ее подруга.
Люда, словно очнувшись от песни, сказала:
— Слышите, как чутко! И шорохи: тени предков…
— Надо бы позвать их, — усмехнулась Дина, — пусть выпьют.
— А кого?
— Да хоть всех! — легкомысленно разрешила она. Алик поднялся и крикнул в сторону деревни:
— О-го-го-о… Пояр-ко-ов! Где ты-и-и?..
— Во-от я-а… — донеслось из темноты.
Алик повел лопатками и тряхнул головой — так неожиданно и в то же время отчетливо послышался голос. Девчата и Сергей не смеялись, смотрели на Алика.
— Наверное, эхо! — сказал Алик. Крикнул еще раз, но уже негромко: — По-яр-ков, где ты-и?
— Здесь… — ясно донеслось в ответ.
Сергей отошел от кострища и громко спросил:
— Кто тут?!
Тишина.
— Никого, — пожал Сергей плечами и шагнул еще дальше в темноту.
И вдруг:
— Я-а!! — крикнули и захохотали рядом.
Кто-то навалился на Сергея, началась возня. Дина зажмурилась и прижала к лицу ладони. Люда вскочила и стояла у костра, не понимая ничего, не зная, что делать. Она вспомнила про фонарик, нагнулась и бышкнулась лбом с Аликом. Он шарил по газете ладонью и шептал: «Свет, свет включите…»
А Горобец задел призрака по сопатке, и тот завопил Володькиным голосом:
— Серега, дурак набитый, шею своротил…
— Володька, ты? — подоспел Алик. Сергей сказал только: «Ух!..» — и засмеялся:
— Подымайся, дурила! Умней ничего не придумал?
Девчата подвели Володьку к огню и стали охаживать. Кровинку вытерли, винца дали, а сами, хохоча, пересказывали, каждая на свой лад, и страх свой и испуг.
Скоро Володька и сам смеялся, похваляясь храбростью. Еще бы! На одной руке переплыл Завитую, Шапку отыскал да еще подшутил так… За такие приключения синяк не лучшая награда, но достойная мужчины.
Правда, он помалкивал, что от дома Реснянского шел за компанией по пятам. Недаром девчатам все мерещился кто-то сзади. Завитую он еле переплыл. Одежду сложил на корягу и толкал ее перед собой. Коряга неуклюжая, течение сильное, пока справился — отстал от лодки. Хотел «ау» кричать, да на Шапке костер вспыхнул. Подкрасться к огню хитрость невелика, а крикнуть за Пояркова и подавно.
За костром, за выпивкой они разговорились о Василии Пояркове, о том, как жили здесь в старину казаки.
— Мне Дмитрий Алексеевич рассказывал, — говорил Алик, — что дед его пришел сюда с переселенцами из России. Кого тут не было — из подмосковных губерний мужики, с Урала, с Дона. Одна голь перекатная. Кинулись на зеленый клин как на рай, а он хуже каторги оказался. Верно, старожилки?
— Верно, товарищ переселенец! — улыбнулась Люда. — По Амуру военные поселения ставили, из казаков. Пригоняли к ним женщин-арестанток, выстраивали всех в две шеренги — одни по всей форме, другие в отрепьях. Смотрят друг на друга: что дальше будет, ай расстрел? И команда: «Ну, выбирайте жен себе и живите тут семьями…»
Невеселый рассказ получился. Знать, не дождиком — слезами поливалась свободная земля и воля. И куда денешься от милости царской, если даже в этом глухом краю к каждой арестантке приставлен муж с ружьем?!
Только Володькино настроение не испортить сказками. Он, видно, живо представил ту картину и захихикал:
— Так и быть, я за старшину! Становись в шеренги, скомандую!
— Помалкивай, — урезонил Алик, — командовать начнешь — на бобах останешься!
Но Кержов не терялся. Он схватил под руку Дину и повел танцевать. Сергей пригласил Люду, а Алик развел руками. Он взялся было за вилки, чтобы барабанить по стаканам, но Володька вытащил из кармана радиоприемник, объявил, что это подарок Сергею. Пока он ловил «Маяк», Алик сговорился с Диной, и Володька сел на мели.
— Вы смеетесь, — обиделся он, — а у меня про Поярково и про Пояркова стихи есть.
С клочком газеты, в которую была завернута колбаса, он наклонился к огню и прочитал:
Может, и было все когда-нибудь так же, как и у них сейчас? Только ветер сильнее трепал языки пламени, и костры горели высокие, а не хилые, и огненные искры отпугивали волчьи стаи? Может, испуганно ржали кони и рвались с привязи, перекликались встревоженные часовые?
А время шло… И, как у поэта, улетели в небытие долгие годы… Но разве не им, молодым, завещаны эти края?
Ночь перевалилась утренним боком кверху, но рассвет проклевывался еще слабо. Далеко за Амуром вспыхивали зарницы. Они, как перекати-поле, прыгали по небу и скоро приблизились, озаряя Шапку и далеко вокруг нее степь. Ребят насторожил частый, как посыпавшийся горох, стук дождя. Крупные капли летели в Амур, и далеко слышалось мягкое шлепанье по воде. Воздух, до того почти незаметный, недвижный, теперь напружинился, словно наполнился необъяснимой тревогой.
Костер уже не дымил. Зеленые ветки давно сгорели, несколько сучков дышали жаром и обволакивались сизыми дужками пепла. Свет приник к земле. Поджали под себя ноги девчонки. Володька сидел на корточках с ножом и пустым стаканом в руках, Алик повернулся к костру спиной. Сергей лежал на боку, пошевеливая прутом малиновые угли.
Пробежал, едва коснувшись разгоряченных голов, ветер. Пронзительная молния залила белым светом Шапку, далеко вокруг нее бесконечную степь, притихшую и таинственную. Ни одна не мелькнула на ней тень: ни зверя, ни птицы; ни один не раздался над ней голос; чудилось, что даже трава прильнула к земле; только качнулись фигурки людей возле скомканных белых газет и обесцвеченного кострища.
Сергею подумалось, что эта молния, как благовест природы, посвящена ему. Извивающаяся и синяя, распростертая по небу, она похожа на Волгу, которую привычно охватишь взглядом на географической карте вместе с Окой, Камой и десятками мелких речушек.
Гром прогремел. Сильный. Трескучий. Откатившийся далеко-далеко — за Амур и дальше, за сопки.
…Вот и стукнуло ему двадцать один. Треть ли, четверть ли жизни позади, а все будто мала дорога — мала, конечно, бо́льшая еще впереди. Какая? Легкая, трудная ли — кто скажет?! Суждено ли ему сделать что-то великое или имя его угаснет вместе с жизнью в памяти людской, как гаснут земные тени при заходе солнца?
Смешно думать о себе так возвышенно. Добро бы еще полководцем был, первопроходцем земли неведомой, а так — что ты принесешь в наследство человечеству, Сергей Горобец?! Подумай, ты ведь песчинка, а вокруг тебя океан. Можешь ли ты взволновать вселенную, может ли сердце твое рассыпаться искрами — без злобы, без сожаления, только бы другим в радость!
И хочется Сергею сказать самому себе: да! — и трудно, велика сила, велика ответственность в этом слове. Пусть не войдет он в историю, пусть новым городам не носить его имени, пусть памятники не ему! Ведь не вся красота в листве, да и что она значит без корня… Вот молния озарила степь — коротка в вечности ее жизнь, но прекрасна. Так будет жить и он — беря от людей и сторицей воздавая им! На пристани, в порту ли, на заводе ли где — везде, помня: ты — человек — людьми живешь и другие тобой живы.
На рассвете, уже возле дома вылезая из лодки, Алик поскользнулся, и зазвенела разбитая посуда.
— К счастью!.. — сказали ему.
— Умгу, к счастью… Ни одного стакана не осталось. Бабка завтра скажет: или уметывайся, или беги в лавку за посудой!
Володька равнодушно сунул в карманы руки и, горланя: «Ах, ночкой лунного, девчонка юная, из-за тебя погибнет, кажется, студент…» — поплелся походкой пьяного боцмана на свой край, распугивая задремавших к утру собак.
Алик отнес весла и вышел за калитку. Недавний дождь сбил дорожную пыль, вымыл заблестевшие в рассветном глянце окна, в садах очистил листву и напоил прохладой и чистотой воздух. Широкие, как ладони, листья черемух, блестевшие каплями влаги, источали горьковато-сладкий запах. Алик сорвал с ветки зеленую ягоду и бросил на язык. Глядя на Сергея, уходившего в обнимку с подругами, он даже не поморщился от вяжущей горечи черемухи. Горько сделалось ему от досады на себя за неумение свободно разговаривать и ухаживать за девушками, как это могут Володька или Сергей…
У своей калитки Дина сказала:
— Ну вот мы и пришли…
Люда заторопилась, запрещалась, по Сергей удержал ее:
— Так нечестно. Дина теперь дома, а вдруг с тобой что случится? Я же именинник, и я буду виноват… Ну скажи ты ей, Дин!
— Что вы, — запротестовала Люда, — провожайтесь сами, а я добегу.
— Не-ет, — Сергей поймал Люду за рукав и пошел с ней.
— Тут будешь жить? — спросил он.
— Да.
— Ты дружишь с парнем?
— Да.
— По-настоящему, по-хорошему?
— А можно дружить по-плохому?
— Ну, вы… любите друг друга?
— Наверное…
— Ты только не думай, что твоими ответами я буду заполнять анкету. Сама справишься.
— Справлюсь, — ответила она без улыбки.
— Он скоро вернется?
— Да. Года через два.
— Совсем немного. Я подожду.
Она слегка улыбнулась. Но у крыльца руки ему не подала, сказала «до свидания» и ушла.
Хрупкая и какая-то жалкая в мокром платье, она казалась ему очень маленькой. Кольца волос прилипли к румяной щеке, ко лбу. От фонарика, которым Сергей осветил ее, дождевые брызги в волосах радужно засверкали. Люда не заслонила лицо рукой, не отвернулась, словно позволила ему увидеть и запомнить ее именно такой — с поджатыми губами большого рта, острым подбородком и немного вздернутым носом. Глаза ее под спокойными бровями смотрели устало, с грустью, которую Сергей принял за усмешку.
И еще он заметил, что руки ее висели свободно, а пальцы были сжаты в маленькие острые кулачки. «Воинственная», — подумал и хотел спросить, уж не с ним ли она собирается драться, но не успел — услышал «до свидания» и скользящий щелчок дверной задвижки.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Буду вести записки, а то пропаду с тоски.
Завидую я ребятам. Им не хватает времени: встречи устраиваем по дням рождения, как будто дела дружбе помеха. Аликова спешка еще понятна: его Кульденко испортил красками. А Серко торопится куда? На пенсию? Тогда, значит, на персональную.
Вообще-то я дурак, законно! Альбертино на мои издевки ноль внимания. Ведь с чокнутого не спросишь! В училище все в один голос: «Кто? Что? Кержов? Кореш свой в доску! Вольтонутый немного…» А я, что ли, виноват? Я посерьезнее их — вроде и смеюсь со всеми, а сам жду свою волну, не упущу, будьте спокойны, товарищи дорогие.
Серко от меня нос заворачивает, но еще посмотрим, кто впереди будет. Весы изобретает сейчас. Пускай! Они пока не нужны никому. Нечего и мне к этому беспросветному делу липнуть. Но он-то? Мог бы посоветоваться! Но я же не Черемизин. Со мной и говорить не стоит, будто не одно училище кончали. Даже Бобков как-то подходит к нему, спрашивает:
— Сергей Никандрович, ты покажи свои расчеты, посмотрим, обсудим, где неясно…
Сергея скорчило — он и не заикался Бобкову о весах. Смотрю дальше — Горобейчик форс на рожу напускает, усмехается, а Бобков ждет. Тогда Серко говорит:
— Затрудняюсь определить длину окружности барабана…
Ха! Я чуть не обсмеял его. Эту формулу любой фезеушник как таблицу умножения знает. А Бобков-то, Бобков!..
— По формуле, — говорит, — сложно, я дома поищу в справочнике. А ты вот что! Возьми обыкновенную нитку, обмотай вокруг барабана, потом сантиметром измерь, и будет длина окружности.
Где это видано, чтобы инженер длину окружности не знал? Да это лапоть, а не инженер. Я такого и бригадиром не поставлю.
Серко ему:
— Спасибо за консультацию, а сколько катушек надо?
— Одной хватит, в катушке метров сорок!
Ему бы на чин экзамен устроить! Ходит такой вот, огребает кучу денег и думает, что руководит, с советами лезет. Плюнет в душу, а ему ответить не смей!..
Живет не знаниями, а синенькими корочками. Охота ли помнить формулы… Анекдот! Пристанские за глаза так и зовут теперь Бобкова: «Два Пи-Эр». Эх, —
Если порвалась транспортерная лента, ее тут стягивают допотопным способом — талями и веревками. Я говорю:
— Давайте стягивать мотором.
— Мы так не привыкли, — гундосит бригадир.
— Ничего, привыкайте, пока не поздно.
И зачем я сам понесся к мотору? Спутал кнопки и проводил ленту в Амур.
Думал, никто внимания не обратит, ан нет!
Шум, гам поднялся, как будто транспортер в космос улетел. Мне саботаж приписывают…
Вызывает Два Пи-Эр. Физиономия печальная, шея не гнется, будто в нее не кол, а целая свая загнана. Предварительно высморкался и говорит:
— Вот что, Кержов, пиши объяснительную. Так и быть (милость сделал!) — удержим с тебя за ремонт и за простой.
— Сколько? — спрашиваю.
Почесался, потом арифмометр притащил, стал ручку крутить. Долго крутил. Вспотел, но все подсчитал:
— Двадцать два шестьдесят.
Я нарочно карман вывернул — таких денег нету. Вздохнул:
— А вы раздевали транспортер?
— Нет, а что?
— Думаете, легко?
— Для этого каждый, — говорит, — свою голову на плечах носит.
— Да я, — отвечаю, — тоже так думаю. Бумаг никаких писать не буду. Может, поровну должок разделим, а?!
Он, конечно, чуть не взбесился, стал напирать на гражданскую совесть, невоспитанным обозвал, некультурным… А за что, спрашивается? Я же на него не лез первым.
— Разговаривать еще не научился! Тебе такую работу, таких людей доверили, а ты…
Я ничего, стою смирно, жду. Вот он кончил брызгаться, «воспитал», думает, а я опять:
— По одиннадцать тридцать с носа — это нормально. С меня за то, что ленту упустил, — не спорю, факт! А с вас за то что нет на участке механизации для ремонта.
После этого он пожелал уединиться в кабинете.
Если через два года соберемся в училище, минут двадцать попрошу на речь. Сразу все заржут. Скажут: «Кто? Что? Кержов?! Да он двух слов связать не может!»
А я им выдам, как молодые специалисты романтику охмуряют! Ни тебе самостоятельности, ни тебе уважения. Хоть завшивей — прачечной нет, хозяйка бастует, стирать не хочет. Говорит, руки саднит. А самому сколько можно? Я уже не маленький, мне каждый день накрахмаленные воротнички нужны!..
Только бы мне не сорваться, не забросить эти тетради.
Честному человеку на этом свете тоже жить можно. Ни один волос не упадет с умной головы, ни одна полезная мысль не канет в Лету.
А дело было так. С приказом у Два Пи-Эр ничего не вышло: нет объяснительных, нет докладных. Павел Иванович тоже не дурак — писать не стал, — значит, нет и оснований. Тогда Два Пи-Эр вызывает Бочкарева и говорит:
— Хочешь заработать пару червонцев?
— Об чем речь? С удовольствием!
— Не знаю, не знаю, — покачал головой. — Сомневаюсь я, Бочкарев. Деньги под ногами, а нагнуться за ними лень… Знаешь, как упустил Кержов ленту?
— Я ему советовал штаны снять, пока нырять будет…
— А мысль хорошая была, — вздыхает главный. — Дельная. Ты обмозгуй всесторонне и подавай как рацпредложение. А то мне Константин Николаевич говорит, что людей поощрять надо, но не могу же я без соответствующих документов?!
Бочкарев оказался порядочным. Из той двадцатки приносит пятерку мне.
— Это, — говорит, — за то, что ты в Амуре первый купался!
Сначала я хотел поплевать на его бельма и почистить рукавом, как засиженное мухами стекло чистят. Потом раздумал.
— Нет, — отвечаю, — давай торговаться!
Он туда-сюда, заикаться стал. Я очень ласково подержался за лацканы его пиджака — он мне еще пятерку. Тут я ему руку пожал, поблагодарил, пообещал вечером в гости прийти, а с десяткой — к Бобкову.
— Ну, — говорю, — товарищ Два Пи-Эр… — А он не понимает, но разъяснять некогда. — Вы человек семейный, я холостой, молодой… Вот вам десятка! Можете под своей фамилией на механизацию пожертвовать.
У него даже глаза рябыми стали. Я за дверь, и секретарше:
— Люба, Бобков воды просит, срочно!
У Альбертино голова с мякиной. Давно ему говорил, а он не верил. Теперь подтвердилось — влип в Динку. Я молчу, Серку ни слова. Динка вокруг него как рыба возле приманки. А он подразнит-подразнит ее, и — как чужой. Отдал бы ее Алику, а то и друга потеряет, и подруги не будет.
Серко все хитроумствует. Комнату в общаге обмотал проводами: человек за три метра от двери, а у него уже сигнал горит. Я пробовал не по порожкам, а по перилам проползать — все равно дверь автоматически открывается. Наверное, фотореле срабатывает. Я как-нибудь пробку выверну и нагряну без стука, без звука — поломает он себе башку, умник.
Ездил в командировку в Райчихинск и Благовещенск. Хоть и глухие, а все же города. Приличные клубы, кинотеатры, парки, свежее пиво есть. Пойдешь под ручку — ни одна рожа не будет корежиться вслед. А тут ни ресторана, ни кафе. Кинотеатр один, и тот — сельский… Киношники напьются и давай ленту сзаду наперед крутить, а все такие умные — смотрят… Я раз пятнадцать рублей угробил, пока механиков споил и все ленты у них в будке перепутал. Потом на танцах спрашиваю у девчат:
— Как картина?
— Замысловатая, — говорят, — но здорово поставлена! Смотреть интересно…
На Дальнем Востоке тысяча километров не расстояние, сто рублей не деньги.
Когда я прошлый раз в Благовещенске был, купил три билета на Хабаровскую музкомедию. В пятницу вечером показываю ребятам билеты и говорю:
— Операция будет осуществлена при содействии Аэрофлота. Сверим часы! Взлет на Благовещенск в девять тридцать.
Они — нет чтобы поблагодарить — смеются. Потом Альбертино вносит первое отклонение:
— Надо Дину взять… — Вроде он о друге заботится.
А Серко о нем:
— И Люду пригласить…
Так, думаю я, кто же командир?! Отговариваю их — ни в какую! Начинаю пугать.
— На самолет, — говорю, — забронировано три места.
— Ничего, — отвечают, — мы девчат посадим, а сами за хвост уцепимся.
«И так, думаю, вы на их хвостах висите!»
— Ну, — решился я, — тогда слушайте! Раскрою карты, чтобы вы там в лужу не сели. Я познакомился с тремя птичками — голова закружится. На спектакль пойдем вшестером, места рядом. Потом к ним на вечеринку — уже обговорено все. Потанцуем, трали-вали, через день обратно.
— Транспорт?!
— Заказан туда и обратно.
Альбертино табачок выплевывает, Серко покашливает задумчиво, а глаза у обоих горят. Но не верят, думают, что я их разыгрываю.
— Да когда это было, чтобы ты с порядочными людьми водился?!
— А никогда! — отвечаю им преравнодушно: — И эти непорядочные. Одна в райкоме комсомола работает, две в пединституте учатся. Не хотите — можете тут киснуть. Я что-нибудь придумаю по дороге, отбрешусь…
Ничего подобного, улетели втроем. В театре они первым делом по сторонам стреляют, по рядам. Я им:
— Некрасиво, мальчики. Садитесь, подойдут…
Смотрю, подходят… Но не три, а четыре, и все ровненькие, беленькие, подбородочки трясутся, и очки сверкают… Все пенсионерки! Хотел я друзей с ними познакомить, да сознался, что знакомыми у меня тут и не пахло.
Спектакль назывался «У нас на Дальнем Востоке». Современная штучка — геологи с бородами, с гитарами. На сцене костры жгут, потом заблуживаются, а то ведь как без этого героизм показать… Переживательно, особенно когда старушки рядом хлюпают.
Ночью бродили по улицам, по набережной. Кругом вековые тополя, пух, запахи бензина, жженого асфальта и милиция на мотоциклах. От нас почему-то все в стороны шарахались. Мечтали. Странная психология: из Пояркова тянет в город, в гущу людей, а из города наоборот — в космос. Там тишина, жуть, как в сурдокамере или… как в нашей деревне…
Наутро в гостинице нас умыли (номер со всеми удобствами цивилизации), потом вызвали по телефону такси — и на аэродром. Обсуждение спектакля вели в самолете, но не закончили — быстро сели.
Расскажи теперь в нашей Европе, что мы за полтыщи километров в театр летаем, — не поверят. У них театры рядом, и то они редко ходят. А тут ничего удивительного: сто рублей не деньги, тысяча километров не расстояние.
Конец месяца. План горит. Костя дает жару.
Теплоходы приходят один за одним, а на эстакаде вагоны с углем. Не хватает людей на разгрузку. И Подложный объявил SOS.
На пристани ни одного праздношатающегося. Как будто конец света пришел — всем захотелось вкалывать — очищаются от грехов. В конторе Люба Калинович и бухгалтерские старухи, из которых песок сыплется. А нормировщики, экономисты, плановики и т. д. — все гладколицые приходят ко мне во главе с Два Пи-Эр:
— Принимай пополнение.
Что за сплоченность, что за сознательность у людей! Знают: Костина рука железная…
Поставил к ним бригадиром своего рабочего. Велел на коммунистическую бригаду отдельный наряд выписывать, чтобы от общебригадного куска не рвали. Сколько выгрузят — столько заработают! У них тело хлипкое, по два вагона на брата еле одолевают. И гикать на них надо, чтоб ноги не переломали:
— Техника безопасности вам не бирюльки!
Костя услышал, сказал: правильно!
Все, как муравьи, елозят под вагонами, один Подложный в белой мичманке по причалам дефилирует, веточкой пыль на ботинках обивает. Стоп, думаю себе, если и теперь план не вытянем, больше я на авралы не ходок.
За план на нос по двадцать процентов прогрессивки полагается. Деньги на дороге не валяются, а если и валяются, то Костя их даже под землей видит.
Если мне скажут, что Подложный каждый месяц такие концерты устраивает, я поверю. А чего? Все имеют право на самодеятельность.
Серко сделался большим человеком — начальником мастерской. Он только весы испытал, а Подложный бац — и приказ о повышении. Даже навигацию не дал на участке доработать. Серый рад. Рабочих по имени-отчеству, а они ухмыляются: нас, говорят, не лаской, а рублем уважь!
Надо мной уже не издеваются. Подбили бабки, и оказалось, что моя смена впереди. По правде сказать, мы Сережкину смену обставили, уже когда он в мастерскую ушел. Горобец колготной, всегда находил людям работу. Они ворчали, а заработки в его смене самые высокие были. Теперь жалеют, что без него остались. Комбатом у них стал Бочкарев. Этот лишний раз не побежит.
— А-а, — махнет на рабочих, — они лучше меня знают, не первый год на пристани…
Ему-то что — часы идут, оклад стоит.
Бочкарев доконал меня. Все гудел, что я плохо смену сдаю, причалы не подметаю, муфты не ремонтирую, и догуделся.
Сегодня вышел я из траншеи, глянул на него и понял, что лицо его похоже на крашенное луковичной шелухой яйцо. А пена на губах будто мыльная, словно брился человек, а вытереться потом забыл.
Увидел меня, и орать:
— Ага, Кержов, — как будто за хвост поймал, — опять нам недоделки оставляешь?! Я те не подчищало…
Долго мораль читал, а я слушал. Уважал старшего. Он удивился:
— Кержов, ты что молчишь?
— А я, — говорю, — не хочу говорить, я делать буду. Надоело музыку твою слушать, понял? Напрашиваешься — будешь за меня ремонтировать. Ну, пока! Завтра встретимся…
Я ушел, не предупредил его, что на втором причале лопнула лента. Сказать бы! Да раз он такой глазастый — пусть сам смотрит. Мне отбрехаться запросто: скажу — не заметил, и баста.
А что? Вежливо поздоровался. И никакой пены на губах, только глаза черным горят. Ласковый:
— Володь, привет! Как нынче работал? Мы вчерась на двойке ленту деранули. — А сам в меня глазами впился, чувствует, что я подвел. — Всю ночь с нею возились.
— Чего так долго?
— Да пока то, се… Дала она нам жару. А сегодня все цело? Я проверять не пойду, так тебе верю.
Я же говорил: с такими жить — кулак за пазухой держи. Чуть что — бац по кумполу, и порядок!
У Сергея в мастерской небольшая комнатка — метра два на полтора. Кабинетом называет.
— Зачем, — спрашиваю, — для важности?
Входит в этот кабинет его инструментальщик — Копишев Иван, да не один — с женой. Познакомил нас, а сам молчит. Грудь выпер, набычился, побагровел, а молчит.
— Слушаю вас… — Ни разу я не видел Серого таким вежливым.
Вижу, Иван тихонько жену толкает. Та тоже не знает, как начать. Я жду, что будет.
Иванова жена разволновалась, глазенки вылупила и пищит, это ласковый тон у нее такой:
— Отпустите, Сергей Никанорович, моего Ивана в гости. Приемное дитя замуж выходит. В Хабаровске, недалечь отсюдова…
Копишев шепчет ей, что не Никанорович, а Никандрович, а она Сергею в рот смотрит. Мы переглянулись с Сергеем и как будто по шарику проглотили. Расспрашивать в такую минуту неудобно. Иван-то вроде и неприметен и неказист, посклочничать любит, поматериться и живет скудно — это все знают, а на́ вот, кроме своих, приемные дети есть… Вдруг у него и эти-то не свои? Мы не знаем…
Копишев не столько перед Сергеем, сколько перед женой грудь колесит, все время на нее косится. И вид такой, вроде он самый лучший друг нам. Спрашивает:
— Ну как, Никандрыч, — денька на три-четыре?! Пока туда, пока обратно. Сам понимаешь, первую отдаю — нельзя не быть. Доведись хоть и тебе самому — да нешто бы я тебя не отпустил?! Как же, Никандрыч?!
А Сергею отпускать его нельзя. Пять не пять, а неделю прогуляет точно. Инструмент же кому зря не доверишь. Закрыть: ремонтники без инструмента — без рук. Ну, думаю, задача! А Сергей протянул руку и говорит спокойно, как будто закурить просит:
— Давай ключи…
Они расшаркались перед ним — и за дверь. Слышим, как Иван говорит жене:
— Видишь, какая у меня работа?! Только сам начальник заменить может. Никому ключей не доверяет. Потому как Иван — это у него первая голова.
Наверное, он себя и по головке ради убедительности потукал! Только на жену не подействовало:
— Не стучи! Я твоей башке по зарплате цену знаю!..
Недавно создали какое-то общество по охране природы.
На Алика:
— Синько, ты рисуешь? Будешь взносы собирать в наше общество.
— А при чем здесь рваная галоша? (Я бы тоже так сказал!)
— Ты молодой, природу рисуешь, тебе и собирать!
Вот и весь разговор. Пошел собирать. Я был в кузне, и он туда приходит. Со списком, с ведомостью, как чиновнику полагается. Сказал, зачем пришел. У мужиков вид серьезный. Молотобоец ему объясняет:
— У меня приусадебный участок пятнадцать соток, из них четыре сотки сада. Молодой сад, хороший, но я его вырублю, потому что с меня дерут налог за корень, а он мне еще никакой выгоды не приносит… Вот какой же я член охраны природы, когда сад вырублю?..
— Что, и теперь налог берут?
— Теперь не берут, так брали.
— Когда это было, — говорит он разочарованно.
— Когда бы ни было, а помнить надо да напоминать, а то забудутся и еще раз затейку такую ж выдумают…
Смотрю, и кузнец куцые пальцы гнет:
— А охотообщество относится к охране природы?
— Относится, — говорит Алик. — И зверь, и птица — это же все природа.
— Хорошо, пускай природа, — дергает ноздрями кузнец. — Мы за охотообщество платим семь восемьдесят. И за лицензию на козу пять рублей. Правильно?
— Наверное, правильно. Я не охотник.
— Ну, а раз правильно… Я говорю, надо создать еще общество, которое пусть привязывает этих коз. Чтоб готовые были. А то сколько денег заплати, да еще по полю бегай, ищи! Да попади попробуй!..
— Вот вам и надо вступать, — вывернулся Алик. — Тут все понятно: семь восемьдесят да еще пять — в охотсоюз за козу, а как член охраны природы — за то, чтобы коз не стрелять…
Поломались мужики, а взнос заплатили.
План у меня идет отлично. Бригада уже прикидывает, кому запасать строганину — свежее мясо, и у кого гулять будем, когда знамя возьмем.
Теплоходы больше не придут. На дворе подметается осень. Лист опал в один день — дождем скосило, теперь на земле желтеет, печется.
Сергей в гору лезет. И сам видел — дела в мастерской идут! Испокон веков в углу возле наждака висит табличка: «Работать в очках!» А очков не было. Смотрю, механизатор из моей смены — тык! — включил мотор и давай зубило точить… Искры, как песок, бьют в бороду, по щекам… Подходит к нему Сережкин сварщик, ни слова не говоря, выключает станок. Мой ничего не понимает, а сварщик ему на табличку — тык! Прямо под носом очки.
Месяца два назад об очках и слышать никто не хотел — неудобно и прочее. В большой работе о такой мелочи вроде и говорить, и думать не стоит. Зато тут привычка. Не Сергей — его рабочие одергивают других.
Это, конечно, хорошо. Только начальство подчиненных своим глазом меряет. Услужишь — почет заслужишь, нос загнешь — на дно пойдешь.
У меня ничего путного. Такой я недотепа. Наверное, бабка меня уронила при рождении или треснуть забыла…
Думал, навигация все изменит — дудки! Два Пи-Эр настоял, чтобы первое место присудили бочкаревской смене. У них и общий тоннаж, и выработка на рабочего меньше, чем у нас, а он говорит:
— У Бочкарева мало простоев.
— Да раз простоев меньше, должны были больше нас сделать!
А Бобков виляет:
— Чего тебе беспокоиться, Кержов! Все равно вы с Бочкаревым получите одинаковые премии. Вы же итээровцы, а не рабочие! Вы не сдельщики, чудак!
— А я хочу, чтобы моим рабочим знамя отдали. У них простоев не было. У них работа была!
— Чего орешь?! — осадил он меня.
И тут я подумал: все-таки он главный инженер, такой главный, что главнее нету. Он, наверное, тоже так подумал, успокаивать начал:
— Ты не ори, Кержов. Результаты оценивала комиссия. Понимаешь, не я, не Подложный, а комиссия…
Ребята мои хмурые, но не плачут. Успокаивают:
— Не горюй, Кержак, первый год работаешь, а больше всех сделали. «Оглобле» место по чину присудили, чтоб авторитет не лопнул…
Вступить, что ли, с горя в союз охотников? Или к Альбертино — в общество друзей природы… Нет, я лучше в партию вступлю, тогда посмотрим, кто за кем гнаться будет!..
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Сергей лежал на кровати. Из старого приемника неслись хрипловатые аккорды баховской фуги. Мелодия странно переплеталась с мыслями. Фуга похожа на разговор. Голосу главной тональности отвечал бурный и взволнованный голос Алика, а за ним мягкие, лирические полутона — это же, конечно, девушки — думают, беспокоятся о свидании…
Отвлекает звонок. Горит лампочка над дверью, наверное, друзья пришли. Сергей нажимает выключатель у изголовья, и дверь открывается. На пороге — Дина.
В бежевом осеннем пальто, с замшевыми перчатками в руке она входит нерешительно. Что бы это значило?! Он всматривается в ее лицо, спокойное, сосредоточенное; вставать не торопится, не зная, какой ожидает его разговор, и краем уха следит еще за музыкой. Фуга кончается грубоватым ликованием ведущей мелодии, подавленные ее силой, глохнут мягкие лирические тона…
— Думала, не застану, — говорит Дина, останавливаясь на пороге. — Странная дверь — сама открылась.
— Ученая! — встает наконец Сергей. — Садись.
Дина расстегивает пальто и, отвернув полу, садится на стул у печки.
— Как живешь, Сережа?
— Механизированно! — бравирует он, показывая на стол, заваленный электрическими проводами, приборами.
Угол комнаты задрапирован длинными, от пола до потолка, обоями. Она догадывается: гардероб. Железная, с погнутыми спинками кровать, затрепанное одеяло без пододеяльника — по-холостяцки. Над кроватью на крючке будильник, щиток с кнопками. Полка, книги, рулоны чертежей… В край стола воткнута отвертка с яркой красной ручкой, рядом мотки проводов, лампочки, клещи…
Непонятный мир непонятного ей человека. Неужели он доволен? На пристани мастерская, в общежитии лаборатория, а где же дом? Тут?! Ни цветов, ни картин… Только сильный запах ацетона. И самое понятное для нее здесь — приемник. Сухо, как догорающее кострище, потрескивает динамик. Пусть, что ли, выключит!
Сергей перехватывает ее взгляд, проводит по кнопкам пальцами, и гаснет шкала приемника. Тихо. Еще сильнее пахнет ацетон.
— Все автоматизация?
— Сплошная.
Она растерялась в этом мире, — кажется, что Сергей уже не Сергей, а другой человек. Вдруг она резко, как не хотела, спрашивает:
— Где праздник проводишь? — И тут же: — Тебе выговор объявили, да?
— Кто это доложил?
— Людмилку видела.
— Что, агентура?! Я никого не просил волноваться!
— Бочкарев навещает аптеку. Болтал с Горкушиной, Людка слышала.
— Не расслышала, знать, — благодарность вынесли!
— А-а… Поздравляю.
Она вздохнула.
Сергей подергал ноздрями — как это делает его кузнец, тоже вздохнул. Видно, не о празднике пришла она говорить, с чего бы ей тогда волноваться. Разглядывает перчатки, будто впервые видит. Нашла белесое пятнышко, царапает крашеным ногтем. Сергей небрежно глянул на свои руки — не такие они у него красивые… А она все молчит. Не выдержал он:
— Алик и Володька думают, что вам надо хозяйничать. Мы водки купим, червонца по два сложимся. С комнатой закавыка — у меня ведь не разгуляешься…
«Нам бы хватило!» — думает Дина, а сама соглашается с его словами, кивает головой и трет тыльной стороной ладони по щеке. Кажется, краснеет…
— Так я и прикидывала, — говорит она. — Не знаю, Людмилку звать ли? Вадьку ждет… — и пронзительный взгляд на Сергея.
— А что особенного?! — Сергей чувствует, что его как будто толкнули в грудь. — Пусть с Вадькой приходит. Солдату без компании тоже гибель.
— Не знаю, Вадька баламут, матери лишней строчки не черкнет, а ей уже месяца три не пишет. Да-а, только вы на это и способны!
— Лучше без обобщений. Дело ваше — пусть приходит одна, как хочет.
— А ты?
Уже после того, как сказала, Дина поняла, что вопрос ее слишком прямой. Да поздно переспрашивать, слово-то вылетело.
— Как тебе сказать… — Сергей медлит. — Я бы рад был. Но если у вас контакт испортился — не приглашай…
Дина подошла к окну. Сунула перчатки в пальто, руки на бедра положила и покачивалась из стороны в сторону.
— Эх, будь я женщина!.. — и вздох вырвался у нее из груди.
— Ну?!
— Подошла бы вот так, — она резко повернулась, на лице растерянная улыбка. Подумала, шагнула к Сергею. — Подошла бы и сказала… Ох, не знаю, не знаю, что сказала бы!..
И топнула каблучком, и неожиданно для самой себя засмеялась громко, и закружилась, задевая его колени юбкой и полами пальто. Вдруг, точно вкопанная, встала.
А Сергей смотрел мимо нее в окно, на улицу. По гравийной дороге ветер разметывал вороха листьев. Они то взмывали, то падали, как бумажки, прилипая к лужам, к заборам, застревая в сухих былинках на обочине… Вместе с листьями подбрасывало обломок бумажного змея с красной лентой в хвосте.
— Эх, Сережа… — Дина отступила от него. — Пошутковала я с тобой… хватит. А теперь, — взялась за ручку, — отпусти-ка!
— Так погуляем? — спросил он напоследок.
— Гуляй! — сказала она и ушла.
Сергей зажег сигарету, выдвинул ящик стола, достал оттуда пудреницу и рукавом тщательно обтер с нее пыль, полюбовался узорчатой серебряной отделкой из листьев и даже глянулся в крышку-зеркало. Зачем мудрить? Лучше спрятать зеркало поглубже в стол. Хорошо, что Дина не сказала ему своих главных, сокровенных слов. А пудреница — что ж? Из нее выйдет неплохая пепельница.
Не докурив, Сергей размял сигарету на полированном, сферически-вогнутом дне пудреницы.
В последнее мгновение рука его, кажется, вздрогнула…
Сергей послонялся по комнате, но было ему неспокойно в этих стенах, и он оделся и ухарски скатился по перилам вниз. Хмурое, сиротливо-печальное, как осеннее поле, небо висело над головой. Летние облака теперь редко гостили в Пояркове. С утра они иногда выглядывали из-за сопок, и слабое солнце серебрило их, но уже к полудню облака сгущались в грязно-серую, а то и вовсе чернильного цвета гущу, растекавшуюся по небосводу тягучими потеками.
Сергей пришел к обрыву над Амуром. Здесь стонуще гудел ветер; вода, высветлевшая к началу осени, сейчас, кажется, впитала в себя фиолетовый отлив неба. Несколько туч сбились над берегом и рекой, стали похожи на тяжелый разбухший картуз.
Точно и впрямь неся вспухшее небо на своих плечах, согнувшись, Сергей спустился к кромке берега. Темно-синяя, как зернистый чугун на изломе, галька, выстроганная волнами до зловещего блеска, державшая на себе бульдозеры, будто оседала теперь под Сергеем, под тяжестью его тоски.
А ему было бы легче, если бы он знал, что не здесь, так в другом месте живет и ждет его одна-единственная, та, без которой и радость не в радость, и жизнь не в жизнь. Где, когда найдется она, у какой росстани ли, у пристани ли повстречается ему?..
Небо дышало снежным холодом. Не сегодня, так завтра запорошит, обновит белым землю, и на его тоску ляжет грусть посветлее. Светлая грусть — надежда.
Предпраздничным ноябрьским вечером Алик и Володька ввалились к Сергею со свертками. Разделись друзья, и Сергей увидал на кителе Алика сверкающие пуговицы.
— Не пялься, не пялься, — засмеялся Алик, — я тебе не проспорил. С Володьки спрашивай, он подстроил — пусть и расхлебывает.
У Синько с Горобцом давний спор. Посмотрев на Поярково, Алик поклялся, что до отъезда не будет чистить пуговицы, хоть ракушками зарастут! Сергей возьми да и поймай его на слове. Навигацию Алик держался, даже китель редко носил, а под праздник вот не выдержал: курсантская привычка взяла свое!
Володька, не обращая внимания на петухов, выставил из духовки стаканы и, усердно, обдирая край стола, сковыривал на пиве пробку.
— Да ты чудак! — Сергей подошел и отобрал пиво. — Разворотил доску, как носорог… И чему тебя в ГРУ учили? Это — университет! Гереушник все уметь должен!
Он приладил зубцы пробки к бляхе на ремне и слегка ударил ладонью сверху.
— Вот, р-раз! И готово!
Пробка отлетела под стол.
Цедя пиво, Володька, как обычно, хвастал.
— Я в училище любил помдежем стоять. Примешь дежурство и смотришь: какой офицер попался. Если Слепнев — мы с ним друзья были, — лафа! Отдаст ключи, а я — возле телефонов. Справа — девчата звонят, слева другой — тоже звонит. Берешь трубки и отвечаешь обоим сразу: как зовут? Миша. Где встретимся? Возле «Чайки»! Ровно в восемь, не опаздывать! Держите в левой руке сирень, я с газетой буду. И приходят — девяносто девять процентов, ждут… Сам без газеты идешь сторонкой, наблюдаешь. Если какая ничего, подвалишь к ней с извинением: офицер задержал. Понимать надо — служба не гражданка!
— Кстати, Володя, а ты скоро кончишь?..
— Что?
— Трепаться!
Смеются друзья, а он дуется на них:
— Турманы вы!
— Это что такое, первый раз слышим? На голубей мы вроде не похожи!
— Га, — радуется Володька, — это в нашей деревне дураков так зовут. Турманы… Потеха!
— Да, вам привет, — вспоминает Сергей, стуча кулаком по лбу. — Письмо получил от Сани Голубева с Сахалина́! — Он достал с полки бандероль. — На пяти сургучных печатях! Целая диссертация о двигателях.
Отдал письмо ребятам. Пока они разбирали написанные вкривь и вкось, вразброд с формулами, слова, Сергей настрочил ответ, начатый два дня назад.
«Помнишь, — писал Сергей, — начальника училища? Многие из вас, говорил он, поедут в Сибирь и на Восток. Работа там будет испытанием на прочность… А мы набрались наглости и бахнули в училище телеграмму, что испытание выдержали. «Прочность», наверное, не в том, чтобы отработать в назначенном месте год, два. Есть же люди, которые вообще не имеют прочности, ни моральной, ни другой какой, а работают везде, где придется, притом в условиях похуже наших…»
— Сергей, — Кержов читает письмо. — Если нас отсюда шуранут, мы на Сахалин, в Москальво двинем! Мы с Санькой футбол гоняли. Он там старший инженер? А нас Подложный с углем перемешать может. Ух, не понимают меня…
— Поймут, — успокоил Алик. — Не забыл про свидание?
— Иду, иду! Привет Саньке! Дай-ка я ему автограф свой поставлю!.. Если будет трудно, пусть к нам катит сюда, повкалываем!
Володька ушел. Алик чешет затылок, не знает, с чего начать.
— Ты вот от Саньки получил, — говорит он, — человек как человек, а мне Мигунов накалякал. Извиняется, что не поздравил тебя с рождением. В Волгограде сейчас. На десяти страницах распинается, как втерся в доверие к начальнику участка. Охмурил его дочку, пролез в конструкторское, теперь доволен. А она, дескать, умная кошечка, и шума не подняла… Как я в училище не догадался, что он стерва?!
— Так и написал ему?
— Так, а как же!
— Поедем на запад — морду набьем.
— Как пить дать!
Алик губами вытянул из пачки сигарету, облокотился на стол. Светловолосая шевелюра его рассыпалась на два чубчика. Он заметил новую пепельницу, подвинул к себе. По тонкому запаху парфюмерии, еще не убитому табаком, догадался, что это пудреница. «Наверное, Дина ему подарила…» — решил он и спросил:
— Откуда? В нашей дыре не достать приличную вещь!
— Видишь ли, это пудреница, дамская.
— Разве?
— А про себя: «Так я и знал, Дина!..»
— Вот крышка.
Подал зеркало и, глядя на друга, продолжал:
— Я собирался подарить ее Дине.
— Как, ты?! — Алик опешил, не понимает. Голос упал, старается говорить равнодушно: — Подарить ведь можно и завтра…
— Теперь от нее сильно разит табаком.
— Что ж ты подаришь?
— Не будь идиотом. Мы просто… дружили.
Сергей не смотрит на друга. Он терзает свой «Рекорд», крутит ручку настройки. Алик глядит на широкую спину Сергея, на его прямые плечи. И чем он по сердцу ей?!
В приемнике витали беспорядочные шумы эфира, тонкие посвисты. Алик потянулся и из-под руки Сергея резко крутнул диск настройки. В комнату ворвался тревожный, совсем близкий женский голос:
— Виктор, ты слышишь меня, Виктор! Я люблю тебя!
Голос тут же пропал. Свист, треск, шум! Сергей опять крутит диск, осторожно, наблюдает за суживающимся, зажмуривающимся зрачком индикатора настройки. Он ищет ответ. Но его нет. Спустя минуту через радиопомехи слышен сиплый, простуженный басок:
— Вас понял! Вас понял! Это страшная ошибка. Как слышите? Прием!
Был ли это голос Виктора?
Сергей переключил приемник на другой диапазон, повернулся к Алику и, угадывая его мысли, спросил:
— Теперь будешь рисовать ее?
— Попробую… — отвечает Синько, застигнутый врасплох. И тут же встает, чтобы не продолжать на эту тему, спешит, собирается домой. — Давай письмо. Брошу!
Сергей запечатал конверт. Алик стоял у двери, медлил, не уходил.
— Хочешь знать, что произошло? — спросил Сергей.
— Откровенно только.
— Я мог бы сделать жест: ради друга — любая жертва! Это не так. Дай ей остыть. Она хоть и не говорила, но догадаться можно, что она… серьезно. А это — страшная ошибка. Как в школе в записочках писали: насильно мил не будешь. И потом — я оптимист — меня другая полюбит!
— А если у нее ничего серьезного?! Просто, как ты говоришь, дружили…
Горобец пожал плечами:
— Можешь проверить!
Когда шаги Алика затихли на лестнице, Сергей, не раздеваясь, плюхнулся на кровать. Хотелось уснуть, чтобы незаметно и быстро пролетело время, отстоялось в его взбаламученной душе.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Телеграмму принесли утром восьмого ноября. Динина мать разволновалась, утерла самовольные слезы, потом засуетилась. То прильнет к окну и всматривается, не идет ли дочь, то станет под зеркалом, не зная, какой полушалок выбрать, темный или белый. Бросит все, и начнет греметь кастрюлями, и опять спохватится — задумается, за какое же дело сперва взяться?!
Пришла дочь. Не успела подуть на красные от холода пальцы, мать затормошила ее:
— Дин, слышишь, радость-то какая — Вадюшка едет!
— Да ты что, мам, смеешься?
— И-и-ты?! Телеграмму отбил!
Вынула телеграмму из-за зеркала, Дина прочитала и, кусая ноготок, скислила губы:
— Он же проездом через Завитую.
— Эка нелада, — мать так и села на сундук возле печи, потемнела лицом, но скоро одумалась. — Соберемся и съездим к нему, — решила она. — Замеси-ка муки скорее, пельменей настряпаем.
В разгар стряпки, когда мать вспоминала, что́ Вадьке больше нравится, Дина оторопела: в телеграмме не указано время, когда приходит поезд. Бросила все и побежала в центр, на почту.
По дороге, в больничном саду, встретила Людмилу. Она улыбалась, но глаза что-то невеселы. Дина хотела обмануть подругу, сказать, что бежит в продмаг, но раздумала и показала телеграмму: «Проезжаю Завитую 8 вечером встречайте Вадим».
Людины щеки разрумянились, как яблоки винного налива.
— Что ты?!
Месяца три не было от Вадима писем. Дина корила, что забыл он их с матерью, хотела даже запрос командиру части послать. И вот телеграмма: проезжаю Завитую… проезжаю Завитую… Почему Завитую, а не Поярково? Ведь это совсем рядом!
— А когда поезд?
— Сама не знаю, — пожала Дина плечами. — Написал: вечером, а когда вечером — догадывайся… Бежим на почту, Завитую спросим!
Навстречу дул ветер, обдавая лицо морозной пылью, редкими крупицами снега. Стоявшая до праздников хорошая погода как назло сменилась теперь осенней хмурью и стылыми северо-западными ветрами.
Знакомая телефонистка Женя, очень недовольная дежурством в праздник, узнав, в чем дело, принялась терпеливо вызывать Завитую.
Люда стояла в телефонной будке рядом с Диной и, сбоку приложив ухо к трубке, слушала, затаив дыхание, Женин голос:
— Завитая? Завитая, Завитая?! Завитая, вокзал дайте! Начальника станции! Алло, Завитая?
Вокзал «Завитая» не ответил девушкам, когда приходит воинский эшелон с частью Вадима. Но им без запинки отчеканил диспетчер местного автохозяйства, что автобус на Завитую из Пояркова отправляется по расписанию — точно в четырнадцать тридцать.
Наложив в чемодан снеди — пирожков, котлет, пельменей, две банки черемухового варенья, сухой клюквы и даже бутылку «Особой», Дина с матерью пошли на остановку. Люда ехала с ними. Она побежала домой за сумочкой, в которой лежала фотография, подписанная Вадику.
Скоро Люда догнала их. Они свернули с улицы в переулок и пошли через больничный двор. Не доходя до остановки каких-нибудь метров пятьдесят — семьдесят, увидели, как проползла за голыми кустами сада желтая крыша автобуса. Дина бросила чемодан и, махая рукой, закричала, побежала наперерез автобусу, но шофер не услышал и повернул на трассу. Дина позвонила в диспетчерскую, но машин больше не было. Поругавшись в пустой след, поплелись они, не солоно хлебавши, назад. Вот роковое невезение! И пришли на полчаса раньше, а не успели. Видно, народу битком набилось, вот и не захотел шофер ждать.
Мать до этого только и говорила о сыне, а теперь молчала. Радость, нагрянувшая с телеграммой, осела на сердце. «Знать, не судьба нам свидеться-то!» — вздыхала она.
— Ты к нам пойдешь, Люд? — спросила Дина.
Люда покачала головой и негромко, чтобы мать не слышала, ответила подруге:
— Пойду машину искать.
Она обошла знакомых шоферов — кто на охоте, кто в гостях. А мотоциклисты… Один из них, Вадькин товарищ, вежливо отказался, сославшись на то, что сели аккумуляторы. Другой рассмеялся, подумал, что она шутит — ехать в такой «сногсшибательный» ветер.
Ветер и впрямь был нешуточный. Сосны в парке шумели, схлестывались лапами, гнулись их вершины. С треском хлопала на ветру фанерная афиша кинотеатра, и, едва не лопаясь, выгибалось над улицей красное полотнище лозунга. Под ногами перекатывались мелкие камешки и льдинки.
Надвинулись сумерки. Людмила металась с улицы на улицу, из дома в дом. Наконец остановилась на пустынном перекрестке. Ждать было бессмысленно, надеяться не на что.
— Кого встречаешь, Люда? Я в ларек шел — ты здесь ходила, теперь опять стоишь?!
Это Сергей подошел сзади и, когда она повернулась к нему, подал руку.
— И чего мерзнешь, руки окоченели!
Пальцам тепло в его ладони. Но Людмиле неловко, и она высвобождает руку.
— Гуляю, — шутит она. — Думала прокатиться, да не на чем!
— Пойдем пройдемся, — говорит он и берет Люду под руку, — а то скучно одной…
Она хмурится.
— До свидания, Сережа. Мне в Завитую.
— Зачем?
— Свидание! — отвечает она кокетливо и ждет, что Сергей уйдет. Но он неловко улыбается, вроде не верит ей. И тогда, почти со злостью, она рассказывает ему обо всем.
— Пошли к Подложному, — зовет он. — Костя машину даст, хоть и без шофера. Остальное чепуха!
— Не знаю, у него глаза медленные и липкие…
— Какие-какие?! — изумился Сергей.
— В них смотреть страшно, так и кажется, что прилипнут…
Они свернули с дороги к калитке. За забором рванулся на цепи пес. На лай вышла Екатерина Федоровна.
— Извините, Сергей Никандрович, — сокрушалась она, — пожалуйста, извините, но Костя вчера еще уехал на пристанском «Москвиче». Взяли с собой Бочкарева, еще кого-то… и под Ольчиху, на охоту. Так что извините…
— Слушай, Люда, — спросил Сергей, — а не у кого мотоцикл занять?
— Нет, я всех обошла.
Через несколько шагов остановилась:
— Есть мотоцикл у мужа Капитолины Ефимовны.
— Кто это?
— Да Горкушина, наша заваптекой.
— Это такая кучерявенькая, с востреньким носом?
— Да. Самого вызвали в Москву, в командировку. Мы попросим, она даст.
Со двора прошли в темный коридор. Постучали в клеенчатую дверь. Не ожидая, пока на стук отзовутся, Люда толкнула дверь. Из тесной прихожей, завешанной коврами и заставленной стульями и маленькими стульчиками для ног, оба посмотрели на свет из зала. Увидели старомодный, с высокой спинкой, кабинетный кожаный диван и наваленные в изголовье подушки-думки; одна подушка с вышитой красным крестом обезьяной валялась на полу. На подушках лежал мужчина в желто-синей полосатой пижаме и таких же полосатых брюках. Брюки ему малы, на четверть не закрывали выше щиколотки ног. Красные носки на пальцах с дырками. Сидевшая рядом женщина торопливо сняла с его плеча руку и встала лицом к вошедшим, поправляя халат и откидывая назад кудрявые волосы. Смущенная Люда попятилась на Сергея. А он поздоровался, вытягивая голову из-за Люды, поздравил Капитолину Ефимовну с праздником и сразу попросил мотоцикл.
Лицо Капитолины Ефимовны, пока он говорил, покрылось все красными пятнами. Загораживая мужчину халатом, она наконец справилась с собой, слегка улыбнулась.
— Я так не ждала вас, Люда… Мотоцикл… возьмите. Ключ от сарая на двери, над головой.
Они извинились за вторжение. Капитолина Ефимовна пожелала на дорогу:
— Попутного вам! А ключ, Люда, оставьте у себя. После принесешь.
Кинулся Сергей заводить и схватился за голову: забыли про ключ зажигания. Придется возвращаться. На этот раз он дождался дрогнувшего «да-да».
— Капитолина Ефимовна, посмотрите ключ зажигания.
— А-а… минуточку одну, Сережа.
Она поднялась с дивана, зашла за перегородку. По шороху материи о стену, по тому, как тонко звенькнула ременная пряжка, Сергей догадался, что она роется в брюках. В это время мужчина повернул к стене голову и всхрапнул. Когда он поворачивался, Сергей узнал Бочкарева. «А носки с дырками… — подумал Сергей. — Да ведь на охоту и вовсе в портянках ходят».
— Возьмите, Сережа, — Горкушина подала ему маленький ключик на цепочке. — Осторожно, надеюсь на ваше благоразумие…
Сначала они остановились у Дининого дома, и Люда вынесла чемодан. Потом заехали к Люде, и она заставила Сергея надеть тулуп. Переоделась и сама. Неуклюжие и косолапые сели они на мотоцикл. Сергей покосился на поднятый воротник ее тулупа, подвязанный платком, увидел розовый краешек щеки.
— Держись крепче! — крикнул он и вывел «ИЖа» на трассу.
Рассекая колесом пыльную седую гриву на темени дороги, они понеслись навстречу темноте и ветру. Козырек фуражки немного укрывал лоб от леденящего потока. От быстрой езды захватывало дыхание. Холод мало-помалу пробирал до костей. А Люда боялась, что одна минута опоздания, всего лишь одна, может погубить все дело. Потому — быстрей и быстрей!
Сергей до упора поворачивал рукоятку газа, выжимая из машины все, и лишь на поворотах сбрасывал скорость. Стрелка спидометра плясала между восемьюдесятью и ста километрами. Не смешно ли, не странно ли? Девушка нравится ему, а он везет ее на свидание к другому!
Иногда ослабевал встречный ветер и подстегивал вдруг сбоку, со спины. Мотоцикл срывался, как с катапульты, и со свистом проскакивал по воздуху небольшие взгорки. Люда упиралась головой Сергею в спину и думала: не сон ли это?..
В темноте мелькнули огни окраинных домиков. Сергей остановил мотоцикл у завитинского вокзала. На фронтоне мигали разноцветные лампочки, освещая праздничные транспаранты.
Скинув тулуп, Люда побежала на перрон к поезду. Солдаты уже вскакивали в вагоны, смеялись, бросали под колеса окурки, а один, в распущенной гимнастерке, бежал к ней.
— Люд, Люд!.. — звал он.
— Вадька, ты!..
Люда и не разглядела его как следует, а он торопливо и неловко цапнул ее за плечи, ткнулся носом в шапку, горячими губами провел по виску… Она бубнила, как ученица, зазубрившая правило:
— Дома все в порядке, приезжай… Дома все в порядке, приезжай…
Подала ему чемодан с материнскими гостинцами — поезд уходил — и прокричала уже вдогонку:
— Пиши! Приезжай…
…Все глуше доносился колесный стук поезда. За пазухой жакета, в сумочке, нетронутой лежала фотография. С грустной улыбкой подумала Люда, что на свидание карточку можно было и не брать…
Шпалы послушно стлались под колеса поезда, спичечными огоньками мелькали за окном будки путевых обходчиков, трассирующей очередью проносился встречный пассажирский. В вагоне запыхавшийся смуглый солдат — Вадька — угощал однополчан домашними гостинцами, расхваливая сестру и мать.
Наливая в складной пластмассовый стаканчик водку, Вадим довольно улыбался.
— А что, Вадь, она не замужем? — донимал его краснощекий сержант с белыми, как щетина, усами.
— Нет.
— А что, отдай мне сестренку в жены! Приеду к вам после службы, сяду на трактор — не один черт, где работать!
— Приезжай, — согласился Вадим. В душе у него шевельнулось ревнивое чувство, но он удержался, не сказал, что приезжала не сестра, а девчонка, с которой он дружил.
— Ты мне адресок дай, письмишко накатаю!
— Отстань, — огрызнулся Вадим и подвинул открытый чемодан. — Ешь вот гостинцы!..
Братва, налегая на закуски, пошучивала над сержантом, но он, облизывая усы, стоял на своем. Вадим, распалившись от водки и неотвязного сватовства, трахнул кулаком по полке:
— Кончай болтать! Разберусь сам, тогда и говорить будем.
— Нервы, — вскинул бровями сержант, отодвигая к окну опорожненную банку варенья, — нервы надо беречь.
Вадька не отозвался. Конечно, хорошо, что Люда к нему приехала, но из целинного совхоза, где он был с ротой на хлебоуборке, провожала его другая девушка. Неожиданная и мимолетная встреча с Людой напомнила ему прошлое. На Завитой судьба словно укорила его и требовала теперь: решай, кто же тебе дороже…
За полночь вернулся Сергей домой. Ныли, отходя с холода, пальцы, а он хвалил себя: молодец! Прокатился с девочкой на свидание! Такое приключение не на всякий праздник выпадает, не каждому… Только бы ребята не узнали! Видно, и правда: пока солнце взойдет — роса очи выест.
Он напарился чаем, укутался в одеяло и начал дремать. Сознание застилали туманные и путаные картины последних дней. Шумная колонна демонстрантов, неровная и пестрая толпа народа возле парка, у трибуны, пахнущей свежей краской и сосновой смолой. Кто-то выступает перед микрофоном, хвалит пристань, поминают и его имя… Потом нудный, будто свист снаряда, ветер. Под этот свист несется Сергей на мотоцикле. И хочется ему оторваться от видений, зарыться поглубже в одеяло, в шинель, но кутерьма все крутит и вертит перед глазами, и нет ей конца…
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Утром после праздника Сергея и оказавшегося поблизости Алика позвали к телефону. На другом конце провода был Подложный. Удивляясь спокойствию Горобца, он повысил голос:
— Почему Синько у вас? Взяли его под крылышко?
— Я не понимаю, Константин Николаевич…
Трубка помолчала. Алик невозмутимо разминал пальцами сигарету. Догадавшись по бульканью и стеклянному скрипу графинной пробки, что Подложный пьет воду, Сергей закрыл ладонью мембрану и спросил друга:
— Ты понимаешь что-нибудь?
Подложный спокойно продолжал:
— Сергей Никандрович, есть приказ технику Синько отправиться сегодня, девятого, на перепись скота по райцентру.
— Первый раз слышу.
— Жаль. Отправьте Синько в отдел кадров.
Сергей пожал плечами и положил трубку.
— Про какой приказ он толкует? Какая перепись? Ты в курсе?
— Да. Под праздник Костя направил меня на перепись скота по деревне. Хоть бы попросил, а то приказом. Я отказался. У меня с транспортерами работы уйма, а в затоне лындают. Сказал ему, он тычет мне бумажку под нос — сыча. Вот и все.
— Ну, смотри, Костин приказ ты слышал.
— Пойду подам заявление.
— Трудовую книжку марать?
— Книжка не биография.
— Плетью обуха не перешибешь…
— И зачем я в бутылку лезу, да?
— Да, зачем?
— А пролетариату цепей не жалко.
— Это ты у Два Пи-Эр или у Кержа трепаться научился?
— Не имеет значения.
Пришла в мастерскую Люба Калинович. Открыла папку и протянула Сергею бумагу.
— Распишитесь! В два совещание.
— Ты, Любаш, специально в такую даль перлась? Могла б курьера прислать!..
— Я курьера пришлю, когда Людочка опять захочет покататься!
И хлопнула дверью! Со стены шмякнулся кусок известки, отклеившийся плакат скользнул лощеной бумагой по столу и, шурша, свернулся на полу трубкой. Сергей поднял его, усмехнулся: с характером секретарша! Но ему не понравилось, что знает она про поездку. Пустые языки жадны до сплетен.
…В кабинете Подложного Сергей нашел Алика. Прислонившись лбом к косяку рамы, он смотрел на улицу. Спокойно, будто и не было за душой тревог, Алик сказал:
— Волга под Горьким лучше. Тянет к себе…
И это «тянет к себе» сказало Сергею все. Значит, Алик уперся, на перепись не пошел. Теперь Подложный готовит ему экзекуцию… «На окнах штор нет, потому и светло», — подумал вдруг Сергей и стал рядом с другом.
— Ничего, — сказал, — пронесет.
Оба смотрели на графитово-серую реку, на сумрачные унылые берега, на синевысмоленные горбатые днища лодок высоко на суше. Взгорбаченное, как лодки, и полосато проконопаченное небо было над пристанью, над всем поярковским побережьем. Под окном черная карликовая береза терлась сухой веткой по стеклу и скрипела.
— Да, — вздохнул Сергей, — мне тоже хочется в Горький.
— На Откосе сейчас костры, листья жгут…
— Жгут, — согласился Алик.
Из коридора треснули ногой по фанерной двери. Несколько человек вместе с Подложным вошли в кабинет. Горобец повернулся к ним. Улыбался Бочкарев, облизывая запекшиеся губы, и спрашивал Черемизина:
— Как праздничек, было небось? Я это дело сразу по носу замечаю!
— По своему? — усмехнулся Павел Иванович. — У тебя-то нюх борзой…
— Скажешь тоже…
— Не отказывайся, Бочкарев, — поддержал Павла Ивановича Подложный. — Нюх у тебя — и в будьдень не промахнешься!
«А что, если сказать при всех, с кем Бочкарев праздновал? — подумал Сергей. — Заставит его Подложный объяснительную писать или нет? Вряд ли! Как бы и сам тут не был замешан…»
Бочкарев пристально взглянул на Сергея, будто пытая мысли его. Подложный уселся в кресло.
— Начнем! — сказал он. — Синько, садитесь. Слово Бочкареву. Некоторые забыли… Синько, садитесь, чтобы я не указывал на вас пальцем… что по нашим поступкам судят о всей пристани!..
Бочкарев, против обыкновения, говорил мало и не так рьяно, как умел и как можно было от него ждать.
— Синько не выполнил приказ, отказался ревизовать скот на деревне. За это надо его наказать. Константин Николаевич велел ему написать объяснительную, — добавил Бочкарев после паузы, — но он такую чушь напорол, что читать не стоит…
— Все у тебя, Михаил Григорьевич? — удивился Подложный. — Мало. Мы ждали, что ты осветишь всю деятельность Синько, а так его и прорабатывать не за что.
Бочкарев сосредоточенно поковырял пальцем в ухе, подумал, посмотрел на Алика, вскользь на Сергея, развел руками:
— Праздник виноват, Константин Николаевич. Мы Синько давно знаем, про него и говорить особенно нечего. Трудится день-деньской, а так — что скажешь?..
Константин Николаевич выгнул лопатки, нагорбился, заморгал. Плексигласовая линейка в его руках запрыгала по стеклу на столе. Мерный стеклянно-металлический звук был похож на тиканье метронома. Алик посмотрел на озабоченное руководство и отмстил, что по лицу Подложного словно провели бледно-фиолетовой кистью. Начальник пристани порылся в бумагах и заговорил на высоких нотах:
— Плохо, Михаил Григорьевич, знаешь ты молодые кадры. Не раз тебе Колесов говорил, что надо вникать в их личную жизнь. Поскольку ты теперь замещаешь парторга, должен знать психологию подчиненных.
Бочкарев так и дернулся, думая возразить, но Подложный поднял ладонь, как автоинспектор стоп-сигнал, и продолжал:
— Я не снимаю ответственности с себя. Не выполнил Синько приказ — собираю командиров производства, отрываю их от работы, чтобы дать ему понять: тут не шарашкина контора. Кстати, что думаете об этом вы, Синько?!
Алик не спеша поднялся, смотря в окно. Сухая ветка березы все так же скреблась в стекло. Он хотел сказать, что не меняет свои мнения как перчатки, но раздумал:
— Добавить мне нечего.
Подложный отложил линейку. Короткие ладони цепко легли на стол. Внимательно осмотрел начальник своих людей. Он ждал. С годами научил их не только выполнять план, но думать и говорить так, как требовали интересы дела. После нынешнего совещания Колесов не сказал бы, что Подложный не воспитывает молодых специалистов. Жаль, нет его сейчас.
Крепче других тут Черемизин, соорганизатор он сильный. Какой уважающий себя начальник поставил бы его на крупнейший участок без опасения, что Черемизин не подсидит его? А он, Подложный, поставил. Не все знают, что есть между ними барьер, который Павлу Ивановичу не перепрыгнуть, — судимость. Спасибо прокурору, раскопал черемизинское дело.
Глупо влип тогда Паша. Парень был молод, горяч, а то бы и по пьянке не всадил вилку в бок своему дружку, попробовавшему обольстить его невесту. Из заключения, пришел — попросился на участок рабочим. Костя ход конем — поставил его техником, а через полгода начальником. На висках мужик седые подпалины нажил, а прямоты в характере еще не убавилось. Однажды мудрить вздумал, пришлось осадить: а помнишь, дорогой, края глухие…
У Бобкова на голове след от фуражки, будто обруч сняли. Наверное, за этот след ребята окрестили его Два Пи-Эр. Пробивной мужик, свое место знает. Понял сразу, что без Костиной рекомендации далеко не уплывет…
С экономистом тоже интересно было. Прикарманил чужие северные, да так гладко — ревизии не докопаться. Бочкарев, работавший нормировщиком, подсказал тогда, где собака зарыта… Изредка попадались Подложному строптивые, иногда и неплохие ребята. С ними сработаться — горя не знал бы. Но характеры твердокаменные. С ними середины не было и быть не могло — или они тебя, или ты их.
Подложный закрыл привычным движением руки подбородок, в обратном порядке обвел собравшихся взглядом. Все молчали.
— Кто хочет высказаться? — непринужденно предложил он. — Э-э… комбат Горобец, вы друзья, расскажите о Синько!
Горобец думает, как ему половчее выкрутиться, и сидит пока, задумался, ровно не слышал вопроса.
— Ну?! — переспрашивает Подложный, и плексигласовая линейка начинает крутиться в его пальцах.
Сергей поднимается. Закладывает ладонь за борт кителя и большим пальцем потирает пуговицу.
— Что же вам сказать? — спрашивает Горобец. — Навигацию Алик прошел нормально. Если я принимал у него смену, никогда не беспокоился — все без подвохов, честно. А вот, — Сергей кивнул на Бочкарева, — когда принимаешь смену от Михаила Григорьевича, то пусть он на меня не обижается, я скажу прямо, что…
Бочкарев слюнявил на языке палец и с хрустом перелистывал амбарную книгу. Он, казалось, радовался, что Сергей задевает его:
— Кро-ой, Горобец, пусть зна-а-ют, как надо работать!..
— Если переписка скота такое ответственное дело, — улыбнулся Горобец, — почему бы не доверить это Михаилу Григорьевичу? Работа у него не спешная, деревню знает вдоль и поперек…
Подложный шевельнул бровями и стиснул челюсти, чтобы скрыть смех. Но другие засмеялись, и Черемизин спросил Бочкарева:
— Пойдешь, Михаил Григорьевич? Так и быть, отпущу!
Подложный будто очнулся:
— Ну, Павел Иванович, послушаем тебя…
Черемизин крякнул и провел рукою по подбородку, словно снимая паутину. Встал — широкоплечий, высокий. Заговорил певуче и мягко:
— А верную дал характеристику Горобец. Ворошить прошлое — дело хитрое. У всех молодых ошибки были — новое место, опыта нет. Все это верно, так. Но Синько, — Черемизин развел руками, — серьезный парень и… не выполняет приказ. Обидно, что посылают на перепись скота?.. Девчат переписывать пошел бы, а?! Кого ж послать, если не тебя, грамотного, красивого! Грузчиков, кто «а» и «б» связать не может? Полдня будут графу заполнять, и получится на двор по дюжине коров и одной курице…
По-разному слушали сейчас Павла Ивановича. Бочкарев придирчиво — его бесило, что начальник участка хоть и шутливо, а поддержал горобцовский выпад. Конспектируя, Бочкарев пропускал мягкие слова Черемизина, кое-где заострял его мысль и попутно прикидывал, стоит ли возражать начальнику участка…
Алик и Горобец соглашались с Черемизиным. Подложный задумался над мерами наказания. Неподходящими казались ему внушения и предупреждения, строгие и нестрогие выговоры За Синько и другие грешки есть, и когда Подложный «заострил внимание» на них, то наказание Алику будто само слетело с языка.
— Дело не в одной переписи, — сказал Подложный. — Синько поручалось к пятнадцатому изготовить новые питатели. Сегодня девятое, а работы не начаты. Срыв! Встает вопрос о возможности дальнейшего пребывания Синько на занимаемой должности. Если вы чувствуете себя недостаточно подготовленным, мы освободим вас, Синько! Силой не держим, тем более во вред государству…
Скрипело в руках Бочкарева перо, выводя под диктовку начальника пристани:
«…За неоднократные нарушения дисциплины и невыполнение моих приказов Синько с должности техника снять и перевести на два месяца в механизаторы».
Сделав паузу, Подложный спросил Алика:
— А как вы, Синько, не возражаете?
Алик, считая, что совещание окончено, грустно улыбнулся:
— Как же возражать? Скажете, опять приказов не выполняю.
— Пойдете механизатором к Горобцу. Ответственность за сдачу питателей ложится на вашего адвоката, Синько, на Горобца. Срок сдачи прежний — пятнадцатого числа.
…По дороге к мастерской друзья молчали. Возле диспетчерской, когда засмолили по второй сигарете, Алик нарушил молчание:
— У меня постоянно забирали людей — раз. Самого отправляли на инвентаризацию, за кислородом, отрывали от дела — два. Чертежей нет, а старая конструкция такая, что…
— Негодная, знаю!
— Я, Серега, не обижаюсь. Все-таки на душе легче, когда знаешь, за что страдаешь. Жаль, рисунок неудачный…
У крайнего причала, не сговариваясь, остановились. Облокотились на перила, думали о своем. С верховья и малых рек уже шла по Амуру осенняя шуга. Ветер то прижимал отлитые из свинца льдинки к берегу, то неожиданно заворачивал и отгонял их на середину реки. Течение подхватывало лед и несло дальше, к сиротливому без зелени острову. Утром на льдине видели дикую козу. Ребятишки провожали ее вдоль берега и, вернувшись, рассказывали, что льдину отнесло к Цаплиному острову. Там коза не выдержала и прыгнула в воду.
Слушая их, рабочие-охотники утверждали, что коза эта не пропала и теперь отлеживается на острове в тальниках. А уж если подвернется такой случай поговорить о козах, вспоминали каждый «свою» и чесали руки — скорей бы снег! Хочется пойти с ружьем по пороше.
В прошлом году дикая коза сдуру забрела в сарай к Два Пи-Эр. Он носился в подштанниках по двору и не знал, что делать. Позвонил Подложному, тот дал команду: козу обезвредить. Кое-как сладили с дикой!
Дразня охотников, к вечеру снег повалил густой и хрупкий. Утром же тучи рассеялись, глянуло солнце, и к обеду на улицах опять отсырело и раскисло.
Володька Кержов приходил к Сергею в мастерскую, садился на колченогий табурет, подпирал рукой щеку и терпеливо ждал, пока Горобец подпишет наряды, отдаст распоряжения и, нагнувшись через стол встречь Володьке, спросит:
— Чего тебе?
— Как сегодня погода?
— А я тебе что, метеостанция?
Володька не спеша подпирал другую щеку, толстые губы, которые он закусывал, расползались в улыбку:
— Вот я заметил, какое у тебя настроение, такая и погода. Нахмуришься — тучи, разозлишься — дождик, грязь и всякая мура.
— Сам ты мура. Помог бы вот лучше…
Сергей просил Володьку получить горбыль на пилораме, рулон ленты или гвоздей и роликов со склада, чтобы ремонтники у него же — у Кержова — не сидели завтра без дел.
Последнее время Горобец улыбался реже ноябрьского солнца. Ставили его начальником мастерской, думал тогда, что хлопот здесь меньше, чем на участке, а самостоятельности побольше. Думал, начнет он переделывать пристань наново. А самое начало виделось ему в мастерской, в гараже. С сантиметром в руках он обходил тракторы, вымерял ширину гусениц, вынюхивал что-то на узкоколейке, чертил схемы, прыгал по раскуроченным баржам и все что-то высматривал, соображал.
Новое и неожиданное решение казалось ему слишком простым, слишком удобным. Даже друзьям не торопился он поверить его.
В недобрый час прибавилось ему работы. Чтобы за неделю сделать питатели, надо выжать из себя и из рабочих то, на что обычно уходит месяц. А потом?! Потом Костя поручит монтировать стрелу на транспортер, и так уйдет лучшее время. Не заложишь под мастерскую фундамент — махнут на его затею рукой…
Бобкову и Подложному ясно, что пятнадцатого подпишут они не приемочный акт, а новый выговор на Сергея… Так-то оно так, да у Сергея есть теперь Алик. Рабочие подтрунивают над ним, но без зла.
— Ты не прогадал, Алик, — выставлял чумазую пятерню Минович. — На ковер не будут вызывать, — палец загнул, — Костя мозги не будет коптить, — второй загнул, — в случае чего на хрен можешь его послать, — третий, — а он только утрется, — четвертый палец, — да с выработки больше ставки заработаешь! — Но пятый, большой палец складывался в фигу: — Вот как он тебя наказал!
— Дулю ему, — смеялись рабочие, — чтоб не измывался над человеком…
— Точно, точно, — утверждал за Миновича Дмитрий Пономарев, — парню деньги позарез нужны. Серега тебе по дружбе наряда три сверхурочных подмахнет — так у тебя два Костиных оклада выйдет…
Идя после работы к Реснянским, Сергей вспомнил, как назначали его начальником мастерской. Настроение в тот день было паршивое. Томило солнце; угольная пыль лезла за шиворот, забивала горло, он даже осип. Такая работа! Суешься в каждую дыру, следишь и за разгрузкой, и за погрузкой, а тут, как нарочно, застучал редуктор у бульдозера — рассыпался подшипник.
Сергей послал бульдозериста в мастерскую, а сам, утомленный жарой, опустился на глыбу угля. Взгляд упал на елочную иголку под ногами. Видно, сбил ее дятел с ветки, а ветер поиграл ею и бросил на угольный пласт. Ковш экскаватора погрузил иголку вместе с углем в вагон, и вот, после тряски по рельсам, она здесь у Сергея в руках.
Замечтавшись, Сергей сунул иголку на язык и почуял запах хвои, сильный, будто в ельнике…
Пришел бульдозерист с новыми подшипниками. Сергей помогал ему, но усталость как рукой сняло. А все ведь из-за елочки-иголочки, что принесла запах леса.
Откуда-то взялась Люба Калинович.
— Сереженька! Тебя Подложный зовет.
— На ковер? Иду.
Люба надула губы, но первая протянула руку, чтобы он поднялся на эстакаду. Смущаясь и краснея, чего Сергей прежде не замечал за ней, она сказала:
— Почему-то все считают, и ты тоже, что я вызываю только на ругань… Если бы и тебя за этим звали, послала бы курьера…
И от тона, каким были сказаны эти слова, у Сергея екнуло что-то в груди. А Люба перебежала эстакаду и спрыгнула на тропинку, поправляя на юбке оборки. На Сергея она больше не оглянулась.
В кабинете, кроме начальника пристани, сидели, ухмыляясь, Бочкарев и Черемизин. Того, что сказал Подложный, Сергей не ожидал:
— Назначаем тебя, Сергей Никандрович, начальником мастерской. Работа важная, спрашивать будем строго, без скидки на молодость. Ну как?
— А что «как»? — смеялся Черемизин. — Комбат без батальона не комбат. Теперь и карты в руки!
Помнится, говорили еще что-то, и он радовался. Наконец-то доверили самостоятельное дело. Неприятно было потом, когда ходил за ним по пятам Бочкарев и наговаривал:
— Спасибо скажи, мы с Пал Ванычем нажали! Ничего, говорим, хоть и молод, а любого оттяпает, с делом справится…
Но не вышел еще приказ о назначении, как инструментальщик Копишев сбил спесь с Сергея:
— Что, Никандрыч, за ворота путь наметил?
— Как так?
— Да через мастерскую самый короткий путь. Костя еще ни одного завмастерской на другую должность не ставил. За ворота след, не сумлевайся…
Сергей осадил Копишева, а сейчас думать надо, как бы тот правым не вышел. Копишев вообще паникер. Вот Реснянский — другое дело. Он и тогда говорил и сейчас: по дельной работе никто не сломит. Так бы тому и быть, когда бы с месячным заданием в неделю управиться!
В доме Реснянского спокойно. Бабка-ревматичка на печи кости свои жарит — отдернула занавеску, прошамкала что-то Сергею, захрапела тут же. Старик усы накручивал — то вверх поддернет, то вниз, — знать, думал думу какую. Алик… Алик смутился: готовил чертежи на питатели.
— Я конструкцию до косточки знаю, вот набросал, — открыл он бумаги. — С утра и начнем. Да рук мало…
— Не тут закавыка, — сипловато пробасил Реснянский, подвигаясь на лавке и опорожняя Сергею место. — Матерьял где возьмете?
Сергей, чувствуя, что у Реснянского свое на уме, поспрашивал осторожно.
— Умом покумекаешь, то найдешь, — усмехнулся старик, облизывая конец цигарки. — Вот редукторы… Закавыка? А скинь с «балалайки»! И моторы мало чем не подойдут. Думаю, что и подойдут… А, казаки? Ли подавились чем, чего молчите?!
— Ну и старик, — ласково отозвался Алик, — не голова, а Дом Советов!
Обсудили-обрядили одно дело — хорошо. Есть и другое.
— Гараж меня беспокоит, Дмитрий Алексеевич, — сказал Сергей. — В нем же ремонтировать страшно.
— Решето — не крыша, — согласился Реснянский.
— А почему бы не поставить пристройку к мастерской? С ямой под бульдозеры, с электролебедкой, чтоб не таскать на горбу полутонные каретки. Материал подручный — с барж. Если браться — дело за малым станет: начальство бы не перечило да деньгами бы кой в чем помогло…
Перестал Дмитрий Алексеевич ус крутить. Башковитый казак Горобец!
— Заманчиво, — говорит Реснянский, — завлекательно…
— Я уже прощупывал насчет этого дела почву, — затянулся Сергей, думая, как бы старика на помощь себе вызвать. — Костя не дает денег. И как тут быть?!
«Вот оно!» — подумал Реснянский, ждал он уже закавыку.
— Бобкову страшно, без Колесова поддержать некому. Бочкарев — так и говорить не стоит… Что теперь делать-то?
— В райком сходить?! — встрял со своим советом Алик.
Старик молчал. Пока молодые тешились, перебирая возможные варианты, он теребил ус. Потом зажег окурок, откашлялся с крутой затяжки. Нехотя, не глядя ни на Алика, ни на Сергея, сказал, будто вслух думал:
— Ума пытаешь… Почем мне, старику, знать? Ай я казак? Неужто народ наш теперь ничего не значит? С каких бы пор? — вздохнул он тяжело. — Вот, брат, в старину, дед мой сказывал, старейшины сидели. Что порешат — тому и быть. Они, к слову сказать, волю людскую чуяли. Атаман — хошь не хошь, а за обчее дело горой вставал!
— Да, — с сожалением вырвалось у Сергея. Понял он Реснянского. — Нам бы их, пусть посидели бы на планерках. Ладно, еще с Черемизиным потолкую!
— Потолкуй, — согласился Реснянский. — Казаковать умеет, молодой, а по правде — многих старейшин стоит. Совещаньем он каким-то командует, договор общественный блюдет… И чего же, подумайте, потолкуйте…
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Багрово-стынущее солнце продирало пепельную утреннюю поволоку, обливая розовым белые стены домиков, шиферные крыши и гравийную дорогу к пристани. Небо над солнцем было еще без облаков, но такой густой синевы, что казалось, не развеется она и за день, а солнце поднимется немного и погаснет. Но нет. Марево над горизонтом светлело, и белые облачка, тоже словно вставшие с солнцем, начали обгонять его, и день мало-помалу разошелся, высветлился.
Удивительно было и другое: серенькие, промозглые дни, поражавшие тишиной и благополучием, отсутствием пароходных гудков, настораживающие предзимним покоем полей и огородов, казались Сергею давным-давно прошедшими… Да, отлетела перелетная птица, не слышно гудков с реки, но вот у обочины из зеленой, как по весне, пригоршни травы высунулся и распустился желтой лапкой одуванчик. На фиолетово-синюю, видать, последнюю перед снегом, головку репейника села маленькая, с пальчик рукавицы, серая птица. В голых кустах черемух, по мускулистым сучьям яблонь прыгают желтоперые щеглы и свистят синицы. Язычками огня мечутся по садам яркие красногрудые снегири.
Ноябрь-полузимник установился с этого дня недолгой хорошей погодой, словно собираясь с последними силами, чтобы выехать потом на пегой кобыле: то снег, то грязь, то грязь, то снег. Старики говорят: ноябрь с гвоздем, декабрь с мостом. И не велика вроде у ноября кузница, а на всю Русь в ней оковы куются: ледостав уже на прудах и озерах.
Радовали Горобца эти прибаутки. Ему как раз и нужна такая погода, чтоб с гвоздем и молотком поработать. Пока дождь да снег не загнали людей под навесы, управиться бы с питателями, вырыть бы ямы под фундамент новой мастерской. Пусть-ка разгорается, пусть-ка светит солнышко — все делу на радость!
Назначив в помощники к Реснянскому Алика, Сергей предупредил бригаду, чтобы выполняла только их распоряжения. На подкрепление — где что подвезти, отвезти — послал Миновича с бульдозером. Получив у Копишева инструмент, рабочие ушли разбирать «балалайку». Сам Сергей решил еще раз поговорить с Подложным. Если Костя будет несговорчив, Сергей ультимативно заявит, что приехал на пристань работать, а не заглядывать каждому в рот, не молчать, когда страдает дело…
Константин Николаевич разговаривал по телефону, но был в кабинете не один, с каким-то незнакомым Горобцу человеком.
— Разрешите? — спросил Горобец.
— Да! — Подложный, не глядя, хмыкнул, продолжая слушать трубку.
Горобец сел, а начальник пристани удивился:
— Кто вам разрешил, Сергей Никандрович?!
— Вы же сами сказали…
— Не знаю. У меня разговор не для посторонних.
Обиженный Сергей ушел из его кабинета к Бобкову. Спустя четверть часа Калинович открыла дверь, шмыгнула носом:
— Горобе-ец, начальник ждет!
Теперь Сергей ожидал у порога приглашения. Подложный устало махнул рукой.
— Садись. Обиделся? Тут разговор с пароходством, из Хабаровска человек по делу Колесова… Ну, а у тебя что?
— А что с Колесовым? — насторожился Сергей.
— Думают его забрать от нас. Характеристику подписал — на учебу его зовут. Партийные кадры нужны нам грамотные. Ну?!
— Прежде всего — перенести срок сдачи питателей.
— Невозможно. Планы утверждены в пароходстве.
— Мы изменим боковую стенку и ходовую часть. Смонтируем разборными узлами. Время нужно!
— Похвально, правильно, а план изменить не могу.
— А если обсудим на планерке?
— Сергей Никандрович, ты сообразительный парень. К чему усложнять отношения? И потом, что тебя волнует? Не уложитесь в график, знаю, — получишь выговор. Зато потом дадим недельку на доработку.
— Ясно. А с мастерской — не договоримся?
— Делай! Но денег — ни копейки.
— Тогда все.
— Желаю успеха.
Люба улыбнулась, но Сергею не до нее. Теперь он наверняка знал, что любая оплошка с питателями дорого ему обойдется. В мастерской кое-кто уже предрекает ему участь Синько. Дескать, завалится — пойдет на шпалы костыли зубами дергать. Разговорчики пошли от инструментальщика. Он не то чтобы по злобе или умыслу, а так, по дурости, любил сболтнуть лишнее, чтобы показать, как он много знает и начальству близок, в пристанских делах разбирается.
— Если жалобы от рабочих будут, — сказал ему Сергей, — то мы, Иван, будем разговаривать на другом языке. Не нравится мне твоя работа, с ленцой ты. Не учтешь — подыщу другого человека.
— Ух, нашел чем грозить! Да сюда собаку силком не затащишь. — Красные веки Копишева задергались, а руки стали бестолково перекладывать с полки на полку молотки и кувалды.
Поняв его волнение, как признание ошибок, чувствуя власть над ним, Сергей приглушил грубоватые нотки в голосе:
— Иван, я не грожу тебе, и ты не ерепенься. Послушай еще раз: сколько здесь начальников было — все вылетели, не справились с работой. И ты им здорово помог. Я не справлюсь — тоже полечу. Но до этого еще далеко. Учти, твоя работа не нравится ни рабочим, ни мне. Поэтому вот так: есть у тебя инструкция — выполняй. Но с разумом. Не будешь — накатаю рапорт. А сейчас повторяю: помогай Реснянскому, сам, без понуканий. И чтобы с нынешнего дня посторонних в инструменталке не было. Есть окно — через него и выдавай инструмент. Надеюсь, ясно?
Разговор этот слышали и другие рабочие. Они подшучивали над Копишевым: как, мол, тебя комбат пропесочил?! Но понимали они и другое: не собирается уходить Горобец из мастерской — значит, есть у него надежды. Им стараться надо.
Рабочие были старше Сергея, многие годились ему в отцы. Получать от него замечания никому не хотелось, да и стыдно — от молодого-то!
После праздников Людмила носилась по аптекарским кабинетам, шутила с подругами. Они спрашивали:
— Быстроногая, что с тобой?
— Сегодня солнце с другой стороны встало!
— И правда, с другой… На осень не похоже, как весняет!..
— А не морячок ли тебе предложение сделал?! — тут же пытали они Людмилу, но та убегала от стерильных стеллажей к весам и напускала на себя строгий вид. Но думала-то о Вадьке. Как он удивился ей. «Люд, Люд, ты?!» — говорит. Теперь прилетит от него письмо! Интересно, будет ее ругать? Как и Динка, ревнивый. Первым делом спросит: с кем, мол, ты примчалась? Что за кавалер тебя охранял?..
В обед Люда пошла к Дине. Встретила ее Динина мать. Она обрадовалась, смахивая фартуком с табуретки, заставила Люду сесть, приговаривая:
— Садись, садись, у тебя ноги не казенные, отдохни немного. Погодим, глядь, и Динка подбежит, если товар не принимают. Ну, как тебе можется? Не остыла?! Хлыдь такая, мы уж печку топим.
— Нет, теть Ань, все нормально. Я билеты думала в кино взять, а не знаю, пойдет ли Дина?
— Ой, милая, ничего тебе не скажу. Не след мне в ваши дела лезть. Знаешь, к ней художник с пристани ходит. Динушка моя разоденется, как пава, косы разметает, а он к окошку садит да выговаривает все что-то. Песенки просит играть, а сам, значит, рисует… Вот на этом месте, где ты сидишь, а она вот здесь, и хорохорится, поет по-всякому, а то засмеется, засерчает. Не хочешь ли чайку? Нет? Ну ладно. А я гляжу на них и думаю: статные оба, кабы у них вышло-то что!..
Мать коротко вздыхает. Люда улыбнулась, поднялась было уйти, да старушка спохватилась:
— Эк, память отшибло! Зубы заговариваю… Вадька письмо прислал. Я Динку жду не дождусь, почитать бы, а тут и ты. Небось приветиком не обидел, почитай мне, я-то слепая…
Люда распечатывала солдатский треугольник, уверенная, что и ее ожидает теперь письмо, а в этом привета может как раз и не быть, думала она. Полевая почта прежняя, почерк тоже не изменился…
— «Здравствуйте, дорогие мои мама и Дина. С горячим солдатским приветом к вам Вадим. Извините, что не писал долго. Скакал с места на место, то учения, то поездки всякие. Замучились, и времени ни капли.
Большое спасибо за подарки, — читала Люда, — за те, что я получил в Завитой. И чемодан мне в самый раз. Все очень вкусно, особенно пельмени — на славу вышли. «Особая» пошла в дело сразу, отметили Октябрьскую…»
Вместе с матерью, улыбаясь и радуясь его письму, Люда прочитала, как работал Вадим в целинном совхозе, откуда он и возвращался с частью. Но вот дочитала она до последней строчки, и голос ее осекся. В совхозе он с учительницей подружился, обещает даже карточку ее прислать посмотреть. Только, говорит, вы фотку сразу верните…
Люда отдала матери письмо. Тетя Аня промокнула фартуком глаза, прошептала:
— Что ж это он, а? Как же?
— Вот и ладно, — сдержанно сказала Люда. — Когда-нибудь надо жениться… А я пойду, теть Ань, спешить надо…
— Час добрый, милая, час добрый…
Мать подперла дряблую, морщинистую щеку и затуманенными глазами долго смотрела через окошко ей вслед. И губы ее шептали непонятное что-то, быть может, просто шевелясь, как тени ее потревоженных мыслей.
Пока не добежала до своего крыльца, Люда еще надеялась, что Вадим шутит. Ей-то он напишет правду! Подняла крышку почтового ящика — пусто. И, как упала крышка назад, так что-то дрогнуло в груди, порожнему эху отозвалось. Вадька, Вадька!.. И что же ты, как зайчонок, в кусты нырнул, что же ты ей не сказал правды?!
— Что с тобой, не ушиблась где? Бледная такая… — спрашивали Люду на работе.
— Голова… — вяло отвечала Люда и никому не смотрела в глаза.
— Выпей пирамидону!
— Пила уже, пила…
Она не смеялась, как утром, не носилась по кабинетам, раза два даже спутала двери… Медленнее обычного, чтобы не ошибиться, развешивала на маленьких, как игрушечные, но точных аптекарских весах миллиграммы и децы пирамидона. Иной раз останавливалась у окна — видела каких-то людей и не видела их.
Капитолина Ефимовна часто выходила из-за прилавка. Посмотрит на девушек, с кем и словом перекинется, посмеется, Люде ничего не скажет. Только в пять часов Горкушина окликнула ее:
— Малыгина! Останься на минутку, хочу посоветоваться с тобой…
Опустела аптека. Горкушина сняла халат, бросила на спинку стула и показала Людмиле на холодную в желтой клеенке кушетку.
— Садись. Я тебя не задерживаю?
— Нет, — уныло ответила Люда.
— Ты не заболела ли вправду, девонька?
— Да так, нет…
Горкушина помолчала. Лицо ее сделалось скорбным. Уперев локти в колени, она обхватила подбородок руками. Сидела так с минуту, потом, точно решившись, по-мужски хлопнула с азартом ладонями по коленям и, раскрасневшись, выпрямилась.
— Слушай! Ты уже взрослая, будем говорить прямо. Это невыносимо, жутко спать с человеком, которого не любишь. И за что мне такое наказание!.. Порвать с Горкушиным я не могу… Пропадет он без меня… Да и развода он не даст, он мне все простит! А Миша Бочкарев — помани пальцем… Зачем ему и без семьи и без меня маяться…
Она вынула из рукава неизменной зеленой кофты платок, приложила к глазам. Она не плакала, но в этом месте следовало бы заплакать… Что-то похожее на жалость вошло в Людино сердце, но она знала Горкушину, чтобы сразу поверить этому чувству. Если Бочкарев бросит ходить сюда с черного хода, она ведь не лишится чувств, никогда…
— Люда, — устало посмотрела на нее Горкушина, — в тебе я уверена, но друг твой, Горобец, кажется, он не болтлив?..
Люда встала, чтобы прекратить разговор.
— Мне от тебя и не нужно ничего, — почти растерялась Горкушина. — Скажи ему, что Миша хвалит, поддерживает его… А ссориться из-за мужиков?! Нам ли?! Это их дело!..
— До свидания, — с трудом сказала Люда, отходя к двери. Она не хотела больше ничего говорить. Провела пальцами по глазам, как от сильной рези, и, уже с порога, на протянутую руку Капитолины Ефимовны, невольно ответила: — Подумаю.
Люда зашла в магазин. Дина, отвернувшись, вытирала пыльной марлей игрушки, переставляла на полках матрешек. Еще не было сказано ни слова, они даже не поздоровались, но по ссутулившейся Дининой фигуре Люда поняла, что та рассержена. Люда постучала монеткой по стеклу:
— Матрешку можно?!
— Какую изволите? — сухо ответила Дина.
— Да ты что, Дин?
— Ничего… Какую матрешку?
— Мне поговорить с тобой надо.
Дина поставила матрешку обратно на полку и невозмутимо ответила:
— Не о чем нам говорить.
— Не до смеха мне, Дин…
В соседнем отделе покупали радиолу. С пластинки на весь магазин грохотал джаз. Люда механически опять звякнула монетой по стеклу. Дина повернулась к ней, губы задрожали:
— Все Поярково спрашивает, кто Сережку отбил! А я его после двенадцати от себя не провожаю! Вот так, подружечка…
Какая-то тетка в цветастом платке, с кошелкой в руках остановилась у прилавка и, раскрыв рот, восхищенно смотрела на них.
— Дин?! Да ты что?! Мы же в Завитую…
— Вот-вот! А из Завитой?
— Эх ты… — выдохнула Люда и пошла из магазина.
— Ча-ча-ча! Ча-ча-ча! — оглушительно ревело в приемнике.
Летом никто на пристани не сказал бы, что нынешняя зимовка будет особенной. Все складывалось как обычно — спокойно и медлительно, как и должно быть во время перерыва от большой работы. Планы навигации выполнены. К ремонту механизации все относились как к делу привычному, не требующему ни спешки, ни волнений.
Так было из года в год. Но — странное дело: нынче Подложный вместо благодарностей не скупился на порицания; Бочкарев, как шутливо заметили рабочие, захвативший политическую власть, выпускал сатирические листки, чихвостя пьяниц и прогульщиков; Черемизин строил новый причал, а молодые ребята из Горького переделывали по-своему механизацию… Ни спокойствия, ни спячки на этот раз не предвиделось. Слишком крут был замес.
Многие на пристани согласились бы со стариком Реснянским, который рассуждал со своей старухой:
— Вот, бабка, жили мы тихо. Заметет снегом, мы и не чешемся. Ан надоумило сад устроить… Яблоки-то сладкие, а мороки с ними? Мороки не оберешься! И гляжу я — на пристани… Поприехали казаки, хороши соколики, как яблоньки молодые — одних не бросишь их. Корнями еще не уцепились, выворотит их бураном… Как же без догляда за ними? Скажут еще, жизнь тут плохая. Не-ет, пока они м а р а к у ю т, делают свое, надо их пестовать, растить, как саженцы…
Философия старика немудреная, практикой нажил. В гражданскую с отцом Черемизина партизанил, памятник ему потом ставил. «В остатнее» — в мирное — время никакой работой не брезговал. Не за куском хлеба гнался, не за рублем, — видел, как его руки преображали жизнь. От этого спокойнее было на сердце. Но последние годы забот и тревог прибавили… Хорошо кочету, пока молод!.. Ну нет, Реснянский так не сдастся, за выслугу лет его не спишешь… Будет он при деле, пока мотор стучит!
…Алик разыскивает Кержова. В этот поздний час он мог быть в клубе. И точно — «травил» там парням анекдоты. Увидев Алика, Володька выпучил глаза и приложил палец к губам:
— Тс… Ребят, я отчаливаю. Если что, смотрите мне! — погрозил кулаком и, больше не обращая внимания на них, подошел к Синько. — Что-то, Алик, вы с Серком отделяетесь от меня? Значит, я ненадежный, ни на что не способный и гереушную бляху напрасно ношу! Спасибо, друзья-товарищи! — в голосе Володьки досада.
— Ты как в воду смотрел! — ответил Алик. — А не знаешь, зачем я тебя ищу? Пойдем к девочкам?! У тебя же их навалом!..
— Давай, давай, заговаривай зубы! Чего надо?
— Надо выточить соединительные пальцы к муфтам.
— А я тут при чем?
— Без них завтра простой. Завалим питатели. — Алик цепко взял Кержова за рукав и повел к пристани, объясняя на ходу: — Я на тебя рассчитываю. В мастерской сейчас пусто. В ГРУ нам, кажется, давали токарный разряд!
— Резцы, лерки?
— Есть. Знаю, где лежат.
У сторожа они «по срочному делу» вытребовали ключ, а самим немного боязно. Три или четыре года не подходили к станкам. Взявшись сейчас за работу, не наделают ли худа?
Кержов снял шинель, включил над станком свет и, вспомнив прежнюю выучку, укрепил в шпинделе болванку. Отцентровал резец, потом подошел к Алику:
— Ну, чухаешься?!
— А ты? Давай, начинай первый!..
Кержова будто и не смущало, что токарил он давно. Знал: хороший станок подскажет, какую держать скорость. Склонив набок круглую, как футбольный мяч, голову, он заправски небрежно надавил пальцем кнопку. Надсадно взвыл мотор. Когда обороты стали нормальными, звук сделался тише, ровнее. Володька подвел резец к заготовке. Ржавая стружка с хрупом отлетала от резца, обнажая синеватый стержень. Запахло паленым маслом и горячим металлом, и от этого запаха и шума станка самому Володьке стало покойно и хорошо на душе, как давно не бывало на пристани…
Сторож, отдавший ребятам ключ, не утерпел и любопытства ради пришел поглядеть на техников. Он думал, что они тут «соображают», но чтобы начальство так вкалывало — дед даже ахнул, — никогда не видывал. Оба стояли в тельняшках. Тот, что повыше и худенький, который, говорят, начальника пристани раскритиковал, почтительно, осторожно подвигал суппорт. Не отрывая глаз от резца, он встряхивал головой, откидывая назад волосы. Товарищ его нацепил себе на макушку носовой платок, завязанный по концам узлами. И ни минуты не стоял на месте, приплясывал, подсвистывал, а увидев сторожа, подмигнул ему и захохотал. Старик, покачав головой, удалился, стараясь не скрипеть дверями, не тревожить понапрасну рабочий люд.
Выточив к утру детали, Володька и Алик задремали на лавках в мастерской. Растолкал Алика Горобец (Володька смылся на участок как раз перед его приходом).
В тот день Подложный часто вызывал Горобца в контору, Бобков тоже не давал ему покоя — заставил копаться в старых актах. Работать, по сути дела, с питателями было некогда. Но теперь Горобец не волновался, знал, что кто-кто, а Алик не допустит срыва… И правда, вместе с Реснянским и Пономаревым Алик вел сборку. Копишев таскал заготовки и инструмент, кидаясь, где поддержать, где отнести что, и спрашивал, заламывая козырек шапки:
— Как, братва, учудим Косте?! Ничего не нужно? Иван Копишев в доску расшибется, а ради такого случая из-под земли что хошь добудет!
— Ничего не надо, — отвечал кто-нибудь из бригады. — Поменьше болтал бы, Иван!
— Это можно, это разом! — отвечал он без обиды. — Ну, трудитесь. Если что — свистните! Я мигом…
Скоро контуры питателей вырисовывались уже настолько, что и непосвященному было ясно: дела в бригаде идут хорошо. Повеселели рабочие, только Сергей хмурился.
Вроде бы в шутку на последней планерке Подложный спросил Бочкарева:
— Не пора ли переводить Горобца в техники?
— Нет, пятнадцатого только…
— Как, Сергей Никандрович, — усмехнулся Подложный, — обождем? Или сейчас начнем меры принимать? А то ведь мы все досрочно любим делать…
— Благодарность досрочно вы не объявите, — сказал Сергей, — а с переводом и выговором можно не торопиться.
После планерки, захлопнув свою «приходно-расходную» амбарную книгу, Бочкарев придвинулся к начальнику пристани.
— Константин Николаевич, — спросил он, — как бы не сорвалось у нас это дело?
— Что так?!
— Уложится Горобец в срок, вот чего боюсь. В мастерской все над питателями как пчелы над ульем.
— Что ж тут плохого?
— Да думаю, кого-то надо в Суражевку за тросом послать, дней на семь. Неплохо бы Горобца…
Подложный откинулся на спинку кресла, помолчал, прикрыв глаза.
— Ты бы подумал, Михаил Григорьевич, как помочь Горобцу, а то ведь придется его в инструментальщики переводить.
— Если пойдет, — возразил Бочкарев. — Это не Синько.
— Пойдет! Дисциплинку он сам любит.
— Я что-то не пойму никак, Константин Николаевич, Горобца увольнять надо! По-моему, он как раз из тех, какие любую дисциплину по-своему понимают.
Подложный встал. Сунув руки за спину, прошелся по кабинету, остановился напротив Бочкарева и грозно, словно приказывал, сказал:
— Таких людей не увольнять надо, а условия создавать… чтобы сами уходили.
И после внушительной паузы мирно закончил:
— А для командировок, Михаил Григорьевич, сошки помельче есть. Пошли Кержова! Кстати, — добавил он, садясь в кресло, — как в мастерской с порядком, с внешним оформлением?
— Порядок. Шик-блеск навел, плакаты… В перекур к нему ребята с участка греться бегают.
— Вот что: скажи Черемизину, пусть оборудует у себя что-нибудь вроде буфета.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Кержов обрадовался, когда ему предложили командировку. Ребятам он говорил, что уезжать ему неохота, что лучше бы он тут им помог чем-нибудь… А уезжая, пустил Кержов Володька в своем сердце корешок надежды на неудачу Сергея. Конечно, рассуждал сам с собой, он помог тогда Сережке, когда вытачивал с Аликом муфты в мастерской. Но ведь и отказать тогда было равносильно предательству… Теперь же обстановка значительно прояснилась: если Сергей погорит с питателями, то начальником мастерской быть не кому-нибудь, а ему, Кержову! Само собой, друзья на первых порах обидятся на него, а за что? Фактически не за что! Интересы производства выше детских отношений! В конце концов, работать и в Пояркове можно. Подложный не так плох, как кажется, например, Сергею. Да и чем лучше его, Кержова, этот во-ро-бей — Го-ро-бец? Разве это так умно — переть против такой горы, как Костя Подложный? Ничуть. Вот забраться на эту гору, а потом взять все в свои руки и вершить по-своему — это иное дело! Но Сережка еще до этого не дорос. Романтик, молокосос! Ничего, с возрастом это у него пройдет. А пока он еще и в техниках походит, и из Пояркова безболезненно может мотнуть хоть в Благовещенск, хоть в Москальво на Сахалин, а хоть и в Европу. На таких мальчиках везде кататься можно…
Кержов твердо знал, что, когда он вернется, — тут уж не о питателях речь пойдет, а о том, кому мастерскую вести. Наверно — Владимиру Кержову, кому же еще!
Сергей сказал ему на дорогу:
— Если в Благовещенск завернешь, загляни к Колесову. Привет передай!
Сам Сергей торопился к Павлу Ивановичу. Мимоходом он уже говорил с Черемизиным о мастерской, теперь надо показать чертежи.
Он увидел Черемизина, когда тот вышел из траншеи и отряхивался от пыли. Поздоровались, сели на лесенку причала. Черемизин щурился, потирая ладонью крутую шею, и улыбался. А думал он, что Горобец неплохой малый. Кое-кто не любит его за то, что он носится с разными идеями, за то, что не юлит перед Подложным. Если не изменит своим привычкам, хорошим может стать инженером.
— Выкладывай, комбат, что принес?!
— Да так, — Сергей пожал плечами, — пристройку рассчитал к мастерской вместо гаража. С кран-балкой. Мы тогда разговаривали: не знаю, как добиться разрешения на постройку.
— А Подложный?
— Отрубил!
— Трудно… У тебя есть закурить?!
Сергей знал, что Черемизин не курит, но достал ему сигарету, зажег спичку. Павел Иванович затянулся.
— Вот черт, — сплюнул он, — горькая, как перец! Лучше водку пить!
Сделав еще затяжку, он начал сцарапывать ногтем пепел с сигареты, и Сергей усмехнулся, думая, что по такому жесту легко узнать некурильщика.
— Пал Ваныч, — сказал он, — мне говорил Реснянский, в колдоговоре записано, что администрация обязана вместе с пристанкомом обсуждать внедрение новой техники. Даже — что администрация должна отчитываться о выполнении прежних решений…
— Да, параграф четвертый. И местком созывает производственные совещания. У нас они редки.
Черемизин отшвырнул сигарету. Он понимал, что, если Подложный узнает, кто помогает Горобцу «пробивать мастерскую» или хотя бы советует ему, — «меры» будут ощутимыми. Горобцу достаточно намекнуть, что он не сможет помочь. Мальчик раскланяется и будет ломиться сам, пока не расшибется. А один он ничего не сделает.
— Да, — подумал вслух Павел Иванович, — тут дуриком не проедешь.
До каких пор ходить ему, Черемизину, в черной робе, не смея рта открыть при Подложном? Одно из двух: либо Костя уступит, либо Черемизину уходить с пристани. Вместе не работать… А у Горобца опыта мало, хотя мысль о мастерской интересная.
— Вот что, друг ситцевый, — поднялся Черемизин, — идем смотреть твои каракули! Или ты их небось «проектом» называешь?!
В кабинете Павел Иванович подвинул к себе арифмометр, и тут Сергею пришлось покраснеть. Расчеты его оказались верными лишь частично.
— Так вот! — смеялся Черемизин. — Даст тебе Костя две с половиной тысячи, начнешь сорить деньгами и оставишь дом без крыши?!
— Не мог же я каждый гвоздь учитывать…
— Не только гвоздь, заклепку, спичку — все считать должен! Так где ты еще тысячу вырвешь?
— Вам на буфет или на курилку Костя обещал? Вот я и заберу!
— Силен! На, пересчитывай все, да с полтыщи лишних накинь. А то и этих не хватит.
— Но расчеты показывают…
— Знаешь, когда мать не разумеет, дитя что?.. Это про тебя, имей в виду!..
Он хотел еще что-то добавить, но тут раздался звонок, и Черемизин заругался в трубку:
— Занят! Занят, черт побери, потом звякните… — И уже Сергею: — Вот, просят уголька… Из наших отходов, остатков. А это — нам же деньги, а? И без пароходства обернемся, только — Косте ни гугу!
Павел Иванович помолчал, собираясь с мыслями, Сергей ждал.
— Давай, комбат, попробуем так: возьми список членов производственного совещания и переговори с каждым отдельно. Объясни, но не настаивай, не заставляй поддерживать тебя, а вроде бы ты с ними советуешься… О совещании вообще не заикайся, толкуй о деле.
— Знаю.
— Если поддержат коммунисты, рабочие — Реснянский, Пономарев, Минович — хорошо бы! Их народ уважает.
— Не сорвет Подложный обедню?
— Его на все хватит. Да настырному плошка, а умному — ложка!
Сергей понял намек Черемизина.
К обеду пятнадцатого питатели стояли перед мастерской моторами к реке. Зайдя сбоку и поглядывая на дело рук своих, механизатор Пономарев ухнул кувалдой по завибрировавшей железной стенке и крикнул Реснянскому:
— Глянь, Митрич, какие нынешний год получились! Прямо как трубки у курачей, только вместо табака углем набивать надо!
— Ну да, — отозвался тот, — пальцами не набьешь, заводи бульдозер!
— Точно…
Оба сели покурить. Сергей, слышавший через окно их разговор, хмыкнул. Удивился, как рабочие нашли такое сравнение для машин и как это они — делали, делали, а тут глянули и словно впервые увидели…
После обеда Сергей забеспокоился: Подложный с комиссией, видно, не торопился принимать питатели. Велев рабочим очистить от отходов площадку, чтобы лишний раз не к чему было придраться, Сергей сам пошел в контору.
Подложный удивился:
— А зачем вы пришли, Горобец? Выхлопотали себе одно присутствие на неделю, а сегодня вас не приглашали.
— Бригада станет, Константин Николаевич.
— Дайте другую работу.
— Не могу, объект не принят.
— Хм! Твое мнение, главный инженер?
Бобков, выгнув одну бровь, а другой глаз сощуря, прицелился в Сергея, засмеялся:
— А что, настаивает, так, я думаю, поглядим его пушки! Так, комбат?!
И Черемизин поддержал:
— Сами грозились проверять — чего ж теперь делать!..
И они пришли… Потрогали руками каждый болт, посмотрели в каждую дырку, заглянули в люки. Их взгляд не находил изъянов в работе. Хотелось другого — поставить бы питатели под нагрузку и посмотреть, а так все вроде нормально. Бобков топнул каблуком по днищу — все равно что по крейсерской палубе.
— Ничего, — сказал, — надежно!
Тогда Сергей подал знак Алику. Тот повернул рубильник — дернулись днища питателей, и вдруг на одном из них что-то пронзительно заскрежетало. Длинный, как каланча, Бочкарев неуклюже повернулся к Подложному и уже смеялся… Тут Реснянский неспешно обошел питатель, приглядываясь, где скрипит, и с маху ударил кузнечным зубилом по «сопле» — наплыву металла. Отскочил синеватый кусок от сварки, и уже спокойно, ровно зашумели моторы.
Подложный спросил:
— Ваше мнение, комиссия?!
— Какое тут мнение? — Бобков уперся ботинком в раму питателя. — Никто не верил, а питатели готовы. И редукторы нашли, и моторы достали, а Синько жаловался, что ничего нет.
— Да, питатели получше твоих. — Черемизин взял Бобкова за плечо, тот даже согнулся. — Устарела фирма «Два Пи-Эр». Не пойдешь компаньоном к Горобцу? Возьмешь, Сергей?
— У нас испытательный срок два месяца…
— Бобков пойдет, — поддакнул Бочкарев, — главный инженер черной работы не боится. Правда?
Сергей засмеялся — гора свалилась с плеч. Улыбнулся и Бобков. Подложный еще раз обошел коробки, покачал стенки руками — не шевельнулись. Повернулся к главному:
— Составляй акт, Николай Васильевич. В конструкции много нового. Если это твои выдумки — выпишем премию.
— Не мои, — отозвался Сергей. Похвала была приятна, но он ее не ждал, рассчитывал на придирки. — Это механизаторы наши постарались. Пономарев, Рябцев, Реснянский. Еще Минович и Копишев — этих в первую очередь отметить, добровольно помогали…
Механизаторы, стоявшие поодаль, чтобы не мешать комиссии, подошли ближе, облепили питатели. В разговор не вмешивались, покуривали, посмеивались и ждали, что еще начальник скажет. Подложный развел руками в кожаных перчатках:
— Молодцы! Так и впредь надо. И порядочек у вас улучшился… Теперь будете стрелу монтировать к транспортеру. Не подкачаете, чтобы без брака? — Повернулся к конторским: — Все. Будем продолжать планерку.
И комиссия удалилась. На душе у Сергея была усталость от трудной, теперь уже оконченной работы. Алик подошел к нему:
— Зря ты на добрые чувства напирал, Сергей. Костя хвалить не любит, не знаешь, что ли?..
— Все казенно… Не могу так!..
Отстранив друга, он подошел к рабочим. Подошел к Реснянскому:
— Спасибо, Дмитрий Алексеевич!
— Спасибо, Иван! — Миновичу.
— И тебе, Иван, спасибо! — Копишеву.
— И тебе, Дмитрий! — Пономареву.
И всем — сварщику Рябцеву, его подручному, кузнецу, молотобойцу, токарю, — всем пожал руку и сказал спасибо.
Они — грубоватые на вид, сухие и мускулистые, бритые и в щетине, одетые совсем непразднично и непарадно — в латаные телогрейки, в неуклюжие брезентовые спецовки, но довольные — рабочий класс! — жали ему ответно руку, шутили.
— Не стоит благодарностей, — как всегда не к месту встрял Копишев. — Костя нас еще на стреле уработает.
Сергей ничего не сказал ему. Он кивнул Алику, и они пошли обедать. У мастерской, подкручивая усы, стоял Реснянский. Копишев, взвалив на плечи оставшийся инструмент, с простодушной улыбочкой, бросил:
— Пошли начальнички, питатели обмывать будут. Вот жизнь!..
Реснянский, поворотясь, сплюнул перед его дорогой и возразил, а пожалуй, больше для себя сказал:
— Хорошая жизнь. И казаки настоящие, хай живе!
С обидой, зло выругался Минович.
— Вот и я говорю, — с опаской посторонился Копишев, — дай им бог здоровья!..
Вечер стоял погожий, теплый. Над селом со стороны Шапки поднялась круглая на три четверти луна. С дымчатыми пятнышками своих морей она показалась Сергею слишком прозаичной, похожей на помидор… Луна плыла низко, почти задевая крыши. Ее лучи колко дробились в вершинах черных тополей. На улице было тихо, как перед утром, и Сергею думалось, что хорошо сейчас в степи, где по низким балкам должен стоять туман или гривами расползаться по косматым от жухлой травы кочкам.
Возле почты, по дороге к кинотеатру, ему почудилось Людино пальто. А в кинотеатре… он сел с ней рядом. Люда не ожидала с ним встречи, хотела пересесть, но погас свет, да и куда, от кого убежишь в Пояркове?! Она вяло прошептала в ответ: «Здрасте» — и отодвинулась от него подальше.
Фильм оказался скучным. Сергей зевал, ругая себя. Зачем как угорелый подбежал к кассе и попросил кассиршу:
— Пожалуйста, дайте мне билет рядом с Людой Малыгиной, из аптеки!
А в Пояркове кассирши и продавцы знают все. Девушка за окошечком кассы хихикнула и протянула ему билет «по заказу», благо, место свободным оказалось. После сеанса Сергей догнал Люду, молча зашагал рядом. Она вдруг сказала:
— Свернем на Амурскую? Там тише…
«Так не взять ли ее под руку?!» Но Людмила спокойно (в который раз уже!) высвободила руку.
— Не думайте, что Поярково — город. Увидят под руку — сразу сосватают.
— Ну и правильно! — усмехнулся он. — А чего так ходить?!
Людмила хотела что-то ответить, но смешалась и как-то тяжко вздохнула.
— Что-нибудь случилось?
Она промолчала.
— Может, снова машина нужна или теперь самолет? Так достанем, пошли на аэродром!
Она остановилась:
— Знаете, Сережа, когда девчонки плачут?
— Когда глаза на мокром месте.
— Это правда… Меня поговорить просили… об одном человеке. Боятся, что вы испортите ему судьбу.
«Не с Диной ли что случилось?!» — подумал он и, обождав немного, спросил:
— О хорошем человеке?
— Не знаю, — ответила она уклончиво.
— Нет, — уже споря, веселее заговорил он, — что-то известно, иначе не о чем бы и говорить!
— История такая… Лучше не пачкаться.
— Бочкарев, Горкушина?
Она кивнула.
— Тю-у!.. Мне все это до лампочки!.. Свернем к парку?
Гравий хрустел у них под ногами. Впереди от света уличных фонарей перекрещивались их тени, которые то вырастали, то укорачивались на дороге, и казалось, что их идет не двое, а шестеро, и все молчат… В парке пусто. Сергей и Люда остановились под черным тополем, посмотрели друг на друга и засмеялись.
— Поговорили? — спросила она.
— Ага… Тебе хорошо?
— Так…
— Хочешь, стихи прочитаю?
— Если интересные…
— Ладно, вот:
— Правильно, — сказала Люда, и было непонятно, то ли она одобряет, то ли насмехается.
— Что?
— Правильно Алик говорил, что у кого-то на каждый случай по стиху выучено.
— Вот чудак, продал уже! — Сергей не злился, ему было даже смешно. — Ну, так скажу, как «Демона» выучил. Пацаном приехал я в гости к дяде, жил он в городе. У них перед домом книжный лоток. Девчонка-продавщица на ночь переносила книги в дядькин подъезд, там на лестнице был стол с замком на дверце. Я заметил это, и не знаю почему, отогнул дверцу — вытащил книжку… А дядя меня застукал. «Ну, говорит, что будем делать? Отодрать за уши или к матери отослать? Напишу сопроводиловку, дома и объяснишься!» Ну, я взмолился!.. Говорю, делайте, что хотите, только матери ничего не говорите… Пороть он не стал, а письмо-таки написал и прочитал мне. «Видишь?! Кладу на этажерку. А ты девчонке заплати да извинись! «Демона», говорит, если он тебе так понравился, наизусть выучи! Тогда письмо сожгу…» Дядя на работу, а я к этажерке, решил сам сжечь письмо. Сжег! Потом одумался: он же другое напишет… Схватил книжку и, ничего не понимая, стал зубрить. Вот вспомнил…
…Потом они шли домой, держась, как дети, за руки. Ночь была поздняя, Люда не боялась, что их кто-нибудь увидит. Да пусть бы и видели, пусть бы в удовольствие почесали злые языки…
У калитки они остановились. Большая яркая луна уже клонилась к горизонту, задевала над крышами трубы, остывшие к ночи… Длинные тени деревьев пересекали улицу, на которой показалась вдали парочка. И Сергей, и Люда невольно смотрели на этих двоих, размахивавших руками, приближавшихся к ним… Вот эти двое побежали — ближе, ближе: Алик и Дина!
Люда хотела было юркнуть за калитку, но успела только спрятаться за спину Сергея, как запыхавшийся Алик сказал:
— А мы думали, что уже и не встретим вас нигде! Все улицы обошли, все парки, ни одного потайного местечка не пропустили, а вас нет нигде!
— Да что случилось? — спросил Сергей. — В мыле! За вами гнался кто?!
— Да нет, — усмехнулся Алик, — мы за вами гнались! Скажи, Дин?!
— Люд, Люда, — негромко проговорила Дина, — ты на меня все обижаешься, да? Ты прости, я такая дуреха… Я ничего не знала тогда, понимаешь? Наболтала сгоряча… про Вадьку нашего не знала… И вообще — все мы глупые и дурные!
Сергей повернулся и внимательно посмотрел на Люду. Может быть, она что-нибудь объяснит?!
— Да ты оставь их, — сказал Алик, — сами разберутся. Пойдем в общагу! Заночуем у тебя, а завтра встретимся. Все в норме будет!
Люда положила руку на плечо Сергея, посмотрела ему в глаза и покачала головой, словно не соглашалась с Аликом.
— Иди, — прошептала она ему на ухо, — так лучше будет!
— Так что, женитесь вы, что ли? — со смехом спросил Сергей Алика по дороге. — Какие-то таинственные отношения, ничего не ясно!..
Алик замялся, начал говорить про Володьку, но Сергей уже настойчивее переспросил его:
— Что у тебя с Динкой? В загс идете?..
— Не-ет, — неуверенно ответил Алик. — Просто Дина боялась одна к Малыгиной идти, прощения просить… Она же обидела ее в магазине на днях… А ты что, не знаешь?!
— Вроде нет.
— Ну вот, а со мной ей было не так страшно вас искать.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Кержову везло на командировки, а особенно на деньги. В незнакомом городе не иметь рубля в кармане — хуже наказания не бывает, считал он. И если обычно он накупал себе китайских авторучек, шариковых карандашей, перочинных ножиков и прочих безделушек, то на этот раз, остановившись по пути из Суражевки в Благовещенске, он ходил по гастрономическим магазинам, покупая гостинцы Колесову.
Грохнув тяжелой дверью приемного покоя, он так затарабарил дежурной сестре про неотложные обстоятельства, что та перестала махать на него руками и выпроваживать за дверь, сказала только:
— Ждите тут, смирно сидите! Врача позову…
На застекленной веранде второго этажа, у окна дремал в шезлонге худой мужчина в фиолетовом больничном халате из бумазеи. Нательная желтоватая рубашка была застегнута под острым кадыком, похожим на орешек. Кержов, подивившись худобе Колесова, остановился в двух шагах от него и засопел.
— Федор Владимирович! — позвал он.
Темные веки дрогнули, и Колесов отчужденно посмотрел на Кержова, потом что-то переменилось в его глазах, от них поползли морщинки. Наконец и лицо все расплылось в улыбке. Он протянул руки:
— Постой, постой… Кто же это, Кержов?
— Я, Федор Владимирович. Я думал, вы и не узнаете меня… Вот, прикатил в гости.
Колесов встал, засуетился было, усаживая Кержова, и вдруг смутился, покраснел, потом сказал:
— Знаешь… мне не велено говорить много. Давай шахматы расставим, а то тебя быстро выпроводят.
Федор Владимирович подкатил низенький столик, расставил на нем фигуры, сделал первый ход. Кержов повторил — пешкой от короля. Колесов выставил коня, а Володька помолчал немного и хохотнул:
— Соглашайтесь на ничью, Федор Владимирович!
— Постой, как на ничью?..
— А так! Я при таком начале у Таля партию выиграл. В поезде ехали… Я подвинул пешку и думаю час, второй — ходить мне еще или нет. Он видит, с кем играет, — запросил ничью! Ну, я уважил…
Колесов расхохотался, но скоро схватил рукой грудь и умолк, хотя глаза шельмовато улыбались.
— Не умею играть… — признался Кержов.
— Не беда, научишься еще. Рассказывай, что у вас нового!
И Володька стал рассказывать. Сперва о Бочкареве, потом о питателях, об Аликовом рисунке, наконец, о новой мастерской, строительство которой хочет затеять Сергей…
— Тебя Горобец прислал? — спросил Колесов.
— Да!.. Нет!.. — запутался Кержов. — Я из Суражевки, мимолетом.
Из-за пазухи халата, наверное из потайного кармана, Колесов вытащил трубочку с коротким мундштуком, наскреб из кармана табачного крошева, со смаком раскурил от случайно оказавшейся у Кержова спички.
— Выйдет у нас что-нибудь? — не утерпел Кержов. — Если мы вместе возьмемся? У нас молодость, у вас авторитет!..
Колесов снова полез в карман, вытащил измятый конверт и протянул Кержову.
— Обо мне Константин Николаевич уже позаботился. Сообщают, что принят в совпартшколу.
Володька скуксился и как-то жалобно протянул:
— А мы-то думали: вместе… И чего Подложный противится?
Колесов постучал трубкой по ладони.
— Не знаю, солдат. Служба — штука хитрая. Вся и беда, что вы молоды. Каково-то Подложному соглашаться с вами?! Психологическая несовместимость… А хозяин он рачительный, уверен, что за него думать на пристани никто не обязан.
Володька возмутился:
— Так что, Подложный ради пристани или пристань ради Подложного? Зачем же мы вкалываем до треска в лопатках!
— А правда, — покашливая от едкого дыма, хитря, переспросил Колесов, — зачем?
Его темные глаза пристально смотрели на Владимира. На висках Кержова вспухли голубоватые жилки и часто запульсировали. Он поднял кулак и медленно, весомо опустил его на стол.
— Ну, — сказал, — прощайте! — И дрожь была в его голосе. — Я думал, вам-то понятно все! Справимся без вас с Костей.
Володька решительно отодвинул кресло. Колесов спокойно улыбнулся:
— Ох и спичка ты! Садись-ка!
И если бы не улыбка на его лице, Кержов бы не сел. На всякий случай он независимо закинул ногу на ногу. Федор Владимирович поймал упавшую на колени трубку, прилег грудью на столик.
— Слушай, — сказал он тихо. — Я понимаю, вы думаете сейчас не о себе. Но можно понять и Константина Николаевича. Привычка заставляет его думать о себе и о пристани.
— О собственном благополучии тоже?
— А ты язва, Кержов! — Колесов усмехнулся. — Парень хороший, а слушать не научился! Тут механика постижимая. В канун отчетного года перерасход средств Подложному вот тут ляжет! — И Колесов постучал ладонью себе по шее. — И Поярково ему порядком надоело…
Кержову показалось, что Колесов не шутит.
— А наверху не видят, что ли? Подложный расправляется с нами, как с пешками.
— Э-э, какая пешка! Иная в ферзя метит.
Кержов покраснел. Уж не его ли Колесов имел в виду? Но он ведь себя ничем не выдал. И, чтобы отвести возможные подозрения, сказал:
— Если Горобец — так он, конечно, не откажется, чтоб его ферзем или ладьей сделали. И глупо было б отказываться в наше время. Да и работает он не хуже других… За двоих, за троих тянет!
Колесов будто мимо ушей пропустил его слова. Выбил о край стола пепел, потом, уже пустую, еще немного пососал трубку и, скрывая под нахмуренными бровями свой взгляд, сказал Кержову:
— Одну мысль не вредно вам уяснить: за большую цель, за идею, за народное дело стоять надо до победы. А шкурников гнать от себя прочь. Они тоже умеют прикрываться нашими знаменами…
И опять Кержов покраснел, а Колесов помолчал.
— Не стоит паниковать сразу, если дело покажется тебе вдруг маленьким, незаметным. Может, имеет оно свое место в том, большом, за что борется народ. Вот ведь с какой стороны смотреть надо… Да что мне тебя агитировать, сами-то вы как решили?
— Я им говорю, производственное совещание собирать надо. Как народ решит — так и будет. И никуда Костя не попрет!
— Тоже верно. Не сорвется собрание?
— Нет, Черемизин за нас, значит, твердо!
Колесов согласился с ним. Видно было, что он устал, и Кержов заторопился. Главного он все-таки добился. Колесов позвонит отсюда в пароходство или в райком, чтоб кто-нибудь пришел на собрание. Если Горобец победит, то и его, кержовская, заслуга в этом деле не забудется. А если по Костиному будет, так он может сказать, что даже советовал Колесову не поддерживать собрания. Тем более что Колесов учиться уедет — пойди докажи тогда, что не так было…
Федор Владимирович поднялся, положил ладонь на плечо Кержову:
— Эх, брат, нечего мне тебе подарить за гостинцы. — Он посмотрел на Володьку, потом оценивающе на трубку. — Ты куришь?
— Так, балуюсь…
— Возьми! Фронтовая. Мне бросать курево, а она со мной — покоя не дает. — Он улыбнулся. — И сам не кури, разве когда прижмет… Нам еще многое на земле сделать надо!
На совещание собрались у Подложного. В кабинете мест не хватило, и часть народа толпилась в приемной, где обычно стучит на машинке Люба Калинович. Тут все курили и переговаривались.
Горобец и Алик сидят у окна напротив двери. Им виден Кержов. Он посапывает колесовской трубкой и трясет ею в кулаке — знак Сергею, чтобы не волновался. Горобец поджал губы, ждет, когда Черемизин даст ему выступить. Народ настроен вроде бы добродушно, многие улыбаются, подмигивают Сергею.
Бочкарев перед началом сказал ему:
— Ну, Горобец, если твоя возьмет — бутылку ставлю!
— Не твоя, а наша! — ткнул Бочкарева и себя в грудь Кержов. — И за спиртом ты побежишь, понял?
Сергей только усмехнулся, а Бочкарев, не глядя на Кержова, продолжал обнадеживающе:
— Ты учти, если план примут, за него триста рубчиков полагается. Надо напирать!
Вступительное слово было за райкомовским инструктором. Он хоть и не сказал прямо, да все поняли, что Колесов с ним разговаривал, просил разобраться. Потом Черемизин объяснял суть дела. Когда говорил, не смотрел на Горобца, может, не хотел смущать его раньше времени. Закруглился он образно:
— Монета стоит ребром, товарищи, а куда она упадет — от нас зависит. Если орел, — значит, строить мастерскую, а решка — зимовать по-старому. Вот послушаем сейчас Горобца и решим. Давай, Сергей Никандрыч, твой черед!
Подходя к маленькому столику, за каким обычно писал Бочкарев, Сергей испугался чего-то. Разложил чертежи на столе, все ожидают слов его, а он начать не может. Кто-то подзадорил из коридора:
— Не бойсь! Пузыри пустишь — круг кинем!..
— Да сами вы знаете, какой у нас гараж, — начал Сергей, — название одно, а это же курятник. Матицы заденешь плечом — рухнут, только пух пойдет. А в щели по стенам не ладонь — шапка пролезет…
Он старался смотреть каждому в лицо, и говорить им — Реснянскому, Миновичу, Копишеву — каждому отдельно. И когда он видел по их глазам, что они его понимают, становилось ему спокойнее. Не волнуясь почти, рассказал он без утайки, на чем не сошлись они с Подложным. Тот, мол, тоже понимает, что гараж — дело выгодное, а денег не дает. Сергей и руками развел:
— Константин Николаевич к экономисту отсылает, а тот обратно. В общем, сказка про белого бычка. Стал с ними ругаться, а они на Бочкарева спираются. Мол, с него штаны снимать надо: он деньги перерасходовал и не починил ничего.
— Да что там было, — возразил Бочкарев, — капля, триста рублей, дырки замазать не хватило!
— Не триста, конечно, побольше, — ухмыльнулся экономист и растопырил пальцы…
Дело было ясное. Лохмотья сколько ни латай, все равно нитки расползутся и дырки сверкать будут.
Пока Сергей отвечал на вопросы, Подложный переговорил о чем-то с Бобковым, наверное, просил выступить, а тот отмахнулся: «Да что я скажу! Хоть бы и подождать со строительством, а старый гараж технадзор давно запретил. Выступлю — он же мне шею потом намылит!..» Горобец предлагал старый гараж укрепить стойками и оборудовать под склад запчастей. Подложный думал было уцепиться за эти слова, да сам сообразил, если стойки поставить, с бульдозером там уж не развернешься.
Сергей показал листы с рисунком и чертежами.
— Вот такой будет новая мастерская!
Сидевшие впереди подвинулись, чтобы рассмотреть получше. Инструктор из райкома высмотрел что-то и спросил:
— А это что такое?
— Это на всякий случай, — Горобец смутился, — теплый туалет запланирован…
— Значит, только на всякий случай? А как же, простите, всегда?
Вокруг засмеялись. Чертежи пошли по рядам. Рабочие разглядывали их с дотошностью, иные и вовсе недоверчиво — красиво все получалось. Самый заинтересованный народ — бульдозеристы — советовались между собой, обговаривая удобства проекта. Они галдели, нарушив на время порядок. И только когда измятые, засаленные отпечатками пальцев чертежи вернулись к Горобцу, он смог сказать о последнем «пустяке», что денег надо три с половиной тысячи — меньше, чем на «Москвич».
Его поняли: «Москвич» возил одного Подложного, а мастерская-то нужна всей пристани.
Подложный поморгал и укоризненно покачал головой Бочкареву, словно тот виноват был. Черемизин, не давая остыть страстям, спросил:
— У кого какие мнения? Прошу, товарищи!
— Чего лясы-балясы точить, нужна мастерская!
— Тише! — Павел Иванович снял с графина пробку и стукнул по горлышку. — Кто говорить будет? Первому — пять минут сверх регламента. Прошу!
Шум стих. В задних рядах поднялся Минович. Черноволосый и круглолицый, он всегда был чумазее других бульдозеристов. В любой день — приходил ли на работу или за зарплатой — всегда успевал где-нибудь мазануться, помочь ребятам запасовать трос или пускач отрегулировать. На моторы у него был удивительный слух — как у гармониста. Жизнь Миновича сложилась так, что не удалось ему кончить институт, техникум, но от природы он был смекалист, умен, и не было на пристани равных ему в своем деле. Он знал себе цену: золотые руки везде нужны! По привычке, доставшейся, как сам говорил, от прадедов, любил Иван водку. Если на погрузке бывал затор, тогда — пьяный не пьяный — Минович приходил и работал так, что никому не обогнать. Может, не встреть Иван Подложного, избавился бы он от водочной страсти, но получилось не так. Подложный, сразу разобрав, что «Минович имеет глаз на рабочих», стал с ним заигрывать. Прогулы прощал, но при пароле ругал громко, а ни до выговора, ни до партийного собрания не допускал. Надеялся Подложный, что и Минович — мало ли как судьба повернуть может! — поддержит его.
Сейчас Иван воспаленными от ветра глазами обвел президиум, сказал на высоких нотах:
— Я во всяких организациях работал, и там к рабочим относились по-человечески. Ты, Константин Николаич, сидишь в кабинете. Тепло тебе, в ус, как говорится, не дуешь, а Минович там пуп рвет! Одна каретка с полтонны! Поворочай-ка с мое! Я так считаю: давай мастерской путь! И чтоб не какая-нибудь была, а с ямой, с талями, с подъездными путями и с паровым отоплением, а то вы опять там печки планируете. Хватит, наработались по-черному! На бульдозере гарью задыхаешься и тут еще дым глотай!..
Алик толкнул локтем Сергея и показал на дверь. Там из-за рабочих высовывался Кержов, сиял и опять тряс кулаком с трубкой.
— Молчи, Серега, — кричал он, — дело будет!!
Под шумок, без разрешения Черемизина встал Бобков. Бочкарев сразу зашикал, растопырил руки, как наседка крылья над цыплятами:
— Шш! Тише вы, тише, не на базаре. Дайте главному инженеру сказать!
Бобков, выдохшийся до собрания на планерке, сказал только, что, кабы спустило пароходство деньги, не к чему бы и собрание заводить, а так… Правда, он и полусловом не обмолвился, что пристань на мастерскую денег в пароходстве и не запрашивала еще… Вот речь Подложного была обстоятельней. Он оправил на себе китель и в почтительной тишине начал:
— Черемизин обязан был заранее предупредить нас об этом собрании, а не за три дня… Вам, Пал Ваныч, не стоит отрываться от администрации.
— А от народа лучше отрываться? — крикнули из коридора голосом, похожим на Володькин.
— Не месяц же вам на подготовку?! — негромко сказал инструктор.
— Сейчас это к делу не относится, — ответил Подложный. — Я решительно согласен с вами, товарищи: мастерскую строить будем! Не обязательно по проекту Горобца, в пароходстве много уже готовых, выверенных проектов — бери да строй!..
— Оно и видно, как вы берете, — перебил из угла Копишев и тут же нырнул за чье-то плечо, чтобы Подложный не разглядел его.
— …Но на строительство, как уже сообщал Бобков, не отпущено средств. Я вам скажу почему: пристань, — в голосе Константина Николаевича зазвучал металл, — на пороге грандиознейшей реконструкции. Начнут ее через год-два. По генеральному плану мы выстроим ремонтно-механический комплекс. Там будут все удобства: тали, подъемники, мостовые краны и даже теплые сортиры и газвода. Поэтому вот эта мастерская, — он кивнул на Горобца, — преждевременна. В трубу пустим деньги, зачем, когда будет цех-завод?!
— Погодите, детки, дайте только срок, — съязвил Минович, — мы на вашу шею сделаем моток.
Подложный поджал губы. Бочкарев поспешил начальнику на выручку:
— Иван, тебя же не перебивали, когда ты говорил. Дай человеку выступить!
В эту короткую паузу только двое — Черемизин и Горобец — думали примерно одинаково. По гладко построенным фразам Подложного о мастерской они догадывались, что это не все. Начальник пристани приготовил еще нечто.
Сергей исподлобья смотрел на Подложного. И точно — на него направлял свой удар Костя. Тут и историю с выговором приплел, и про Синько вспомнил, которому, дескать, Горобец поблажки устраивает, посмеялся над горобцовскими весами, о каких-то отгулах сказал, которыми Сергей «покрывает» рабочих, и пошел всякое лыко в строку ставить. До того дошел, что Горобец, мол, о том только и печется, как бы Черемизина побоку, а самому на его место!..
— Сергей Никандрович, — Подложный поиграл карандашом, — если ты честный человек, не дашь мне соврать! Помнишь, был у нас подобный разговор…
— Помню! — сказал Сергей.
Наступила тишина.
Получилось так, что рабочие поддерживали выскочку, если не сказать хлеще!
— Я помню, — Сергей встал, — наш разговор у вас за чаем… Вы спросили, кем бы я хотел работать. Конфиденциально спросили. Я и сказал тогда, что хочу заниматься техническим творчеством, и даже, что мог бы заменить… главного инженера. Вы сказали, что любите веселые шутки. А я согласен: ставьте, спрашивайте, за главного справлюсь. Уж что-что, а то, что «два пи-эр» — формула окружности — знаю!..
Рабочие, услыхав кличку Бобкова, рассмеялись.
— Ловкач вы, Константин Николаевич! — садясь, добавил негромко Сергей.
— Что-что? — переспросил Подложный.
Старик Реснянский в это время поднял руку. Черемизин сказал Сергею:
— Не волнуйся, Горобец. Ясно, что вы с Константином Николаевичем увлеклись… Я думаю, и не грех солдату мечтать о генеральском чине, а тем более — комбату… — В пальцах Подложного неожиданно хрустнул карандаш. — Вот видите, — сказал Черемизин, но не закончил мысль. — А сейчас слово Дмитрию Алексеевичу Реснянскому.
В красной рубахе с расстегнутым воротом, из которого виднелся загорелый треугольник черноволосой груди, старик подошел к столу и, резко огладив усы, сурово спросил:
— За кого нас считаете, Константин Николаич? Я работаю с Горобцом и знаю его. Начто человека поганить? Вы у народа спросите, какой он. Идей, про какие тут гуторили, у него на десяток инженеров хватит. Да не все в охапку, беремя велико! А мастерская чем плоха? Чаю, здоровье людское поболе трех тыщ стоит… — Реснянский помолчал. — Раз на то пошло, и о грохоте скажу. Вы, Константин Николаич, с Бобковым большое награждение за него получили, а потом на свалку швырнули — пусть ржа ест… А Горобец придумал, как тот грохот обратно на ноги поднять. Мы прикинули — дак дельно придумал… В ливень-то кто помпу на ленту пустил? А как питатели делали? Изо всех дыр пар свистел! Да кабы Горобец и главным стал — неплохо было б!
Под занавес опять выступил инструктор, уже по существу. Горобца он не хвалил, но обещал, что райком поможет выхлопотать в пароходстве нужные деньги. Тем более что новая мастерская поможет в будущем переоборудовать пристань в порт. И цеху-заводу она не помешает…
Подложный все кивал головой, но, едва инструктор сел, буркнул:
— Обещания хороши, но пароходство копейки не даст.
Тут подскочил на своем месте Копишев. В распахнутом пиджаке — все пуговицы в инструменталке отодрал, — он хотел было влезть на стул, чтобы его лучше видели, но раздумал и бросил на сиденье обтрепанную шапку:
— Пал Ваныч! Я не понимаю: мы будем что-нибудь решать или нас собрали начальство слушать да из пустого в порожнее лить?! Если будем — давайте голосовать за мастерскую. А то надо домой.
Подложный, наклонившись к Черемизину, шепнул:
— Можно и не голосовать, Пал Ваныч. К чему обязывать себя, когда шансов нет! Утрясем с пароходством, тогда видно будет…
Павел Иванович встал. Знал: сейчас от него зависит, на какой бок монету положить. Голосование свернуть нетрудно, тут и разговором ограничиться можно.
— Товарищи! — сказал он. — В пароходстве, думаю, нас поймут. Деньги можно найти и из своего бюджета. Тысячу рублей нам на курилку дали? Отдать их на мастерскую — фундамент завтра же и копать. Ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы строить новую мастерскую, — прошу поднять руки!
В это время в кабинет протиснулся дежурный радист и передал Подложному радиограмму. «Лично Константину Николаевичу», — сказал он и, извинившись, вышел. Черемизин повторил вопрос.
«Галерка» ответила лесом рук. У стола за это предложение голосовал сам Черемизин, Синько, Горобец. Против — Подложный, Бобков, экономист и еще несколько конторских. Только бухгалтер голосовал «за». Воздержался один — Бочкарев.
Подсчет голосов заканчивался. Подложный откинулся в кресле, развернул радиограмму. Она была из пароходства: «Выдвигаем должность начальника отдела эксплуатации пароходства. Требуется ваше согласие…» Раздосадованный тем, что собрание не посчиталось с ним, Подложный теперь не мог скрыть своей радости. Он словно бы уже удалился от пристани и немало удивил Бочкарева и Бобкова, сказав:
— Все правильно. Поживем, и мастерскую еще построим!..
Когда рабочие стали расходиться, инструктор райкома спросил негромко Бочкарева:
— А Горобец ваш — коммунист?
— Нет.
— Мда-а… жаль, с огоньком парень.
Бочкарев окликнул Горобца. Тот подошел, и Михаил Григорьевич улыбнулся ему:
— Ну, поздравляю, комбат, собрание прошло хорошо. Вот тебе теперь в партию вступить нужно. Ты подумай-ка, а рекомендацию я тебе дам, и Колесов небось не откажет.
Лицо Сергея зарделось, но тут же глаза потемнели, словно от гнева.
— В партию я вступлю, — ответил он твердо, — только без вашей рекомендации. У рекомендации должна быть тоже чистая совесть.
Был один из золотых осенних вечеров, которые случаются в дальневосточных краях перед наступлением сильных холодов. Амур замерз от берегов, и только середина реки еще билась, плеща волной, скупо окрашенной светом сиреневого заката. Вдоль поярковских улиц стояли голые кусты черемухи. Закат, угасая, вытемнял дорогу и скрадывал резкие тени. По дороге шли от пристани Алик и Сергей, потеряв где-то среди народа своего друга — Володьку Кержова.
Кержов в это время заглянул на радиостанцию и без особого труда вызнал у радиста суть радиограммы. Домой он не торопился. Хоть в этом деле он решил обставить Сергея. Напрасно Горобец отказался от бочкаревской рекомендации, напрасно. Беспартийному доверят ли большую работу, людей… Подумав, Кержов вернулся в кабинет Подложного.
Константин Николаевич сидел за столом в очках. Было видно, что он вовсе не раздражен и с каким-то даже удовольствием сдувает со стола пыль, мнет и бросает в корзинку ненужные бумаги.
— А-а, Кержов! И ты мастерскую придумал?
— У меня дело… Просьба…
— Какая?
— Рекомендацию у вас прошу.
— Ты что, удирать вздумал? И далеко лыжи навострил.
Кержов замялся, засопел, лицо покраснело.
— Ну-ну!.. — ободрил Подложный.
— В партию хочу… Вот, как вы, если не откажете…
Подложный сложил перед собой руки, потом поднял на лоб очки. Кержов смотрел ему в глаза. Долго, изучающе молчали они. Старались понять друг друга. Кержов первый человек, кто просит у него рекомендацию. Что ж это раньше он не разглядел его?! И ведь ни разу, кажется, Кержов не защищал Горобца… Вот кого надо было бы ставить в мастерскую! Впрочем, теперь это наверняка образуется…
— Хорошо, — говорит Подложный, — подумаю. А почему ты ко мне пришел?
Кержов помялся, ответил робко:
— Мне кажется… у нас с вами есть что-то общее.
Подложный кивнул, улыбнулся ободряюще и, поколебавшись, протянул ожидающему Кержову руку.