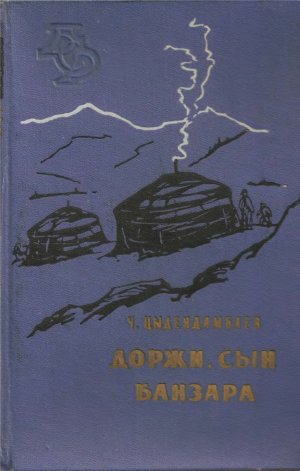
*Редколлегия:
А. ВЫСОЦКИЙ. А. КОПТЕЛОВ.
С. КОЖЕВНИКОВ. А. НИКУЛЬКОВ,
С. ОМБЫШ-КУЗНЕЦОВ, Н. ЯНОВСКИЙ.
Авторизованный перевод с бурятского
Мих. Степанова
Н., Новосибирское книжное издательство, 1961
ЧИМИТ ЦЫДЕНДАМБАЕВ
Русская советская литература вместе с многочисленными литературами народов Российской Федерации представляет собой одно из удивительнейших и своеобразнейших явлений духовной жизни народов нашей страны, строящих коммунизм.
С могучим древом, широко раскинувшим свои ветви, сравнил великую русскую литературу в своем докладе на Первом съезде писателей РСФСР Л. С. Соболев. «А вокруг него, — говорил писатель, — поднялась и окрепла целая роща братских литератур, раскованных Великой пролетарской революцией или заново ею рожденных».
В этой зеленошумной роще под сенью могучего древа растет, крепнет, наливается свежими соками и молодое деревцо бурятской советской литературы.
О зрелости литературы народа обычно судят по состоянию прозы, степени развитости эпических жанров. Литература бурят, в особенности в послевоенный период, обогатилась прозаическими произведениями, в которых даны широкие картины народной жизни как в прошлом, так и в настоящем. К числу произведений, рисующих исторический путь бурятского народа, относится и роман Чимита Цыдендамбаева «Доржи, сын Банзара».
Ч. Цыдендамбаев вошел в литературу в конце 30-х годов как поэт-лирик, влюбленный в свой народ, в степные просторы родного края. В 1937 году стихи 18-летнего юноши впервые появились на страницах республиканской газеты. Они привлекли внимание читателя свежестью и певучестью слога, простотой поэтической формы, идущей от песенных, улигерных традиций бурятской устной поэзии. В одном из ранних стихотворений, написанном под влиянием народных напевов, с чистой, почти детской непосредственностью юноша-поэт писал:
(Перевод И. Френкеля).
Вслед за серией стихов, звучных и чистых, проникнутых тонким пониманием родной природы, появляются и небольшие рассказы — миниатюры, написанные рукою лирика.
Стихи и рассказы Чимита Цыдендамбаева, переведенные на русский язык, уже в предвоенные годы стали достоянием всесоюзного читателя.
В 1947 году в альманахе «Байкал» появилась небольшая лирическая повесть «Чернильница Банзарова», в которой просто и поэтично рассказано о ранней поре жизни первого бурятского ученого-просветителя — Доржи Банзарова. Автору удалось нарисовать запоминающийся образ мальчика, пытливого и любознательного, с недюжинными способностями и задатками.
Однако в повести, при всех ее достоинствах, почти не чувствовалось времени, не давалась картина жизни народа, обреченного царизмом на беспросветное прозябание. Не угадывалась и трагическая судьба ученого, ставшего, по определению выдающихся востоковедов того времени, «примечательной личностью», выдвинувшейся из среды бурятского народа, который, по словам великого русского поэта-демократа Н. А. Некрасова, «с гордостью может приводить его имя, как представителя своего в области науки»[1].
Повесть «Чернильница Банзарова» была тем плодотворным зерном, из которого и вырос замечательный исторический роман «Доржи. сын Банзара». В ходе работы над произведением, изучения биографии, ученых трудов «исследователя среднеазиатской древности», писатель собрал огромный материал, не вместившийся в рамки одной книги. Так возник замысел трилогии о жизни и деятельности Доржи Банзарова, о народе, выдвинувшем из своей среды в глухую пору николаевской действительности выдающегося ученого-демократа.
Первая часть трилогии — «Доржи, сын Банзара» — посвящена раннему периоду жизни будущего ученого, от первых детских впечатлений Доржи до окончания им Троицкосавской войсковой русско-монгольской школы и выезда в 1835 году в далекую Казань.
С первых страниц книги перед читателем встает образ «озорного смуглолицего мальчика», беспокойно всматривающегося в пеструю путаницу улусной жизни.
Пытливый ум, любознательность, живое воображение, беспокойная жажда познания жизни — отличительные черты характера Доржи, сына Банзара.
Вот Доржи в группе улусных мальчиков слушает прославленного улигершина-сказителя и «как зачарованный, смотрит на старика, будто ждет, что изо рта у него вылетит сказочная райская птица». Улигеры[2] бедняка Борхонока не такие, какие Доржи слушал раньше в доме богача Мархансая. Тот улигершин рассказывал о набегах злых ханов, об их несметных богатствах — серебряных дворцах, золотых тронах. Борхонок же говорит о человеке, рожденном в дымной юрте, от простой, как у Доржи, матери. Он рассказывает о сильном и умном баторе[3], который борется против злых людей, страдает и мучается, но всегда побеждает. Доржи кажется, что батор, подвиги которого воспевает Борхонок, живет где-нибудь неподалеку, может быть, в соседнем улусе.
Внимательно прислушиваясь к разговору старших о засухе, о суровой зиме и весенней бескормице, долгах, Доржи начинает понимать, что есть на свете тупые и властные нойоны[4] — жестокие и алчные богатеи, притесняющие простых тружеников улуса. Из горьких жалоб одноулусников он узнает, что правитель степной думы подарил жене иркутского губернатора соболей на несколько тысяч рублей, а улусного плотника этот щедрый тайша за какие-то гроши избил так, что у того на теле живого места не осталось. У кузнеца Холхоя он выдрал половину косы.
Пытливо всматриваясь в жизнь, Доржи и сам замечает, что батрак Мархансая Балдан работает с утра до ночи, а ходит полуголый. Много несправедливости в Ичетуе, много их и в других улусах, затерявшихся в степном просторе. Постепенно мальчик проникается ненавистью к кривоногому повелителю улуса — Мархансаю, ко всем притеснителям народа.
Доржи мучается в неразрешимых догадках: почему одни живут сытой и привольной жизнью, другие бедствуют и голодают? Простые люди, буряты и русские, кто как может, стараются помочь Доржи разобраться в противоречиях улусной жизни.
Хэшэггэ-нагса[5], бывалый человек, мастер-чеканщик, учит Доржи монгольской грамоте. От него же любознательный мальчик узнает о мудрых книгах, которые помогают людям жить и бороться за лучшее будущее. Особенно много книг у русских. «В тех книгах обо всем написано — что было, есть и что еще только. будет. Каждая страница, верно, с золотой буквы начинается. Хоть бы кто-нибудь одну страничку потерял, — мечтает Доржи. — Нет, не теряют. Наверно, пуще глаза берегут эти книги».
Но праведные книги пока не доступны мальчику: он не читает по-русски. Близкие люди напоминают Банзару, что Доржи, как сын казака, может поступить в войсковую русско-монгольскую школу. Еще до поступления в школу в семье переселенца Степана Тимофеевича Доржи учится разговорной речи, русской грамоте.
В войсковой школе, в шумном купеческом городе Троицкосавске Доржи познает много нового, интересного. Нелегко жить в непривычной обстановке, но тяга к знаниям сильнее всяких неудобств.
А сколько книг в публичной библиотеке! Однако не все книги одинаково полезны, есть среди них и просто ненужные, особенно из тех, что в нарядных переплетах. Об этом говорит восхищенному Доржи старик библиотекарь, чем-то напоминающий Суворова.
В свое время почти так же отзывался об улигерах сказитель Борхонок. «Есть улигеры, как араки, — говорил старик. — Они туманят голову. Если человек поверит в них, он пойдет по плохой дороге… А есть… улигеры, разгоняющие грусть, очищающие душу. Они зажигают в людях огонь смелости, дают им силу».
Вспоминая об этом, Доржи рассматривает книжные полки. «Теперь он заметил, что здесь есть книги, похожие на богатых нойонов. Толстые и важные, они одеты в красные, синие, зеленые халаты. Есть книги, нарядившиеся в желтую кожу. Они лениво дремлют на верхних полках красивых шкафов… На груди у них золотые буквы, узоры, звездочки. Они горят, будто медали, ордена или золоченые пуговицы на мундирах чиновников… Ниже этих толстых и важных книг пристроились книги попроще, а еще ниже — совсем тощие и растрепанные. Они как бедные слуги. На корке одной книги Доржи заметил наклейку, она похожа на заплату на халате пастуха. Много таких книг свалено в кучу на цолу. «Им даже места на полках не нашлось, — пожалел их Доржи. — А может, эти книги самые мудрые. Ведь и многие улигершины в старых халатах ходят?»
Поиски книг, страницы которых, по словам Хэшэгтэ-нагса, начинаются с золотых букв, приводят Доржи к Пушкину. Прочитав рукописный текст изумительной «Сказки о попе и о работнике его Балде», Доржи поразился: оказывается, ему знакомы все лица, с ними он не раз встречался в родном улусе. Жадный поп удивительна похож на ламу Попхоя. «Этот русский улигершин хотел рассказать о Попхое, — думает Доржи, — но Попхоя никто, кроме селенгинских бурят, не знает, а попов знают все в России. Вот он и заменил…». Балда напоминает юному читаТелю Балдана — батрака Мархансая. Он так же, как и Балда, работает за семерых, да и постель у него не лучше соломы.
С годами эта дружба Доржи с великим Пушкиным растет и крепнет. Перед окончанием войсковой школы, в кругу притихших сверстников, Доржи с упоением, одно за другим, читает стихи любимого поэта. Вон он произносит первые слова:
и перед ним знакомые с детства картины: горы, леса, одинокие-юрты. «И вот он видит Ичетуй, степь — дорогую, знакомую до последней травинки, до мелкого камешка». С трепетным волнением читает Доржи стихи поэта, посвященные старой няне, и перед его взором встает образ любимой матери. Веретено в ее руках вертится все медленнее и медленнее, вот-вот оторвется пряжа, и оно упадет.
С неотразимой силой звучит могучий и прекрасный пушкинский стих в исполнении мальчика Доржи, познавшего чарующую прелесть поэзии. Его слушают, затаив дыхание, одноклассники, слушает, и опальный учитель русской словесности. Книги с золотыми буквами-найдены!
Запросы Доржи не ограничиваются только литературными интересами. Пытливо всматриваясь в жизнь с ее кричащими противоречиями богатства и нищеты, он проникается жгучей ненавистью к кучке богатеев: к купцам, нойонам и степной знати, обирающей забитый и бесправный народ. Доржи восхищен революционным подвигом декабристов и мечтает о встрече с Николаем Бестужевым, живущим неподалеку от Троицкосавска.
Заключительные страницы книги посвящены отъезду Доржи в далекую Казань. Впереди гимназия, университет, долгие и трудные годы учебы. «Станет Доржи ученым и умным, постигнет многие загадки и тайны, — говорится в авторском отступлении. — Перед ним засияет огромное, то светлое и ласковое, то суровое и бурное, море жизни».
В книге, посвященной детству первого бурятского ученого-демократа, нарисованы правдивые, глубоко волнующие картины жизни народа в 30-40-е годы XIX в., увлекательно рассказано о целой группе людей, бурят и русских, ставших для Доржи добрыми и бескорыстными наставниками и учителями жизни.
Широкое общение с людьми трудовой жизни в родном улусе, в Троицкосавске укрепило в душе мальчика лучшие, благородные качества, любовь к труду, к книгам, активное отношение к жизни. Простые и сердечные люди (сказитель Борхонок, кузнец Холхой, мастеровой Степан Тимофеевич, учитель Владимир Яковлевич и др.), хорошие книги пробудили мечты о лучшем будущем, заставили мальчика задуматься над социальными противоречиями действительности, усилили ненависть к притеснителям народа.
Впечатляющие картины и эпизоды романа, рисующие различные стороны российской действительности той поры, повествование о безрадостных судьбах простых людей, жителей степного улуса Ичетуй, помогают глубже понять сложный процесс формирования будущего ученого.
Говоря о далеком прошлом бурятского улуса, о дружбе русских я бурят, о ведущих событиях той поры, оказавших влияние на жизнь далекой окраины, писатель нигде не сбивается на публицистический тон повествования.
В предельно сжатых главах и эпизодах Ч. Цыдендамбаев, как подлинный художник слова, создает яркие, глубокие картины жизни.
Богат и многоцветен язык писателя, его художественно-изобразительные средства; сравнения и метафоры в произведении не только дают конкретное, зримое представление об изображаемом, но и заключают в себе социальный, оценочный смысл. Так, например, усадьба богача Мархансая, расположенная в центре степного улуса, причудливо опутанная изгородью, удивительно точно сравнивается с паучьим гнездом.
Зимним вечером ученики войсковой школы при трепетном свете огарка склонились над книгами; Доржи очарован чудесными образами пушкинской сказки, в комнате напряженная тишина. «Свеча, — как бы мимоходом замечает автор, — кажется, счастлива, что ребята сидят над книжками, и льет светлые слезы радости…»
Меткие сравнения, оригинальные метафоры, свежие эпитеты, как другие изобразительные средства, придают роману своеобразную художественную прелесть и неповторимый национальный колорит.
Доржи смотрит на мир широко открытыми глазами, стараясь проникнуть во все тайны жизни, облечь все видимое в конкретные, зримые картины. Вечернее небо напоминает ему шелковую шубу Датора, расшитую украшениями — звездами. Темные облака у самого края степи — точь-в-точь соболья оторочка… А луна в жидких облаках — как щит батора.
Создателя чудесных русских стихов и сказок — А. С. Пушкина — Доржи сравнивает с близким ему улигершином. Мальчик знает, что Пушкин живет в далеком городе Петербурге, «который, наверно, еще больше Кяхты», носит русский халат. У него, как у Борхонока, седая борода, в руках — маленький желтый хур. Доржи слышит его голос, видит богатыря, скачущего на хулэге — сказочном скакуне. Мальчику видится и ученый кот, который ходит и ходит на золотой цепочке вокруг высокой сосны, рассказывает сказки, поет песни.
Роман Ч. Цыдендамбаева «Доржи, сын Банзара», словно узорами, ярко расцвечен пословицами и поговорками. Народно-поэтическая речь органически вошла в повествовательную ткань произведения, образовав удивительный художественный сплав, радующий читателя своей красотой и свежестью. Так, например, размышления Доржи о трудностях запоминания загадок неожиданно заканчиваются меткой пословицей: «Загадка — как плохо пришитая пуговица: оторвалась, упала в степи и попробуй ее найти». В другой раз, с удивлением наблюдая за игрой русского мальчика на «треугольном хуре с железными струнами — балалайке», он заметил, что «рука музы» канта — как белая птица, которая попала в сети из серебристых нитей, не может вырваться и звонко хлопает крыльями».
Роман Ч. Цыдендамбаева «Доржи, сын Банзара» в самой своей основе явление национальное, но в нем вместе с тем явственно ощутима связь с горьковскими традициями в литературе. Пытливый ум Доржи, его светлые стремления к знаниям, неустанные поиски настоящих книг, возвышающих человека, зажигающих в нем огонь смелости, ненависть к насильникам и угнетателям, любовь к простым труженикам, во многом роднят его с Алешей Пешковым.
Мальчик Доржи ненавидит улусного богатея Мархансая, искренне сожалеет, что он не сказочный батор и не может по заслугам наказать этого злого и алчного притеснителя и обидчика простых людей. Мальчик мечтает о той поре, когда он поставит в степном просторе большую белую юрту, созовет туда всех лучших людей улуса: любимую мать, дядю Хэшэгтэ, Мунко-бабая[6] — и будет жить с ними хорошей, дружной жизнью. «Дядя Эрдэмтэ разрисует юрту узорами… Дядя Еши будет по вечерам играть на хуре, Борхонок — каждый день рассказывать улигеры».
Доржи, как и Алеша, ненавидит «свинцовые мерзости» жизни и страстно мечтает отдать все силы ума и сердца умному, талантливому народу, задавленному царизмом.
«Несмотря на историческую отдаленность, — сказал о произведении Ч. Цыдендамбаева известный советский писатель Ю. Либединский, — мы воспринимаем роман «Доржи, сын Банзара» с тем большим волнением, с каким воспринимаешь книгу современную, по-настоящему художественную»[7].
Критик Вера Смирнова, говоря о выдающихся произведениях эпического плана в национальных литературах, широко и правдиво отражающих прошлую жизнь народов советского Востока, называет их народоведческими[8].
«К таким народоведческим книгам, — утверждает критик, — относятся, несомненно, и исторические романы-биографии, как «Доржи, сын Банзара» Цыдендамбаева, как эпопея об Абае Мухтара Ауэзова»[9].
Роман Чимита Цыдендамбаева, переведенный на русский язык и дважды изданный московским издательством «Советский писатель», был тепло встречен широкими кругами советских читателей.
Закончив книгу о детстве Доржи, автор тотчас же приступил к работе над второй частью трилогии, посвященной казанскому периоду жизни будущего ученого.
Между первой и второй частями романа-эпопеи писатель опубликовал небольшой сборник рассказов «Новый дом», выдержавший уже несколько изданий. Поэт и романист в новой книге выступил как мастер короткого рассказа, тонкого и поэтичного, с большим внутренним смыслом.
Рассказы Чимита Цыдендамбаева на первый взгляд кажутся тематически разрозненными, каждый из них представляется лирическим этюдом, написанным под определенным впечатлением — будь то случайная встреча повествователя со старухой буряткой во время летнего ливня или услышанная им где-то песня чабанки о счастье жизни в родном краю. В большинстве своем рассказы не имеют четко выраженного сюжета, лишены они и внешней занимательности. Художественное своеобразие рассказов Цыдендамбаева в глубоком подтексте, в лирическом тоне, окрашивающем повествование. В рассказах книги «Новый дом» незримо присутствует и сам автор — добрый, вдумчивый человек, по-сыновьи влюбленный в степные просторы республики, в ее людей, творящих коммунистическую новь.
Характерны в этом плане рассказы «Ливень в степи» и «Новый дом», В первом из них рассказывается, как путников, возвращающихся в город в открытом кузове машины, настиг свирепый степной ливень. Вот эти строки: «На ясном небе стали появляться мрачные облака. Они собирались со всех сторон, точно стада черномастных коров. Послышались раскаты далекого грома, тучи засуетились, закружились на месте, будто их окружили голодные волки. На небе поднялась страшная суматоха. Среди рева и шума то там, то тут засверкали яркие молнии. Казалось, что это небесные пастухи нещадно хлещут беспокойных коров золотыми бичами. Ветер усилился, по дороге рыжим клубком покатилась пыль, по высокой траве прошли темные волны, и хлынул обильный степной дождь…»
Люди, промокшие до костей, решили воспользоваться гостеприимством жителей маленького придорожного улуса. Герой рассказа попал в юрту одинокой, казалось, всеми забытой старухи. Настороженно расспросив незнакомца, кто он и откуда, маленькая подвижная старушка подобрела: угостила случайного гостя горячим супом, рассказала о сыне и внуках и попутно вспомнила давнюю историю, прочно запечатлевшуюся в памяти.
В годы молодости, когда ее пятилетний сын Жалсан опасно заболел, в такую же непогоду около юрты неожиданно «остановилась запряженная пара лошадей, с телеги слезли двое каких-то русских, попросились на ночлег…» Один из них оказался доктором. Усталый и продрогший, он всю ночь провел у постели метавшегося в жару ребенка. Чуткий и внимательный доктор спас жизнь Жал-сану. Память старухи сохранила образ чудесного исцелителя сына. На всю жизнь она запомнила белую повязку на его шее, грустные, задумчивые глаза да тяжелый натужный кашель. Как священную реликвию старая бурятка хранит на божнице книгу, забытую доктором, с потускневшей надписью: «А. Чехов». Эту книгу перед смертью она передаст сыну, а тот, когда придет пора, — своим детям, и скажет: «Вот книга доктора, который когда-то вашего отца от смерти спас…»
Взволнованное объяснение героя рассказа, что ей, Норжимо-абагай[10], посчастливилось увидеть великого писателя, не произвело должного впечатления на неграмотную старуху: она хранит в своей памяти образ русского доктора, простого и сердечного, спасшего жизнь ее единственному сыну.
Всего несколько страниц занимает бесхитростный рассказ старухи бурятки о русском докторе, а перед взором читателя — законченный портрет Чехова.
В рассказе «Новый дом» (давшем название сборнику) описан, казалось, обычный, ничем не примечательный случай в жизни современного улуса: постройка колхозником нового дома. Балдан Санхиров, тихий и медлительный колхозник лет пятидесяти, решил построить новый добротный дом. Жена Балдана — Пэлма — удивилась столь неожиданному и, как ей казалось, легкомысленному решению своего мужа.
«У нас же нет ни одного бревна, — возразила Пэлма. — Не то что новый дом, мышеловку не из чего сколотить… Женщина не станет собираться кроить тулуп, если у нее нет овчины…»
Но упрямый и немногословный Балдан непреклонен в своем решении. Он обратился за помощью в правление колхоза и, неожиданно для себя, получил там полную поддержку.
Ранней весной на пригорке Баянгол весело застучали топоры, во все стороны «полетели белые крылатые щепки» — Балдан Санхиров строит новый дом!
Санхиров не одинок, все колхозники проявляют душевную заинтересованность в строительстве нового дома, помогают ему, кто чем может. Сосед Балдана — Очиржап — пришел с топором обтесывать бревна, кузнец Шагдыр сделал петли для дверей. Позднее, когда дом был построен, «школьный столяр Максар принес ведерки с красками», пришли женщины-соседки конопатить стены. В доме, пахнущем смолой и свежей краской, старик Нанзад, известный на всю округу печник, сложил добрую печь и, словно музыку, слушает гуденье в трубе.
Дом построен! Девяностолетний Абида-бабай, «белоголовый, как облако», отмечая радостное событие в доме соседа, высказывает свою сокровенную мысль, — дожить до свадьбы сына Балдана, студента института. Тогда он, Абида-бабай, даст наказ молодоженам: жить в новом доме по-новому, не заносить в его стены темных суеверий, лжи и брани. «В этом доме, — рассуждает старик, — должен звенеть детский смех, девичьи песни, мудрость улигеров». Размышления белоголового бабая прерываются стуком бойких топоров: хозяин дома с соседями «настилают у крыльца широкие удобные ступени, чтобы дети не упали и не ушиблись, чтобы старым людям было не так утомительно подниматься в дом».
Удивительно прост и поэтичен этот рассказ! Здесь нет ничего надуманного, интригующего. Все в этой, казалось, будничной зарисовке дышит подлинной поэзией, эпизод вырастает в широкую картину народной жизни. Автор, порою лишь несколькими штрихами, рисует запоминающиеся образы тружеников колхозного улуса, строящих просторный и светлый дом для разумной, глубоко осмысленной жизни, свободной от темных предрассудков и отживающих традиций.
Маленькие рассказы, составившие сборник «Новый дом», покоряют читателя своей поэтической свежестью, жизненной достоверностью.
От книги остается ощущение, что она написана автором ранней весной в открытой степи, когда ее зеленая гладь, омытая майскими дождями, благоухает ароматом полевого разнотравья и пестрит бесчисленными красками луговых цветов.
В 1959 году в журнале «Свет над Байкалом» печатались главы из второй части трилогии, названной писателем «Вдали от родных степей».
Место действия теперь переносится в шумный и многоязыкий город Казань, куда с небольшой группой сверстников приехал Доржи Банзаров для продолжения образования.
Писатель создает яркий скульптурный портрет Доржи, сначала прилежного и даровитого ученика гимназии, а затем и студента Казанского императорского университета, принятого туда по настоятельной просьбе выдающихся ученых-востоковедов, увидевших в юноше «прекрасную надежду на отличные успехи» в науках.
Теперь перед читателем предстает уже не наивный улусный мальчик, хоть и свидетель страшных несправедливостей и насилий, но воспринимающий мир, преломленный через призму народно-поэтических представлений, а суровый реалист, трезво оценивающий явления жизни и сознательно готовящий себя к борьбе за светлое будущее своего народа.
Напряженную учебу в университете, овладение многочисленными европейскими и восточными языками Доржи сочетает с творческим трудом — переводит редкие монгольские рукописи, создает оригинальные работы по ориенталистике. Вместе с тем, Доржи не отшельник, чуждающийся жизни, а веселый и общительный юноша, он постоянно в кругу прогрессивно настроенной студенческой молодежи 40-х годов.
В галерее живых характеров, выведенных во второй части трилогии, несомненно, наиболее впечатляющим является образ графа Л. Толстого, тоже студента университета, доверительно посвящающего своего коллегу-бурята в сокровенные мысли о необходимости распространения знаний среди простого народа.
Вторая часть трилогии, казалось, закончена, но требовательный к себе автор не спешит с ее публикацией отдельным изданием. Работа Цыдендамбаева над завершением романа «Вдали от родных степей» все еще продолжается, и было бы преждевременным высказывать развернутые суждения о книге, еще полностью не законченной писателем.
Одновременно писатель вынашивает план третьей, заключительной части трилогии. Уже известно и название будущей книги — «Доброе сердце».
В романе «Доброе сердце» будет рассказано о судьбе ученого, судьбе тяжкой и мучительной, преждевременно унесшей в могилу человека, чье большое сердце было отдано народу, страдавшему под двойным гнетом — царской администрации и местной феодальной знати.
Чимит Цыдендамбаев, может быть, самый плодовитый писатель из всех литераторов Бурятии. За последние годы, напряженно работая над трилогией, он успевает писать лирические стихи и песни, очерки и рассказы. В издательстве «Молодая гвардия» выходит его повесть-поэма «Бурятка». И все же главной темой в разностороннем творчестве писателя, как и несколько лет назад, по-прежнему остается эпопея о Доржи Банзарове.
В поэтической и задушевной книге Ольги Берггольц «Дневные звезды» неоднократно, как рефрен, повторяется мысль о том, что у каждого писателя есть своя главная книга, которую автор пишет «непрерывно и неустанно…» Кто знает, может быть, трилогия о Доржи Банзарове и есть главная книга бурятского писателя Чимита Цыдендамбаева…
Творчество Чимита Цыдендамбаева получило всенародное признание, в декабре 1959 года за заслуги в развитии бурятской советской литературы писатель удостоен высшей правительственной награды — ордена Трудового Красного Знамени.
А. Белоусов.
Сто двадцать лет назад в бурятском улусе Ичетуй, на берегу быстроводной Джиды, впадающей в голубую Селенгу, жил озорной смуглолицый мальчик по имени Доржи. Ни сверстники, с которыми он играл и проказничал, ни соседи, на глазах у которых он рос, ни отец и мать не могли, конечно, знать, что непоседа Доржи станет в будущем первым бурятским ученым, талантливым этнографом, востоковедом.
Если бы улусники догадывались, что именно он принесет в те жестокие годы добрую и чистую славу своему народу, что всю свою короткую и яркую жизнь он будет мучительно думать о судьбе родного обездоленного народа и бороться за облегчение его участи, может быть, сверстники были бы к нему внимательнее, старики охотнее, щедрее делились бы с ним своей мудростью, отец и мать еще нежнее относились бы к своему младшему сыну.
И сейчас стоят крутые каменистые горы Баян-Зурхэн и Сарабда, по-прежнему мчат свои воды Джида и Селенга. И, как в те далекие годы, в степи слышны звонкие голоса неугомонных ребят. Но распевают они иные песни, носят в сердце иную мечту. И уже не один какой-нибудь счастливец по случайной милости судьбы доберется по тернистой тропинке к вершине знаний, а все они уверенно и гордо зашагают по широкой дороге науки и творчества.
Автор.1952 г.
Да здравствует солнце,
да скроется тьма!
А. С. Пушкин.
Хочешь поехать далеко —
с короткого пути начинай.
Хочешь сделать большое —
с малого дела начинай.
Бурятская пословица
Глава первая
БОРХОНОК
В юрте тихо. Изредка слышен писк ласточек, пролетающих над дымоходом. Доржи кажется, что ласточки смеются над ним: «Вот так мастер! Ну и мастер!»
Он делает лук, но работа подвигается плохо: в довершение всего нож, которым отец бреется и не дает его даже в руки ребятам, совсем затупился.
Вошла мать. Мальчик узнал ее по звону серебряных монет, вплетенных в косы, по тихому звуку сандаловых четок, которые она перебирает привычными пальцами. Доржи спрятал за спину лук и нож. Он ожидал, что мать станет ворчать: «Тоже плотник сыскался. Только соришь в юрте, да еще нож отцовский взял». Но она ласково взглянула на сына и поставила в угол кадушку с арсой — творогом из кипяченого кислого молока. Потом присела на кровать, надела наперсток из толстой кожи и принялась пришивать к своим унтам новые подошвы.
Доржи вновь взялся за работу. Лицо у него озорное, глаза черные и быстрые, щеки румяные, нос маленький, вздернутый.
Мать украдкой поглядывает на сына: рубашонка ему тесна, рукава короткими стали, штанишки продрались, сквозь дырочки видно смуглое тело. «Надо постирать, починить», — думает она.
Доржи увлечен работой. Лук все же получается на славу. Такого нет даже у его дружка Затагархана. А ведь тот все умеет делать. Пусть попробуют теперь прожорливые воробьи утащить с крыши сушеные пенки, пусть орлы вздумают поохотиться за ягнятами — только перья от них полетят.
Доржи устал. Он проснулся сегодня рано, вместе с матерью и весь день трудился. Сейчас бы в самый раз выйти на улицу и выпустить из нового лука певучую стрелу. Мальчуган собрался уже выйти из юрты и в это время услышал во дворе ребячьи голоса. На пороге он столкнулся с Аламжи и Эрдэни, сыновьями Эрдэмтэ — бедного соседа.
Мальчики запыхались. Торопились, видно.
— Борхонок к дяде Ухинхэну приехал!
Борхонок… Доржи знает, что живет он где-то далеко-далеко, за горами. Старики говорят: «За семь дней и ночей не пересказать всех улигеров, которые знает Борхонок».
Доржи любит улигеры. Только услышит, что где-то рассказывают сказку, — он уже там.
Мальчики побежали к юрте Ухинхэна. Бежать трудно: жарко и пыльно. Давно не было дождя. Цветов в степи все меньше и меньше, трава желтая, вялая. От быстрого бега ветер шумит в ушах.
У юрты Ухинхэна на белом войлоке сидит старичок в поношенном халате. Островерхая шапка с красной полинявшей кистью лежит рядом. Доржи разглядел, что руки у старика маленькие и высохшие — кости да сморщенная кожа. Он поглаживает редкую бороденку. Лицо доброе, в мелких морщинках. Их много, однако, целая тысяча. И каждая морщинка, даже самая маленькая, старается сделать на его умном лице улыбку.
Борхонок пьет чай. Перед ним на деревянном столике чайник, тарелка с растаявшим от жары маслом, пресные лепешки. Ему, видно, жарко; пот ручьями стекает за воротник, но старик не утирается, только все чаще моргает маленькими желтыми глазами.
Неужели это в самом деле Борхонок? Доржи разочарован. Знаменитый сказитель представлялся ему не таким — высоким, с широкими плечами, а борода, как крылья белоснежного лебедя…
В прошлом году приезжал же один улигершин, Доржи помнит: тот был в темно-синем шелковом халате, толстый и важный. Остановился он у богача Мархансая, говорил громко, смеялся раскатисто. Ребятишек одарил конфетами, стариков угостил нюхательным табаком. О своем приезде он заранее дал знать. Слушать того улигершина к Мархансаю собрались самые почтенные люди ближних улусов.
Чай в медном чайнике кончился. Борхонок отставил чашку, обвел собравшихся взглядом и сказал ребятишкам:
— Ну, внучата, запомните: когда говорится сказка, шуметь нельзя. Если будете мешать, я перестану рассказывать и уйду. А сейчас, — и Борхонок посмотрел на сына Ухинхэна Даржая, — принеси из юрты мой хур[11].
Хур знаменитого улигершина оказался таким же старым, как сам Борхонок. Старик провел по струне смычком. Тихо и плавно начался улигер.
Доржи, как зачарованный, смотрит на старика, будто ждет, что изо рта у него вылетит сказочная райская птица. В первый раз Доржи слушает такие улигеры. Тот улигершин, который в прошлом году останавливался у Мархансая, рассказывал о набегах грозных ханов, об их несметных богатствах — серебряных дворцах, золотых тронах. Борхонок же говорит о человеке, рожденном в дымной юрте, от простой, как у Доржи, матери. Он говорит о сильном и умном баторе, который борется против злых людей, страдает и побеждает. Доржи кажется, что батор, о котором поет Борхонок, живет где-нибудь неподалеку, в соседнем улусе, а может, это силач Балдан, работник Мархансая.
Улигершин осторожно касается смычком струны, и хур, как живой, подхватывает припев. Ему подтягивает сидящий рядом весельчак Еши Жамсуев.
На самом интересном месте Борхонок вдруг умолк. Это он, наверно, нарочно: видит ведь, что всем не терпится узнать, что было дальше. Его просят, уговаривают. Борхонок улыбается, в добрых глазах вспыхивают лукавые искры. Ему приятно, что все хотят слушать. Попроси он сейчас что угодно, улусники все отдадут, лишь, бы он продолжал. Каждый последнего барана приведет… Но Борхоноку ничего не надо, он не за плату рассказывает, он сам бы рад одарить самыми дорогими подарками всех, кто с такой любовью слушает его улигеры.
Борхонок продолжает сказ. Много бед причиняют юному богатырю злые недруги. Но он разгадывает их хитрые уловки одну за другой. Все облегченно вздыхают, когда батор выходит победителей в неравной битве; все рады, что его враги повергнуты в прах, что «с севера летящие вороны белыми днями их клюют, с юга пришедшие волки Черными ночами грызут».
— Так им, и надо! — вырвалось у кого-то.
Борхонок рассказывает теперь уже о счастливой жизни молодого батора и его сестры.
Вот улигер окончен.
— Будете еще слушать?
— Будем!
— Тогда сначала отдохнем, чаю попьем…
Доржи уже превратился в богатыря. Жаль только, что у него нет шубы с семьюдесятью пятью пуговицами. Он с грустью рассматривает рубашонку, потемневшую от пыли и времени. Зато лук у него не хуже, чем у настоящего батора. Сделан он, правда, не из рогов девяноста козлов, но это ничего, он такой же меткий.
Борхонок пьет чай. Выпил третью чашку и вдруг спрашивает у ребятишек:
— Ну, ребята, кто из вас станет улигершином?
— Доржи!
— Доржи!
Доржи чувствует, как у него пылают уши и щеки. Спрятаться бы куда-нибудь… Разве он сумеет рассказывать улигеры так, как этот старик?
Борхонок смотрит на мальчика добрыми стариковскими глазами.
— Ты любишь улигеры? — спрашивает он. — Но ведь все, кажется, любят их. Чтобы стать улигершином, этого мало. Мало и запоминать улигеры, повторять слышанное. Эхо вон повторяет каждый звук, а что в нем толку?
Старик обнял мальчика за плечи.
— Есть улигеры — как араки[12]… Они туманят голову. Если человек поверит в них, он пойдет по плохой дороге… А есть, — лицо у старика просветлело, голос зазвучал молодо, — есть улигеры, разгоняющие грусть, очищающие душу. Они зажигают в людях огонь смелости, дают им силу… Они дороги сердцу каждого честного бурята.
Эти слова мудрого старика, как золотые зерна, запали в душу маленького Доржи.
Собралось еще больше народу. Борхонок отодвинул чашку и начал новый сказ.
Время бежит незаметно. Кончается одна сказка, начинается другая. Вот уже и вечер… Послышалось густое требовательное мычанье. Это возвращается с пастбища скот Мархансая Жарбаева — самого богатого человека в улусе Ичетуй. Черные одномастные коровы огибают подножие Сарабды, широкой лавиной растекаются по степи. Облако густой пыли все ближе и ближе… Среди мычащих, дерущихся друг с другом быков и коров Мархансая суетятся мальчишки и женщины — улусные бедняки разыскивают своих коровенок, затерявшихся в чужом стаде. Проскакал на коне Мархансая его батрак, подросток Гунгар, отделяет от стада дойных коров хозяина. Слышны голоса женщин, сзывающих детей. Где-то лают собаки, плачет ребенок.
Близок закат. Солнце покрасило золотом перистые облака. Небо еще не остыло от дневного зноя. Но вот со стороны заходящего солнца подул ветерок. В розовых красках заката и ветерок кажется розоватым. Он принес горький дым кизяка, запах гнилых шкур и конского пота. Борхонок с удивлением огляделся.
— Кажется, уже вечер.
Он устало отложил в сторону хур.
— На сегодня хватит.
Доржи только сейчас почувствовал, что проголодался. Домой он пошел вместе со своими дружками.
— Почему ты не сделаешь себе хур? — спросил Доржи Затагархан.
— Некогда. Мама болеет. Как ей станет лучше, обязательно смастерю.
— Смастерить-то можно, а кто играть будет? — сказал Эрдэни.
— Был бы хур, а кому бренчать на нем — найдется…
— Ты не думай, это не просто — играть на хуре…
— Я знаю, как стать хорошим хурчи, — заговорил Доржи. — Нужно с хуром, — продолжал Доржи уже шепотом, — семь дней подряд выходить по вечерам на перекресток трех дорог. На седьмой вечер подойдут к тебе сзади, возьмут твои руки холодными пальцами и начнут водить смычком. А ты стой, не оглядывайся, не спрашивай, кто это. И тогда станешь лучшим хурчи…
Ребята притихли. Они идут мимо верблюжьей крапивы. Ее листья в сумерках кажутся черными. Вот стала видна покосившаяся коновязь. Здесь был чей-то летник. Гостеприимная, видно, семья жила — у коновязи до сих пор выбоина от конских копыт.
Вдруг из темноты раздался голос:
— Кто там?
Ребята вздрогнули, им вспомнился хурчи с холодными пальцами, который приходит на перекресток трех дорог. Когда же подошли ближе, разглядели: в крапиве оказалась бабушка Затагархана, слепая на оба глаза толстая старуха Тобшой. Возле нее пустое деревянное ведро. Колодец у них за юртой. От юрты к колодцу проложены жерди, чтобы Тобшой могла по ним находить дорогу. Кто-то утащил одну жердь, старуха заблудилась и попала о крапиву.
— Где ты бегаешь целый день? — заворчала она на Затагархана. — Дома ни воды, ни дров. — Старуха грузно поднялась и, тяжело дыша, пошла к юрте, держась за плечо внука.
— Не сердитесь, бабушка. Мы сейчас наколем вам много сухих дров, — утешил Доржи.
У ОЧАГА
Стало совсем темно. Доржи идет домой, посматривает на небо. Оно напоминает шелковую шубу богатыря, расшитую украшениями — звездами. Темные облака у самого края степи — точь-в-точь соболья оторочка… А луна в жидких облаках — как щит батора.
В юрте темно, и едкий дым режет глаза. «Так же темно было, наверно, в пещере, куда засадили храброго батора». Доржи подбросил в очаг несколько поленьев. Дрова загорелись, и в юрте стало светлее.
Мальчик осмотрелся. У стены стоит деревянное ведро, полное молока; он зачерпнул ковшом и жадно выпил.
Братья уже спят. Целый день ходили за овцами, устали… Жарко и весело горят дрова в очаге. Доржи подсаживается поближе, греет озябшие ноги, смотрит в огонь, и ему чудится, что в пламени очага возникают маленькие огненные люди. Они скачут на красных быстрых конях… Доржи видит, как развеваются у лошадей синие шелковистые хвосты и гривы… Огненные люди стреляют друг в друга искрами-стрелами. В пламени очага как бы оживают герои чудесной сказки Борхонока.
Во дворе залаяла собака. Она злобно кинулась на кого-то, потом виновато взвизгнула, и слышно, как теперь ластится. Обозналась, залаяла на знакомого, и теперь ей стыдно, наверно…
Толстая кошма у входа распахнулась, в юрту вошли две девушки — Жалма и Дулсан. Обе они сироты и пасут коров у богатея Мархансая Жарбаева.
— Мать еще доит коров?
— Не знаю… — неохотно ответил Доржи. Мальчику жаль было расставаться со своими видениями.
В юрту вошли сразу несколько женщин, и с ними мать. Как только она перешагнула порог, в юрте словно потеплело.
— Что это ты пропадаешь на весь день? — упрекнула она сына. — А я хотела тебе на штаны заплатки поставить.
Доржи закрыл руками рваные штанишки, спрятал ноги.
Мать сняла старую отцовскую куртку, надела зеленый халат, черную плюшевую безрукавку. Доржи следит за каждым движением матери. Она самая красивая, самая добрая и умная…
Доржи любит слушать разговоры взрослых. У мужчин бывает так: когда соберутся, закурят, а потом начнут разговаривать о засухе, о суровой зиме, о зуде[13], о чьих-то долгах… Помянут недобрым словом зайсанов[14] табангутских, сартульских, цонгольских… Потом кто-нибудь заговорит о тупом и злобном Тыкши Данзанове, о Гомбо Цоктоеве, о богаче Мархансае Жарбаеве. Все улусники знают о темных делах главы Селенгинской степной думы[15] тайши Юмдылыка Ломбоцыренова, но ругают его шепотом — лучше не связываться с этой черной свиньей. Ведь говорят в народе: «Если бедняк подерется с собакой — останется без подола, если свяжется с богачами нойонами — может остаться без спины». Соседи говорят, что тайша Ломбоцыренов часто стал пить араки с молодым тайшой Хоринской степной думы: значит, они затеяли черное дело. Так говорят соседи. Доржи хочется узнать, что это за черное дело… Или вот еще: Ломбоцыренов в степи второе лицо после бурхана-багши[16]. А недавно Доржи узнал, что тайша подарил жене иркутского губернатора соболей на несколько тысяч рублей. Зачем он подарил столько соболей? Он ведь совсем не добрый: приезжал в улус плотник, из-за сорока пяти копеек тайша его так избил, что у того на теле живого места нельзя было найти. У кузнеца Холхоя половину косы выдрал.
Хорошо бы узнать, кто выдумывает про тайшу злые, обидные песни, которые тайком распевают бедняки улус-ники. Повидать бы того человека… Но разве увидишь? Он живет, наверно, далеко-далеко…
Доржи любит также слушать рассказы охотников. Чудной они народ: думают, что все им верят. И тому, что на медведе они верхом ездили и лисиц за хвосты ловили. А один про медведя рассказывал, будто тот издалека принес дымную головешку и стал пчел из дупла выкуривать, чтобы медом полакомиться.
А может, все это и правда в тайге случается? Доржи ведь там не был… Не стать ли ему, когда он вырастет, охотником?
Но больше всего Доржи любит, когда на беседу собираются женщины… О чем они будут говорить сегодня?
Разные думы поднимаются у мальчика. Одни чуть тронут сердце и тут же исчезнут, а другие приходят, чтобы задержаться надолго, и гостят в сердце, пока новые не займут их место. Доржи давно собирается спросить отца: почему это Мархансай и Тыкши Данзанов говорят о женщинах обидные слова? Доржи слышал, как Мархансай сказал своему сыну Шагдыру: «Нечего мать слушать… От бабы не дождешься ничего, кроме сплетен». И еще сказал: «Лучше держать лишнюю собаку, чем ленивую жену». А вот Ухинхэн совсем другой, да и отец часто с матерью советуется. Доржи запомнились хорошие, красивые слова Еши Жамсуева: «Нет ничего на свете краше, чем матери наши». Это он сказал сегодня, когда Борхонок закончил свой улигер про батора и его сестру. Будь. Доржи батором, он вызвал бы Мархансая на битву, чтобы тот не смел обижать женщин. Правда, и Доржи нет-нет да и дернет за волосы какую-нибудь девочку. Но ведь это же девчонка. Доржи не любит плакс.
— Почему ты не спишь, Доржи? — спросила Дулсан.
— Пусть посидит, — заступилась мать. — Он любит послушать взрослых, не то что братья.
Доржи огляделся. В юрте собрались женщины-соседки. Доржи хорошо знает каждую из них. Доржи не раз видел их у костров, озябшими от ветра. Он видел, как они потрескавшимися руками терпеливо скоблили бараньи и козьи шкуры.
— Ну, девушки-невесты, соседки — редкие гостьи, поближе к огню! — пригласила женщин мать Доржи. — Всей работы не переделаешь. Давайте устроим себе сегодня праздник.
Женщины переглянулись и дружно расселись на потертых телячьих шкурах, на пожелтевших толстых войлоках, снятых со старой юрты.
— Не только к соседке зайти, на солнце взглянуть некогда, — вздохнула Жалма и подвинулась к очагу.
— Да, так, видно, всю молодость и проходим за чужим скотом. Под старость даже сломанного веретена не будет своего, — отозвалась Дулсан.
— Ваши годы еще впереди, — задумчиво проговорила соседка Димит, мать Аламжи и Эрдэни. — А вот мне каково, с кучей ребят…
— Обидно. Как ни стараешься, все равно от Мархансая доброго слова не услышишь. Он рот открывает только для того, чтобы выругаться… Глаза у него лишь затем, чтобы высматривать чужое добро.
— А куда денешься, Жалма? Где найдешь лучшего хозяина? У всех нас одна судьба: тропа чужого скота, кислая арса да рваная шуба, — с горечью сказала Дулсан.
Доржи не заметил, когда мать успела подогреть араки. Он увидел лишь, как она налила в желтую чашку дымящийся напиток и высоко подняла ее.
— Ну, кто из нас старше?
— Если считать, кто больше белых дней прожил, то старшей будет тетя Димит. А если считать, кто больше горя и обид перенес, то старше всех Жалма и Дулсан, — отозвалась Дарима, жена Ухинхэна.
Мать Доржи протянула полную чашку Димит. Та улыбнулась, бережно взяла чашку, трижды обмакнула в нее палец, подбросила капли вверх, по обычаю угощая богов.
— Пусть радушный хозяин будет богат, — сказала Димит. — Пусть будет счастлива на долгие годы хозяйка, у которой в доме крепкая араки. Пусть не скудеет ваш дом, не пустеет колыбель…
— Пусть всегда и полностью сбываются слова доброй соседки, — поблагодарила Цоли.
У Доржи сами собой закрываются глаза. Он прижимается к матери, дремлет. В юрте становится оживленнее, веселее… Женщины пьют по очереди. Мать наливает себе последней. Говорят все сразу. Говорят о том, что у Мархансая слабая араки. Это не к добру — таково народное поверье… Вспоминают, что у Дагдая единственная корова принесла двух телят. А он хоть человек и неглупый, вместо того, чтобы одного теленка убить и сжечь, еще радуется. Это, однако, тоже не к добру…
Потом женщины снова начинают осуждать Мархансая за жадность и грубость, и вдруг все разом заговорили о том, что этот сумасшедший старик вздумал волочиться за Янжимой, беспутной дочерью Тыкши Данзанова.
— Да ему ведь шестьдесят! Старый дурак забыл историю про ворону: как она вздумала плавать вместе с гусем, да утонула!
В юрте раздается дружный хохот.
— А нам-то какое дело? Мы из глупого Мархансая умного не сделаем, — и Дулсан протянула Цоли желтую чашку.
Все выпили еще.
— Вот какой Мархансай… Жених шестидесятилетний! — осуждающе говорит Цоли и качает головой.
— Да что вы на него напали! — смеется Жалма. — Шестьдесят да шестьдесят… Ему только пятьдесят девять.
Женщины сндва засмеялись, зашумели, заговорили все вместе. А Жалма наклонилась к Дулсан, они пошептались и вдруг затянули молодыми, звонкими голосами:
И, странное дело, никто раньше не слышал этой песни, а тут все в один голос подхватывают ее, будто сговорившись:
Кажется, что песня опьянила женщин больше, чем араки. Перекинувшись несколькими словами, они задорно продолжают:
Будто солнечный луч заглянул в юрту — светло в ней стало и радостно. Все смеются. Доржи потихоньку приоткрыл глаза. Он не узнал соседок. Щеки у них разрумянились, глаза блестят, длинные косы падают им на грудь, в косах звенят серебряные кружочки монет. Словно и они смеются от радости. Мальчику показалось, что соседки вдруг переоделись во все лучшее, что у них есть, как в самый большой праздник.
Но веселый огонек задора горел недолго: все вдруг утихли, будто застыдились, что занялись недозволенным делом. Соседки прижались друг к другу и, покачиваясь в такт, затянули грустную-грустную песню о том, как-отец уезжал в далекий путь: «Было так жарко, что от зноя звенел раскаленный воздух». После нее о том, как провожают замуж девушку: «Сидя на верблюде уезжаешь. Отца и мать заплаканных оставляя, уезжаешь…» Девушка грустит на чужбине, тоскует по родным местам: «Все бы забыла — и сон, и усталость, лишь бы обнять родную мать, увидеть родную степь…»
Доржи слушает, но в ушах у него все еще звучит злая песня о Мархансае, которая только что родилась в юрте.
Он не может понять, как это женщины так быстро сложили новую песню. А если Мархансай-бабай узнает? Доржи ясно представляет себе его перекошенное злобой лицо, слышит его хриплую брань.
Доржи ведь мужчина, не то что женщины там или девушки, но и ему страшно. А те ничего, будто так и надо.
Мальчуган счастлив, точно ему доверили важную тайну. Ему очень хочется, чтобы женщины еще и еще пели эту хлесткую песню.
Плавный мотив убаюкивает Доржи. Он дремлет, прислонившись к теплым коленям матери. Та гладит его голову и тихо улыбается.
ЗАВЕЩАНИЕ МАРХАНСАЯ
Скалиста гора Сарабда, у подножия которой расположен улус Ичетуй. Повсюду торчат неуклюжие красные камни. Ни одного деревца… Камениста и гора Бурханта, мимо которой мчит вдаль свои воды стремительная Джида.
В тот день, когда в улус приехал улигершин Борхонок, по дороге из Селенгинска тихо брела серая лошадь. На телеге лежал, развалившись, Мархансай Жарбаев. Поднимая пыль, змеей извивался его бич. Широко огородил Мархансай долину с тучными солончаковыми травами. Привольно цастись его телятам и ягнятам — в тээльнике[17] хоть конские скачки устраивай. Он хотел бы еще шире загородить — всю степь, вместе с горами Баян-Зурхэн и Сарабдой, — да, видать, пока жердей не хватило Когда-нибудь, может, и загородит.
Показались летники улуса Ичетуй. Конь зашагал увереннее, осторожно вошел в открытую загородку, остановился у одной из юрт. Мархансай сел на телеге и прогнусавил:
— Эй, у Мархансаевых есть кто-нибудь?
Из юрты вышла его жена Сумбат — полнотелая, широколицая, с тонкими губами. На ней круглая бархатная шапка, широкий синий халат со множеством мелких складок. Мархансай смотрел на жену так, будто видел ее впервые.
— Скажите, Мархансай Жарбаев здесь живет? Вы чья будете, красавица молодуха? Можно ли у вас переночевать? Есть ли у вас араки? Говорят, вы очень скупые…
Жена ответила в тон:
— Что вы, что вы… Мы не скупые. Заходите, найдется и араки, ночуйте у нас.
Мархансай засмеялся, он доволен ответом жены. Сумбат подошла.
— Давайте руку, я помогу вам слезть.
— Уходи, уходи. Сам управлюсь, без баб. Где сын?
А сын уже подбежал к отцу. Ему лет двенадцать-тринадцать. Из-под шапки торчит жидкая косичка. Лицо испуганное, бледное. Под носом у него всегда мокро.
— Ты, парень, чей?
Малец выпятил грудь и прокричал, как учил его отец:
— Я внук Жарбая Тосотоева, племянник Галсана Тохтохоева, сын ахайхана Мархансая, сильный и умный Шагдыр!
— Молодец парень!
Шагдыр взял отца за руку, а отец, видно, много араки выпил, спотыкается, наступает на полы своего засаленного зеленого халата. Он заходит в юрту, ложится на кровать и внимательно смотрит на сына. Подумав, говорит:
— Ты мой сын, Шагдыр. Я, возможно, когда-нибудь умру. Слушай мое завещание.
— Отец… вы уже говорили… У меня жарится баранья печенка… Сгорит…
— Пусть хоть целый баран сгорит, не отпущу. Ну, какое завещание ты знаешь?
Шагдыр недовольно сопит, ему не хочется оставаться в юрте.
— Ну?
— Вы говорили: «Помни, если кто беден, значит такая у него судьба. Никого не надо жалеть, ни о ком не надо заботиться. Перед тем как дать кому-нибудь в долг, подумай, сможет ли он вернуть». Это первое завещание.
— Дальше…
— «Никогда не давай взаймы родственникам. Лучше дай чужим: скорее получишь, да еще и с выгодой».
— Правильно.
— «Скот оберегай как от волков, так и от чужих людей. В богатстве сила…»
— Молодец, Шагдыр… Ты и впрямь не дурак.
— «Лучше держать лишнюю собаку, чем бестолковую жену». Вы еще сказали, что бедные приходят, чтобы украсть, а богатые — чтобы породниться…
— Верно!
— Не велели торопиться в дацан[18] жертвовать.
— Еще?
— Отец, печенка, наверно, сгорела.
— Пускай горит. Нос вытри…
Шагдыр продолжает однотонно, как молитву:
— «Если бедный спросит: «Сколько у вас скота?» — нужно отвечать: «Меньше, чем у тебя вшей». А если об этом спросит богатый, сказать ему: «Если хотите породниться, то мяса хватит на свадьбу, скота на приданое и на калым».
Шагдыр умолк, ковыряет пальцем в носу.
— Что, забыл? «Если кто-нибудь один раз…»
— A-а… «Если кто-нибудь один раз кинет в тебя кизяком, десять раз кинь в него камнями. Не давай себя обижать, обижай сам: раз ты богат, у тебя найдутся защитники и заступники». Печенка, однако, совсем сгорела…
Мархансай буркнул:
— Убирайся, надоел…
— Да он не о печенке тревожится, — сердито говорит Сумбат. — К Ухинхэновым приехал этот, как его… Борхонок. Он туда хочет удрать, все мальчишки там.
Мархансай нахмурился.
— Тогда сиди дома. Нечего всяких болтунов слушать. Лучше бы этот брехун молитвы читал.
Скоро и в соседних улусах узнали, что в Ичетуе гостит Борхонок, приехали послушать, пригласить к себе. Утром у юрты Ухинхэна опять собрался народ. Когда Борхонок напился чаю, Ухинхэн сказал ему:
— Вы рассказали нам много улигеров и сказок, поведали много мудрых загадок. Но наши улусники обижаются: об Ичетуе даже не обмолвились. Разве нечего сказать о нем? — Ухинхэн широким жестом показал вокруг себя. — Смотрите сами… Вот наша Джида. Она родилась на вершине Уран-Душэ[19]. Говорят, что белые лебеди спели ей песню о быстром прозрачном Зэлтэре — смелом брате ее. И вот Джида и Зэлтэр встретились в долине Закамны и помчались дальше, к старшей сестре — реке Селенге. Более трехсот верст нужно огибать горы, преодолевать пороги… Селенга понесла их к Байкалу. А какие горы стоят вокруг! — продолжал Ухинхэн. — Вот Бурханта и Сарабда, Баян-Зурхэн… Разве не достойно все это похвального слова улигершина?
Доржи понравились слова Ухинхэна. Как он о Джиде красиво говорил! Какие названия — Уран-Душэ, Зэлтэр! Может, и нет на свете такой горы и такой реки… Не думал Доржи, что Ухинхэн, всегда молчаливый, угрюмый, может так красиво говорить.
Борхонок покачал головой.
— Да, у вас красиво вокруг. И горы, и реки… А как люди живут? Я бы хотел сложить песню о счастливом улусе, но, — старый улигершин тяжело вздохнул, — не встречал таких улусов. Посмотрите на Ичетуй… Повсюду дырявые и дымные юрты. Если бы в этих юртах люди всегда сытно кушали и тепло одевались — другое дело. Но и этого нет.
— Да, не всегда мы сытно едим! — прервал Эрдэмтэ и с тоской оглядел всех.
— Всем слабым нет ни житья, ни прохода. В лесу паук сплел паутину и ловит мух и бабочек, а среди людей жадные и жестокие оплели несчастных соседей паутинами долгов и хитростей. Каково все это видеть и слышать и самому терпеть? Разве об этом сложишь хороший улигер? Лучше помолчать. Вот если бы вольная птица порвала могучими крыльями паутину, которую сплел пузатый паук, тогда другое дело. Я воспел бы ее самыми дорогими словами.
— Слышали? — улыбнулся Ухинхэн и оглядел собравшихся.
Улусники словно впервые увидели свой Ичетуй: в середине улуса, как четыре пуговицы — две белые и две черные, — войлочные юрты и деревянные летники Мархансая. Во все стороны тянется от них зубчатая городьба.
В наступившей тишине прозвучал голос Ухинхэна:
— Вы правы, почтенный гость…
Кто-то сказал:
— Сложили бы улигер про будущее наших детишек…
Борхонок погладил голову мальчугана, стоявшего рядом, и ответил:
— И про них рано слагать песни. Станут настоящими людьми, будут стараться для народа — народ воспоет их в своих песнях… Ну, я поеду, пока прохладно.
Все провожают старика.
— Приезжайте чаше!
Среди провожающих — Доржи.
«Почему, — думает Доржи, — дядя Ухинхэн обрадовался ответу Борхонока? Будто знал, что тот скажет… Зачем тогда заговорил об Ичетуе? Надо спросить об этом дядю Еши…»
БАЛДАН
Говорят, Мархансай не помнит, сколько у него скота, — дальше десяти счета не знает. Может быть, и так, но зато он прекрасно знает, кто и сколько дней должен на него работать. Никому не известно, что за божницей, где стоят бронзовые божки — бурханы, и лежат тибетские книги, у Мархансая хранится бумага, вся исписанная. Мархансай не умеет написать ни одной буквы и ни одной цифры. Он выводит на бумаге какие-то закорючки. Если закорючка напоминает хур — это Еши Жамсуев, если молоток — это кузнец Холхой, косу — это Эрдэмтэ. Если напротив косы выведены четыре кружочка, значит Эрдэмтэ должен отработать четыре дня. Значок, похожий на грабли, изображает старика Мунко или его сына Сундая. Есть значок и для тайши Ломбоцыренова: лук и стрела.
Если Мархансаю кто-нибудь должен, он ночей не будет спать, пока не получит. А когда сам должен кому-нибудь — не торопится отдавать. Попросят у него: «Не пора ли вам, Мархансай-бабайхан, отдать мне полтинник?.. Ведь я же трижды его у вас заработал», — Мархансай насмешливо ответит: «Отдам, отдам. Разве будет такой день, когда тебе деньги не понадобятся? Разве будет такая зима, когда тебе сено не окажется нужным?.. Вот, может, будущей зимой получишь. Потерпи. Терпеливых бурхан-багша любит».
Говорят: «У Мархансая богатство во дворе, у Ломбоцыренова — в сундуке». И это правда: Мархансай не копит ни золота, ни серебра. По одежде его не отличишь от бедных соседей. Зимой он носит засаленную овчинную шубу, а летом — старый зеленый халат, посмеивается, что красивая одежда укорачивает жизнь. В доме у него все слуги — безродные сироты из других улусов: с такими меньше хлопот.
Мархансай издавна мечтал о батраке, который бы все умел и работал безропотно, не болел ни разу, не жаловался ни на голод, ни на холод.
И здесь Мархансаю повезло. Подвернулся такой человек.
Вот как он попал к Мархансаю.
Около дороги, ведущей в Селенгинск, лежит большой камень. Лежит он, говорят, с тех пор, как бурхан-багша создал землю. Люди назвали этот камень «Каменное седло». И вот однажды, три года назад, из Селенгинска вернулся Еши Жамсуев и рассказал, что камень перебрался через дорогу и лежит теперь на новом месте.
Ему не поверили.
— Однако, Еши, это не у дороги камень, а у тебя в голове какой-то камушек сдвинулся, — пошутил кузнец Холхой.
Улусники рассмеялись, а Еши обиделся. Но все же несколько человек, из самых любопытных, не удержались и поехали. Камень действительно лежал не там, где всегда. Он был повернут не к заходящему солнцу, как раньше, а к восходящему…
Среди улусников пошли тревожные толки, отправили посланцев в буддийский храм — дацан. Приехали пять лам[20]. К камню на молитву собрались люди. Ламы потребовали, чтобы жертвовали коров, коней, деньги. Они замесили тесто и стали раскатывать его на опрокинутых чугунах, чтобы от сажи и копоти тесто стало черное. Затем они слепили фигурки невиданных страшилищ. Это были не люди, не звери, не птицы. Они таращили на людей слепые бельма бумажных глаз. Из раскрытых пастей торчали красные тряпичные языки. Но когда все было готово для молебствия, появился мальчонка — пастушонок богача Ганижаба, из соседнего улуса.
— Я знаю, кто камень перетащил… Сам видел, — объявил он. — Вон дядька сидит…
Это и был Балдан.
Его подозвали. Тот плюнул на ладони и поднял камень.
Что делать? Ламы испугались: силач Балдан вылил им на костер дохода ушат воды. Надо как-то выкручиваться.
— У него нечеловеческая сила, — сказали они. — Он колдун. Надо отсечь ему руки.
Если бы не Мунко-бабай, плохо пришлось бы Балдану. Старик сказал:
— Почтенные ламы! Этот человек прославит наш улус. Сохраните ему руки…
Его поддержали все старики. Пришлось ламам уступить. Тогда они сделали из черного теста две огромные руки, слегка помазали их кровью Балдана и закопали в глубокую яму. Это было сделано ночью, при свете костров, под визгливую музыку трубачей из дацана.
А утром Балдана разыскал богач Ганижаб.
— Иди ко мне жить, — ласково сказал он. — Я буду одевать тебя, а ты — подсоблять мне в работе…
За ночь подобрел и Мархансай.
— Для тебя, Балдан, у меня найдутся и арса и овчина. Приходи ко мне жить…
Мархансай и Ганижаб знали: есть расчет держать работника-силача. Они даже поссорились из-за него. Балдан согласился жить у Мархансая. На то были у него свои причины. Об этом знала только Жалма.
И вот живет уже три года Балдан у Мархансая, работает за семерых. Мархансай иногда хвастается:
— Если бы не я, отрубили бы тебе руки, Балдан. Это я спас тебя, шепнул старикам.
Балдан слушает молча, не отвечает.
В улусе о Балдане ничего не знают. Поначалу пробовали расспрашивать его, кто он и откуда, но ничего не добились. И вот одни решили, что он стал таким молчаливым после пережитого горя, поговаривали даже, что он потерял всех родных; другие обвиняли его в гордости, а третьи сочувственно вздыхали — просто дураковат парень…
Жалме очень хочется побольше узнать о жизни Балдана. Она понимает, что судьба у них с Балданом одинаковая, хотя не похожи они друг на друга, да и по возрасту Балдан гораздо старше. Жалма думает, что когда боги разделяли людей на богатых и бедных, она и Балдан попали в одну кучу. Боги тогда сказали, наверно, богачам: «Вы всегда будете сытые, гордые. Мы будем вашими заступниками». А беднякам боги завещали терпеть. «Нет вам на земле ни счастья, ни сытости, — сказали боги, — ходите с голодным брюхом. Вам и собакам у нас одна цена — служите хозяевам, сносите побои, да не жалуйтесь, а то еще хуже будет. Терпите!» Жалма рада, что теперь она не одна, благодарит богов за то, что они привели Балдана в Ичетуй.
Ведь надо же было случиться! Жалма пасла в степи овец Мархансая. День был жаркий, овцы стояли, сгрудившись недалеко у дороги. Жалма сидела на Каменном седле, рядом лежал на траве пастушонок богача Ганижаба.
— Гляди-ка, — мальчик показал Жалме на дорогу, — какой здоровый дядька идет.
К ним подошел парень — большой, неловкий, с кожаным мешком на плече. Лицо спокойное, полное. Глаза добрые. На широком носу чуть заметная горбинка. Из мешка торчали топор — ну, никак не меньше конской лопатки, — молоток с кузнечную кувалду и огромная горбатая коса. Он не сказал громко «амар сайн», а только кивнул и что-то буркнул себе под нос. Сел рядом. Долго смотрел на Жалму, на веретено, которое она не выпускала из рук, потом спросил:
— Ты чья будешь? Как живешь?
О чем говорить с незнакомым парнем? Встать да уйти… Но Жалма не ушла, стала рассказывать. Слушала себя, удивлялась, что так доверчива. Может потому, что никто еще не спрашивал ее раньше, чья она и как живет…
Девушке показалось, что Балдан неодобрительно поглядел на нее, когда она кончила: вот, мол, какая болтливая… А он взглянул на Жалму и сказал:
— Вместе будем. Ты мне вроде сестры станешь.
— Как же вместе? — удивилась Жалма.
— Ну да, вместе. Я у твоего хозяина жить буду, работать.
— Не знаю, возьмет ли вас Мархансай. Побоится. Вы вон какой большой…
— Возьмет. Богачи любят сильных работников. А ну, встань с камня. Гляди.
Балдан раскачал Каменное седло, поднял его и, тяжело ступая, перенес на новое место. Бросил, вытер руки о штаны, скупо улыбнулся.
— Видала? Возьмет он меня. Я сейчас в Инзагатуй иду. На днях вернусь.
Пастушонок Ганижаба смотрел на Балдана с восхищением. А в сердце Жалмы зародилась какая-то смутная надежда. Степь вдруг показалась ей шире, небо выше, травы мягче, солнце светлее.
Жалма повидала немало батраков, бродяг. Все они похожи друг на друга, забитые, робкие. Ходят тихо, говорят шепотом; когда им смешно, зажимают рот ладонью, будто никто не должен слышать их смеха.
А Балдан? Балдан, видно, совсем другой. Вон какой… Куда до него богачам! Мархансай толстый, кривоногий, руки до колен. А Ганижаб вовсе гнилой старикашка, от ветра качается.
Балдан и в самом деле оказался не таким, как все. Он ни перед кем не гнет широкую спину. И Жалма вдруг почувствовала себя спокойней. Посмотрит на него и подумает: есть плечи, которых и Каменное седло не согнет; есть ноги, которые любой дороги не устрашатся; есть сердце, которое не только для себя бьется. Ей хотелось всегда быть с ним, заботиться о нем, гордиться им.
Это чувство зародилось вдруг, еще при первой их встрече. И если бы Балдан задумал тогда уйти совсем, она сама остановила бы его: «Останьтесь! У Мархансай-бабая найдется для вас работа».
БОГИ НАКАЗАЛИ…
Жалма рано поняла, что все на белом широком свете делается так, как повелось издавна. Деревья и травы тянутся вверх, вода течет вниз. Скоту страшны волки, слабым — сильные. Когда говорит хозяин, батрак должен молчать. Выплаканные в степи слезы облегчают душу.
Этой мудрости ее научила жизнь. Зачем же святые боги стали соблазнять ее пустыми мечтами?
Грешно завидовать тому, что предназначено для других. Ведь сами боги при рождении Жалмы запретили ей, видимо, носить дорогие халаты, звонкие серебряные украшения. А с тех пор, как поселился Балдан у Мархансая, она стала думать о них… Нет, чужого Жалме не надо… Просто захотелось хоть один разок, хоть ненадолго снять сермяжные лохмотья, взглянуть на себя в дорогом нарядном халате. Ой, как захотелось! Как-то размечтавшись, она вообразила себя нарядной и мысленно сказала чванливой Янжиме: «Посмотри, разве я хуже тебя?» Подумала и от испуга зажала ладонью рот, оглянулась, не подслушал ли кто-нибудь ее глупые мысли.
Если бы у нее была хорошая одежда, и Балдан, наверно, был бы ласковее…
Будто что-то дремало в ней, а теперь проснулось, громко и требовательно заявило: «Ты ведь тоже молодая, Жалма».
Жалма сидела в юрте хозяина, сбивала масло. Сметаны полная кадушка. Хоть бы попробовать… Но нельзя, сметана хозяйская. Она стала густая-густая — того и гляди, сломается толстая палка, которой Жалма мешает в кадушке. Начали появляться рябоватые пузырьки, и вот уже масло готово.
Жалма заметила на кровати связку ключей — хозяйка, видать, забыла. Она знает: этот носатый — от красного сундука. В нем лежат наряды Сумбат-абагай, ее приданое — дорогие, красивые халаты. В солнечные дни она развешивает их во дворе — проветривает.
После свадьбы она их не надевала: Мархансай-бабай сам не носит хорошую одежду и домашним не разрешает, сердится. «Пусть, говорит, городские бездельники наряжаются…».
«А что, если открыть сундук и померить шелковый халат? — вдруг подумала Жалма. — Всю жизнь потом вспоминала бы…» Она сразу же положит его на место, так, как лежал, положит… Никто и не узнает, она ни одной ниточки на нем не тронет, ни одной бусинки-слезинки не уронит. Померит, посмотрит и снимет. Разве есть в этом грех?
Девушка выбежала из юрты, огляделась вокруг, поблизости никого не было. Даже птицы не летали над юртой. Вернулась, подошла к сундуку. Почему так трясутся руки? Жалма с трудом вставила ключ, повернула. Замок открылся со стоном и скрежетом. Она отшатнулась, потом медленно подняла тяжелую крышку. Ее обдало затхлостью, спертым, тяжелым воздухом.
Вот новый светло-синий халат… Толстый шелк шуршит под руками. Синие выпуклые драконы, оторочка из узорчатой парчи…
Она скинула лохмотья, натянула халат, оправила складки, оглядела себя и справа, и слева. Ой, как хорошо сидит! Прямо как на нее сшит… Нарядная была Сумбат-абагай, когда выходила замуж за Мархансая, впервые переступала порог этой юрты! И хорошая, наверно, была. Это Мархансай испортил ее — не злую, не жадную.
Девушка достала из сундука нарядный головной убор — даруулга, весь в алых кораллах, разноцветных бусинках. Со всех сторон свешиваются звонкие серебряные украшения и монеты. На монетах цари. Они смотрят на Жалму с доброй улыбкой. Тяжелый же этот даруулга, если долго его носить, шея заболит…
Жалме очень хочется посмотреть на себя. Она взяла в руки орхимжо — широкую красную ленту, которую Сумбат берет на молебны. Надела на грудь четки с круглыми деревянными корольками, повесила на шею иконки с изображением богов. Теперь бы выйти и показаться людям. Пусть бы взглянули на нее в шелках и парче, в звонком серебре и кораллах!
Вот лежат золотые серьги-колючки, а у нее и уши не проколоты… Ой, как хочется показаться всем, всем. Сказать бы Янжиме, Сумбат, Мархансаю: «Не гордитесь! Богачи родятся тоже голыми, как и пастухи-.. Это вы потом наряжаетесь».
Сколько времени прошло! Как не хочется снимать нарядный халат! Жалма ходила вокруг очага, делала вид, что принимает дорогого гостя, подносит ему угощение. Подошла к божнице, чтобы боги взглянули на нее, нарядную, красивую… Жалма будто сон видит, будто сказку чудесную слышит. Вот если бы сейчас зашел Балдан!
Но не Балдан, а Мархансай-бабай вошел в юрту. Следом за ним и Сумбат-абагай. Они остановились на пороге, не сразу узнали Жалму, приняли за богатую, знатную гостью. Потом увидели ее Засые ноги, лохмотья, лежащие на полу у кровати, и все поняли. Сумбат-абагай застонала, а Мархансай-бабай первый раз в этом году захохотал. Его смех перешел в злобное рычание.
У Жалмы подкосились ноги, она присела на пыльный пол.
— Ха-ха-ха… — прохрипел Мархансай. — Кто это такая? Какого нойона дочь? Голая дура в шелка вырядилась… Это ты, Сумбат, вожжи распустила…
— Я ей покажу! — взвизгнула Сумбат. — Мой лучший халат напялила! Вместе с паршивой шкурой сдеру!
— Бей ее, бей! Чтобы и свои лохмотья натянуть не могла!
— К коню ее привязать да протащить по улусу. Пускай люди на голодранку в парче посмотрят, со смеха попадают. А потом бичом ее, бичом…
Затряслась от страха Жалма. Жутко стало в юрте-На подоле халата зашевелились хвостатые синие драконы… На голове будто не дорогой даруулга, а раскаленный чугун оказался. Над ее ушами зашептались, стали пересмеиваться серебряные цари на холодных монетах.
Сумбат подошла к ней боком, на цыпочках, будто подкралась, белые тонкие губы сжаты, руки вытянуты вперед, как у слепой. Сдернула четки. Раскатились по полу деревянные шарики, расползлись, как живые пауки. Со звоном упали бронзовые иконки. Сумбат сорвала с головы Жалмы дорогой коралловый венок, хотела ударить им по лицу, да побоялась испортить. Схватила орхимжо, скрутила жгутом и стала хлестать по глазам, в кровь рассекла губы и нос. Мархансай то рычал, то смеялся, то гнусаво ругался.
Солнце уже склонялось к закату, а Жалма, босая, полуголая, все ползала по полу, собирала рассыпанные четки. Глаза помутились от слез.
— Все найди! Все до одного, их было сто восемь, — кричала Сумбат.
Жалма собрала сто четыре, а остальные как сквозь землю провалились. Она не знала, что Сумбат держала их в своей потной ладони, спрятала, чтобы продлить мучения Жалмы.
Жалма терпела все молчаливо и покорно. Она упрекала только себя — не надо было трогать чужое, не надо было и думать о дорогих нарядах, раз не суждено их носить. Вот боги и наказали ее руками хозяев за дерзкие, недозволенные мечты.
ЗА ОТАРОЮ
Узкие серые облака кушаком опоясывают небо и заканчиваются темной кисточкой на востоке.
У отлогого подножия Баян-Зурхэна пасутся разномастные овцы улусной бедноты. Некоторые острижены, с других свисают темные клочья зимней шерсти. Богачи, у которых тысячные стада, давно остригли своих овец, а у бедноты, видно, руки не доходят, некогда позаботиться о своем хозяйстве.
Повыше, на каменистом уступе, сидят пастухи-ребятишки. Самый старший из них — Харагшан, брат Доржи. Младшие — ровесники Даржай и Аламжи.
Степь притихла, словно придавленная тяжким зноем, засухой… Мальчикам хочется найти тенистое дерево, улечься под его смолистые ветви на душистой траве, на мягком, чуть влажном мху. Уснуть бы и проснуться вечером, когда повеет тихий ветерок, выглянет прохладная светлая луна.
Доржи лежит на спине, смотрит сквозь прищуренные ресницы на далекое небо. Он открывает глаза, яркие лучи солнца режут их до боли. Он снова прикрывает веки и видит лишь полоску синего-синего неба. По небу бегут одно за другим легкие серебристые облака. Доржи напряженно вглядывается. Увидеть бы сейчас хоть одну звездочку. Глаза устали, и Доржи начинает казаться, что он видит тени каких-то диковинных синих птиц.
Ему вспоминается Борхонок. И облака сразу превращаются в быстро мчащихся всадников, которых смелый батор ведет в бой со злыми недругами. Доржи широко открывает глаза, и видение исчезает.
Мимо мальчиков стремительно пролетают желтогрудые ласточки. «Не эти ли смелые ласточки разорвут в лесу паутину, которую сплел паук. Может, тогда у Борхонока будет новый улигер?» Слышится далекий лай собак. Доржи видит с пригорка родной улус. Посредине большие белые юрты Мархансай-бабая, среди широких тээльников, загороженных жердями, а вокруг расположены в беспорядке далеко друг от друга темные и маленькие юрты соседей. Тихие они, словно дети без отца и матери. Не видно ни телят, ни лошадей вокруг.
Становится все жарче и жарче. Чем выше солнце, тем ленивее и неразговорчивее пастухи. Овцы тоже утихли, прижались друг к другу, замерли в ожидании вечерней прохлады.
В. Ичетуе только Мархансай Жарбаев и Тыкши Данзанов нанимают пастухов. Остальным не на что, да и незачем нанимать их: у многих никогда не было больше трех баранов, у всех же улусников вместе не соберется овец на половину Мархансаевой отары. Ичетуйцы сгоняют своих овец в общую отару и пасут по очереди. Каждому хозяину приходится пасти раз в месяц, а то и реже. За овцами ходят ребятишки. Кое-кто, правда, им не доверяет: «Какая на ребят надежда… Заиграются и вспомнят про овец, когда все волки будут уже сыты». Но плохо ли, хорошо ли пасут ребята, а овцы целы.
Доржи лежит с прищуренными глазами, слушает, как гудят в воздухе мухи, звенит от зноя степь. Но вот заговорил Даржай:
— Давайте загадки загадывать.
— Скучно. Сам себе загадывай, — лениво отвечает Харагшан.
Загадки… Доржи обидно, что загадок он знает меньше, чем Даржай. Улигеры — другое дело. Длинные улигеры запоминаются легко, а короткие загадки вылетают из памяти, не держатся в голове. Загадка — как плохо пришитая пуговица: оторвалась, упала в степи, и попробуй ее найти. То ли дело улигеры. Рассказываешь — и самому интересно. А Даржай и вступления к улигеру не сумеет рассказать, загадками же, как бабками, кидается, и всегда метко. Откуда они берутся в его голове? И голова-то — ничего особенного: черноволосая, продолговатая… Даржай, загадывая загадки, то с равнодушным видом оглядывается по сторонам; то задирает голову кверху, как будто ему совсем неинтересно.
— Загадки — так загадки, — нехотя соглашается Аламжи.
Доржи делает вид, будто не слышит. Потом не выдерживает:
— Давайте лучше улигеры рассказывать.
— И так жарко. А от длинных улигеров вовсе мозги растают. — Харагшан зевнул.
Доржи понимает: это он от зависти, оттого, что не знает улигеров. Скажи сейчас ему поперек одно слово — отдерет за уши. И ничего не сделаешь: старший брат…
— Загадки скучны, — говорит Доржи.
— Скучны тем, кто не умеет свои загадывать, не может чужие отгадывать, — поддразнивает Даржай.
Доржи чувствует: драка неминуема. Но начинать драку при Харагшане нельзя — от него же и попадет.
— Подумаешь! — тихо говорит Доржи. — Я все твои загадки отгадаю.
— Как раз… тебе только и отгадывать!
— Ну, загадывай!
— Нет, так не годится. Нужно по жребию.
Харагшан приготовил соломинки. Одна из них короткая. Кто ее вытянет, тому и начинать. Ребята тянут по очереди. Короткая осталась Харагшану.
Доржи соображает: сейчас Даржай отгадает все загадки Харагшана; брат рассердится и, если Доржи вздумает помериться с Даржаем силой, мешать не будет.
Харагшан наморщил лоб и загадал:
— По сторонам круглой горы два стоптанных унта лежат.
Доржи знает, что у брата все загадки такие: каждый отгадает.
— Это же твои уши, — не задумываясь, ответил Даржай и предложил: — Вы все загадывайте, я один буду отгадывать.
Ребята переглянулись. Аламжи сердито сказал:
— Подумаешь, умный какой! Ну-ка, отгадай: пестрая овца крутится, вертится, — чем дольше крутится, тем больше толстеет.
— Веретено твоей бабушки, — ответил Даржай.
Харагшан думал, думал и нашел загадку, на которой Даржай наверняка споткнется:
— Два могучих богатыря пищу-богатство ищут, а два — земли-дороги меряют.
— Руки и ноги человека, — спокойно произнес Даржай. — Я отгадал три загадки. Отгадаю пять и начну вас продавать.
— Кому?
— Я уж знаю, кому.
— Что такое: решетчатое, как гребень, круглое, как луна?
— Колесо телеги. Ну и загадки! Давайте пятую, и все.
Ребята отошли в сторонку — шепчутся, советуются. Вот, наконец, нашлась хитрая загадка:
— На вершине горы ветвистая сосна, на этой сосне двенадцать сучьев, а на них триста шестьдесят пять шишек.
— Это год, месяцы, дни. Ну, продаю.
— Даржай, хоть одну еще. Такую загадаем — не отгадаешь.
Даржай куражится:
— Нет уж. Хватит. Буду продавать.
Ребята просят, и он сдается:
— Ладно, загадывайте.
Эрдэни торопливо произносит:
— Мала чашка, да вкусна кашка.
Все смотрят на Даржая. Тот старается выразить на лице полнейшее равнодушие и коротко бросает:
— Орех.
Ребята разочарованы, а Даржай смеется.
— Я один побил пятерых. Будь вас десять, даже пятнадцать, все равно вам не вспомнить загадки, которую бы я не знал.
Бахвальство Даржая раздражает Доржи. Он ведь не кичится, что знает много улигеров. Загадать бы такую загадку, чтобы Даржай рот разинул… А Даржай заносчиво спрашивает:
— Все? Можно продавать?
— Погоди.
— Пусть продает.
— Стойте, еще одна загадка…
Все смотрят на Аламжи.
— Ну?
— Вчера дошел бы до Тужи, а сегодня до Мунгута, но помешали три дорожных черта.
Даржай отмахивается от загадки, как от назойливой мухи:
— Это у лошади путы на трех ногах.
Ребята молчат.
— Продаю.
— Ну и продавай. Подумаешь…
И Даржай начал «продавать». Ребята зажали уши ладонями, но монотонный голос Даржая все равно слышен:
— Продаю мальчиков-неудачников, халатом закрытых, жилами сшитых… Хромой старухе продаю, слепому старику продаю. Платите чашкой муки, горстью зерна, щепоткой соли, заваркой чая, граблями беззубыми, косою сломанной. Платите ножом ржавым, наперстком дырявым, иглой поломанной, пятаком стертым… Они дороже не стоят.
Хоть это и игра, а ребятам обидно и стыдно до слез. Хорошо еще, что они не в улусе, никто не слышит. Даржай бормочет свое:
— Продаю ребят недогадливых, бестолковых, в бабки не играющих, загадки не знающих…
«Как его остановить?» беспокойно думает Доржи. Неожиданно он вспоминает загадку и кричит:
— Стой! Что такое — у пузатого болтуна язык под подолом?
Доржи и не думал обидеть Даржая. А тот вскочил красный, коленки трясутся. Ребята ахнуть не успели, как он обеими руками схватил Доржи за уши. Доржи не растерялся, сцапал его за волосы, и началась потасовка. Если бы драку начал Доржи, Харагшан обязан тельно усмирил бы брата, а сейчас он молчит. Ведь в самом деле есть такая загадка про колокол. Никто не виноват, что Даржай ее не знает. Не знает, так помалкивал бы, нечего кидаться на людей. Харагшан старше, ему неудобно вмешиваться в драку. Сами начали, сами пускай кончают… Драться он, конечно, не будет, а слово свое сказать может.
Доржи ожидал, что вот-вот брат ударит его по рукам, и вдруг услышал:
— Так его, Доржи, так… Не отпускай, пока не заревет, как баран…
Мальчики теребят друг друга изо всех сил. Обоим больно. Обоим хочется, чтобы противник отпустил первым. Отпустить же первому нельзя: ребята подумают, что струсил, не сумел постоять за себя.
— Ну как, хорошо тебе? — тянет за уши Даржай. — Будешь теперь ни за что людей дразнить?
Доржи старается пригнуть Даржая за волосы к земле.
— Будешь лезть? Отпусти, или я до вечера тебя не выпущу.
— И я раньше не выпущу тебя.
— Отпусти, а то хуже будет.
— Сам отпусти…
Харагшан, как старший, назидательно говорит:
— Я буду считать до трех. Как скажу «три», оба отпускайте. Кто не отпустит, от меня подарочек получит. Ну!
Когда Харагшан сказал «три», ребята отпустили друг друга.
Ну и хорошо. Никому не обидно. Мальчики посмотрели на возбужденные, красные лица недавних противников и рассмеялись. Доржи и Даржай тоже не выдержали, расхохотались звонко и весело. Овцы боязливо поглядывают на разбушевавшихся ребят. А те кричат, скачут, смеются. Все-таки хорошо пасти овец, особенно такой веселой гурьбой.
…Летний день бесконечно тянется. От восхода до заката какой длинный путь делает солнце! Доржи хочется домой, к матери, а ребята не хотят уходить. Но вот наконец вечер. Овцы разбрелись по степи, рады вечерней прохладе. Харагшан огляделся, сказал, как взрослый:
— Сгоняйте овец. Пора к дому.
Ребята побежали собирать отару. Овцы с блеянием и шумом выходят на дорогу. Мальчики следят, чтобы ни одна не отбилась, не отстала.
Неподалеку от улуса сидел на камне Еши, курил. Унты у него были серыми от пыли — видно, шел он издалека. Рядом лежали его хур и смычок. Еши весело окликнул мальчиков:
— Что, сытые бараны и голодные дети спешат домой?
Доржи подошел, сел рядом:
— Откуда это вы с хуром идете, дядя Еши?
— Да тут, по соседству был. Людей повеселил, — усмехнулся Еши.
Доржи осторожно поднял с земли хур, потрогал пальцем струну.
— Хороший у вас хур, дядя Еши. Звонкий.
— Разве это хур? — ответил Еши и взял его из рук мальчика. — Так, деревянная коробка да конский волос. Вот мне Санхир-хурчи подарил — это хур! Я его берегу, даже трогать боюсь.
— Санхир-хурчи? — удивился Доржи. — Да ведь он же давно умер!
— Ну да… Так мне же и десяти лет не было, когда он похвалил мою игру.
— Хорошо вы играете, дядя Еши. Все говорят! — с горячностью сказал Доржи.
— Хорошо не хорошо, но люди любят слушать, — снисходительно согласился Еши. Затем, что-то вспомнив, лукаво улыбнулся. — Я однажды с помощью хура даже друзей накормил — двадцать два человека… Рассказать?
— Расскажите, обязательно, дядя Еши!
— Давно это было. Мы у подрядчика работали, грузы разные из Верхнеудинска в Читу возили. Ну и оттуда с поклажей возвращались. Мне было тогда лет пятнадцать, нет, пожалуй, все шестнадцать. Я без хура шагу не делал, всегда с собой в дорогу брал. А дорога была — ой, трудная! Ну-ка, попробуй с грузом перевалить через Яблоновый хребет. Бывало на узкой дороге встретятся два обоза. Кому уступать дорогу? Ну, кто посильнее, за тем и «обеда: изобьют, лошадей и сани в овраг столкнут.
Еши задумался, видно, растревожили его воспоминания. А Доржи не терпится услышать интересную историю.
— Так вот, — заговорил Еши, — осенью остановились мы по пути в небольшом улусе. Еда у нас давно кончилась, все голодные, скучные. Везли мы тогда чугунки и горшки. Понимаешь, полные телеги посуды, а варить в ней нечего. Вдвойне обидно было. Остановились у реки, распрягли коней. Думаем: как быть? А улусники в тех местах — не то чтобы накормить, в юрту проезжих не пускают. Почему? Да через их улус каждый день сотни людей проходят. Кто на ночлег просится, кому продукты нужны, кто за милостыней стучится. В общем, мы их не осуждали… Перед нами, может, в тот день не один обоз прошел. А есть-то все-таки надо. Вот тут я и вспомнил про свой хур. Достал его и заиграл. Стал собираться народ — старики, женщины, дети. Хорошо, видно, играл. Кончил я, отложил хур, стали просить еще. Я головой мотаю: «Не могу. Ослаб. Есть хочется».
Ну, тут меня наперебой зовут к себе, обещают накормить досыта. «Нет, говорю, один я не пойду. У меня вот друзья. Мы все есть хотим».
И всех нас накормили! Развели по юртам и накормили. Жили они бедно — год был неурожайный, — но молочное в каждой юрте нашлось.
Когда мы поели, снова собрались слушать музыку. Уж я старался! А хур выговаривал такие слова: «Эх, вы, черти, спутники мои, сколько раз вы смеялись над Еши, упрекали; что он таскает с собой хур — пустую коробку: лучше бы, мол, туесок воды с собой брал, пользы больше. Грозились разбить. А сейчас — кто вас накормил? Будете попрекать?»
Еши замолк, улыбнулся. Хорошо сидеть вот так, рядом с дядей Еши, и слушать всякую всячину. О чем бы еще спросить?
— Дядя Еши, почему вы один живете?
— Почему не женат? Чтобы жениться, надо калым заплатить, потом семью кормить. А я что? Кроме Рыжухи да хура, у меня и нет ничего. А хотелось бы мне сынишку иметь… Да что ты меня расспрашиваешь? — вдруг спохватился Еши и поднялся. — Пойдем-ка лучше к дому. Ой, какой вкусный саламат мать тебе приготовила! Я отсюда чую. — Еши весело подмигнул, прищелкнул языком и даже повел носом.
— Дядя Еши, сыграйте хоть одну песню! Хоть маленькую, — умоляюще попросил Доржи.
— Завтра. Завтра сыграю. Приходи к Ухинхэновым. А потом на моей Рыжухе прокатимся.
…На следующий день Доржи прибежал к Ухинхэновым, как только из степи пригнали коров, сказал, что Еши обещал играть на хуре. Ухинхэн усмехнулся.
— А он уже вернулся? Ну и натворил он дел…
И Ухинхэн рассказал.
Ганижаб позвал Ещи на свадьбу своего родича. — играть на хуре, на обещания не поскупился.
Еши уселся на белом войлоке, как самый почетный гость, поджал под себя ноги калачиком, склонился над хуром. С улыбкой оглядел людей, будто собрался одарить их самыми дорогими подарками. Все притихли.
И вот он заиграл. Но не веселая музыка раздалась в богатой юрте. Все взглянули на невесту: хур рассказывал про ее горе — бедную девушку выдавали насильно за большой калым. Женщины вытирали украдкой слезы, мужчины молчали. Невеста вдруг вскрикнула и разрыдалась. Ганижаб встал, злой, руки трясутся; но он не закричал, как все ожидали, а тихим, умоляющим голосом произнес: «Сыграл бы ты, Еши, что-нибудь веселое. Здесь ведь свадьба идет».
Еши кивнул — согласен, значит. Встал — молчаливый, степенный… Низко поклонился на все четыре стороны, проговорил будто про себя: «Ганижаб-бабай желает веселую музыку. Что ж, можно и веселую».
И заиграл. Хур его больше не плакал, не стонал, не жаловался. Хур вдруг залаял паршивой собачонкой, заквакал болотной лягушкой, заблеял козлом, запел тонким-тонким комариным голоском.
Гости переглянулись. Сначала никто не посмел смеяться. Все понимали: это не озорство, не шутка, это — плевок в лицо кичливому хозяину. Потом в народе началось оживление, а еще через миг раздался дружный веселый хохот.
Ганижаб подошел к Еши и зло проговорил: «Если разучился играть, уйди. Я тебя на свадьбу не гостем звал, а нанял. Плату обещал». — «Я за плату никогда не играю», — спокойно ответил Еши, взял свой хур и неторопливо вышел.
— Вот какой наш Еши! — закончил рассказ Ухинхэн.
— А разве плох? Сейчас услышите, что я придумал… — весело проговорил Еши, входя в юрту.
Еши сел возле Доржи.
В правой руке у него смычок из согнутого прутика с волосом из конского хвоста. Пальцы левой руки лежат вдоль единственной струны хура. Он с улыбкой посмотрел на ребятишек, чуть склонился над хуром, быстро начал водить смычком. Раздались обрывки знакомых песен, но Еши вдруг опустил смычок.
— С моим хуром я чудеса могу делать. Хотите, я сюда рассвет приведу? Слушайте.
Плавно, свободно звучит музыка. Бескрайная, еще сонная степь. Дует легкий ветерок, колышутся высокие травы. Раздаются голоса жаворонков — сначала тихо, а потом громче. Слышится топот коня — тук-тук-тук. Струна издает металлический звон — звяканье уздечки, стремян. Не Доржи ли это скачет на Рыжухе? И взрослые и дети замерли, будто боятся спугнуть сказочно красивый рассвет, о котором поет хур. Все ждут, что хур поведает о таком же прекрасном дне. День, который начался так, не может быть омрачен горем людей.
А хур рассказывает уже о другом. В улусе началось движение. Мычат коровы, ржут лошади, блеют овцы. Но вот послышались какие-то хриплые звуки, кряхтенье и кашель, а за ним — отрывистые, противные выкрики.
— Вот и Мархансай проснулся, Гунгара ругает, — не выдержал Доржи.
Еши кивнул ему. Ребята звонко рассмеялись. Взрослые улыбнулись.
Хур снова запел, теперь легко и плавно. Кажется, что это не хур поет, а торжествует чистое сердце Еши.
Еши положил хур рядом с собой, а люди все молчат, не шевелятся. Они не успели прийти в себя, похвалить и поблагодарить Еши, как тот встал, взял хур и вышел из юрты.
Доржи бросился догонять Еши. Ему захотелось идти рядом с ним, прижаться к нему.
— Что тебе, Доржи? — спросил рассеянно Еши, когда мальчик догнал его.
— Дядя Еши, вы обещали научить меня играть на хуре… так, как вы играете.
— Как я? — Еши то ли удивленно, то ли чуть насмешливо взглянул на Доржи. Потом лицо у него подобрело, он присел на старое, трухлявое бревно. — Ну что ж… садись вот сюда. — И Еши протянул мальчугану свой хур. — Попробуй, поводи смычком.
Доржи дрожащими руками взял хур.
— Вслушайся, какой звук получается — грустный или веселый. Да не торопись. На хуре играть — не топором махать…
Еши втолковывал мальчику:
— Вот так держи, чтобы пальцы сами бегали.
Их окружили ребятишки; кто смотрит с усмешкой, кто с завистью… Но у Доржи ничего не получается: он проводит смычком по струне, и хур издает однообразный, противный звук, похожий то ли на скрип, то ли на кашель. Когда Доржи водит смычком, он забывает передвигать по струне пальцы левой руки, вспомнит про пальцы — останавливается смычок.
— Нет, Доржи, не быть тебе хурчи, — с участливой грустью проговорил Еши.
А когда увидел, что у мальчика задрожали губы, похлопал его по плечу и ободряюще добавил:
— Ничего, не вешай голову. Не все сразу получается. Я тебя еще поучу, а сейчас некогда, к магазейным амбарам тороплюсь…
Нет, видно, ничего толкового не получится из Доржи. Дядя Еши просто пожалел его. Доржи с трудом проглотил комок, который вдруг застрял в горле.
РЫЖАЯ СИРОТКА
Отец Еши всю жизнь был безлошадным. Да и Еши до недавних пор ходил пешком. Ему очень хотелось иметь коня, но он скрывал это даже от друзей: что толку от сочувствия? Похлопает, бывало, по своим пыльным унтам и скажет с задором: «А это чем не скакуны-резвуны? Ну-ка, поставьте версты за две отсюда кадушку хмельной араки — ни на каком иноходце меня не догоните».
А теперь у Еши есть красотка Рыжуха. Она жеребенком досталась ему в наследство от дальней родственницы. Достался ему и домишко старухи. Еши продал его за сходную цену приезжему русскому, а жеребенка выходил, как дитя малое. Кобыльим молоком, козьим, верблюжьим с рук поил, чтобы рос сильным конем, бойким, как козел, выносливым, как верблюд. Если бы смог достать, напоил бы птичьим молоком, чтобы жеребенок вырос быстрым, как птица. Вся радость у Еши в Рыжухе. Он сам пасет ее на росистой сочной траве, даже кедровыми орехами кормит, даже сушеной молочной пенкой угощает. И Рыжуха выросла красавицей. Немного портит ее лишь мохнатая шерсть на ногах, над бабками.
Еши теперь не ходит пешком. Рыжуха легка, как ветер. В улусе поговаривают, будто отец Рыжухи — знаменитый скакун торговца Васи. «Эта кобылка прославит себя, — сказал Мунко-бабай, — вот посмотрите, что будет на скачках».
А день скачек, наверно, уже скоро. Еши держит Рыжуху в степи стреноженной. Он и Доржи, как заговорщики, каждую ночь приходят сюда.
Улусники подсмеиваются над дружбой Ещи с мальчиком: «Связался верблюд с козленком». А Еши и сам как маленький — радуется, что Доржи полюбилась Рыжуха. Другим ребятишкам конь что? Хвост да грива. А Доржи, как увидит Рыжуху, так прямо загорается. И она к нему тянется, с ладони овес берет.
Как-то мать Доржи с упреком сказала Еши:
— Доржи совсем от рук отбился. Разве хорошо ребенку ночью по степи скакать?
Еши показал Цоли на берег. Там Доржи поил Рыжуху.
— Видите, любовь у них какая! Как же их разлучишь? — А про себя подумал: «Пусть парнишка на скачках счастья попытает».
Мальчик никому, даже братьям, не сказал, что будет скакать на рыжей трехлетке Еши Жамсуева. Улусники удивятся: «Кто это на Рыжухе всех обогнал?» — «Да это же Доржи, сын казака Банзара! Пожалуй, еще лучше отца будет ездить верхом».
Подготовить лошадь к скачкам — большое дело. Еши теперь часто заходит к старому Мунко. Старик учит, как нужно объезжать Рыжуху.
В улусе все больше поговаривают о скачках. Беспокойно бьется сердце Доржи. Улусники спорят, загадывают, чей конь займет первое место. Называют громкие клички скакунов богачей из дальних и ближних улусов: Огонь-рысак, Дымчатый скакун, Золотая бабка, Черный жеребец, Пестрый орел. Этих лошадей все знают, про них ходят легенды, о них поют похвальные песни. «А кто знает про трехлетку Жамсуева? — думает Доржи. — И кличка-то у нее — Рыжая сиротка. Потом, к чему у нее эта дурацкая шерсть на ногах?»
Лишь один старик Мунко поддерживает дух Еши и Доржи.
— Не отступайте! — говорит он. — Из Рыжухи получится настоящий сказочный конь — хулэг, попомните старого Мунко!
А другие люди советуют бросить затею со скачками.
— Не мучай себя, Еши, — говорят они. — Где уж твоей кобыле тягаться с быстроногими скакунами богачей.
— Нет, Доржи, мы не отступим. Я верю старому Мунко, — говорил Еши, когда они оставались вдвоем.
Доржи теперь каждый вечер скачет на Рыжухе по степи. Ему хочется мчаться так, чтобы оставались позади и степной ветер и крылатые птицы… Однажды он проговорился братьям о скачках, а те сболтнули матери. Мать забеспокоилась.
— Да ты в уме ли, Доржи? Споткнется лошадь, сломаешь себе шею. — Уговоры не помогали. Тогда мать рассказала об одном мальчике, который упал с коня, разбился и умер.
На Доржи и эта история не подействовала.
— Ну и дурак был, — сказал он, — не сумел удержаться на лошади. Из него все равно не получился бы хороший казак.
Мать стала вспоминать другие случаи, один страшнее другого.
А Доржи уже не слушает. Он представляет себе скачки.
Ясный-ясный день, кругом цветы в яркой зелени. Доржи сидит верхом на Рыжухе, она всех обогнала. На стройной шее Рыжухи — платок с изображением богов. В руках у Доржи чашка, полная араки: ведь он — победитель. Вокруг стоят молчаливые, гордые казаки, среди них и отец. Сам тайша с атаманом хвалят его: «Молодец, мальчик!».
Но вот расступается круг, народ на руках вносит в середину старого Борхонока, и тот начинает песню прославления Доржи и Рыжухи. И люди слушают эту песню…
ПОЕДИНОК
Воздух пыльный, душный. Небо же светлое, серебристое, будто расшитое узорами из прозрачных и легких облаков.
Солнце заходит. И там, где оно скрывается, на небе громоздятся друг на друга причудливые облака — кроваво-красные, золотистые, палевые.
Если бы выпадали дожди и прохладные ветры освежали степь, если бы по ночам садилась на траву обильная роса, весь улус любовался бы закатом. Но сейчас люди равнодушны. Солнце утопает в пышных розовых облаках. Оно встанет, не дав отдохнуть земле, остыть воздуху, и будет еще злее иссушать скудные травы. Оно и существует, видно, для того, чтобы томить жаждой все живое, отнимать у него силы…
Доржи изо всех сил натянул тетиву лука и выпустил прямо в солнце свою самую, лучшую стрелу — «белый сокол», подарок Затагархана.
Стрела протяжно пропела и скрылась из глаз. Доржи запрокинул голову, ищет ее между легких перистых облаков. Там что-то мелькнуло. Это, наверно, «белый сокол». Может быть, он летит сейчас от облака к облаку, собирает их в тяжелые дождевые тучи, точно пастух послушные отары овец… И в самом деле облака теперь торопливее плывут по небу, и Доржи уже слышит шум далекого ливня.
Подошел Шагдыр.
— Где же твой «белый сокол»? — с деланным равнодушием спросил он.
Шагдыр усмехнулся.
— В облаках, — гордо ответил Доржи.
— Значит, затерялся твой сокол.
— Ничего ты не понимаешь! — Но сердце у Доржи сжалось.
Оба почувствовали, что назревает ссора. Но ссоры не случилось: вдруг замычали, заметались возвращавшиеся с пастбища коровы, шарахнулись в сторону овцы, залаяли собаки, кто-то пронзительно закричал. Мимо с ревом промчались черные коровы Мархансая. Доржи и Шагдыр едва успели отскочить в сторону и тут же заметили большую собаку. Она подбежала к одной овце, потом к другой, те упали, как подкошенные.
— Волк! — догадался Доржи. Сердце его забилось.
Еще одна овца упала… Волк перекинул себе на спину годовалого ягненка и метнулся в орущее, обезумевшее от страха стадо.
Туча густой красноватой пыли закрыла все — коров, овец, волка… И вдруг из тучи выскочил на Рыжухе Еши Жамсуев. В руке у него была шишковатая дубина.
Тем временем три огромных пса Мархансая с громким лаем настигли волка, впились в него зубами. Волк бросил ягненка и обернулся. Два пса отскочили в сторону, покружились на месте, а третий упал с разорванным горлом.
К волку подскочил на Рыжухе Еши. Доржи увидел, как он размахнулся дубиной. Но волк отпрянул, и удар пришелся по псу Мархансая. Пес вытянул лапы.
— Еши! Бей волка! — яростно закричал Холхой и побежал на помощь, размахивая топором. К нему присоединилось несколько человек, Доржи и Шагдыр кинулись к взрослым.
Второй удар угодил волку по спине. Волк сжался в клубок и бросился под ноги Рыжухе. Та стремительно повернулась и ударила его задними ногами. Волк отскочил, снова налетел на Рыжуху — и опять был отброшен. Еши едва удержался в седле.
Псы осмелели. Волк попытался было ускользнуть, но они настигли его. В облаке красной пыли, в багровых лучах заката Рыжуха казалась живым пламенем.
Вдруг волк высвободился от псов и набросился на Рыжуху. Лошадь встретила зверя ударом копыт. Она, видно, увлеклась охотой и так умело помогала хозяину загнать волка, точно кто-то долго и терпеливо обучал ее этому.
Подскакал на коне Ухинхэн. Но, почуяв волка, его конь встал на дыбы, захрапел.
Неподалеку заголосила, запричитала жена Сундая: волк зарезал ее овец.
Сердце у Доржи замерло: «Одолеет ли дядя Еши волка?» А волк и собаки катаются в пыли, над ними машет дубиной Еши, приплясывает, вскидывает сильные ноги Рыжуха. Издали это похоже на задорную, занимательную игру.
Мимо Доржи пробежал Мархансай. Полы халата развеваются, он тяжело дышит.
— Стой, Еши! Ты мне всех собак погубишь! — завопил Мархансай. — Да остановите же этого сумасшедшего!
А Еши размахнулся и с плеча ударил волка дубиной. Тот распластался на земле, сник, но через миг вскочил. Собаки всей сворой навалились на него. По земле покатился лохматый, визжащий клубок… Казалось, что волку пришел конец. Но он как-то выбрался и затрусил прочь, покачиваясь, как пьяный. Собаки замешкались. Еши хлестнул Рыжуху… Волк метнулся в одну сторону, в другую, потом прижал уши и махнул напрямик в степь. Собаки кинулись за ним.
— Уйдет! — закричал Доржи.
И тут все увидели: вытянувшись в струну, почти не касаясь земли, мчалась Рыжуха. Еши припал к ее шее. Он не погонял, не управлял ею, — лошадь обрела, казалось, и разум, и охотничью хитрость.
Вот они все ближе и ближе. Волк обернулся: Рыжуха уже рядом, а чуть дальше мчится разъяренная свора собак. Волк пустился на хитрость и припал к земле. Рыжуха пролетела над ним, но, очевидно, разгадала его уловку и сразу же круто повернулась назад. Чтобы не упасть, Еши вцепился ей в гриву.
Улусники замерли от удивления.
— Знаменитый будет скакун, — с восхищением проговорил Мунко-бабай. — За всю жизнь не видел такого.
Рыжуха вскинула задние ноги, волк отлетел на несколько шагов и безжизненно распростерся в пыли. На зверя набросились собаки, он уже не сопротивлялся.
Размахивая руками, к месту схватки бежал Мархансай.
— Собаки шкуру испортят! Еши, прогони собак! — кричал он.
Когда люди подошли ближе, волк был еще жив. Он лежал с проломленным черепом, хрипел и изредка вздрагивал. Доржи до отказа натянул тетиву лука. Стрела мягко ткнулась в свалявшуюся шерсть волка и упала рядом.
— Вот какие у меня собаки! — прищелкнул языком Мархансай. — Не зря их кормлю…
Все поняли, что Мархансай собрался присвоить шкуру волка.
— При чем тут собаки? — проговорила мать Доржи. — Пусть Еши возьмет шкуру. Это он на Рыжухе загнал волка… А собакам и мяса хватит, если они станут его есть…
— Как так?! — испугался Мархансай. — Если бы не мои собаки, волк давно бы расправился с Рыжухой. Я вон каких псов лишился. Надо же возместить убыток…
— У нас волк двух овец зарезал, — вздохнула жена Сундая, — а вы о псах толкуете.
— Волк и тебя загрыз бы, если бы не мои псы, — проворчал Мархансай.
— Пускай Мархансай забирает шкуру, — равнодушно проговорил Еши. Хотел сказать, что она летняя, негодная, но смолчал.
Только сейчас Еши заметил рану на задней ноге Рыжухи. Рана была большая, но не глубокая.
— Перемешай арсу с семенами полыни и смажь рану, — посоветовал Мунко-бабай. — Скорее заживет.
Улусники обступили Рыжуху, стали гладить ее, ласково похлопывать по спине.
— Ну и молодчина! Будто кто учил ее…
— Она еще прославит наш улус!
— Такого скакуна у бедняков не бывало.
— Иной конь и к убитому волку не подойдет — боится, а Рыжуха — глядите-ка…
— Быстрее ветра летит…
— И степной орел не догонит!
— Что вы только Рыжуху хвалите? А я вроде и ни при чем? — засмеялся Еши.
— Ты тоже молодец. Только вот псу Мархансай-бабая помог околеть…
Темнело. Краски заката поблекли. Только та далекая туча стала еще чернее и шире.
Мархансай взвалил волка себе на плечи.
— Раз тебе не нужна шкура, я возьму, пожалуй, — повернулся он к Еши. — Приходи, я тебе табаку в кисет насыплю.
Мархансай ушел, согнувшись под ношей. Улусники окружили Еши.
— Попытай счастья на скачках, Еши. Обязательно попытай. Все тебя просим.
— Нойоны могут не разрешить.
— Хэ! Они и не подумают опасаться Рыжухи. Кто из нойонов знает о ней?
— А какой скакун, какой скакун!..
…С этого вечера покатилась по степи добрая слава про Рыжуху. Говорили уже, что она с одного удара раскроила череп волчице. Говорили, что справилась сразу с двумя волками…
Глава вторая
АЮУХАН
Неподалеку от жилища Банзаровых стоит старая-старая юрта, а рядом с ней полуразвалившийся сарайчик, кое-как прикрытый ветхой черной корой. В юрте живут четверо: больная чахоткой Аюухан, слепая старая Тобшой и двое ребят. На полу лежат лохматые овечьи шкуры. Их притащили от Мархансая Гунгар и Дулсан. По целым дням скоблит шкуры Тобшой. Она недавно отдала Мархансаю пятнадцать готовых, мягких, как шелк, шкурок, но Мархансай прислал их обратно. «Плохо обработаны», — говорит. Тобшой потрогала шкурки, покачала головой: однако, обманул Мархансай старуху, прислал новые, необработанные. Ведь никто в улусе не делает эту работу лучше ее…
Тобшой всегда просыпается раньше всех. Осторожно, чтобы никого не разбудить, выходит во двор, садится у входа в юрту, лицом к восходящему солнцу. Света она не видит, но ощущает ласковое тепло утреннего солнца, шепчет что-то тихо, задумчиво, моргает незрячими глазами, улыбается. И такое довольство бывает у нее на лице, какого не увидишь и у матери самого богатого нойона. С ранней весны и до глубокой осени Тобшой так встречает восход солнца.
Старушка не жалуется, что не видит прекрасный широкий мир. Она даже сердится, когда кто-нибудь заикнется об этом. «Я, может, лучше и больше другого зрячего вижу».
Тобшой ничего не видит, а знает все. Вот услышала шаги, кто-то рядом вздохнул… Тобшой берет хворостину и уверенно хлещет подошедшую корову по рогам. Вот трусливо залаяла собачонка. Тобшой знает: к юрте подошли чужие собаки. А если собака с громким лаем бросается на дорогу, значит мимо проехал кто-то незнакомый. На знакомых собачонка лает лениво и беззлобно.
Прохожих старуха узнает по кашлю, по смеху.
В юрте грязно и душно. Напротив двери — низкая деревянная кровать. Жесткая волосяная подушка с пятью крупными ржавыми пуговицами. На двойной толстой кошме лежит ее невестка Аюухан. К кровати привязана двухлетняя девочка Сэсэгхэн — чтобы из юрты не убежала. У нее бескровное личико, печальные глазенки.
Соседки, как только урвут время, навещают Аюухан. Они с радостью помогли бы ей, — но чем поможешь, когда у самих в юрте поселилась нужда? Скажут доброе, теплое слово, успокоят, что она стала лучше выглядеть. Помоют посуду, чаем напоят. Аюухан и за это благодарна.
Недавно еще одна нежданная беда свалилась: у коровы заболело вымя. Позвали шамана, достали медвежью лапу. Старая Тобшой на закате три вечера подряд царапала медвежьими когтями больное вымя, приговаривала, как велел шаман: «Хабдар, хари… Хабдар, хари»[21]. Нет, не помогли заклинания. Маленькую Сэсэгхэн совсем стало нечем кормить.
Единственная опора семьи — Затагархан. Он с малых лет показал себя молодцом: понятливый, старательный. Без дела не сидит: то у Мархансая покрутит станок, на котором обрабатываются бычьи и коровьи шкуры, то дров соседям наколет, то за жердями для городьбы съездит. Целыми днями вертится Затагархан, как веретено в руках у старухи, возле юрт Мархансая и Тыкши. Спасибо Балдану — в свободное время он помогает мальчику делать тяжелую работу, а то надорвался бы парнишка.
В углу юрты — большой ящик. В нем плотничный инструмент покойного отца. Однажды, это было около года назад, Затагархан упросил мать, чтобы она разрешила открыть ящик. И вот у паренька появились инструменты. Теперь соседские ребятишки до позднего вечера не отходят от Затагархана. На дворе и в юрте, не переставая, звенят их голоса. Аюухан стало теперь веселее. В юрте запахло клеем и сосновыми стружками. «Совсем как при муже», — думает Аюухан.
Затагархан смастерил для Сэсэгхэн маленькую тележку. Она получилась, правда, с кривыми колесами, но зато очень прочная. Бабушка Тобшой потрогала и похвалила:
— Быка можно запрячь и по дрова ехать.
А Затагархан трудится уже над новой затеей — мастерит для сестры русскую люльку. Сосед Ухинхэн рассказал, как ее сделать. Она будет висеть, а не стоять на пыльном земляном полу, как старая качалка Сэсэгхэн.
Всем интересно посмотреть, что за чудо соорудил парнишка. Зашла и жена Мунко-бабая, старая Балма, глянула в угол и, не увидев там божницы с бурханами, села не помолившись. Шаманские фигурки она за богов не признает.
Помолчав, спросила ласково:
— Как ты себя чувствуешь, Аюухан?
— Устала я, бабушка.
Старушка оглядела юрту. От души похвалила тележку и люльку: молодец парень, мужчиной будет, золотые руки имеет… Подумав, сказала:
— Жена моего сына Сундая скоро родит. Только опять помрет ребенок, однако, не живут у нас дети. Попробуем, как родится, завернуть в собачью шкуру, назвать Гулген[22] и в угол положить, ближе к двери, чтоб злых духов обмануть… Говорят, это помогает. А некоторые советуют положить его в русскую люльку. Может, в самом деле так сделать? Лама, правда, сердиться будет. Но ведь, гляди, какие ребята у русских растут…
Она помолчала, взяла Аюухан за руку.
— Скажи Затагархану, пусть смастерит нам такую люльку. Я отдам за работу хорошего козленка.
Лицо Аюухан засветилось радостью. Нет, не потому, что пообещали козленка! Другое запало в сердце больной женщины: ее сыну поручают работу… Он стал мужчиной… Теперь и умирать легче… Она пообещала следить за работой сына. А когда старуха ушла, Аюухан заплакала.
В юрту вошел Затагархан. Острым ножом он поранил палец. Подошел к матери и увидел слезы на ее глазах.
— Не плачь, мама. Мне не больно…
— Я не об этом плачу, сынок, — отозвалась Аюухан. — Мои слезы — слезы радости. Ты на свои ноги становишься. Отец порадовался бы, на тебя глядя. Какие руки золотые у него были! Видел в дацане резьбу на дверях? Его это работа… — Аюухан закашлялась, глаза ее вновь наполнились слезами. — Заботливый он был. Ни дня, ни ночи не знал, о сне, о еде забывал, все мастерил, чтобы нас прокормить. Чужие ножи серебром украшал, глаз своих не жалел… Во всех улусах знали чеканщика Баллу, твоего отца.
СЕМЬЯ ЭРДЭМТЭ
Димит и Эрдэмтэ встали рано — едва порозовело небо и в степи только начали перекликаться птицы. Димит достала из-под подушки огниво и кремень, чиркнула ими, трут задымился. Она зажгла огонь, поставила на железный треножник чугун с чаем, взяла подойник и торопливо вышла.
Эрдэмтэ накинул на плечи халат, присел к очагу и задумался. Чай вскипел. Эрдэмтэ поискал молока, чтобы забелить им, но не нашел. Тогда он поставил на огонь вчерашнюю арсу и опять сел к очагу. За его спиной, на коровьей шкуре, под старым, облезлым овчинным одеялом, еще спали все пять его сыновей. «Пять пальцев одной руки», — шутил иногда Эрдэмтэ.
Было еще рано. Молочный туман стлался по долине Джиды, оседал на траве мелкими, еле видными каплями. Когда взошло солнце и эта скупая роса засверкала веселыми разноцветными искрами, Эрдэмтэ, не поворачивая головы, сказал:
— Вставай. У Мархансая овец выгоняют…
Найдан — старший сын — поднялся, протер глаза и вышел из юрты.
Эрдэмтэ сорок пять лет, но выглядит он стариком: седые волосы, густая спутанная борода, усталые, печальные глаза — красные, всегда слезящиеся… Постоянная бедность, плач голодных детей, жалобы Димит — все это глубокими морщинами легко на лицо Эрдэмтэ. Порой ему начинало казаться, что уши ему даны только для того, чтобы слышать, как Димит вздыхает у очага: «Не хватило… Где найти?..» Он обычно терпеливо выслушивал жалобы жены, потом молча одевался и уходил. Лишь изредка чуть раздраженно отвечал, не то упрекая, не то утешая:
— Если бы на земле все были богатыми, а мы одни бедными, — вот тогда можно обижаться. А ты оглядись вокруг — всем соседям плохо. Разве мало матерей, которые дни и ночи живут одной заботой, одной печалью — чем бы сегодня обмануть голодный желудок своих детишек? Многие еще больше нашего нуждаются. Почему же боги должны о нас особенно заботиться? Разве мы не такие же люди, как и те, что живут вокруг? Отвечай, Димит.
И Димит умолкала.
В юрте бывали и светлые дни. Вокруг отца тогда играли сытые дети, на очаге варилось мясо. В такие минуты Эрдэмтэ говорил жене:
— Я доволен жизнью, Димит. Подумай: я никому ничего плохого не сделал и от друзей черного слова не слышал… Работаю, сил не жалею, лишь бы дети сыты и здоровы были.
Димит с нежностью смотрела на детей и на мужа.
— Ничего, отец, — говорила она. — Вырастут сыновья, мужчинами станут. Тогда много легче будет. Невесток увидим, внуков качать будем. Найдан и Аламжи и сейчас молодцами выглядят.
Но редко приходили такие дни. Совсем редко. Вот и сидел в это утро Эрдэмтэ у очага, думал о своей судьбе, о будущем своих сыновей. Нерадостные мысли.
Аламжи от Затагархана не отходит — по целым дням что-то мастерят вместе. Были бы инструменты, может, и в люди вышел бы, ремеслу научился. Эрдэни коней любит. А что толку? Не иметь ему скакунов… «И у них, видно, жизнь будет, как у меня…» Жизнь…
Эрдэмтэ представилась выжженная солнцем степь, пыльная, раскаленная зноем дорога. Вспомнилась девушка в пестром платке, веселая. Эрдэмтэ вздохнул: «Как зло она посмеялась надо мной!»
Он протянул руку и выдвинул из-под низкой деревянной кровати ящичек, достал из него пестрый платок, полинявший от времени. Долго смотрел на него. На платке рисунок — бабочки, сидящие на листьях. «Бабочки-то похожи, — вдруг подумал Эрдэмтэ. — А листья? Даже осенью не бывает таких. И зачем здесь эти синие пятна?»
В юрту вошел Найдан, вытер подолом халата лицо, налил миску горячей арсы, начал торопливо есть.
— Утро сегодня туманное, — сказал Эрдэмтэ. — Смотри, как бы волки не напали на овец. С Мархансаем потом всю жизнь не рассчитаешься — он вас пятерых дешевле одного барана считает.
— Ладно, — Найдан кивнул головой.
— Гляди, сын… если ягненок сдохнет или овца родит мертвого — не вздумай сказать об этом Мархансаю. Закопай так, чтобы ни птица, ни собака не нашли.
— Знаю.
Найдан взял деревянную поварешку, хотел долить арсы, но Эрдэмтэ остановил его:
— А братья что есть будут? Пальцы сосать?
Найдан дочиста облизал миску и ложку, запахнул рваный халат. Платком повязал голову. Из-под платка торчит косичка… Отец задумчиво следил за сыном. Найдан высок ростом, лицо у него красивое, глаза черные. Вот он взял туесок с простоквашей, который приготовила мать, и вышел из юрты.
Эрдэмтэ вынул кисет, вытряс последние крошки табаку, набил трубку, достал из очага уголек. Повертел его в пальцах и бросил обратно. Трубку сунул в кисет. «Покурю по дороге к зимнику».
На улице ветрено, и дым застоялся в юрте, ест глаза. Юрта старая. Порыжевший войлок расползается от каждого прикосновения. Пора бы заменить его…
Но если нет шерсти для детских чулок, для варежек, разве станешь думать о новом войлоке для юрты?
Эрдэмтэ оглядел юрту. Ничего-то в ней нет. Кто зайдет — угостить нечем. На деревянном сундуке висит большой замок. Эрдэмтэ улыбнулся. Если снять замок и вынести сундук на большую дорогу, ни один прохожий не соблазнится: в сундуке нет даже порядочной тряпки. Десять дней Димит собирает сметану для больной Аюухан, и все еще чашка не полная… Внизу сметана уже закисла, а сверху еще жидкая, как молоко.
В углу — кадушка для зерна. Эрдэмтэ держит в ней всякий хлам — старые подковы, ржавые гвозди. Он часто говорит ребятам: «Принесите из хлебной кадушки брусок». Зерна там никогда и не было.
За очагом — низенькая деревянная кровать. На божнице стоит глиняная фигурка бога Арья-Балы. Вид у него жалкий, заморенный. Стоит он ссутулившись, будто озяб. Только в дни праздников Арья-Бала видит перед собой светильник.
А одежда… Одежду Эрдэмтэ не покупает: умрет кто-нибудь из улусников, лучшее на похоронах забирают ламы, а обноски похуже достаются бедноте. Эрдэмтэ брезговать не приходится. Он утешает жену: «Я этот халат не украл. Лама с него все грехи очистил…»
Послышался конский топот. Залаяла собака. Обычно на ее лай не обращают внимания. От старости она поглупела и нередко лает на телят, на телегу, на соседей. Но сейчас Эрдэмтэ забеспокоился: «Уж не зайсан ли, не начальники ли? Может, за семью рублями налога приехали?» Он заторопился, стал надевать халат, но руки не попадают в рукава. Взял тяжелую войлочную шапку… Вместо ожидаемого властного окрика раздался мальчишеский голос:
— Эрдэмтэ-бабай дома?
Эрдэмтэ откинул кошму и шагнул через порог. От юрты испуганно шарахнулся лохматый толстоногий конь. Босой парнишка Гунгар, батрачонок Мархансая, едва удержался в седле. Собака, не разобрав, с лаем бросилась на хозяина. Эрдэмтэ пнул ее ногой: дурная примета, когда собака лает на хозяина.
— Что случилось?
— Мархансай велел завтра по дрова ехать. Сказал, чтобы на рассвете выехали.
Гунгар, не дожидаясь ответа, ускакал.
В юрту вошла Димит Эрдэмтэ обернулся, хотел рассказать о требовании Мархансая, но увидел ее печальное лицо и смолчал. Она наклонила перед ним подойник.
— Вот смотрите. Это утренний удой от двух коров… Что дети есть будут? А ведь теперь самое благодатное время для скота. Коровы должны хорошо доиться.
Ребятишки проснулись, оживились, увидев мать с подойником, выглянули из-под одеяла. Самые маленькие затеяли возню. Мать налила им чаю с молоком. Пятилетний Дугар заревел:
— Не хочу чаю, хочу молока-а…
Димит ласково уговаривала его, гладила по головке, а Дугар ревел все громче.
Эрдэмтэ наконец рассердился.
— Если любишь молоко, почему не встаешь раньше? Отправлялся бы с братом овец пасти… Вместе с ягнятами сосал бы там досыта. В твои годы я так делал. Оставь его, Димит, не уговаривай. Раз не пьет, значит не голоден.
Дугар забрался с головой под одеяло. Димит стало жаль сынишку.
— Маленький он…
Эрдэмтэ хотел что-то ответить, но Димит перебила:
— Цоли вчера говорила, что ее ребята просятся с вами на зимник. Я сказала, пусть идут. Будете воду пускать — помогут, дерн будут носить.
— Вставай, Аламжи, — обернулся Эрдэмтэ к сыну. — Может, удастся сегодня полить покос…
Димит стала хозяйничать у очага.
Подул ветерок. По дымной юрте полетели мохнатые хлопья сажи, из очага поднялась мелкая горячая пыль золы.
— Юрта совсем старая стала. Ни от холода, ни от ветра не спасает. Куда ни повернись — дыры…
— Брось, жена! Про нашу юрту даже в улигерах говорится. Помнишь, как там сказано: «У высокого белого дворца тысячи ясных окон блестят». А ты жалуешься: «дыры»! — Эрдэмтэ вынул кисет и опять со вздохом сунул его за пазуху.
Во дворе залаяла собака. В юрту вошли Балма и Доржи.
— А, помощники пришли? Где же Харагшан?
— С мамой по дрова уехал.
Эрдэмтэ подумал: «Чем помогут эти мальчики? Вот Харагшан — другое дело. Тот бы повыдергал дерн не хуже меня».
— Ну ладно… Идите к огню, отогрейтесь, а то ноги, наверно, озябли…
Ребята присели у очага: мокрые от росы ноги и в самом деле озябли. Димит постелила им шкуру теленка.
— Нам не холодно, — солидно сказал Доржи. — Вон какая толстая кожа на ногах — ни мороз ни жара не пробьют.
Эрдэмтэ взглянул на мальчугана.
— Это ты на Рыжухе будешь скакать?
— Я! — с гордостью ответил Доржи.
— Ну, ну… Я постараюсь раздобыть денег, чтобы поставить на Рыжуху. А ты уж меня не подведи.
— Не подведу, Эрдэмтэ-бабай!
КРАСКИ ЖАРБАЯ
Степь устала от зноя. Светло-синие горы обступили ее: далеко-далеко, у горизонта, узенькой полоской белеют их снеговые шапки. Оттуда, с голубых хребтов, спустилась было короткая утренняя прохлада. Но Эрдэмтэ и ребятишки, шагающие с ним рядом, видят: туман становится розовым, поднимается и медленно тает в лучах жаркого солнца.
Эрдэмтэ присаживается на траву. Он достает кисет и бережно, как живую птичку, берет в руку свою черную трубку. Доржи следит за Эрдэмтэ с любопытством. Руки у него большие и жилистые, рукава халата оторваны — починить их, видно, было уже нельзя… Эрдэмтэ сладко потягивает трубочку, следит за сизым табачным дымком. А тот вьется в тихом воздухе, сплетает хитрые узоры…
— Эрдэмтэ-бабай, — нарушает молчание Доржи, — почему вас зовут Эрдэмтэ — Ученый? Вы же не умеете читать.
— Не знаю… Может быть, мать надеялась увидеть меня грамотным. Может быть, лама подшутил, для забавы дал такое имя…
Эрдэмтэ-бабай всегда спокойный, чуть хитроватый.
«Почему у него на правой руке пальцы тонкие и кривые, как жорни сухого, старого дерева?» — думает Доржи. Он давно хотел спросить, почему они такие.
— Что у вас с рукой, Эрдэмтэ-бабай? У вас всегда были такие пальцы?
— Нет, — неохотно отозвался Эрдэмтэ, — не всегда…
— А-а, — догадался Доржи, — это после болезни.
— Я не болел… Это из-за красок, — задумчиво ответил Эрдэмтэ и посмотрел на свои корявые пальцы.
— Из-за красок? Из-за каких красок? — в один голос спросили мальчики.
— Вспоминать не хочется…
Ребята замолчали, и Эрдэмтэ молчит. Доржи заглянул ему в глаза, попросил:
— Расскажите, дорогой бабай.
Эрдэмтэ поднял голову, затянулся трубочкой. Видно, тронул Доржи какую-то струну в его сердце. Посидел минуту с закрытыми глазами.
— Ладно, слушайте… Я еще мальчиком был, чужих баранов в степи пас, больную мать кормил. В школу я, конечно, не ходил, а учиться хотелось, много знать хотелось, про все… Но больше всего нашу степь, горы любил. Появится после дождя над степью радуга, долго смотрел на нее и думал: хорошо бы кусочек отломить и с собой носить… Или когда бывало на берегу озера перед закатом сидел, все удивлялся: какого цвета небо и облака, такого цвета и вода бывает.
За цветами интересно следить. И у них окраска меняется: утром цвета светлые, нежные, в полдень яркие, а вечером кажутся совсем другими, потускневшими. Им, видно, грустно от разлуки с солнышком…
И еще животных и птиц любил. Из дерева ножом вырезывал то барана с закрученными рогами, то жеребенка тонконогого, то дятла большеголового.
Все меня хвалили. Один русский проезжал, мои рисунки увидел, покачал головой: «Учиться тебе, говорит, нужно и краски найти бы. настоящие».
Запали мне эти слова в голову. Но где возьмешь настоящие краски? Так и продолжал рисовать — летом на желтом песке палочкой, зимой на чистом снегу.
В то время Жарбай, отец Мархансая, еще жил. Самый богатый человек был в улусе. Я у него овец пас… И вот привез Жарбай своему сыну из города краски тля рисования. А Мархансай бестолковый был, ничего делать не умел… Красками мазал лицо — пугал старух да смешил ребят…
Мальчики внимательно слушают. Даже Аламжи присмирел, с удивлением смотрит на отца. Эрдэмтэ-бабай вздохнул: тяжело, видно, ему вспоминать.
— А я все об этих красках думал, спать не мог. Если засну, во сне их вижу. Вот как мучился… Наконец решился и пришел к Жарбаю. «Жарбай-ахайхан, говорю, отдайте мне краски Мархансая. Я вам днем и ночью работать буду».
Жарбай сначала не понял, потом смеяться стал. Он здоровый был, сильный, кулаком кирпич зеленого чая разбивал. Когда смеялся, юрта дрожала.
«Ха-ха-ха! — смеется. — Эрдэмтэ надумал картины красками рисовать. Коровий жидкий навоз — вот твои краски! Ты лучше чашку простокваши попроси!»
Потом перестал смеяться, посмотрел на меня серьезно и сказал: «Ладно, дам тебе краски».
Я обрадовался! А Жарбай говорит: «Подставляй правую руку, ладонью вниз. За каждую краску пятнадцать щелчков давать тебе буду. Видишь, какой я добрый, — даром краски отдаю».
Я тогда маленький был, глупый. Подставил руку… Дал мне Жарбай пятнадцать щелчков. Вынес одну лишь красную краску. «За остальными, говорит, завтра придешь».
Огнем горела у меня кожа на руке. Два дня плакал, пальцами шевелить не мог. На третий день пошел к Жарбаю, говорю: «Жарбай-ахайхан, что я одной краской нарисовать могу? Ничего не могу». А он мне: «Обеги сто раз вокруг юрты». Я не знал тогда, много ли это — сто раз. Начал бегать. Задыхаюсь, мокрый весь стал, до упаду бегал. Когда зашел за красками, на ногах стоять не мог.
А Жарбай и говорит: «А может, ты схитрил, и пробежал меньше… Еще бегай». Я чуть не плачу… Начал снова бегать, допоздна бегал. Улусники останавливаются, удивляются. Жарбай им объясняет: «Это он, говорит, грехи замаливает».
— Ну, а краски-то, он отдал вам? — дрожащим голосом спросил Доржи.
— Когда я пришел к Жарбаю, он снова: «Я свое слово крепко держу. Пятнадцать щелчков за каждую краску. Соглашайся, может, и впрямь рисовать научишься».
Он открыл передо мною коробку с красками. Я как увидел, не вытерпел, протянул руку: «Бейте».
Жарбай отсчитал мне сорок пять щелчков. Как последние давал, не помню… Будто кости ломал, живое мясо сдирал.
Принес я домой еще три краски: синюю, желтую и зеленую. Думал, что теперь рисовать буду. А рука посинела, до локтя опухла. Уснуть не мог. Все ходил взад и вперед. Утром мать помазала кислой арсой — не помогло. Когда соседи убили барана, мать парила мне руку теплым навозом из бараньих кишок. Ничего не помогало. И вот пальцы скрючились, сохнуть стали. Старики говорили, что жилы мне Жарбай перебил…
Эрдэмтэ умолк. Доржи тихо спросил:
— А как же краски?
— Не нужны мне стали краски, — так же тихо ответил Эрдэмтэ. — С тех пор не только кисточки, топор с трудом держу…
— А что было Жарбаю за это?
— Хэ… что было? Ничего не было. Я сказал тайше Ломбоцырену, отцу нынешнего тайши Юмдылыка. Тот засмеялся. «Зачем тебе пальцы? — говорит. — Все равно писать не умеешь»…
Эрдэмтэ пососал погасшую трубку и с сожалением убрал ее за пазуху. Встал, поднял лопату. И снова зашагал с ребятами по степи.
«Если бы Жарбай не изуродовал Эрдэмтэ-бабаю пальцы, сколько сундуков, божниц украсил бы он!» — подумал Доржи.
Аламжи и Бадма погнались за маленькой верткой птичкой, которая выпорхнула из-под камня. Птица дразнила ребят — то подпускала близко, то пряталась в редкой траве, то невысоко взлетала, будто перепрыгивала через невидимые кусты.
Доржи даже не заметил, как убежали ребята. Мальчик не спускал глаз с Эрдэмтэ. Чем-то напоминал он улигершина Борхонока. Но в чем это сходство — Доржи еще не мог понять.
— Эрдэмтэ-бабай, очень трудно рисовать?
— Кто рожден для этого — не трудно. Тот не может иначе. Найдет где гладкую доску — и сразу ему видятся на ней рисунки. А другой посмотрит — доска и доска. Но ежели ты не рожден рисовать, не научишься. Пускай хоть воз красок у тебя будет, хоть бумага шириной во всю эту степь — ничего не выйдет.
Эрдэмтэ положил руку на плечо мальчика.
— Да, — сказал он ласково, — красками все можно передать. У каждой краски своя душа.
— А я могу рисовать, Эрдэмтэ-бабай?
— Тебе хочется? — с любопытством посмотрел на мальчика Эрдэмтэ.
— Но у меня нет ни красок, ни бумаги, — огорченно вздохнул Доржи.
— Постой.
Эрдэмтэ присел на корточки, подровнял свежую землю, которая была вырыта сусликом, протянул Доржи острый камешек.
— Ну-ка, нарисуй коня.
Доржи растерялся, не знает, с чего начать. Ему кажется, будто он ни разу в жизни не видел коня, не скакал на нем.
— Эх, Доржи! Что у тебя получилось? — Эрдэмтэ с огорчением посмотрел на мальчика. — Рогатая птица или крылатый баран? Смотри, как надо.
Эрдэмтэ отобрал у Доржи камешек, тщательно подровнял землю, несколько раз провел камешком по мягкой земле — и вот перед Доржи стройная кобылица с жеребенком. Жеребенок пугливо насторожил уши.
— Видал, как надо?
Доржи горько стало, что он ничего не умеет. Ему вспомнились недавние слова Еши: «Нет, не быть тебе хурчи, Доржи».
Почему он родился таким непонятливым? Научится ли он чему-нибудь?
Молча шагал Эрдэмтэ-бабай. Болтали о чем-то вернувшиеся Аламжи и Бадма. За ними угрюмо плелся Доржи. Но вот он поднял глаза и широко улыбнулся: перед ним была степь, полная свежих, солнечных красок. Над степью раскинулось синее-синее небо, вдали виднелись синие горы с узкими снежными полосками, сбегающими с ослепительно белых вершин. Ближе — темнозеленые кусты на берегах Ичетуя и Джиды. А вот скалы соседних гор — розоватые, огненно-красные. «Сколько разных красок! Это ведь о них Эрдэмтэ-бабай говорил… Теперь и я их вижу», — обрадовался Доржи.
ЦЕПНАЯ СОБАКА
До Инзагатуйского зимника двенадцать верст. Беспощадно палило солнце. Роса давно высохла, дорога шла выжженной степью. Но вот наконец зимники. У бедноты деревянных домов нет, одни коновязи да сараи для телег. Привезет улусник разобранную юрту, поставит — вот и готов зимник. Молча шагал Эрдэмтэ-бабай. Ноги у него устали, опухли. Мокрая от пота рубаха прилипла к телу. Ребятишки не столько утомились, сколько пить захотели…
Подошли к зимнику Эрдэмтэ. Это место можно заметить издали: там, где стояла юрта, образовалось на земле черное пятно, как от большого костра. Рядом валялось несколько красных бабок: ими играли дети. Эрдэмтэ поднял горлышко фарфоровой вазочки, полюбовался красивым узором и бросил: «Ребята, видно, откуда-то принесли…»
Из-под ног разлетались во все стороны кузнечики, точно искры из-под молота Холхоя. Среди редких травинок жалобно кивали головками цветы на тонких стебельках.
Там, где удобряли зимой землю навозом, выросла сочная, густая трава. «Не меньше десяти копен накошу», — прикинул Эрдэмтэ. Дальше же трава опять была хилой, во многих местах проглядывали черные плешины земли.
Чуть выше зимника, у красностволых сосен, проходит канава. Все называют ее «канава Эрдэмтэ». Он вместе с другими улусниками немало потрудился, чтобы соорудить ее. Воды в канаве сейчас немного. Если дождя не будет, она через несколько дней пересохнет. Пока же стоит снять дерновую перемычку — и вода напоит землю, исстрадавшуюся от зноя.
«Надо торопиться, пока кто-нибудь из нойонов не увидел», — подумал Эрдэмтэ. Он быстро прорубил дерн, и вода потекла к его зимнику.
У Эрдэмтэ такое чувство, будто он подал чашку ключевой воды путнику, измученному жаждой. Широкой ладонью, почерневшей от земли, он обтер лоб и все смотрел, как текла вода, скручиваясь в серебристые косички…
Доржи стоял рядом с Эрдэмтэ. Интересно, только что было совсем-совсем сухое место — и вдруг вода. Вон как расползаются ручейки, то появляются, то прячутся, словно ящерицы. Тоненькая струйка бежит под горку. Вода, наверно, радуется, что не нужно больше пробираться по затхлой канаве, заросшей илом и мхом.
Струйки бегут, играют, обгоняют друг друга, забираются под камни. А если камень глубоко врос в землю, обходят его, обтекают.
Вода течет под босые ноги Доржи, щекочет ему пальцы. Ручейки начинают придумывать музыку — сначала тихую и несмелую, а потом поют все громче и громче, заглушая сухой, однообразный треск кузнечиков.
Рядом с канавой образовалась маленькая речушка, она легко бежит вниз. Над кочками и камнями, над старым дерном прыгают друг через друга игрушечные блестящие волны, уносят щепки и сор — все старое и ненужное, чтобы здесь остались только трава и цветы.
Доржи закатал выше колен штаны, засучил рукава — собрался подбирать дерн. Но только нагнулся, как сзади раздался резкий окрик, будто кто ударил в рваный шаманский бубен. Послышался конский тяжелый топот.
Эрдэмтэ и мальчики обернулись. К ним мчался черный жеребец тайши. На нем сидел Гомбо Цоктоев — румяный толстячок в широком покошенном халате. Видно было, что когда-то халат был нарядный, дорогой… Маленькие, хитрые глазки Цоктоева бегают, как у мышонка, словно прячутся от людей.
— Эй, старый черт! — завизжал Цоктоев. — Как ты смел воду пустить? Не видишь разве — сейчас поливается покос самого тайши. Потом будет поливаться покос Бобровского и Мархансай-бабая. А ну, быстро положи дерн на место! Ловкий какой: еще Тыкши Данзанов не успел землю полить, а он к себе воду поворотил!
Эрдэмтэ йоднял голову, с неприязнью посмотрел на Цоктоева.
— Разве эту канаву тайша копал? Или твой Бобровский с Мархансаем здесь руки мозолили? Их ноги здесь не было…
— Ты меньше разговаривай, быстрей закрывай воду! — и Цоктоев замахнулся плеткой.
Ударить он не успел: Эрдэмтэ поднял руку, чтобы защититься, жеребец испугался и отпрянул в сторону.
— Эх, Гомбо, Гомбо, — с обидой сказал Эрдэмтэ, — ты маленький был, за мною бегал. Твой отец с нами в одном хомуте жилы надрывал. Кто Мог подумать, что ты таким плохим человеком станешь? Перед сильными выслуживаешься. Тайше за старый халат совесть продал. Как ты осмелился руку на пожилого человека поднять?
Цоктоев оскалил щербатый рот.
— Поговори еще! Притащу в степную думу, там с тебя, старого дурака, шкуру спустят!
У Эрдэмтэ дрожат руки. Он со слезами на глазах закрывает дерном канаву. Вода прибывает, чтобы повернуть на земли тайши, и без того напоенные живительной влагой.
— Говорим мы с тобой на одном языке, — вздохнул Эрдэмтэ., — а понять друг друга не можем. Я скорее с русским Типаном столкуюсь.
Цоктоев презрительно усмехнулся:
— Вот и иди к нему, к своему Степану. Ты его хвалишь, а он на лучших травах твоего зимника своих козлят пасет.
— Пусть отсохнет у тебя язык… Не верю ни одному твоему слову!
…Тяжело шагает жеребец Цоктоева вдоль канавы. Цоктоев сидит на коне с важным видом. Одной рукой держит повод, второй закручивает вверх усы, чтобы они были, как у тайши, но они тут же свисают вниз. Усы у него жидкие и пегие — в них и черные, и рыжие, и бурые, и даже серые волоски. Зато коса не хуже, чем у любого нойона, — длинная и толстая.
Эрдэмтэ долго смотрит вслед Цоктоеву, потом поворачивается к мальчикам:
— Видали? Сидит на коне тайши. Старается, чтобы сочней росла трава тайши, чтобы жирел его скот. А меня — плеткой…
Эрдэмтэ не может понять, почему Цоктоев, грамотный человек, не догадывается о том, что ясно ребенку: в такое время вода нужна всем, а особенно таким, как он, Эрдэмтэ, бедным. «Что станет со мной, с моими ребятишками, если две наши коровенки останутся без сена? Неужели нет этой мысли в его пустой голове?»
Цоктоев привязал жеребца у хлева Мархансая, подстелил потник[23]. Лежит, любуется синевой неба, следит за каждым движением бабая и мальчиков.
— Эй, Эрдэмтэ! — крикнул он через некоторое время, — Не надейся, я не уйду. Все лето буду следить за тобой.
Эрдэмтэ взвалил на плечо лопаты, и про себя проговорил: «Утонуть бы тебе в этой воде, цепной пес!»
ПОД КУСТОМ ЧЕРЕМУХИ
Солнце нещадно пекло голову, спину. Эрдэмтэ и ребята молча шли. Позади остались пожелтевшие покосы Ухинхэна, Холхоя, Еши. И здесь свирепствует саранча…
На землях Сундая и Бужагара трава еще ниже. На зимнике Дагдая ярким ковром пестреют цветы. «Здесь только девушкам играть, венки плести», — усмехнулся про себя Эрдэмтэ. Вот и зимник Банзара.
— Смотри, Доржи, у вас трава лучше. Сразу видать, что не простого улусника земля. Казачьего начальника и боги побаиваются: обильные росы ему посылают, — грустно пошутил Эрдэмтэ.
На пути все чаще и чаще стали встречаться кусты. У нижней покатой части канавы появились луговые цветы — свечки; пышные кобыльи соски. А на другой стороне канавы степные цветы: мелкие колокольчики, щенячьи лапки, сарана, низкий мангир — дикий лук. Розовыми маками развернулись цветы шиповника. Среди цветов гудят пчелы, мелькают яркокрылые бездельницы бабочки. Эрдэмтэ сказал:
— Бабочки — как Янжима Тыкшиева — одеты нарядно, а пользы от них нет. Другое дело — пчела. Она зря гулять не будет. Труженица…
— Эй! Эрдэмтэ-бабай! — крикнул кто-то совсем близко.
Эрдэмтэ и ребятишки вздрогнули, обернулись и увидели Рыжуху Еши Жамсуева, привязанную у куста черемухи. Рядом — маленький серый конь Сундая. А в прохладной тени куста — Сундай, Ухинхэн, Холхой, Дагдай и Еши Жамсуев. Возле них — мешки из телячьих шкур, набитые листьями шиповника, заменяющими чай.
— Что это вы бездельничаете? — спросил Эрдэмтэ, поздоровавшись.
— Да вот пришли свои покосы полить…
— Копать канаву — первыми были Эрдэмтэ и Сундай… А поливать землю — первыми оказались тайша и Мархансай, — с досадой проговорил Сундай.
— Этот пес еще здесь? — спросил Холхой.
— Как же, уедет он! Обещался все лето здесь торчать, — сердито ответил Эрдэмтэ.
— Интересно, за что он так полюбился тайше?
— Голос у него сладкий.
— Ноги быстрые. Бежит-летит, куда тайша прикажет…
— С зайсаном породниться задумал. За беспутной Янжимой бегает…
— Эх, поймать бы его да намять бока, — со злобой сказал Сундай.
— Думаешь, он от этого умнее станет? Сколько ни тряси старую шубу, теплее она не будет. Сколько ни колоти дурака, ума у него не появится, — отозвался Ухинхэн.
Еши Жамсуев нарезал длинных тонких прутьев, вернулся к друзьям и стал зубами сдирать с прутьев горькую красноватую кору.
— Что ты, Жамсуев, собираешься делать?
— Да вот решил сито сплести, может купит у меня кто-нибудь. И польза будет, и время сейчас быстрее пройдет….
— Слушай, Еши, — проговорил Дагдай. — Расскажи, как ты в тот раз Мархансая перехитрил…
— Да я же рассказывал.
— Ну, расскажи еще, что тебе стоит!
Еши проворно работает пальцами и начинает рассказ:
— Я тогда пахал землю Бобровского. Вернулся домой поздно. Дома есть нечего, воды ни капли и дров ни полена. А в желудке у меня бурлит, будто мельница работает. Вот тут-то и пришла мне мысль… — Еши замолчал, оглядел друзей.
— Ну? — заторопил Холхой.
— Так вот. К тому времени стемнело, и я пошел к юрте Мархансая. Гляжу, гнедого жеребца нет, седла поблизости тоже не видно… Я — ближе. Перед тем как войти, громко закашлялся и смачно плюнул, как это делает Мархансай. Ступаю так же тяжело, захожу… делаю вид, будто скинул халат… В юрте темно. Сумбат заворочалась на постели. «Вы где это пропадали?» — спрашивает. Я вроде Мархансая гнусаво буркнул: «Тебе какое дело…» А сам думаю: вдруг узнает? Она помолчала и говорит: «Хоть бы огонь зажгли». Ну, думаю, все в порядке: не узнала. «Не нужно, говорю, я свой рот и в темноте найду». А она мне: «Там, на печке, мясо в чугуне. Жир застыл, однако. Подогреть, что ли?» — «Лежи, говорю, не надо».
Еши замолчал. Друзья смеются: очень ловко подражает Еши гнусавому Мархансаю. Который раз слышат они этот рассказ, не верят Еши, а все же интересно.
— В прошлый раз ты рассказал, что а чугуне саламат был.
Еши не растерялся:
— Так то в прошлый раз было, а нынче — мясо…
— Ну, что же дальше?
— Я — к печке. Схватил чугун. Мясо резать некогда, вот-вот может вернуться Мархансай. Как волк, зубами рву. А Сумбат беспокоится: «Так подавиться можно. Кто вас торопит?»
Что мне ей отвечать? Наелся досыта, прошелся по юрте — и к выходу: «Я пойду табуны обходить». Сумбат даже привскочила: «Лучше правду скажите: не табуны обходить, Янжиму обхаживать».
Опять дружный хохот прервал рассказчика.
— И мне хотелось смеяться, едва сдержался, — продолжал Еши. — Выскочил я из юрты и бежать. Но это еще не все. На следующий день, когда Мархансай вернулся Домой, Сумбат встретила его с обидой. «Что это такое! — ворчит. — Вы домой только обедать приходите…»
Если бы я второпях не забыл там свой нож, Сумбат не поверила бы, что Мархансай накануне не приезжал домой.
— Может, не нож, а штаны забыла.
Мужчины снова расхохотались — весело, от души.
— Ой, сколько лет так не смеялся!
— Молодец, здорово провел Мархансаевых!
— Да он на том свете самого эрлика[24] обманет!
— Раз заговорили о том свете, послушайте, какой я недавно сон видел, — снова начал Еши. — Будто я умер, а душа моя голая у весов стоит, там грехи и добродетели взвешивают. Стоит моя душа и в руке хур со смычком держит. Эрлик увидел и говорит: «Это же Еши Жамсуев. Его за язык повесить нужно. Он скверные истории про богдо-ламу и нойонов рассказывал». Страшный он, эрлик, пламень у него изо рта пышет… Я ему толкую, что нельзя меня сразу в ад. Прошусь хоть ненадолго в рай, пусть, говорю, там мои песни послушают. Если буду плохо играть —.на любые адские муки согласен. Он меня слушать не хочет, а я свое: «В раю, может, и знакомые встретятся, не все же в Ичетуе грешники. Пусть они хорошую песню услышат».
В это время мимо меня другой эрлик тащит в ад Гомбо Цоктоева, а тот кричит, сопротивляется: «Не имеете права меня в ад! У меня бумага от тайши Ломбоцыре-нова! Вот и печать, посмотрите!» Вокруг собралось много душ. Одна душа жалуется: «Он меня нагайкой избил, отправьте его в ад, где плетями бьют!» «Он меня в амбаре два дня продержал, отправьте его в ад тьмы», — требует вторая душа. «Цоктоев не дал нам покосы полить в засуху, отправьте его в пустыню. Пусть мучается без воды», — со всех сторон просят эрлика.
Налетела сухая горячая струя и унесла Цоктоева. Я вижу: то он удаляется, то опять приближается, а со всех сторон так и хлещут его. На моих глазах он становится сухим, будто вяленым. Я кричу: «Цоктоев! Ори громче, может, тайша услышит и выручит!» А эрлик и говорит: «И тайшу такие же муки ждут!» Ну, думаю, это хорошо. Оглянулся, вижу — одного старичка тоже в ад ведут. Он при жизни взял у богача без спросу немного арсы для ребятишек. Старичок так спокойно идет в ад, что даже эрлик удивился. А старик объясняет: «Я еще на земле все муки ада пережил, мне теперь ничего не страшно». — «Правду ли он говорит?» — спрашивает эрлик. Все огвечают: «Правду!» Тогда эрлик сказал: «В рай его!» Старик и в рай не торопится. Остановился у дверей рая, интересуется, есть ли там крепкий табак, густой чай и коса-литовка.
Под кустом черемухи веселый смех.
— Ну?
— Не идет старик в рай, да и только. «Если, говорит, нет табаку и чаю, нет косы-литовки, чтобы поработать, я там все равно долго не пробуду».
— Теперь про себя расскажи: что ты в раю делал? — просят Еши друзья.
— Я? Сначала огляделся, конечно. Все там в новых халатах из китайской далембы… Нет, перепутал: все голые… Там всегда тепло…
— На хуре играл?
— Как же! Три песни сыграл. Старушка одна даже прослезилась. «Сынок, почему ты раньше к нам не попал? Хорошо играешь, — говорит. — Когда я замуж выходила, меня с такими же песнями провожали».
Эрдэмтэ, угрюмо молчавший все время, не выдержал — рассмеялся.
— Собираюсь я ухрдить из рая. «Куда?» — спрашивают меня. «В ад», — говорю. «За что тебя?» — интересуются. «Богдо-ламу и нойонов не уважал, про их грешные дела народу рассказывал», — отвечаю. Ну, они и окружили меня. «Нам расскажи, нам», — просят. Только начал я рассказывать смешную историю про жадного богача и находчивого пастуха, входит эрлик. «Хватит, говорит, собирайся в ад». А райские-то души не отпускают, эрлика прочь гонят. «Пусть, говорят, Еши с нами останется. А то что это за рай, если в нем песен родных долин не услышишь? Или Еши оставьте у нас, или все мы с ним в ад пойдем». Не может эрлик из-за одного меня всех в ад направить. На это бурхан-багша рассердится, а бурхан-багша там нойон, вроде нашего тайши Юмдылыка. Эрлик подумал, подумал и махнул рукой. Так я в раю и остался.
— Ловко ты, Еши, выдумываешь!
— Вроде по книге читаешь.
— Поглядите, он не только языком хорошо работает, — какие сита у него получились!
— Будто из шелковых полосок.
— Когда я жил в Петровском Заводе, — сказал Ухинхэн, — ходил смотреть, как один русский работает. Он из таких прутьев и корзины и детские тележки делал. Хороший мастер… Как говорят в народе: может блоху заарканить, таракана подковать… И человек добрый… Мы, помню, пилили дрова, так он со своим конвойным подходил к нам. По-бурятски говорить не умеет, а я по-русски тогда почти ничего не знал. Бурят один тамошний толмачом у нас был.
— Кто же этот русский?
— Бестужев, Николай Александрович. Он не один там каторгу отбывает…
Ухинхэн набил трубку, закурил.
— О чем вы говорили?
— Бестужев спросил меня: «Почему большинство бурят бедные?» — Я не знал, что ответить. Потом говорю: «Отец и мать были бедные». — «А почему родители жили в нужде?» — «Не знаю, говорю, не думал об этом». — Ухинхэн улыбнулся. — А у него ответ уже был наготове. Интересный. «Все дело, говорит, в том, что вы круглый год на богагеев трудитесь. Ламы, шаманы, говорит, купцы, которые возят чай и далембу, зайсаны, чиновники сидят на вашей шее… Когда приходит время платить подати, вы берете взаймы три рубля у богача соседа. Когда не хватает сена, опять идете к этому же богачу. Понадобится лошадь съездить куда-нибудь — вы опять той же. тропой к богачу… И кажется вам, что он добрый человек, из беды выручает. А богач за три рубля, которые дал взаймы, заставляет работать целое лето, за пять копен сена требует пятнадцать, за фунт арсы — десять… И так из года в год…»
Все замолчали, обдумывали видно. Молчал и Ухинхэн…
— А как они там живут? Строго за ними смотрят? — прервал молчание Холхой.
— Ой, строго! Живут в казематах… Теперь им большой сарай построили, там человек двадцать плотничают — русские и буряты. Рамы для окон делают, легкие и удобные телеги, посуду деревянную. Их Бестужев этому учит. Он такой человек, что даже солдаты, которые сторожат его, все ему позволяют.
Ухинхэн замолк. Холхой попросил:
— Расскажи еще.
— Да все как будто… Его там вся беднота знает и любит.
— Хороший человек, — задумчиво сказал Дагдай.
— Встретиться бы с ним и поговорить обо всем, — произнес Эрдэмтэ.
— Вот, вот… Вам бы как раз с ним и разговаривать, ведь вы так хорошо говорите по-русски, — засмеялся Сундай.
Эрдэмтэ обиделся:
— Ухинхэн же сказал, что Бестужев всех понимает. Улусники притихли. Молчание прервал Сундай:
— Ну, Еши, расскажи еще что-нибудь.
— Да я уже рассказывал. Пусть лучше Ухинхэн скажет, за что этих русских сослали.
— Мархансай-бабай говорил, что, когда они военными нойонами служили, туркам будто важные бумаги продали, — неуверенно проговорил Эрдэмтэ.
— Может, и так, — сказал Холхой..
— Нет, не так, — возразил Ухинхэн.
— А за что же их? — спросил Эрдэмтэ.
— Да я хорошо-то и сам не знаю. Свободу, говорят, требовали, царю отказались клятву дать. Ну, царь и рассердился: «Какая, говорит, там свобода! Повесить их — и все!» Пятерых, слышал, повесили, а этих — на каторгу. А кого, наверно, просто выпороли и отпустили: «Живите тихо, как бараны. Кто вздумает бодаться вроде бычка, — заарканю и петлю затяну». Говорят, что не из бедности они вышли. Будто у них хорошие земли, всякого богатства много было…
— Хэ, ежели богатства много было, — со злостью сказал Дагдай, — зачем бунтовали? Однако, врут много кругом.
Под кустом черемухи опять стало тихо. Эрдэмтэ несмело проговорил:
— Но, видать, и правда хорошие люди.
Холхой вздохнул, повернулся к Доржи.
— Сбегай, посмотри, там ли еще черный жеребец тайши. Да гляди, чтобы Гомбо тебя не приметил.
Доржи, как птица, оторвался от земли.
Вскоре вернулся.
— Гомбо Цоктоев лежит на траве, караулит воду.
— Убить бы его да бросить в канаву…
— Какая польза, Дагдай, убить Гомбо Цоктоева? Вода нам все равно не достанется, — сказал Ухинхэн. Потом, оживившись, добавил: — А проучить толстоногих надо. Хоть один раз обозлим их. Скоро покос. Все мы в долгу у Мархансая, все обязаны косить у него. А мы возьмем да и не придем, когда он прикажет. Сначала поможем Аюухан. Что он может сделать? Ничего не может… Пусть лопнет от злости. Ежели бы один кто не пришел, он избить мог бы или в степную думу отправить. А со всеми что сделает?
Улусники ничего не ответили.
Эрдэмтэ сказал мечтательно:
— Какое у Еши сито получилось хорошее! От пятисот коров молоко процедить можно.
— От пятисот коров! Эхэ!.. У тебя, Эрдэмтэ-бабай, язык щедрый…
…Доржи пришел домой усталый. Чесалось тело, искусанное комарами. Цоли заметила, что сын невесел. Ест он мало, с неохотой.
В ушах у мальчика гудение пчел, сухой треск саранчи. Слышится резкий окрик Цоктоева, свистит плеть над Эрдэмтэ-бабаем, звучат слова Дагдая: «Убить бы его да бросить в канаву». Вспоминается обжигающая ноги земля, пожухлые полоски покосов.
Доржи ходит, как во сне. Задумался и уронил чашку. Когда стал наливать горячее молоко, обжег палец на правой руке. Цоли рассердилась и шлепнула сына. Но материнское сердце не выдержало: пожалела, намазала обожженный палец арсой, перевязала. Доржи не может уснуть. Из-за одного пальца вся ладонь болит, хочется кричать, чтобы как-нибудь заглушить боль.
В юрте тихо. Сладко похрапывают Бадма и Харагшан. Доржи видит перед собой Мархансая. Тот громко и злобно хохочет: «Захотел краски — так терпи». Толстыми, сильными пальцами Мархансай отсчитывает щелчки по руке Доржи. Бьет — как тупым ножом режет. Мальчик слышит его гнусавый голос: «…восемь, девять, десять…»
Доржи мечется в жару, кричит: «Не надо… не надо мне ваших красок…» На лбу выступили крупные капли пота.
«Мама, уйдем отсюда, мама!» Но Мархансай не отпускает, хохочет и бьет по пальцам.
Встревоженная мать склонилась над сыном.
— Сынок, проснись, родной… — Она целует его, чтобы разбудить, прогнать страшное сновидение.
Боль в обожженной руке не прекращается, не утихает.
— Мама, Мархансай вернется, — со страхом говорит мальчик. Голос у него дрожит.
Доржи успокоился лишь перед рассветом. Мать укрыла его теплым халатом.
Когда Доржи проснулся, солнце было уже высоко. В юрте глухо гудели мухи. Он потянулся к рубашке — и не узнал ее: мать за ночь успела выстирать, теперь она почти как новая. Оказалось, что рубашка в цветочках — маленьких, желтоглазых.
К ЛАМЕ ЗА ЛЕКАРСТВОМ
— Ты ночью сильно кашлял, кричал. Пойдем к Мархансаевым, к ним приехал лама Попхой. И руку ему покажешь. Попросим лекарства…
Доржи сел пить чай, мать открыла сундук. Она долго рылась в. нем, выбирала, что отдать ламе за лекарство. Достала несколько потемневших крупных монет и серебряный браслет. Вздохнула, стала чистить его золой.
«Жалко отдавать ламе. Думала, может, родится дочь, для нее сберегу. Но Попхой не любит, когда к нему приходят с пустыми руками».
Мать надела унты, вышитый узорами синий халат и черную безрукавку. Перекинула через плечо широкую красную ленту, как это делают во время молебна. На шею надела четки из кораллов, к халату приколола золоченые брошки с фигурками богов, на шапку пришила новую кисточку… Доржи залюбовался матерью. Больше всего Доржи любит у матери глаза. Стоит только заглянуть в эти глаза, как Доржи узнает, довольна мать или огорчена, спокойна или взволнована. Она может приласкать взглядом, умеет смеяться глазами, умеет упрекать ими.
— Доржи, надо сапоги надеть. Неудобно босиком.
Надевать сапоги не хочется. Они малы, жмут пальцы. Сапоги ему достались от Бадмы, а к тому перешли от Харагшана. Доржи обидно, что для него еще ни разу не заказывали сапог. «Умная у меня мать, — думает Доржи, — а понять не может, что растут не сапоги, а ноги».
— Ламе не говори лишнего, сынок. Отвечай ему коротко и громко. Если будут угощать, — отказывайся. Иначе подумают, что ты нехороший, прожорливый мальчик.
Чем ближе к юрте Мархансая, тем отчетливее встает перед Доржи страшное видение ночи.
— Что ты хромаешь? Иди быстрее!
— Не могу, сапоги жмут. Не пойду дальше.
— Не выдумывай, теперь недалеко осталось.
— Мама, я сниму сапоги.
— Нельзя к ламе босиком входить. Иди быстрее! — Цоли слегка шлепает непослушного сына.
У юрты Мархансая стоят три оседланные лошади. Как только переступили порог, помолились богам. Лама тяжелой книгой стукнул легонько Доржи по голове — благословил.
Мать и Доржи сели на кошму. В юрте — соседи и гости из других улусов. Одного из них — богача Ганижаба — Доржи знает. Вон как важничает! А посмотреть бы на него на свадьбе, когда хур дяди Еши заблеял козлом! Сумбат всех угощает арсой, молочными сухариками, хлебом и маслом, наливает чай. Доржи заметил на столе урму[25] с черемухой. Но взять не смеет: мать станет попрекать. Мархансай сидит мрачный, ни на кого не смотрит. Он перебирает четки, беззвучно шевелит губами.
В юрту заходит слепая Тобшой — ее привел Затагархан. Тобшой ступает осторожно, боится, как бы что-нибудь не задеть, не уронить. Она не видит ламы, повернулась не к нему, а к Мархансаю и заговорила:
— Святой лама! Невестка у меня тяжело болеет… Мы услышали, что вы пожаловали в наш улус, и пришли с просьбой: попейте в нашей юрте чаю, помогите нашему горю…
Попхой важно надул щеки.
— Вы поклоняетесь шаманам, пусть они вас и лечат. О ламе вспоминаете только, когда к вам в юрту заходят болезнь и смерть.
— Что вы, ламбгай[26]! У нас давно шаман не был… Я же знаю, кто может вылечить невестку.
— Ну что ж! Перекинем шо, — отвечает Попхой. — Посмотрим, что они покажут.
Он берет кубики для гаданья, подбрасывает на ладони, подносит ко лбу и делает вид, что глубоко задумался. Потом перекладывает шо на ладонь левой руки и рассматривает.
Лама хорошо знает семью старухи. Он заходил в ее юрту, когда Аюухан была молоденькой. Какая она была веселая, красивая, полненькая. Сам хамбо-лама[27] не устоял бы перед нею. Попхой вспоминает: однажды он схватил молодую женщину за руку, она вскрикнула и убежала. Попхой помнит и мужа Аюухан, чеканщика Бадлу, знает, что он умер.
Единственными ценными вещами в их юрте были шелковый синий халат и нож в серебряных ножнах с тонкой чеканкой.
Лама все молчит.
Тобшой слышит, как бьется ее сердце. Сейчас она узнает, будет ли жить любимая Аюухан… Наконец Попхой говорит:
— Я вижу причину болезни. Боги подсказывают мне пути ее исцеления… У вас в юрге синяя одежда. У вас в юрте острая сталь… На них зарятся злые духи. Принесите их ламам, в жертву.
— Нам не добраться до дацана, святой лама. Примите вы сами в жертву все, что мешает нам спокойно жить. Ничего не пожалеем, голые останемся, лишь бы дорогая Аюухан поднялась на ноги. Помолитесь за ее здоровье, ламбгай.
— Ну что ж! Если обещаете не приглашать шаманов…
Тобшой и Затагархан торопливо выходят. Цоли подводит к ламе Доржи.
— Мой мальчик руку обжег, — говорит Цоли. — А ночью кашлял, долго не мог уснуть.
Цоли кланяется ламе, кладет перед ним браслет и монеты. Попхой искоса посмотрел на приношение. Трудно понять — доволен он или нет…
— Голова у тебя болит? — спрашивает он Доржи.
— Нет.
— Есть хочешь?
— Хочу! — громко ответил Доржи и взглянул на урму с черемухой.
В юрте все засмеялись. Сумбат неохотно пододвинула чашку с урмой. Цоли намазала сыну кусок лепешки.
Попхой потянулся к сумке для лекарств, обшитой волчьей шкурой. Достал два маленьких пакетика. «Как мало! — удивляется Доржи. — Это, наверно, такое сильное, дорогое лекарство, что может вылечить сразу от всех четырехсот четырех болезней». Он разглядывает ламу, но тот на него не обращает внимания, лама смотрит на Дариму Ухинхэнову, которая только что вошла в юрту.
— Ламбгай, у меня часто болит спина, — говорит она, — перед ненастьем ломит ноги. Дайте лекарство, — Дарима молчит, потом тихо добавляет — Денег у нас нет…
Попхой быстро подбрасывает кубики для гаданья.
— У меня нет лекарства от твоей болезни. Сделай настой из сосновой хвои и распарь больные ноги, — говорит он. А сам думает: «Не имеешь денег — иди в лес. Сосне платить не надо».
— Ламбгай, хвоя не помогает. Вся надежда на вас. Мы жирного барана дадим.
Попхой второй раз перебрасывает кубики.
— Попробуем… Нужно помолиться Аюша-бурхану, принести в дацан дорогую жертву и принять эти порошки. — Он протянул Дариме несколько порошков и добавил: — А сейчас масла для светильников принеси.
Дарима уходит. Муж наказывал ей, когда собиралась сюда: «Сразу барана не предлагай: Попхой и без того не бедный, может быть, бесплатно лекарство даст». Не дал… Жадный, придется барана отдавать.
Доржи вдруг вспомнил, как Дарима вместе с женщинами пела песню про Мархансая, и ему стало смешно. Он сдерживается, чтобы не расхохотаться, но смех лезет откуда-то, как назло. Мать замечает и дергает за рукав.
За юртой скрипит станок; слышно, как у станка трещат крепкие деревянные зубья. Кто-то тяжело кряхтит, бормочет.
— Кто это? — спрашивает Попхой.
— Мой работник Балдан, он станок крутит, — объясняет Мархансай.
— Не тот ли Балдан, который Каменное седло сдвинул? — спрашивает старый Ганижаб.
— Тот самый, — кивает ЛАархансай. — Смирный человек… Летом не потеет, зимой не мерзнет… Может два дня голодный ходить и слова не скажет. Ну, а уж если примется за еду — беда! — Мархансай печально вздохнул. — Ну, а в общем-то хороший работник. Задумал было на Жалме жениться, да я отговариваю: оба голые, как будут жить…
Жалма краснеет и выбегает из юрты.
— У Балдана на роду написано жить в бедности, — продолжает Мархансай, — такие, как он, не могут владеть богатством. Один богач нашел как-то на дороге кучу золота и подумал: «К чему оно мне? Пусть возьмет мой работник». Он сказал батраку, тот с радостью побежал. Прибегает, а там куча червей. Батрак, рассердился, решил, что хозяин над ним подшутил. Набрал в мешок червей, принес хозяину и высыпал посредине юрты. «Богатейте, говорит, сами». И что же вы думали? Из мешка высыпались не черви, а золотые монеты…
Все удивленно перешептываются. Ганижаб подтверждает:
— Это правда. Судьба решает за человека, быть ему богатым или бедным.
Попхой кивает головой, вступает в беседу:
— Однажды по дороге шли два мальчика, а навстречу им сам бурхан-багша. Остановил мальчиков и говорит: «Я могу исполнить три ваших заветных желания. Говорите: чего хочется?» Один мальчик торопливо проговорил: «Мне нужна теплая шуба, чугун арсы со сметаной и хур со звонкими струнами». Другой мальчик раньше подумал», а потом сказал: «Мне нужна широкая степь с реками и лесами, бесчисленное стадо скота и строгий закон, который бы охранял меня». С тех пор первый так и ходит-бродит по свету со своим хуром, а второй стал богатым, почтенным человеком.
— Правильно, — потирает руки Мархансай.
За дверями кто-то вздохнул, слышатся тяжелые, неуверенные шаги. Вернулись Тобшой с Затагарханом. Всем интересно, что они принесли. Затагархан достает из мешка синий халатик Сэсэгхэн и две плотничные стамески и протягивает ламе. «Отцовский халат и нож отдали, наверно, другому ламе, когда хоронили. Посчастливилось тому», — с огорчением думает Попхой. А Затагархан вновь склоняется над мешком и вытаскивает отцовский нож. Глаза у Попхоя вспыхнули жадным огнем. Нож длиной с аршин, ножны из темнокрасного сандалового дерева с толстыми серебряными кольцами., Ручка и ножны в тончайших чеканных узорах. К ножнам на красивой цепочке прикреплено огниво… Не нужно спрашивать, кто сделал этот чудесный нож. Стоит взглянуть — и видны искусные руки покойного мужа Аюухан — Бадлы. Нет цены этому ножу. Предложите знающему человеку на выбор самого лучшего коня-скакуна или этот нож, он не задумается: в табунах рождается много рысаков, а такого мастера, как Бадла, может, никогда и не будет.
Аюухан берегла халат и нож для сына. Когда Затагархан надевал отцовский халат и опоясывался кушаком, за которым был нож, она не могла оторвать от сына глаз. Но халат пришлось отдать шаману Сандану. В юрте не было больше синей одежды, кубики Попхоя показали, видно, на крошечный халатик Сэсэгхэн…
Дарима приносит масло для светильника. Попхой читает молитву, позванивает колокольчиком. В правой руке у него домари — барабанчик, обтянутый зеленой кожей. Попхой изредка бросает к божнице горсть зерна. Но вот молитва закончена. Лама склоняется над туеском с мутной водой, шепчет что-то, плюет в него и протягивает туесок Затагархану.
— Этой святой водой обмойте больную. Вот ладан — окурите юрту. Пусть больная все время думает о богах, и все будет хорошо…
Сумбат завертывает нож и плотничьи инструменты в халатик Сэсэгхэн, кладет в мешок Попхоя. А там уже полно разного добра — халаты, унты, шкурки ягнят, белок, шелковые длинные платки с изображением богов — хадаки.
Мархансай с ненавистью смотрит на улусников. «Пришли, чтобы нажраться у меня». Он переводит взгляд на ламу и опять думает: «Хорошо ламе — не нужно держать прожорливых слуг, разводить скот. И без того доходы большие».
На глаза Мархансаю попадается Дарима. Он радуется случаю сорвать зло. Громко, чтобы все слышали, говорит:
— Твой Ухинхэн в Петровском Заводе каких новых богов нашел? Какие русские ему там понравились? Он знает, что эти русские — враги белого царя?
— Я ничего не знаю, Мархансай-бабай.
— Не ври! Знаешь! Ты и твой Ухинхэн даже слишком много знаете. Вы не хотите знать только одного: кто спотыкается ногами, тот еще встанет, а кто спотыкается языком — не поднимется!
— Какие русские? — интересуется Попхой. — Не те ли, что непочтительно отзываются о религии?
— Они и есть.
— Я ничего не знаю, — твердит Дарима. — Муж сказал только, что русские мастера из прутиков плетут детские коляски.
— Не детские коляски… а из железных прутиков твоему Ухинхэну кандалы плетут…
Доржи внимательно слушает, о чем говорят в юрте. Он вспоминает-разговор под кустом черемухи…
Все новые и новые люди приходят к Мархансаевым, жалуются ламе на болезни, на засуху, просят разгадать сны. Попхой позванивает колокольчиком, бормочет молитву, покачивается. Глаза у Доржи начинают слипаться.
— Доржи, Доржи! — вдруг слышит он голос матери. — Пойдем домой. Ко мне соседки скоро придут.
Мальчик с усилием открывает глаза, поднимается, выходит вслед за матерью из юрты.
Дома братьев не было. Мать стала готовить еду. Доржи прилег. Разбудили его женские голоса. Он открыл глаза и увидел Дариму, Димит, Ханду Холхоеву. Полог был откинут, и в юрту незаметно входили сумерки.
Вскоре пришла старая Балма, а за нею Дулсан и Жалма. Девушки понурые, движения у них усталые, глаза тусклые. Сразу видно: поработали много, а поели не досыта.
— Ну-ка, Дулсан и Жалма, садитесь поближе. Вот масло, вот лепешки. Поешьте, пока горячие, — предлагает мать.
Подруги молча принимаются за еду.
Доржи хочется, чтобы и сегодня женщины спели ту задорную песню о Мархансае. Может быть, они еще какую-нибудь знают…
Соседки усаживаются у очага. Доржи видит, что мать успела заготовить целую охапку смолистых сухих лучин.
Женщины развертывают принесенные с собой узелки, развязывают мешочки, достают недошитые безрукавки, унты без подошв, малахаи без кистей, рукавицы. Из мешочков появляются и нитки — зеленые, красные.
Дарима и бабушка Балма не могут вдеть нитку в иглу, им помогают Дулсан и Жалма. Доржи вдевает в иголку матери зеленую нитку.
— Ты посматривай за огнем, — наказывает Поли сыну, — чтобы горел светло и ровно.
Доржи рад угодить матери, соседкам. Огонь горит ярко и весело, жарким спокойным пламенем.
Кто-то тихо затягивает напев старинной песни. Доржи не может уловить ни одного слова. Женщины чуть покачиваются, склоняются над вышивкой.
— Хорошо бы и нам научиться вышивать, — с тихим вздохом говорит Жалма. — Ни разу даже попробовать не пришлось.
— Вот берите эти лоскутки для начала, — мать протягивает девушкам по куску темной материи и красные нитки, — учитесь.
Бабушка Балма дает им по иголке, неторопливо, назидательно поучает:
— Вышивка, девушки, не баловство, она большого старания требует. Не всякие узоры украшают одежду.
Это не заплатку на овчинный тулуп поставить. Каждый стежок надо обдуманно делать. Лишний кружочек или завиток какой могут всю работу испортить. Моя мать была большой мастерицей. Многим ламам сумки для лекарств, унты вышивала. Так сделает — глазам не поверишь, что все это иголкой выведено.
— Я видела сегодня у ламы Попхоя унты. Красиво вышиты, — говорит Дарима. — Не вы ли, бабушка Балма, вышивали?
— Я овечьи шкуры для Мархансая мну. Где уж мне ламам унты украшать! Для него не старушки вышивают.
Женщины засмеялись.
— Это правда, — вставила слово мать. — Попхой к молодым тянется. Помню, попросил он у меня чаю, я подала, а он схватил за руки, еле вырвалась.
— Они все такие. Один лама, когда я была молодая, вздумал со мной обниматься. Я ему чуть жилы на руках зубами не перегрызла, — вставляет Дарима.
— Может быть, грех с ламой грубой быть, — неуверенно говорит Димит.
— Это им грех, — хмурится Цоли. — Божьи слуги не должны к женщинам приставать.
— Не поймешь, почему они такие…
— Чего тут не понять? Едят досыта, работать не надо. От того, что молитвы шепчут, силы не убавляется…
Женщины сдержанно, боязливо смеются.
— Мы приходим к ламам за лекарством, за помощью, а они…
— Если харамжи[28] не принесешь, помощи от них не жди… Пока я Попхою барана не пообещала, он лекарства не дал, — перебивает Дарима.
Доржи вспомнился сегодняшний день. «Хороший нож принесла бабушка Тобшой ламе за лекарство. Зачем Попхою нож? Ведь ламы их не носят. Наверно, отдаст кому-нибудь… Может быть, лама подарил бы мне, если бы я не так громко отвечал ему на вопросы. А я вернул бы Затагархану. Зачем ламе халатик Сэсэгхэн? Наступят холода, ей надеть нечего будет…» Потом Доржи стал думать, почему это он не заметил, какие унты были у Попхоя. Эрдэмтэ-бабай сразу заметил бы красивые узоры. Дарима вот увидела. А Доржи, кроме урмы с черемухой, ничего не увидел… «Вообще-то ламы непонятные люди: ножей не носят, а берут их. Баранов тоже… Зачем ламе баран? В любой юрте его досыта мясом накормят. Последнюю овцу зарежут, а накормят… Странные люди эти ламы».
Женщины работают медленно, чтобы Дулсан и Жалма могли присмотреться. Терпеливо объясняют, показывают с охотой, как надо держать иголку, шитье. Никто не упрекает девушек, что они непонятливы, что получается у них некрасиво. Каждая старается одарить их нитками, хоть и у самих-то запасы скудные: нитки только двух цветов — зеленые да, красные. Лишь у бабушки Балмы нашлось немного синих.
— Для хорошей вышивки нужны не такие нитки. Что можно сделать двумя цветами? Были бы другие цвета, мы бы знали, какой куда положить, — говорит Цоли.
Доржи приятно, что мать знает толк в вышивке.
Вот Жалма не умеет вышивать, а халаты красивые любит. Доржи вспомнил рассказ Шагдыра, как Жалма нарядилась в халат Сумбат-абагай. Конечно, без спросу чужое брать нельзя… Если бы у Доржи было много красивой одежды, он в дни сагалгана нарядил бы всех, у кого ничего нет.
— А как надо? Какой цвет куда подходит? — спрашивает Жалма.
— Рядом с красной ниткой нельзя класть голубую, — отвечает бабушка Балма. — С ярко-красной приятно видеть темно-красную, оранжевую, коричневую нитку. А к голубой хороши будут синие нитки всех оттенков. Помните радугу? Там не бывает, чтобы рядом с зеленой полосой вдруг появилась красная, потом синяя, желтая. В радуге вон как меняются цвета: светло-желтый, желтый, густо-желтый и потом все краснее, краснее… Помните?
«Для бабушки Балмы цветные нитки — то же, что краски для Эрдэмтэ-бабая», — думает Доржи.
— Ну-ка, что у тебя получилось, Жалма?
Девушка застенчиво протягивает матери свой лоскуток. На нем кривые полоски и такие зигзаги, будто птица наследила.
— Тебе никто не показывал, как вышивают?
— Нет… Я просила Сумбат-абагай, но она не стала. Сначала говорила, что я маленькая, пальцы уколю иголкой, а потом, когда подросла, смеяться стала: если, мол, в вышитых халатах буду ходить, богачи меня в жены себе украдут… Она всем говорит, что я бестолковая.
— Сама-то Сумбат-абагай шибко толковая, — усмехнулась бабушка Балма. — Еще в молодости чужие вышивки за свои выдавала. Знаем мы, какая она мастерица…
— Ничего, Жалма, научишься. Еще для Балдана унты вышьешь, — ободрила девушку мать Доржи.
Доржи замечает: услышит Жалма имя Балдана, сразу становится красной и опускает голову. Вот и сейчас она еще ниже склонила над вышивкой свою черную голову, прикрытую старым синим платком.
Доржи подбрасывает в огонь лучину, поправляет угли. Он смотрит на мать, на бабушку Балму, на неумелые, будто одеревеневшие пальцы Жалмы и Дулсан.
Удивительно интересно смотреть, как простые нитки превращаются в узоры! Смотрел бы и смотрел до утра. Он следит за иголкой и ниткой, старается угадать, куда свернет узор. Нет, не туда! Доржи каждый раз ошибается.
Ему самому охота попробовать. Не попросить ли у матери лоскуток и иголку? А вдруг узнают мальчишки и засмеют его…
Жалма и Дулсан не успели еще сделать ни одного правильного кружочка, как прибежали запыхавшиеся Шагдыр и Гунгар.
— Мать ругается. Идите скорее, а то опять палкой попадет от нее!
— Скажи матери, скоро, мол, придут, — заступилась Цоли.
— Нет, пусть сразу пойдут, Сумбат-абагай очень злится, — тихо сказал хилый, обросший волосами Гунгар.
— Надо идти. Так и не придется поучиться.
Девушки отдали Цоли лоскутки и ушли.
— Бедные девушки! Ничего не видят, никуда не ходят, ничему не учатся, — будто про себя проговорила Балма.
— А сами-то мы что видели, что видим? — не то спросила, не то высказала свою думу Димит.
Доржи следит за работой женщин. Не узнать теперь унты, расшитые матерью. Она будет надевать их в дни самых больших праздников — в сагалган, на тайлаганы, на свадьбы. Доржи никак не может решить, чья вышивка лучше. Хорошо бы, если бы у соседок появились нитки всех цветов, какие бывают в горбатой радуге, что при дожде и солнце опоясывает небо!
НЕПРОШЕНЫЕ ГОСТИ
Неизвестно, кто первый узнал, но в улусе вдруг все заговорили, что скоро будут переписывать скот.
— Зачем понадобилась новая перепись? — встревожились улусники. — Однако, опять обрежут землю…
Ухинхэн со злостью сказал:
— Добра от больших нойонов ждать не приходится… Не иначе, новые подати преподнесут. Считали бы скот у богачей, а сколько у бедноты — издали видно…
Улусники гадают, тревожатся. Если перепись для того, чтобы подать прибавить, к богатым переписчики не зайдут. Если землю хотят урезывать, считали бы лучше по юртам ребятишек: у кого большая семья, тому и земли надо больше, а считать станут скотину. Что делать — или чужих коров на вечер в свой двор загонять, или свою с глаз подальше отправлять куда-нибудь?..
Вечером к Ухинхэну пришли соседи. Ребятишек в юрту не впускали. Когда мужчины говорят о деле, они не только ребятишек прогоняют, на женщин косо смотрят.
Доржи непонятно, что за перепись, почему люди встревожены. Узнать бы, о чем взрослые говорят в юрте Ухинхэна… У них, наверное, интересно там. А может, просто языки чешут или бранятся… Надо бы проведать, что делается в юрте. Доржи дважды пытался перехитрить взрослых. Сначала пришел будто бы за солью, Дарима так быстро насыпала ему горсть соли, что Доржи и трех слов не успел расслышать. Тогда он пустился на новую хитрость: принес Даржаю лук. Но Дарима опять выпроводила его на улицу: «Даржая нет, приходи завтра…»
Степная дума подослала в улусы Гомбо Цоктоева. Когда его спрашивали, что нового в думе, он отвечал, как учил тайша: «Да ничего нового нет. Дней через десять будет, кажется, перепись». Улусники поняли, что Цоктоев обманывает. На помощь взрослым пришли ребятишки. Они выведали у сына тайши, что перепись назначена на следующий день.
С раннего утра в день переписи старухи забрались в кусты и сидели там, каждая с несколькими баранами или с коровой и теленком на привязи. Кое-кто из мужчин переплыл на своей лошадке Джиду, укрылся на другом берегу. Детей чуть свет послали играть на дорогу. Велели им сложить солому в кучу и, как только завидят издали Бобровского с думцами, поджечь ее…
В юрте Ухинхэна решили: чтобы думцы не застали врасплох, нужно собрать по одной-две коровы с каждого двора и перегнать в укромное место. Так и сделали. Пасли по очереди, скот даже на ночь не возвращался в улус.
Доржи собрал вокруг себя мальчиков, оглядел и сказал таинственным шепотом:
— Ты, Даржай, следи за дорогой. Если что — свистни. Вы, Аламжи и Эрдэни, подбегайте к телеге, на которой будут думцы. Остановите их, попросите, чтобы прокатили до улуса. А я… — Доржи достал из-за пазухи огниво, кремень и трут, — подожгу солому.
Мальчики заняли свои посты. Время шло, на дороге никто — не показывался. Даржай тихонько свистнул.
— Что? Едут? — насторожились ребята.
— Нет… скучно… Давайте пока поиграем.
У каждого за пазухой оказались бабки.
Мальчики так увлеклись игрой, что забыли о думцах. Они спохватились только тогда, когда мимо них промчались телеги. Письмоводитель Бобровский, Гомбр Цоктоев, Тыкши Данзанов проехали каждый на своем коне, на своей телеге. Будто один сытый конь не смог бы сразу увезти. Им хотелось показать, какие у них быстрые кони, какие легкие телеги. Только урядник ехал вместе с Бобровским, не захотел зря гонять своего коня…
Телеги промчались, Доржи растерянно взглянул на ребят.
— Прозевали…
Перепись началась с Мархансаевых. Все удивились: Мархансай даже глазом не моргнул.
— А почему, думаете? — говорил соседям Ухинхэн. — Да потому, что они с Бобровским давно столковались: Бобровский окинет ему при переписи несколько сот голов скота, облегчение в подати сделает… А когда покосы перемеривать станут, Бобровский припишет Мархансаю лишнюю сотню скотины, тому, глядишь, покосов больше достанется.
Впереди шел по улусу урядник — низенький, толстый, в заношенном черном мундире, придерживая саблю. За ним шагал Бобровский — долговязый, тощий. Борода и усы у него цвета вечернего огня — ярко-рыжие. Сзади семенил Гомбо Цоктоев, стараясь не отставать от Тыкши Данзанова.
В конце процессии шествовали ребятишки во главе с Доржи. Доржи передразнивал Бобровского — вышагивал важно, поглядывал властно. За ним на кривых ногах семенил Шагдыр — ну, совсем Гомбо Цоктоев. И хоть людям было не до смеха, многие не могли удержаться от улыбки.
Нойоны останавливались у каждой юрты, записывали фамилию хозяина и направлялись к загородке, где стоял скот.
— Сколько у вас скота? — спрашивал Бобровский по-русски. Данзанов или Цоктоев угодливо повторяли вопрос по-бурятски.
Иным Цоктоев говорил:
— Ну, ну… не бреши. У тебя же пять дойных коров!
— Что вы, что вы! — испуганно махал руками хозяин.
— Станете скрывать — пеняйте на себя, — уже по-бурятски говорил Бобровский.
Чтобы выведать правду, переспрашивали по нескольку раз, старались спутать, поймать на слове. Заглядывали в сараи, в юрты. Бобровский заставлял Данзанова и Цоктоева подтверждать, верно ли говорят. Те всегда сомневались:
— Однако, скрывают…
Бобровский выпытывал у Эрдэмтэ:
— Сколько у тебя дойных коров?
— Две.
— Не врешь?
— Нет.
Неожиданно Бобровский спросил у маленького Дугара:
— Сколько у вас коров?
— Пять, — ответил тот.
Урядник и Бобровский переглянулись.
— Не слушайте его, нойоны. Ему пять лет, и он другого числа не знает, — встревожилась Димит.
— Назови имена ребят, — потребовал Бобровский у Эрдэмтэ.
— Старший сын — Найдан.
— Еще?
— Аламжи.
— Еще?
— Эрдэни есть сын, — подсказала Димит.
Бобровский закрыл папку.
— Нойон, еще Дугар-сынишка…
Бобровский записал и повернулся к выходу.
— Нойон, у нас есть еще Бато, — произнес виновато Эрдэмтэ.
— Еще? — удивился Бобровский. — Лошадь у вас есть?
— Нет и никогда не было.
— Верно он говорит?
— Верно, я хорошо знаю, — поклонился Данзанов.
Начальство тронулось дальше, к юрте Аюухан. Цоктоев по пути предупредил Бобровского:
— Не заходите в юрту, там чахоточная лежит… Грязно, нищета.
У порога сидела Тобшой, скоблила овчины. Бобровский записал фамилию.
— Сколько коров?
— Одна.
— А телят?
— Один… Нойоны, мы бедные, у нас Пеструха не доится, невестка больна, я сама незрячая…
— Ладно, ладно… — надменно проговорил Цоктоев.
— Я не к тебе обращаюсь, Гомбо. Нойонам говорю.
— Для тебя и я нойон.
— Есть у них еще скот? — спросил Бобровский.
— Кроме собаки, ничего больше нет, — ответил Данзанов.
— Сколько сыновей?
— Был сын, — печально ответила старуха, — да его убил бык Мархансая. Остался внук Затагархан.
— Еще внуки есть?
— Есть внучка… Ее Сэсэгхэн зовут.
— Эта нам не нужна. Мы девчонок не записываем.
Один вид белой бумаги и бурых чернил пугает улусников. Доржи заметил: все испуганными глазами следят за рукой, которой нойон ставит на бумаге отметки. А если бы он вдруг сел, да исписал всю бумагу? Вот страху наделал бы! Почему в улусе боятся казенных бумаг? Потому что не знают, что в них написано.
Старуха робко спросила:
— Зачем эта перепись, для нас к лучшему или к худшему?
Бобровский усмехнулся:
— Много хотела узнать, быстро состарилась; много хотела увидеть — ослепла. Бог наказал.
— Нойоны, — чуть не плача, проговорила Тобшой, — не смейтесь надо мной… Вы белый свет видите, о чем толкует бумага, знаете. Я не для себя спрашиваю, мне, слепой, на земле темнее нынешнего не будет… Я о людях думаю.
— Ах, ты о других… Ну, у них дело тоже темное, хотя не для того перепись, чтобы хуже было… Ты, старая, сиди. Перебирай свои четки, молись. От молитв и переписи у многих жизнь станет легче, — не то шутя, не то серьезно сказал Бобровский и пошел дальше.
Нойоны ночевали у Мархансаевых, допоздна сидели за столом — пили араки, ели мясо. Потом спали до полдня… Грелись возле дома на солнышке — вялые, сонные. И Цоктоев был с ними. Известно, если потчуешь гостя, и его собаке надо бросить кость. После обеда уехали дальше.
Улус притих в ожидании беды, которая должна неминуемо грянуть за переписью.
Глава третья
ДЯДЯ ХЭШЭГТЭ
Доржи с матерью со дня на день ждали отца. С тех пор, как отца произвели в казачьи начальники — пятидесятники, мать жила в вечной тревоге. Она знала, что на границе бывает неспокойно, да и беглые стали чаще убивать казаков. Доржи тоже не терпелось поскорей увидеть отца. Он любил его больше, чем братья. И отец ласкал его чаще, чем других сыновей, отдавал ему кусок полакомее.
Сегодня мать много раз выходила из юрты. Заслонившись рукой от солнца, посматривала на дорогу, не видно ли отца. А потом возвращалась в юрту, начинала что-то делать по хозяйству, только бы отогнать от себя тревожные думы. И когда Бадма крикнул, что отец едет, мать вначале даже не поверила.
— Он, он! — на ходу крикнул Доржи, выбегая из юрты.
Мать сразу заторопилась, загремела посудой. Наконец-то приехал!
А отец уже соскочил с коня, обнял Доржи, поцеловал в голову.
— Ну, как живете?
Лицо у отца заросло щетиной, глаза усталые и добрые.
Отец укорачивает стремена. Доржи ждет с нетерпением. Вот он, наконец, стаскивает с плеч куртку с погонами и блестящими пуговицами, протягивает сыну саблю в черных лакированных ножнах. Сабля волочится за Доржи по земле, фуражка лезет на глаза. Банзар помогает сыну взобраться на коня. Доржи чуть нагибается вперед и вытягивает коня нагайкой.
— Тише! Не упади! — кричит вслед ему отец.
Вообще-то Доржи не хвастлив, но ему очень хочется, чтобы все ребята видели: он скачет на коне, как настоящий казак. Аламжи, Даржай и Шагдыр не показывают виду, что им завидно. Но Доржи знает наверняка: завидуют, что у его отца такой конь, сабля, нагайка, а главное — такие красивые погоны…
Отец часто хвалит Доржи за хорошую езду на лошади, но еще чаше говорит: «Седло и сабля от тебя не убегут. Еще узнаешь казачью службу, намозолишь зад на седле… Двадцать пять лет служить — не шутка…»
Но вот во дворе раздается топот копыт. Мать выходит навстречу сыну и в который раз повторяет все одни и те же желанные для Доржи слова:
— У-у… Настоящий казак!
Доржи придерживает саблю и ловко соскакивает. Он разнуздывает каурого, снимает седло, помеченное буквами «Б. Борг.» и белым номером «24». Мокрый потник расстилает на телеге, чтобы просох.
Отец снимает рубаху и начинает умываться. Бадма и Доржи поливают ему воду из ковша.
Сейчас отец будет бриться. Доржи вспоминает о ноже, которым он строгал лук. Настроение мальчика портится. И, чтобы не получить шлепков, Доржи заблаговременно выбегает из юрты.
— Зачем ты даешь Доржи нож, которым бреюсь? Затупил так, что и пальца не порежешь, — упрекает Банзар.
— Разве уследишь за ним?
Доржи стоит у юрты и слышит все от слова до слова. Отец точит нож и ворчит. Мальчик чувствует, что наказания не миновать. Но вот отец умолк. «Бреется», — догадался Доржи. Он представил себе: острый нож скользит по намыленным щекам, и отец становится все моложе и моложе, будто годы-месяцы спадают с него…
«Вот войду сейчас и скажу: «У Затагархана все инструменты есть, а у меня даже своего ножа нет». И ничего мне отец не сделает, он ведь понимает…» — храбрится Доржи. Но потом он начинает колебаться: «Лучше сейчас я пойду к ребятам поиграть. А вечером скажу».
Доржи побежал к мальчикам. Вернулся он поздно. Отец уже отдохнул, сидел с матерью и рассказывал ей что-то смешное.
«Забыл!» — обрадовался Доржи и присел возле отца.
В это время в юрту вошел незнакомый человек. На нем была островерхая вылинявшая шапка, старый халат. В руке — толстая суковатая палка. Он лениво помолился богам, будто это совеем лишняя обязанность. Доржи впервые видел, чтобы пожилой человек так неохотно молился.
Гость приветливо поздоровался с хозяевами, каждого взял за оба локтя, как в дни праздника — сагалгана. С ребятами он поздоровался так же, как и со взрослыми. Это тоже удивило Доржи.
— Откуда идете, дорогой Хэшэгтэ-нагса[29]? — радостно засуетились родители.
Мать стала собирать угощение, а Доржи потихоньку разглядывал интересного гостя. Он был не так уж красив — лицо широкое, бугристое, щекастое. Глаза и без того маленькие, а он еще то и дело прищуривает их. На висках седина, и волосы кажутся синеватыми. На голове лысина. На лбу, над густыми черными бровями лежат три глубокие морщины. У Борхонока морщины как живые — двигаются, будто даже местами меняются, а у этого тяжелые, неподвижные… Подбородок прикрыт маленькой круглой бородкой. Усы же он, видно, никогда не трогал — какие успели вырасти, все тут и есть… А косы нет, хотя и не казак…
Доржи слыхал, что у них есть дядя Хэшэгтэ, но не помнил, видел ли он его когда-нибудь. А гость подошел к очагу, стал расспрашивать о скоте, были ли дожди, кто нынче зайсаном, по-прежнему ли тайшой Юмдылык Ломбоцыренов. Послушаешь — всех он знает, кажется, совсем недавно был в улусе. Но вдруг начинал спрашивать о здоровье стариков и старух, которых давно нет на свете…
Мать принесла забеленный сливками, заправленный солончаковой солью, густой чай, поставила горячие лепешки, масло, сметану. Гость взял кусок масла и положил в чай. «Он не ест лепешки потому, наверно, что у него зубов нет. Лепешки же твердые», — подумал Доржи.
Когда весь чай был выпит, дядя с таинственным видом полез за пазуху, долго шарил там и достал три китайские деревянные чашечки. Потом вынул красный пузатый мешочек, в котором оказался еще один мешочек, а в нем — леденцы и большие. конфеты в красивых бумажках с портретами нарядных женщин и усатых мужчин. «Это, наверно, белый царь с царицей», — решил Доржи. Такой конфетой его однажды угощал сотник Колотилин, ночевавший у них в юрте. Хэшэгтэ разложил лакомства по чашечкам и строго оглядел ребятишек.
— Ну, мудрецы из Гургалдая[30], кто из вас самый старший? — спросил он нарочито суровым голосом.
— Я, — отозвался Харагшан и шагнул вперед.
— Иди сюда. Кем хочешь быть, когда вырастешь? Будешь коров пасти или буквы писать?
Харагшан не понял и молчит.
— Что же ты? Отвечай, сынок, — забеспокоилась мать.
Но Харагшан молчит, косо поглядывает на подарок. И вдруг громко и торопливо выпаливает:
— Буду и коров пасти и буквы писать!
Дядя недоверчиво покачал головой, но все-таки отдал Харагшану подарок.
Бадма не стал ждать, когда его позовут, сам подошел.
— Вот. хорошо, что ты пришел, Бадма, — дядя сделал вид, что Бадма к нему пришел в гости. — Угощайся. — Он пододвинул чашечку с конфетами и неожиданно спросил: — А чем ты меня угостишь?
Бадма заулыбался и стал перечислять все, что он считает самым вкусным: пряники, молочные пенки, бараньи почки, кедровые орехи… Наконец прибавил урму с черемухой и умолк.
— Вот если бы боги были такими щедрыми! — засмеялся нагса.
Засмеялись и Банзар и Цоли.
— Ну, теперь ты, Доржи, подойди. Крепкий ли у тебя табачок? — спросил нагса. — Угости-ка меня.
У Доржи запылали уши. Он не знал, что ответить.
— Скажи, что весь табак потерял в дни сагалгана, — тихонько подсказала Цоли сыну.
Доржи так и ответил.
«Три мудреца из Гургалдая» почувствовали себя самыми богатыми людьми в Ичетуе. Даже Мархансаю, наверно, не снились такие сокровища!
Между тем Хэшэгтэ опять достал что-то из-за пазухи. На этот раз появились плитка зеленого чая, две новые шелковые кисточки для шапок, шелковый платок. Все это он протянул матери. Отцу же дал пачку папирос. На коробке нарисована зеленая обезьяна. Она курит зеленые папиросы, из которых идет зеленый дым. Дым превращается в зеленые русские буквы.
— Спасибо, Хэшэгтэ-ахайхан, я не курю. Ну, рассказывайте, как живете. Где побывали.
— Что я? Хожу, смотрю, как люди живут… Да только нигде не вижу хорошего. — Дядя тяжело вздохнул, помолчал. — Думал, может, русским легче живется. Нет, и у них то же самое… Поглядишь, голова у иного пустая, а раз он богат — значит на любой свадьбе почетный гость. А на той же свадьбе умный, но бедный, у порога стоит. У русских многие позабыты ихним Христом. Видно, для бедных людей божий гнев и царский закон одинаковы… — Хэшэгтэ понизил голос, оглянулся. — Много справедливых людей царь ссылает в Сибирь…
— В Сибирь ссылают преступников! — прервал отец дядю Хэшэгтэ, припоминая все, что слышал о ссыльных от своего начальства.
— Преступников? — Хэшэгтэ покачал головой. — Это тебе атаман сказал? С чужих слов говоришь. А я видел этих преступников: их в кандалах из Нерчинска в Петровский Завод по этапу гнали, они в той юрте останавливались, где я жил. Хорошие люди… Один, быстрый такой, все с нами разговаривал. Солдаты ругались, не разрешали, нагайкой грозили. Тогда хозяйка догадалась — поднесла солдатам араки, ну они и подобрели. И знаешь, о чем люди эти говорили? О жизни… Хорошо бы всем инородцам жить получше. Ребят грамоте учить надо, говорили про нужду, которая нас к земле гнет. Как с равными разговаривали. Не ругать их надо, Банзар, а называть самыми дорогими словами… О простых людях думают. А ведь они все нойонами были — поважнее твоего атамана. Честные, не то что Усачев.
Отец насупился, помолчал, а потом сказал:
— Наш атаман Усачев честный человек, простой — я один раз дома у него был…
— В гостях, что ли? — насмешливо перебил Банзара Хэшэгтэ.
— Зачем в гостях… По делу. Вхожу, а он во дворе со своими ребятишками сидит. Ну, я вытянулся и по всей форме докладываю. А он и слушать не стал. «Пойдем, говорит, Банзар, в комнаты, я самовар поставлю, за чаем и поговорим». Вот он какой!
— Хороший? А говорили, одного казака чуть не до смерти нагайкой засек.
— Да, у него бывает…
Хэшэгтэ усмехнулся:
— А вы и слово ему сказать боитесь.
— Что поделаешь… Начальник ведь. Перед ним даже сотники дрожат…
— Дрожат… И перед зайцем звери дрожали…
— Как это, ведь заяц всех боится? — не удержался Доржи.
— Да так. Лиса все это придумала. Посадила зайца в нору и на всю тайгу объявила, что в норе страшное чудовище поселилось. Глаза огромные, губы рассечены, уши длинные. Все видит и все слышит.
Хэшэгтэ сделал страшное лицо, сложил перед светильником руки, и Доржи увидел на стене юрты тень — большой заяц трусливо шевелит ушами. Мальчик рассмеялся.
— Ну вот, — продолжал Хэшэгтэ, — звери напугались и попрятались. Белки побросали свои сушеные грибы да орехи, волки — пойманных ягнят, мыши — зерна, птицы — птенцов. Ну, а лисе с зайцем этого и надо. Заяц и сам поверил, что он такой сильный да страшный. Даже рычать попробовал. Вот как это бывает…
— Ну, а дальше что же, Хэшэгтэ-нагса? — и Доржи умоляюще сложил руки.
— Дальше? А дальше вот что. Поблизости пчелиный рой был. Пчелы лисе не поверили, подстерегли да и кинулись на нее. Она в нору, пчелы за ней, а там заяц — прижался в угол и трясется с перепугу. Выгнали его пчелы из норы — и все звери увидели, что это обыкновенный заяц, — Хэшэгтэ с хитрой усмешкой посмотрел на Банзара.
Тот пожал плечами.
— К чему это, Хэшэгтэ-ахайхан?.. Я же про атамана говорю…
— Атаман, атаман… — Хэшэгтэ махнул рукой. — Ему мундир, нагайка да и своя спесь помогают, указы да приказы. Ну и ваша трусость силу ему дает. А может, он не страшнее зайца.
Цоли с тревогой поглядывала то на мужа, то на Хэшэгтэ. Она попыталась свернуть разговор на другую дорогу.
— В дальних улусах тоже засуха или боги дожди посылают? — спросила она у Хэшэгтэ.
Но как нельзя прогнать с весенней травы голодное стадо, так невозможно было прекратить и этот разговор.
— Этот твой Усачев богат?
— Состоятельный.
— Ну да… ему подчиняется вон сколько казаков. Даже корову ему не пожалеете. Как тут не разбогатеть!
— Это верно… — невольно согласился Банзар. — Он много подарков получает.
— Русские прямо это называют — взятки, — засмеялся Хэшэгтэ. — Так привыкли начальники, что слово сказать без взятки за убыток считают.
— Про всех так говорить нельзя, — упорствовал отец.
— Банзар, ты же умный человек. Легче найти белую ворону, чем чиновника или нашего нойона, которые бы жили без взяток. Вот ты говоришь, что Усачев богат. Как досталось ему богатство? Что, он на берегах Уды и Селенги сено косил? У подрядчика спину гнул? А тайша Юмдылык баранов пас, что ли? Лама Попхой и шаман Сандан колодцев не копали, шкур не мяли…
— Ну, лам и шаманов не будем трогать, грех…
— Да ты не бойся, боги за правдивые слова не наказывают.
Цоли снова вмешалась в разговор:
— Хэшэгтэ-ахайхан, вы все о других говорите. А сами-то как живете?
— Меня монгольские буквы да свои руки кормят. У иных богатых сын, им его грамоте учить надо. А ему одному скучно учиться… Я и говорю: «Позовите еще соседских мальчиков»… Ну и живу у них — угол дадут, кормят. А месяца через два, глядишь, уже несколько мальчиков в улусе читать научились.
— А ножи и трубки? Что-то сундучка вашего не видно.
— Как же! И этим кормлюсь. Не так у меня получается, как у покойного Бадлы, но людям нравится, у многих ножи моей работы. Сундучок пока в Боргое остался, поедет туда кто-нибудь, привезет.
Цоли вздохнула.
— Как любила Аюухан своего Бадлу… Еще девчонкой была, сыновья зайсанов сватались — отказывала. Все мы удивились, когда она вышла за Бадлу, думали — в богатую юрту уйдет.
— Со здоровьем у нее не лучше?
— Лежит. Лама не помог, хотят шамана позвать. Хэшэгтэ покачал головой.
— Что-то не вспомню, чтобы ламы для бедняков старались. Знаете, как они болезни делят? Сто одна неизлечимы, сто одна проходят без лечения, сто одна излечиваются лекарствами, сто одна — молитвами. А послушаешь лам — и выходит, что у бедных людей все болезни неизлечимы. И шаманы такие же. Да вот был случай…
Дядя Хэшэгтэ долго рассказывал разные истории про лам и шаманов.
Доржи подумал: «Никто из соседей не имеет такого умного родственника. Он так много знает». Слова его — как хорошая песня. Они западают в душу, крепко запоминаются.
…На следующий день после завтрака Хэшэгтэ вышел во двор, взял топор и стал обтесывать дощечку величиною с ладонь. Ребята не отходили от него — что-то интересное, видно, затевает дядя. А тот вымазал гладкую сторону дощечки жиром и сажей, погрел ее у огня, чтобы лучше пропиталась, и покрыл тонким слоем седой золы.
— Что вы делаете, дядя Хэшэгтэ? — не вытерпел Доржи.
— Буду учить вас грамоте, — ответил старик и острой палочкой написал на дощечке первые буквы монгольского алфавита. — Подойдите ближе.
После полудня измученные дети и разочарованный учитель пили чай. Цоли с тревогой посматривала то на гостя, то на ребят.
— Харагшан и Бадма, может, будут грамотеями, — объявил Хэшэгтэ, — а вот из Доржи едва ли выйдет толк… — Он с укоризной посмотрел на присмиревшего Доржи. — Голова занята другим — шалости, видно, на уме… Бадма запомнил вон сколько букв, а Доржи молчит, как в рот воды набрал… Видать, зря подарил ему конфеты и чашку.
— Мал еще, подрастет — поумнеет, — заступилась мать.
Гость с сомнением покачал головой.
Доржи так обидно, что он готов выплакать сразу все слезы, реветь на весь улус. Еши отказался учить его играть на хуре. А дядя говорит, что и к грамоте он неспособен.
Прошло еще несколько дней. И вот Доржи почувствовал, будто рассеивается перед ним туман. Правда, еще путает иногда «эхэ» и «бэхэ»[31], но терпения и старания у него оказалось больше, чем у братьев.
Дядя Хэшэгтэ заметил успехи Доржи, поддержал его добрым словом: «Скакуна видно с жеребенка, а человека — с ребенка». Мальчик стал еще старательнее. Он терпеливо заучивал уроки, крепко держал дощечку с буквами, будто могут отобрать ее у него.
Маленькой рукой, покрытой цыпками, Доржи выводит кривые и хромые слова. Им уже тесно на дощечке. Тогда Хэшэгтэ сделал ему доску, величиной со шкуру ягненка. Но словам стало тесно и на этой доске.
Дядя занимается теперь с одним Доржи. Харагшан и Бадма с утра убегают из юрты — то овец пасти, то на речку. Хэшэгтэ махнул на них рукой.
Всюду, куда ни взглянешь, — буквы. На деревянной чашечке — буквы, нацарапанные гвоздем; на стенах — буквы, написанные углем и даже дегтем. Доржи так исписал юрту, что она стала походить на дацанский молитвенный барабан — хурдэ.
— Не торопись, Доржи, — учит дядя. Он вздыхает. — Трудное дело — монгольская грамота. Твердых законов нет, каждый пишет по-своему. Читаешь и спотыкаешься. Говорят, у русских грамота проще.
А еще через несколько дней дядя Хэшэгтэ приготовил бурый густой настой из каких-то корней и древесных грибов.
— Вот тебе чернила, Доржи, а вот все остальное, — Хэшэгтэ протянул мальчику гусиное перо и несколько листов толстой серой бумаги.
Доржи рад. Спасибо дяде Хэшэгтэ, спасибо тем, кто сделал эту бумагу, спасибо птице, из крыла которой это перо!
Доржи представляет себе: он уже выучился грамоте. И вот со всех концов скачут по степи всадники. «Куда скачете?» — «К Банзаровым. Письмо пришло, а в нашем улусе никто читать не умеет. Еду к Доржи, сыну Банзара, внуку Боргона…» А может быть, его позовет сам тайша. «Доржи, — скажет он, — помоги-ка написать вот это». И оба они будут скрипеть новыми перьями по белой бумаге с орлом в углу.
Ему вспомнилась недавняя перепись. Он станет грамотным, неужели и его люди будут бояться? Нет, он сразу прочитает им все казенные бумаги, каждое слово, чтобы все знали. Может, к неумеющему писать больше доверия в улусе?
«Вообще-то я буду казаком, — спохватывается Доржи. — А тайше помогу только один-раз, в степной думе не интересно… Но казачьему начальнику тоже грамота нужна. Жалко, что дядя Хэшэгтэ не умеет писать по-русски. Он научил бы».
И тут мальчику вспомнился вчерашний разговор дяди с отцом о школе, в которой учатся дети казаков.
— Я слышал, в Кяхте школа есть. Там будто даже бурятские дети учатся. Правда, Банзар?
— Есть такая школа.
— И из вашего Ичетуя учится кто-нибудь?
— Нет, школа же войсковая. Только из казачьего сословия детей берут.
— Ах, из казаков… Почему же ты не пристроил своих сопляков?
— Зачем торопиться? Мы еще не слыхали как следует, чему там учат, не видали, какими они оттуда выходят.
— Если школа, грамотными должны выходить.
— Это-то ясно. Хорошо бы одной грамоте учили… А то, говорят, всяким хитростям учат, недоверию к простым казакам, жестокости.
— Ты не бойся, Банзар. Хорошего человека не испортят. Если у ребенка прямая душа, он и потом простого казака не обидит….
— Я не спорю с вами, Хэшэгтэ-ахайхан. Только одно скажу: вам хочется, чтобы в стаде все коровы с рогами были… Но одни коровы и с острыми рогами смирно ходят, только защищаются, когда надо. А другие бодаются, чужие загородки ломают. От них ни скоту, ни пастухам покою нету.
Непонятный был разговор. Может, и хорошо, что отец его не отвез в школу, там, наверно, учителя злые, дерутся. И Доржи решил: пожалуй, не будет он туда проситься.
Мальчик склоняется над доской, выводит новые и новые слова.
В красном сундуке, расписанном зелеными узорами, лежат монгольские книги. Доржи кажется, что это они торопят его.
Хэшэгтэ шагает по юрте, заложив руки за спину. Он останавливается, смотрит мальчику через плечо.
— Молодец, Доржи, стараешься. Чем бы одарить тебя? Конфеты у меня нет… Ну ладно, возьму тебя к Ухинхэну. Он меня в гости позвал.
…Когда они пришли к Ухинхэну, земляной пол в юрте был чисто выметен, посуда вымыта, за очагом был постлан белый войлок, будто Хэшэгтэ-нагса важный, богатый гость. Его усадили на почетное место за очагом. Доржи присел у входа на низкую кровать.
Дарима протерла столик.
— Чисто живете, — похвалил Хэшэгтэ. — В другой юрте всего вдоволь, а живут так, что зайти не хочется. Не в богатстве, значит, дело.
— А в хозяйке, — улыбнулся Ухинхэн.
Дарима смутилась.
Доржи заметил на полке в углу бараньи ноги и голову с широкой черной отметиной на лбу. Наверно, это тот баран, которого Дарима обещала отдать ламе Попхою за лекарство. У них ведь всего два барана: этот и сэтэр — баран, предназначенный богам. Сэтэра нельзя ни продать, ни подарить, ни зарезать. Он должен умереть своей смертью.
Ухинхэн положил на столик чистую доску, засучил рукава и двумя ножами принялся крошить мясо. «Будто зверек жует железными челюстями», — подумал Доржи. Дарима стала помогать мужу готовить угощение. Она круто замесила тесто, пододвинула его к Ухинхэну.
Ухинхэн и Дарима делают свое дело. Хэшэгтэ неторопливо пьет чай.
— Так ты говоришь, Ухинхэн, что жизнь в Ичетуе не особенно изменилась? Нет, пожалуй, не так… Это Только кажется, будто и дни все одинаковы, и люди схожи. А вглядись поглубже, вслушайся получше — и поймешь: все меняются. Люди к вечеру па целый вершок умнее становятся, чем утром были, ту же песню иначе поют. Дети вырастают и узнают больше, чем их отцы знали. Нет, Ухинхэн, изменяется жизнь…
— Да в чем, ахайхан?
— В чем? Вспомните, когда вы были детьми, отец с матерью кем пугали? Заплачете, а вам сейчас: «Перестань. Будешь реветь, мангуту[32] отдадим». И ведь страшно было. А теперь наши дети вместе с русскими ребятишками играют. Русские деревни и бурятские улусы на одном пригорке хлеб сеют.
— Это верно, Хэшэгтэ-бабай. Жизнь меняется. Только очень уж медленно, — задумчиво проговорил Ухинхэн. — Да вот наш улус — что в нем переменилось? Отец работал на Жарбая, я — на Мархансая… Недавно, правда, на зимниках русский один поселился, Степаном звать. Вот и все перемены. Был я как-то в Петровском Заводе, — оживился Ухинхэн — С умным человеком разговаривал. С Бестужевым. Тот говорит, что мы дружнее должны быть. Тогда, мол, лучше дело пойдет. Дружнее… А мы хоть и в одном улусе, но врозь живем. Вы покойного Бадлу, мужа Аюухан, не забыли? Его бык Мархансая забодал. Мархансай тогда испугался, пообещал о сиротах заботиться. Пообещал и не делает. А пришли бы к нему наши старики, может, одумался бы.
— Ну, Мархансай нашел бы себе заступников, — усмехнулся Хэшэгтэ. — А вообще, это большое дело, когда люди друг за друга стоят. Был со мной случай. Я в русской деревне Кузьминке жил, туески из бересты делал и продавал. В деревне не меньше сотни дворов, и в каждом доме мои туески есть, хозяйки до сих пор меня помнят. И дуги с одним русским талой[33] гнул. Почти год там прожил. И вот иду я как-то по дороге домой из соседнего улуса — слышу, сзади шум. Обернулся — две подводы вскачь несутся, а на них пьяные писари и урядники. Ну, посторонился. Они проехали. Пошел дальше. У самой деревни на дороге папку увидел. Черная такая, толстая, с бумагами. Писари, значит, обронили. Подошел я с этой папкой к крайнему дому, там неподалеку крестьяне собрались — для кузницы уголь обжигать. Показал им папку. Один грамотный сыскался, разобрал бумаги. «Да это, говорит, списки налоговых недоимщиков. Здесь про всех нас прописано. А вот это — кто на дорожные работы назначен. Добрые, — смеется, — бумаги».
И вот они схватили папку да в кучу горячего угля и сунули. У меня душа от страха трясется. «Что вы, кричу, делаете! Ведь это же казенные бумаги! Узнают — что тогда будет!» А бумаги уж синим огнем горят…
Урядники прискакали — и сразу на меня: «Мы тебя на дороге обогнали, ты поднял бумаги. Отдай!» Пропал, думаю. Так нет же….
— Ну? Как же вы? — заторопил Ухинхэн.
— Вот тебе «ну»… Мужики за меня заступились. «Мы, — сказали они урядникам, — на вас всем миром жалобу в губернию пошлем. Пьяные, мол, были, важные казенные бумаги потеряли». А один стал кричать: «Может, вы их пропили? Может, они больших денег стоят? А теперь на безвинного человека напраслину возводите. Может, за взятку кому отдали?» Урядники, наверно, струсили и уехали. Так и сошло.
— А как с недоимками? — Ухинхэн, кажется, забыл про бозы[34], мнет в руке кусок теста, выжидательно смотрит на Хэшэгтэ.
— С недоимками? Не знаю. Я вскоре ушел из Кузьминок. Боялся, что урядники загрызут меня.
«Как же так? — подумал Доржи. — Дядя ведь сказал, что урядники струсили, а сам побоялся там жить». Доржи огорчился, ему хотелось, чтобы дядя никого не боялся.
— Жаль, Бобровский не потерял бумаг после переписи. Подать такую теперь навалили — не знаем, как расплатимся, — усмехнулся Ухинхэн.
Доржи весь сжался — вот сейчас дядя Ухинхэн скажет: «Это все из-за Доржи. Заигрался и прозевал Бобровского. Мы и не успели скот спрятать».
Но Ухинхэн, наверно, пожалел Доржи, не сказал.
Он молча брал куски теста, мял в руках, лепил из них чашечки, накладывал внутрь нарубленного мяса и защипывал сверху — как шнурком зашнуровывал.
На очаге закипел чугун с водой. Дарима принесла жигнур — ведро без дна, с полочками внутри. Ухинхэн смазал бозы маслом, чтобы не слиплись, уложил на полочки, поставил жигнур на чугун с водой.
Дарима дала Доржи чашку с бозами. Бозы круглые, сверху дырочки, из дырочек идет пар. «Да они же похожи на маленькие юрты. Через отверстия в крышах — дымок: наверно, в юртах варится что-то очень вкусное». Доржи с удовольствием ест. Он уже заметил, что в гостях все бывает лучше, чем дома.
В юрте стало жарко. Дарима откинула полог, сразу потянуло вечерней свежестью. С дальних гор спускались голубоватые сумерки. Ухинхэн зажег светильник.
— Э, да мы засиделись, — проговорил Хэшэгтэ. — Пойдем, казак, домой, мать беспокоится.
Казак… Для Доржи это слово звучит как самая большая похвала. В казаки принимают, наверно, только смелых людей. Все улусники боятся бумаг из инородческой управы, а отец как-то сказал: «Подумаешь… Мы, казаки, инородческой управе не подчиняемся». Вот он какой. Никого не боится.
— Дядя Хэшэгтэ, — спросил Доржи по дороге домой, — как папа казаком стал?
— Разве папа тебе не рассказывал? Ты у него спроси.
— Нет, он не говорил.
— У вас в роду твой отец не первый казаком стал. Твой дед Боргон был казаком. Твой прадед, казак Бобу, еще сто лет назад за лихую езду да за меткую стрельбу золотую медаль получил.
Глаза у Доржи вспыхнули.
— Где же эта медаль? Посмотреть бы…
— Не знаю, я у твоего отца, кроме медных пуговиц, ничего не видел, — усмехнулся Хэшэгтэ.
— Ну… — разочарованно протянул Доржи, — наверно, никакой медали и не было. Просто похвастался.
— Не любишь, когда другие хвастаются? — Дядя потрепал мальчика по плечу. — А сам? Зачем ребятишкам говорил, будто я тебе какую-то царскую книгу пообещал подарить?
Напрасно, видимо, Доржи затеял этот разговор. Нехорошо получилось с книгой.
— Да, — уже серьезно заговорил дядя Хэшэгтэ, — ни медалями, ни царскими грамотами простых казаков не балуют. Особенно инородцев. Твой отец первый в вашем роду дослужился до пятидесятника…
— Он большой начальник?
— Как тебе сказать… Иной и меньше его чином, десятник какой-нибудь, — казаков у него, значит, всего десяток, — а таким грозным орлом смотрит… А отец твой от одного берега оторвался, до другого не доплыл. Простых казаков не обижает, но и перед начальством особенно за них не заступается.
Доржи сделал вид, будто все понял. А хорошо бы узнать — почему отец не хочет заступаться за простых казаков? Почему он атаманов боится, когда сам начальник?
— Дядя Хэшэгтэ, а как папа стал начальником?
— Что ты меня спрашиваешь?! Не я его начальником сделал… Говорят, дед твой Боргон это устроил. Взятку кому-то дал… или что другое… Он был человек умелый.
Мальчик подумал: «Вот если бы дядю Ухинхэна приняли в казаки, он заступался бы за своих». Но Доржи слышал, что в казаки теперь принимают только сыновей казаков.
ПОДЫШАТЬ БЫ ВОЗДУХОМ СТЕПНЫМ…
Эрдэмтэ пришел в юрту Аюухан как раз тогда, когда больная думала о нем. Зашел и остановился: показалось, что в юрте никого нет. Темно и тихо.
— Кто? Не вы ли, Эрдэмтэ?
Эрдэмтэ пригляделся и увидел Тобшой. Она сидела в углу у двери.
— Как вы меня узнали?
— Почему Тобшой перестанет узнавать соседей? — обиженно отозвалась слепая.
Эрдэмтэ помолчал. Когда привык к темноте, разглядел Аюухан. Она лежала на кровати в глубине юрты. Он поставил на стол чашку со сметаной, которую принес с собой, подошел, присел на низенькую скамеечку.
— Я ждала, знала, что вы придете, — сказала Аюухан, Здоровье ее ухудшилось. Эрдэмтэ увидел это без расспросов: лицо пожелтело, стало меньше, на щеках проступили яркие пятна. Лишь глаза такие же, как в молодости. Они стали, кажется, только зорче, задумчивее. Вокруг головы больной лежат тяжелые косы. Эрдэмтэ вспомнил, как любила она в молодости украшать волосы цветами. Ему казалось тогда, что на голове Аюухан позванивают голубые колокольчики… Давно это было, а в памяти сохранилось, как свежие следы на чистом снегу.
Оба молчат. Аюухан натянула на грудь одеяло, смотрит в потолок, почерневший от копоти.
— Что у тебя болит? — спрашивает Эрдэмтэ, чтобы не молчать.
— Да ничего. Слабость. Силы совсем нет. Иногда голова побаливает. Но это, наверно, оттого, что косы у меня тяжелые.
Аюухан дышит с трудом. Эрдэмтэ видит, что ей плохо, но не знает, как помочь.
— Давай я обстригу твои волосы, может, легче будет, — тихо говорит он.
Аюухан собирается с силами и шепотом отвечает:
— Не надо… Косы у меня с детства…
Она опять замолкла. Отдохнув, спросила о его детях.
— Что с ними сделается? Бегают!
— Я люблю ребятишек. Они часто играют у нас в юрте… Правда, это хорошо? Раз дети не отвернулись от меня, значит моя душа еще не покинула тело.
Эрдэмтэ вместо ответа спрашивает:
— А где твои дети?
— Затагархан гуляет с сестренкой. А то ведь она, бедная, целыми днями в юрте, на привязи.
Некоторое время Аюухан опять лежит молча, потом глубоко вздыхает и начинает неторопливо нанизывать слова обиды на нитку печали:
— Так я и лежу. Ни лама, ни шаман не заходят. Они ругаются между собой. Да мне и уплатить за лекарство нечем…
— Будь ты богатой, ламы и шаманы не отходили бы от тебя. Помнишь, как они бегали, когда болел Жарбай?
В юрте слышно прерывистое дыхание Аюухан, назойливое жужжание мух.
Аюухан с трудом говорит:
— Вам надоели, наверно, мои жалобы. Расскажите лучше про улусные новости.
— Какие у нас новости! Разве только то, что один русский купил у Еши домик его покойной родственницы. Говорят, добрый человек, хороший мастер…
— Я знаю. Слышала, что Мархансай и Тыкши Данзанов невзлюбили его.
— Мархансай жалуется, будто коза этого русского вытоптала его покосы… Смешно слушать: весь скот Ичетуя не сможет вытоптать покосы Мархансая.
— Нам подать прибавили, — печально проговорила из своего угла Тобшой. — Как жить будем, не знаю…
— Всем прибавили, Ухинхэн говорил, что так будет, когда приходили с переписью. Одного Мархансая не тронули да Тыкши. — Эрдэмтэ взял больную за руку. — Всем тяжело…
Он смотрит на Аюухан и вспоминает то время, когда она была девушкой… Аюухан сторонилась его — он был беден, некрасив, к тому же гораздо старше ее. Родители Аюухан души не чаяли в дочери. Они внушали ей, будто она самая красивая, самая умная.
Девушке это было приятно. Она любила наряжаться, украшать пальцы кольцами, звенеть золотыми серьгами. Сердилась, если видела у подруг вещи, которых не было у нее. Отец и мать тратили последнее на наряды дочери. Ей казалось, что нет на свете иного счастья, что всю жизнь она будет вот так беззаботно веселиться.
Однажды Эрдэмтэ набрался смелости. Увидев в степи Аюухан, оставил в укромном месте коров Жарбая и поехал навстречу девушке. Он по-молодецки сдвинул на затылок шапку, приосанился, достал из-за пазухи заветный подарок — барана с крутыми рогами, вырезанного из корня сухого дерева. Баран стоял на ящичке, в котором можно было хранить девичьи богатства: пуговицы, нитки, иголки.
Эрдэмтэ терпеливо и долго мастерил изуродованной рукой этот подарок.
«Я хотел поговорить с тобой, Аюухан», — краснея, начал Эрдэмтэ. «Говорите. Здесь никто не услышит». Девушка лукаво и прямо взглянула на него. Эрдэмтэ сказал о своей любви. Аюухан шепнула: «Приходите вечером к старому хлеву Жарбая. Я буду ждать».
Девушка засмеялась и бросила в него скомканный платок. Оторопевший от радости Эрдэмтэ не успел и слова сказать. Аюухан хлестнула лошадь и умчалась.
Эрдэмтэ припустил копя, но худая клячонка Жарбая сразу отстала. Но все равно он себя чувствовал счастливым. Ему казалось, что все вокруг радуется его счастью: и солнце, и голубое небо, и птицы, и ветерок, несущий золотые осенние листья…
Эрдэмтэ с трудом дождался вечера. Он не шел, а летел на крыльях… Вот и старый, заброшенный хлев Жарбая, здесь должна его ждать певунья Аюухан. Но вместо любимой навстречу вышли с дубинками пятеро парней, сыновья богатых соседей.
Как ни было Эрдэмтэ тяжело, он никому не раскрыл раны своего сердца, ни у кого не искал сочувствия.
Сердце, видно, подсказало Аюухан, о чем сейчас думает Эрдэмтэ. Она заговорила шепотом:
— Я обидела вас… тогда…
— Оба мы глупы были, — успокаивает Эрдэмтэ. — Помнишь платок с бабочками? Он до сих пор у меня. Цел.
Из глаз больной катятся слезы. Она смотрит на Эрдэмтэ так, будто он один из ее детей, которых она должна оставить в суровых руках судьбы. Эрдэмтэ тоже не сводит с нее грустного взгляда. Аюухан пытается улыбнуться.
— Страшная я стала, — говорит она. — Если посадить посреди овец, ни один голодный волк не подойдет, правда?
Что сказать, чем утешить ее? Эрдэмтэ говорит, что болезнь не красит человека…
— Я скоро умру, как вы думаете?
— Не каждый больной умирает. Бывает, жизнь на волоске висит, а посмотришь — и поправился человек… Таких случаев много.
Эрдэмтэ долго сидел в юрте Аюухан. Он налил чаю слепой Тобшой, которая перебирала в своем углу четки, подал сметану больной, зажег светильник перед бурханом. Бурхан стоит там, где недавно были шаманские фигурки девяти небесных дочерей.
Когда Эрдэмтэ собрался уходить, Аюухан попросила:
— Эрдэмтэ-ахайхан… поднимите полог юрты. Хочу взглянуть на степь, подышать ее воздухом.
Эрдэмтэ послушно откинул старый войлок. Аюухан едва слышно проговорила:
— Как хороша наша степь. Как хороша жизнь…
ШАМАН САНДАН
Аюухан потеряла веру в лекарства ламы Попхоя. Старуха Тобшой тоже вздыхала и покачивала головой. Ведь злые духи, которые поселились в юрте, могут погубить не только Аюухан, но и Затагархана, и Сэсэгхэн. Девочка кашляет все сильнее и чаще…
Не верила теперь Аюухан и шаману. Но не лежать же в ожидании смерти. Опять спрятали Аюшу-бурхана и светильник, стоявший перед ним. Позвали шамана Сандана. Он приехал рано утром. Когда Доржи пришел к Аюухан, чтобы вместе с Затагарханом мастерить скамеечку для Сэсэгхэн, Сандан уже начинал хэрэг[35]. В жертву был заколот козленок, которого старая Балма подарила Затагархану за русскую люльку. Шкура козленка болталась на шесте около юрты.
Доржи в страхе остановился у входа. Шаман гонит из юрты злых духов — заянов. Их, наверно, очень много, и они никак не хотят уходить. Духов видит только Сандан. Он теперь дерется с ними: его бубен вот-вот лопнет… Глаза у шамана налились кровью. Из-под жидких усов торчат желтые зубы. Он все быстрее и быстрее бьет в бубен, все непонятнее становятся его слова. Доржи кажется, что грузный шаман, того и гляди, упадет на землю. Мальчику хочется убежать.
Сэсэгхэн спряталась за спину бабушки, притихла, боится пошевелиться. Шаман, чуть отдохнув, еще яростнее колотит в бубен, выкрикивает: «На жизнь позарившийся адский дух, к телу прилепившийся страшный дух, назад не оглядываясь, к добрым духам не примазываясь, уходи, уходи, уходи…»
В углу онгоны — небесные дочери. Их только сегодня вытащили из ящика. Они сшиты из лоскутков красной материи. Черный круг — это голова. Точки — глаза, нос, рот. Четыре черточки — руки и ноги. Рядом с фигурками блестящие железки — души онгон. Над люлькой Сэсэгхэн — тоже фигурка. На стене — изображения онгон, охраняющих скот, домашний очаг, приносящих изобилие… Фигурки девяти небесных дочерей вымазаны жиром козла — это их задабривали, щедро угощали.
Сандан закончил шаманить. Соседки распоряжаются у очага. Мунко-бабай и другие старики едят козлятину — мясо жертвоприношения. Кусочек достался и Доржи — жесткий, жилистый. Доржи ест с отвращением, но бросить нельзя: вдруг Аюухан не поправится… Он разглядывает шамана: ой, какая грязная у него одежда! Такого рваного и грязного халата Доржи еще не видывал. Говорят, что шаман Сандан богаче всех шаманов, но хорошую одежду не носит: небесные и земные духи — заяны — не велят будто бы наряжаться.
Во дворе залаяла собака. Через порог шагнул человек в пыльных сапогах, с новым длинным бичом в руке. Голова у него рыжеволосая, шея длинная. На нем красная сатиновая рубаха, из-под жилета болтаются, кисточки пояса, которым перетянут толстый живот. Голова в фуражке с лаковым козырьком упирается в войлочный потолок. Маленькие хитрые глазки, похожие на болотных жучков, спрятались под низким лбом. Он сказал что-то по-русски и вышел.
— Рыжий Вася. Наверно, за шкурами приехал, — проговорила Димит.
Народ из юрты высыпал на улицу. Вышел и шаман. Доржи побежал поглядеть коня, знаменитого жеребца Рыжего Васи, на которого, говорят, похожа Рыжуха, но на дворе стояла низенькая кобылка и грызла удила.
Рыжий Вася раскладывал на телеге знакомые всем товары, он возит их уже не один год, — шелка для безрукавок, серьги, кисти для шапок, роговые гребни, бутылки с крепким русским хлебным араки. У женщин от этих богатств блестели глаза. Старики с сомнением рассматривали косы-литовки, мать Сундая понюхала тяжелый кирпич зеленого чая. На телеге новые сапоги. Тут же розовые пряники, пачки пахучего ладана для богов. Рыжий Вася предлагает яркие китайские шелка, далембу на шубы… Он накинул шелк на свои жирные плечи, потряс его, будто шелк запылился, сделал вид, что пытается разорвать кусок далембы — посмотрите, какая она крепкая!
Затем он взял среди многих больших темных бутылок одну раскупоренную, взболтал бутылку, глотнул из нее, щелкнул языком, пошатнулся, будто опьянел, и стал протяжно выкрикивать бурятскую песню «Заян заяа за-яалаа…»
На телеге лежали товары, нужные в каждой юрте, в каждой семье. Жаль было выпускать их из рук. Улусники рассматривали вещи, но не покупали: нет денег, нет шкур…
Доржи увидел, как шаман долго рылся в грязном тряпье, из которого достал серебряные монеты. Он купил далембу на штаны и синюю материю на рубаху. Подумав, взял еще грецкие орехи, крупные и рябые, как нос Мархансая. Но оказалось, они ему не по зубам. Рыжий Вася не взял их обратно, и не отдал деньги. Шаман разозлился, бросил орехи в пыль. Ребятишки кинулись подбирать. Визг, рев, плач…
На остаток денег Сандан купил что-то завернутое в красивую бумагу. Он отошел в сторонку, вытащил из обертки розовый продолговатый кусок и откусил от него… Лицо у него перекосилось, он стал плеваться, вытирать рукавом язык и рот. Рыжий Вася захохотал, мотнул головой. Сандан совсем рассвирепел. Тогда Вася принес ковш воды, поднял брошенный шаманом розовый кусок. И вот пена, похожая на облака, хлопьями упала на землю с его рук. Он вытер, руки платком.
— Это же русский камень, которым они моются вместо солончака, — смеялась Балма.
Рыжий Вася что-то объяснил шаману.
— Что он говорит? — спросил Доржи.
— Не понимаю. По-ихнему не понимаю, — сердито буркнул шаман и ушел.
Доржи удивился. Ему казалось, что шаман очень умный человек. Он верил, что тот все умеет. Если он может разговаривать с хозяевами восточных и западных небес, то с людьми наверняка должен договориться. Сосед Ухинхэн и отец Доржи хорошо говорят по-русски. Неужели шаман знает меньше Ухинхэна? А мыло? Доржи давно известно, что мылом моют лицо и руки, отец привозит его из Троицкосавска. Выходит, что шаман Сандан знает даже меньше, чем он, Доржи.
Больше покупателей не было, и Рыжий Вася стал складывать товары. Димит пыталась объяснить ему:
— Кожа, шкура давно нету. Золото, денег тоже нету…
В это время к телеге подошел Балдан, достал пригоршню мелочи. Все ахнули. А Балдан, как ни в чем не бывало, выбрал красивый платок, далембу на рубаху и штаны. Рыжий Вася протянул ему табак, взвесил сахар.
— Вот разбогател парень…
— Кому ты платок купил, Балдан?
Балдан весело подмигнул:
— Старушке одной подарок.
Все улыбнулись, знали, что это не старушке, а Жалме-пастушке подарок.
— Откуда у тебя деньги, Балдан?
Парень толстым пальцем показал на небо:
— Оттуда упали. Бурхан-багша послал.
Улусники понимают, что бурхан-багша тут ни при чем. Просто Балдан продал тех двух баранов, которых он получил у Мархансая за три года работы, — самых хилых в отаре.
Балдан с независимым видом сдвинул на затылок шапку. Можно подумать, что у него в самом деле куча денег за пазухой. Он. опять стал рассматривать товары на телеге, но денег у него больше не было… Во двор въехал Гомбо Цоктоев. Он важно сидел на жеребце тай-ши. Цоктоев и Рыжий Вася пожали друг другу руки. Вася показал Цоктоеву карты. Тот купил две колоды.
Рыжий Вася уселся на телеге. Его сопровождали собаки, набежавшие со всех сторон. Следом за телегой скакал Гомбо Цоктоев.
Доржи и Затагархан возвратились в юрту.
В тот же вечер к Аюухан зашел Ухинхэн, подсел к кровати.
— Я слышал, — он наклонился ближе, — в Кяхте есть хорошая женщина-лекарь. Ее зовут Мария. Она лечит от чахотки. Дочку одного бурята недавно вылечила. Никто не знает, как. Та говорит: Мария жирным молоком поила. Некоторые думают, она давала молоко из своей груди. Пусть хоть птичьим молоком поит, лишь бы выздороветь — правда?
— Правда, правда! — обрадовалась Аюухан.
— Отец той девушки хотел подарить Марии коня с седлом. Но она отказалась: «Мне не надо. Я лечу даром». Вот какая она.
— А не поздно ли ехать за ней? — с тревогой спросила Аюухан.
— Ничего! Она, может, вылечит, — участливо ответил Ухинхэн. — Я съезжу на своем кауром. Пристяжного мне любой даст…
Тобшой с надеждой подняла на Ухинхэна незрячие глаза.
— Ухинхэн-ахай, — растрогалась Аюухан, — я и дети мои не забудем вашей заботы. В смертный час буду завещать Затагархану и Сэсэгхэн…
Соседи снарядили Ухинхэна в дорогу. Сундай дал своего коня. Эрдэмтэ с сыновьями сплели новый бич. Еши Жамсуев нашел легкую телегу… Принесли дугу с колокольчиками, парусину и шубу, чтобы Мария могла укрыться в случае дождя. Дагдай дал Ухинхэну новый синий халат и плющевую шапку. Вечером Ухинхэн выехал в Кяхту.
БЕЛА И ЧИСТА ШЕРСТЬ…
День начался с шума, который поднял батрачонок Мархансая Гунгар. Он метался по улусу на хромой кобылке и каждой женщине говорил одно и то же, как молитву читал:
— Сумбат велит идти к ней шерсть бить. Да быстрей собирайтесь!
Девушки и женщины неохотно поплелись к юрте Мархансая. Каждая несла два прута — длинных и прямых. Мальчишки прибежали туда раньше всех. Доржи успел уже подраться и помириться с Аламжи. Позже всех подошла сирота Мыдык. Халат у нее такой ветхий, что на нем уже и заплаты не держатся. Сумбат, увидев ее, заговорила со злобой:
— И ты прибежала? Ишь, заторопилась… Тебя не долги тревожат, тебе бы только жирного супа у меня поесть… Да ты умеешь ли шерсть-то бить? Что-то я не помню, чтобы у вас были овцы…
Дарима сказала с горечью:
— Мы все у вас в долгу, Сумбат. У вас все сосчитано: сколько дней наши мужья на вас косить должны, сколько дней нам у вас шерсть бить. Мы пришли работать, а не ядовитые слова слушать. Да, мы, может быть, только два раза в году едим жирный суп, а вы его каждый день варите, но мы не заглядываем в ваш котел.
— Я же одной Мыдык…
— А разве Мыдык виновата, что еще ребенком сиротой осталась? И мы не богачи.
Сумбат поджала губы.
— Не спорьте, соседки, с Сумбат. До седых волос дожили, а не знаете: жены богачей все одинаковы — прежде чем угостить чашкой простокваши, поднесут ведро желчи, — сказала старая Балма.
Балдан и Дулсан разостлали на траве около коновязи парусину и стали выносить из амбара шерсть.
Кучи шерсти будто сами движутся между амбаром и коновязью, как курчавые облака по небу. Лег бы Доржи на эти облака и поплыл куда-нибудь далеко, далеко.
Женщины расселись вокруг парусины. Рядом с Дулсан и Жалмой сели Балдан и Гунгар — один большой, а другой маленький…
Женщины, как по команде, подняли правые руки:, поднялись и опустились ровные белые прутья. Прелый запах защекотал в носу. Когда восемнадцать прутьев поднимались, другие восемнадцать падали на мягкие волны шерсти, изгибаясь, как змеи.
— Жалма, не бей по чужому пруту!
— Поднимай выше, Гунгар.
— Какая шерсть!
— Не шерсть, а шелк…
— Что-то скучно. На себя работать веселее было бы…
Кривоногий Шагдыр, спотыкаясь, принес тяжелый медный чайник и деревянные чашки. Доржи и Аламжи помогли разлить араки. Сперва выпили мужчины — Балдан и Гунгар. Потом старшая из женщин — старуха Балма, за ней остальные.
— Хитрая баба Сумбат, под стать своему Мархан-саю, — сказала Балма. — Знает, когда чайнйк араки подать, когда ложку сметаны пожалеть…
После хмельного сильнее и дружнее свистят прутья, проворнее движутся руки и громче разговор. Но на сердце у женщин веселее не стало. Вздохнула Ханда Холхое-ва и начала песню. Голос у нее чуть глуховатый, но приятный.
Женщины невольно взглянули на кривоногого Шагдыра, стоявшего в стороне с пустым чайником. Молодые звонко расхохотались. Даже старая Балма не смогла удержать улыбку. И все подхватили припев — кто смело и громко, кто застенчиво и тихо:
Еще не замолкли последние слова, как уже зазвенел голос Даримы:
И опять, как прибой родной Селенги, зазвучал припев:
Жалма не сводит глаз с Балдана. Ей сейчас особенно хочется петь лучше всех. И вот она запевает. И кажется ей, никогда раньше не пела она так звонко. Слова песни льются в такт поднимающимся и падающим прутьям, в такт едва заметным колебаниям ветра:
Раздается стройный припев:
Вместо шерсти, покрытой желтой ржавчиной, сейчас на парусине белые вороха, такие легкие, что они вот-вот улетят вместе с ветром… По всему улусу не соберешь столько… Женщины задумываются. У каждой свои мечты.
…Жалме чудится, будто по степи скачут на конях мальчики, тащат за собой скрученные в валики мокрые войлоки… «Зачем Мархансаевым столько войлоков?» — «Разве вы не знаете? Женятся Балдан и Жалма, это готовятся войлоки для их новой, просторной юрты». Сердце Жалмы тает, будто слышит вещие слова улигера.
— Димит, ты почему не поешь?
А Димит тоже плывет на белой лодочке своей мечты. Будто бы заходит к ним Мархансай-бабай, здоровается с Эрдэмтэ так приветливо, как поздоровался бы с тайшой Юмдылыком, садится к очагу. «Я становлюсь старым, — говорит он, — богатства у меня так много, что я решил раздать лишнюю шерсть соседям, которые не имеют овец. Берите сколько нужно. А то, видите, у вас юрта дырявая»… И Димит бьет уже собственную шерсть, ей помогают все соседи. Теперь ребята будут в тепле… Вот боги и открыли глухие двери в сердце Мархансая…
Мечты женщин прерываются окриком, похожим на карканье вороны:
— Глядите, чтобы навоз не попал в шерсть!
Мархансай ходит вокруг, проверяет, хорошо ли распушилась шерсть, не осталось ли грязных клочков.
— Смотрите, не прячьте за пазухой, как в прошлом году, — гнусавит он.
В прошлом году Мыдык стригла овец Мархансая и припрятала немного шерсти, всего на одно веретено. Мархансай не может забыть этого. Послушаешь его: все бедные — воры.
Женщины смутились. Только седая Балма подняла голову, вытерла пот со лба и проговорила:
— Плохо, конечно, что бедная сиротка спрятала чужой клочок шерсти… Но бывает и так, что иные богачи за пазуху прячут последнюю корову соседа. На этом свете — люди, а на том — боги рассудят, кто больше виноват.
Краска залила лицо Мархансая. Много лет назад он действительно продал единственную, корову Сундая. Соседи узнали об этом. Мархансай сунул взятку начальству, и дело замяли.
Но Балма до сих пор все: помнит, не простила Мархансаю.
Мархансай уже пожалел в душе, что затеял этот разговор. И так много приходится терпеть из-за острого языка женщин. Он изо всех сил ткнул палкой Гунгара.
— Ослеп, что ли?.. Грязных клочков не видишь…
Женщины с благодарностью посмотрели на бабушку Балму. Прутья теперь яростно опускались на шерсть. Видно было, что женщины стараются заглушить мрачные мысли.
Подошло время обеда. Только сели пить чай, черная туча закрыла солнце. Все посмотрели на небо. Облака, как неведомые дикие звери с белыми гривами, бросаются друг на друга. Быть дождю, быть грозе! Все: люди, животные, каждая травинка, каждый слепой жучок — ждут дождя как бесценного дара. Вот-вот польется он — шумный, обильный — и будет идти долго-долго.
— Травы позеленеют.
— Молока будет вдоволь.
— А я на крыше айрсу[36] сушить положила.
— Не горюй, не большая потеря.
— В Канавах воды прибавится!
— И без канав покосы польет!
— Наконец-то боги нас пожалели.
Радостные, громкие разговоры. Доржи снял шапку, колотит в нее, как в бубен, и приговаривает:
— С неба, аршан, струясь, лейся! С высоты, вода, шумным дождем лейся, лейся, лейся…
Получилось, совсем как у шамана. Ребята и женщины засмеялись, старухи поморщились.
Темные грозовые тучи быстро обложили небо. Стало прохладно. Ласточки, как стрелы богатырей, стремительно пролетают над землей. Стреноженные кони наслаждаются, щиплют редкие жесткие травинки. Скорее бы дождь!
Огненная молния опоясала притихшую степь… Грянул гром, и Доржи ясно видит: сказочный великан высек огонь огромным огнивом о кремневую скалу.
Посыпались искры, такие яркие, что больно глазам. В степи — одинокие, чахлые сосны, как сухие кучи трута. Которая из них задымится, запылает от упавшей искры? Старухи помянули богов, женщины и дети закричали от испуга. Гром, ударивший рядом, уже катится где-то далеко, у самого края широкой степи. Лица взрослых просветлели, детишки с радостным криком подставляют руки под первые крупные капли дождя.
Но радость прошла так же быстро, как появилась. Ветер мгновенно умчал тучи, небо прояснилось. Солнце стало жарче прежнего. Люди замолчали. Балдан, Гунгар и Дулсан вновь разостлали парусину, притащили из амбара пыльную шерсть. А обильный дождь льется где-то над далекими синими горами. Доржи уверен: это злые духи издеваются над людьми.
Сумбат не отпускала женщин до самого вечера. Когда закатилось солнце, Мархансай принес из юрты бумагу со своими пометками. Долго разглядывал рисунки и закорючки. Каждой женщине сказал, сколько дней нужно бить ей шерсть.
Женщины понуро расходились. Мархансай наказал жене:
— Я завтра поеду в Думу к тайше. Следи, чтобы бабы не бездельничали и шерсти не украли. Да чтобы Димит и старая Балма глупыми разговорами не занимались.
ТАЙША
Тайша с Бобровским разбирали бумаги. Тайша не любил возиться с ними. Когда их скапливалось слишком много, он звал Бобровского. Тот докладывал содержание каждой бумаги. Важные документы они складывали в тяжелую черную папку, попроще — накалывали на длинный гвоздь, что торчит в стене около шкафа. А много бумаг попросту бросали под стол, для растопки.
Работа уже близилась к концу, когда примчался Цоктоев. Через открытую дверь было видно, как он поспешно соскочил с коня. По тому, что Цоктоев не снял седла, не погладил вспотевшего жеребца, тайша догадался, что Гомбо чем-то обеспокоен. Цоктоев вошел и суетливо поклонился.
Красный, взволнованный, он воровато огляделся по сторонам.
— Тайша… — несмело проговорил он. — Мне бы вас одного… поговорить с глазу на глаз.
— Говори… У меня от Бобровского давно тайн нет. Да и у него от меня, думаю.
— Нет… Дело такое…
Бобровский собрал бумаги и вышел. Гомбо еще раз боязливо оглянулся, перевел Дыхание и зашептал:
— Тайша, опять беда начинается… Я точно выведал…
— Ну, говори! — нетерпеливо топнул ногой Ломбоцыренов.
— Жалобу… на вас, тайша, жалобу написали. И уже отправили.
— Жалобу? На меня? Да ты не врешь ли, Гомбо?
— Ей-богу, не вру. Оторвите мне язык… Написали и отправили в Петербург. На высочайшее имя…
_ В Петербург? На высочайшее имя? Да тебе, Цоктоев, приснилось.
— Нет, тайша. Вы не шутите. Есть ведь люди с вертлявым языком, с черной душой…
— О чем же писали, на что жаловались?
— Сказать страшно. Обо всем написали, что было и чего не было… Что вы Сампилова в прошлый раз избили, что на свадьбах плохо себя вели… Что людей битьем из терпения вывели… Это еще пустяки. — Цоктоев приник к уху тайши. — Написали, что вы снова казенные деньги присвоили, что темные поборы с населения собираете, казенные магазейные амбары грабите. Про ту землю тоже не забыли. Написали, что лучшие угодья у крестьян отбираете…
Цоктоеву казалось, что тайша растерялся. И ему захотелось еще больше его попугать.
— Да, тайша, — уж смелее проговорил Гомбо. — Я знаю, во втором табангутском и в ашабагадском родах прямо грозятся: «Тайша недолго теперь будет издеваться. Лопнет, как бычий пузырь».
— Это про меня так?
— Небо и земля меня проглоти! — шепотом поклялся Цоктоев и опять затрясся от страха. — Тайша, что нам делать?
— Гроб… гроб сколачивать да яму копать у подножия Баян-Зурхэна, пока земля талая…
— Ой, тайша, не говорите таких слов…
— Нет уж, слушай. Теперь всех выведут на чистую воду. Как же ты допустил до этого? Для чего ты на моем лучшем жеребце скачешь, чучело?
Напуганный до смерти Цоктоев не мог произнести ни одного слова. Он стоял с открытым ртом и неожиданно так взмахнул руками, будто прыгнул со страшной высоты. Тайша расхохотался. Цоктоев. вытаращил глаза: «Не сошел ли тайша с ума от испуга?»
— Гомбо! — заговорил тайша, успокоившись. — Ты с неба упал, что ли? Как же ты раньше не знал, что за пять месяцев этого года на нас состряпано более тридцати жалоб и доносов? Нас называют селенгинскими волками, лиходеями, кровопийцами…
— Кровопийцами? Более тридцати жалоб?
— Да, более тридцати. — Теперь уже тайша наслаждался растерянностью Цоктоева. Он помолчал, потом веско выговорил: — Но эти жалобы не только до государя императора — до нашего губернатора редко доходят. А те, что дошли, он мне переслал. «Уймите, пишет, этих языкастых. Они своей мазней изрядно насолить могут…» Видал, вот она, бумага от губернатора… — и тайша с пренебрежением сбросил какой-то листик на пол.
Цоктоев спросил заискивающе:
— Что нужно делать, тайша?
— Они пожалеют… Я знаю всех, кто пишет жалобы. Еши, Ухинхэн… И Холхой туда же, хотя двух букв написать не умеет.
— Тайша, а если жалобы попадут все-таки в Петербург?
— И тогда не пропадем, Гомбо. Найдется в Петербурге добрая душа — выручит. Хоринский тайша Дымбыл Галсанов в девятнадцатом году вон в какую трясину попал: пятьдесят четыре тысячи казенных рублей присвоил… Я хоронить его собрался… А какие защитники у него нашлись в Петербурге! В должности восстановили, в почете. В Петербурге люди понимающие, не дадут в обиду! Сперанский тогда чуть не семьсот человек обвинил. А чем кончилось дело? Почти все на своих местах, все здравствуют[37]. Если кто и лишился должности, так без шуму, достойно…. Ты, Гомбо, не волнуйся, нас не повесят. Вот они, жалобы. Здесь и про тебя есть.
— И про меня?
— Да, и про тебя сказано. Тебя величают «бесхвостой собакой тайши». Тебе нравится?
Цоктоев только плаксиво простонал:
— Что же это такое, тайша?
— Ничего, Гомбо, пусть пишут. Если совсем плохо будет, и тогда от петли увернемся, да еще в таком почете окажемся — друзья и враги позавидуют…
— Как же, тайша? — Цоктоев притаил дыхание.
— В христианство перейдем, веру белого царя примем… А царь-батюшка за это с нас все грехи, снимет. — Тайша набожно сложил ладони, взглянул на растерянное лицо Цоктоева и снова расхохотался — Не жалей бурятских богов, не горюй, Гомбо, мы не первые и не последние. Расскажи лучше, как в. улусах к скачкам готовятся. Что там Еши затевает? Видел ты Рыжуху? Запомни: мой жеребец должен быть первым. Понял?
— Понял, тайша.
Цоктоев заискивающе посмотрел на тайшу.
— Ну, чего тебе? — недовольно спросил Ломбоцыренов.
— Выручите немного деньгами. Я же просил…
— Опять попрошайничаешь? — Тайша нахмурился. — Ладно, после скачек посмотрим… И вообще знай свое место. — Тайша теперь уже говорил, как всегда, почти не разжимая губ. — Больше слушай и меньше болтай.
Есть в народе загадка про язык: «Рыжая кобыла за березовым частоколом живет». О языке Цоктоева сказали бы иначе: это рыжий конь, которого никакие путы и арканы не удержат.
И вот уже пополз слух по улусу, будто тайша сказал, что Рыжухе не бывать на скачках. Еши пошел к Мунко-бабаю.
— Тайша может, конечно, сделать, чтобы Рыжуху не допустили, — задумчиво проговорил Мунко. — Сумеет найти повод. Только он слишком уверен в своем жеребце. Если кого и будет опасаться, так Дымку — скакуна харанутского зайсана. На прошлых скачках Дымка дважды вторым приходил. В последний раз едва не обогнал жеребца тайши.
— Что же посоветуете, Мунко-бабай?
— Что посоветую? А вот, думаю, не сходить ли мне в думу?.. Может, что проведаю…
Вскоре Мунко-бабай пришел в степную думу. Тайша, пока не кончил писать, головы от стола не поднял. Заметил старика, поздоровался. Тот встал, поклонился и снова сел.
Мунко-бабай ждет, тайша молчит. Не заговаривает о скачках, не хвалит своего жеребца, не спрашивает про Рыжуху Еши… После долгого молчания тайша проговорил:
— Ну, как здоровье?
— Что мое здоровье? Пока хожу на своих ногах. Семье не в тягость…
Опять оба молчат. Хоть бы спросил: «Что нового?» Мунко ответил бы: «Слышали, что скоро скачки. Были бы у нас скакуны, и мы бы попытали счастья». Тайша не вытерпел бы, спросил про улусные новости. Но тайша молчит, будто знает все без Мунко-бабая… Старик сам попробовал начать разговор:
— Тайша, день скачек уже назначен?
— Нет еще, — коротко ответил Ломбоцыренов.
Как быть? Хитер Юмдылык… У Мархансая Мункобабай умел выведать все, как у малого ребенка. Однажды самого Бобровского перехитрил. А сейчас ничего поделать не может. «Не зря говорят, что в тебе, та^ша, волк и лиса дружно живут», — думает старик. Однако не уходить же, не узнав ничего.
— Болтают, что скачки уже скоро, — снова заговорил Мунко. — У нас Еши каждое утро на своей кобылке по улусу скачет, пыль поднимает. «Куда, — спрашиваю его, — спешишь?» — «Рыжуху, — отвечает, — к скачкам готовлю». Люди над ним смеются. Я тоже говорю ему: «Не суй нос куда не следует», а он все свое. Чудной человек.
— Вот бездельник, — безразлично проговорил тайша.
Мунко долго просидел в степной думе, но так и вернулся домой ни с чем. Кто знает, что затевает тайша? А может быть, он и не думает о Рыжухе?
В КУЗНИЦЕ
Нет, пожалуй, такого ремесла, которого не знал бы русский, поселившийся в домике, купленном у Еши. Он и часовой мастер, и кузнец, портной, шорник, лечит лошадей, успевает работать на пашне и на огороде… Недавно рассказал улусникам, как можно быстро гнуть и сушить дуги.
Рядом с домом русский мастер построил маленькую кузню. Когда он работает, кажется, что ему помогают невидимые помощники — так быстро и хорошо идет дело.
— Топор и молоток в его руках как звонкий хур… — говорят старики.
Русскому тащат для починки всякую всячину — кто висячий замок, а кто и старую телегу. Жена сартульского кузнеца принесла поломанные часы.
— Типан-тала, тик-так нету… Нашему мужику Николай подарок давал…
Степан Тимофеевич понял, что часы — подарок Николая Александровича Бестужева. С особой бережностью взял он часы, склонился над ними, разложил на столе деревянные части — рычажки и колесики. «Ведь Бестужев эти часы чуть не плотничным инструментом сделал…»
— Ну, забирай, хозяйка. Теперь тик-так есть.
Женщина вытащила из кожаного мешка мягкие овечьи шкурки и протянула Степану. Тот всунул шкурки обрати но в мешок. Женщина обиделась.
— Маленький парень шапка надо. Алене-бабке гутул[38] надо. У самого Типана барана нету…
И в самом деле Степан Тимофеевич не имеет баранов. Вся скотина у него — две козы. Буряты рассматривают коз, удивляются, какое у них большое вымя.
— Беда молодец коза. Бурятских три коровы надо…
В Ичетуе раньше других со Степаном Тимофеевичем подружился кузнец Холхой. Когда они работают вместе, огонь в кузнице горит, кажется, ярче, мехи дышат глубже.
За два дня до скачек в кузницу пришел Гомбо Цоктоев. Он угостил кузнецов дорогими папиросами, посидел молча, потом участливо спросил:
— Холхой-нагса, сколько у вас дойных коров?
Перед тем как обратиться с просьбой, Цоктоев называл любого человека родственником — дядей, племянником, сватом.
— Две коровы доятся, — ответил Холхой.
— Только?
— Да.
— Хватает ли молока-то для семьи?
— Хватает… если кушак потуже затянуть.
Цоктоев сочувственно покачал головой, вздохнул.
— Холхой-нагса, я холостой, — начал он вкрадчиво. — У меня три дойные коровы. Мне хватит и двух… Подоите два месяца одну мою корову.
— Вот спасибо! — радостно отозвался Холхой. А затем спохватился: — Чем же я заплачу? Разве смастерю что-нибудь?
— Нет… Мне ничего не нужно…
Цоктоев сделал вид, что задумался.
— У меня просьба будет, Холхой-нагса. — Голос у Цоктоева стал такой, как будто он всю жизнь не ел ничего, кроме меда. — Сегодня вечером Еши Жамсуев приведет к вам свою Рыжуху… Через два дня скачки… Тайша хочет, чтобы его черный жеребец… — Цоктоев опять задумался.
— Ну и что же? — уже раздраженно сиросил Холхой.
— Когда будете ковать Рыжуху, возьмите подкову чуть-чуть поуже… чтобы кобылка захромала немного…
Теперь Холхой понял. Губы у него побелели.
— Я беден, Гомбо, у меня мало дойных коров, детям не хватает молока… Но я честен. Не мерь людей на свой аршин. Пусть навсегда угаснет огонь в моей кузне, если я сделаю подлость, которую ты требуешь. Пусть высохнут мои руки. Не нужно моим детям молока от твой коровы!
— Холхой-нагса… вы не поняли… Ведь лошадь не сдохнет, не заболеет, только похромает два дня…
— Знай: мы все гордимся Рыжухой Еши. Не то что в Ичетуе, во всей Селенгинской долине не увидишь у бедняков такого коня. И мы хотим, чтобы Рыжуха победила.
Цоктоев совсем растерялся.
— Холхой-ахайхан… Я… Не рассказывайте об этом никому.
— Нет уж, и не проси. Расскажу. Прежде всего — Еши расскажу… Всем, кто имеет добрых коней, скажу: «Кроме меня, не доверяйте никому ковать ваших лошадей. Цоктоев подкупает кузнецов…» — Слова Холхоя падают, как тяжелый молот. Цоктоев поспешил уйти.
Степан Тимофеевич не понял, о чем был разговор.
— Что ему нужно? — спросил он Холхоя.
— У Цоктоева одна песня…
— О чем все-таки? Он Еши Жамсуева и тайшу поминал.
— Да пустое это… — Холхой с радостью бы рассказал русскому другу, если бы Цоктоев пришел с добрым делом. — Покажи, Степан, как скрепить косу, если она вот тут переломится, — Холхой взял косу, длинную и легкую, как крыло молодого орла.
Два друга, оба грузные и молчаливые, оба вымазанные сажей и умытые потом, работали допоздна. Закончив работу, они зашли в юрту Холхоя, умылись, уселись у очага. Ханда угостила их арсой, заправленной сметаной.
— Бурятский кисель вкусный, — одобрил Степан Тимофеевич.
СКАЧКИ
В ночь перед скачками Доржи долго ворочался с боку на бок. Тревожно и радостно на сердце у мальчика. Это понятно каждому улуснику: кто не любит скакать по степи на быстром, как птица, хулэге; кому не желанен свист обжигающего ветра; кому не приятно слушать одобрение улусников после победы на скачках; у кого не сжималось до боли сердце, если прискакал позже всех?
Вот и долгожданный день! На равнине Сарабинского склона, недалеко от летника Дагдая, с раннего утра стал собираться народ. У коновязей, сделанных торопливыми руками, скапливалось все больше коней и телег. Старики угощали друг друга табаком, женщины вязали чулки, дети поднимали возню. Доржи и Бадма прибежали, конечно, первыми.
Незадолго до скачек Мархансай проиграл Тыкши Данзанову белоногую кобылу. Как это случилось, никто не знает. Карт Мархансай и в руки не берет. Доржи слышал, как мать рассказывала соседкам:
— Зашла я к Мархансаевым. У них Тыкши Данзанов сидит и хохочет: «Ха-ха-ха, теперь кобыла моя!» А Мархансай, красный от злости, кричит: «Узду оставь! На передней правой ноге подкова новая… Пусть Холхой снимет». Подбежал к жене. «Нож где? Где нож, спрашиваю… Надо гриву у кобылы остричь и хвост отрезать… Веревку буду из волоса вить». Тыкши выпучил глаза: «Вы шутите, Мархансай-бабай». А тот схватил нож и выбежал из юрты. Тыкши тогда крикнул: «Не забудьте кусок мяса от живой кобылы отрезать!»
С того дня Мархансай не разговаривает с Данзановым.
Сейчас он подошел, насмешливо спросил:
— Что, зайсан, у белоногой кобылы хвост отрос? Будет она участвовать в скачках?
— Нет. Она ленивая… Вот когда будет состязание, чья кобыла больше сена съест, она всех побьет. В кого такая уродилась, не знаю…
Мархансай смолчал, выплюнул под ноги жвачку табаку. Забавные у него ноги, у Мархансая: кривые, будто он всю жизнь просидел верхом на жирном баране, стерег, чтобы не украли.
Чем выше солнце, тем больше людей. Вот кто-то тревожно и громко выкрикнул:
— Думцы!
Пронеслась белая тройка, запряженная в нарядную телегу. Оглушительно звенели колокольчики. На козлах восседал Гомбо Цоктоев. Какая-то женщина с ребенком на руках зазевалась и чуть не попала под копыта… В телеге сидели тайша Юмдылык Ломбоцыренов и два русских нойона-чиновника. За тройкой бойкий каурый жеребец легко нес телегу, на которой восседал со своей семипудовой женой сам письмоводитель степной думы Бобровский. Вот показался и нойон земского суда Павлинов. За ними — жена тайши с сыном и двумя женщинами, дальше сотник Колотилин. Позади всех, в густой туче пыли, проскакал на хромой кобыле лама Хурдан Тугут. Ему полагалось жить в дацане холостяцкой жизнью, а Тугут не выдержал — на днях переселился в улус и привел в юрту жену. Его встретили веселым смехом.
У тайши смуглое лицо, умные и недобрые глаза. Ему больше пятидесяти лет, но ни одного седого волоса. На голове черная бархатная шапка с собольей оторочкой. Он покручивал и без того тонкие усы, будто собирался продеть их в иголку. На плечах у Ломбоцыренова голубой шелковый халат, тоже отороченный соболем. На груди две медали — золотая и медная.
Для важных гостей были приготовлены дорогие ковры. Тайша направился на свое место. За ним следовали русские гости.
Неподалеку от гостей уселись зайсан Тыкши и Ганижаб. Дальше — Мархансай. Все они заискивающе смотрели на тайшу, а в душе были обижены, что тот ни слова им не сказал, даже не поздоровался.
Доржи отошел от коновязи, шныряет между людьми, слушает и смотрит… Какие красавцы кони бывают на свете! Из какого ключа они воду пили, на каких лугах росистую траву щипали?.. Кто же из них выйдет победителем?
Есть чем восхищаться Доржи. Здесь собраны лучшие кони самых богатых людей Джидйнской и Селенгинской долин, Дырестуя, Боргоя и Иволги…
Улусники любуются высоким рысаком с красивой кличкой Огонь. Они называют его ласково — Жаркий огонь. А рысак как бы чувствует общее внимание и восхищение, нетерпеливо бьет копытом о землю, гордо поднимает голову, прядает высокими ушами. Рядом Дымчатый скакун, или Дымка-красавец, как его здесь прозвали. Дымка грызет дерево коновязи. У него гибкое тело, длинная голова, грудь, как у голубя… А вот Алтай шагай — Золотая бабка — ашабагадского зайсана. У него золотистые копыта, стройные ноги, а уши еще острее, чем у Жаркого огня. Один конь краше другого, — Синяя молния, Саврасый хулэг, Волчьи уши — всех не перечислишь. Люди смотрят на лошадей с немым восхищением, но потом все же поворачивают головы к черному жеребцу тайши. Он — как из сказки. Бока жеребца будто не шерстью покрыты, а дорогим китайским шелком, такие гладкие — муха и та поскользнется.
— Вот он — будущий победитель, — показывает на жеребца Гомбо Цоктоев.
— Хороший конь, — соглашается какой-то незнакомый Доржи старик, — только слишком грузный… Хороший скакун, — повторяет он и задумывается. Все ждут, что он скажет еще. — Третьим или четвертым придет. А может, пятым будет…
Большая группа людей окружила Мунко-бабая.
— Мунко-бабай, какой конь придет первым? — почтительно спрашивают его, ждут, чтобы Мунко обронил хоть одно слово.
Но старик знает цену слову в такой день. Он осторожно уклоняется от ответа:
— Сыновья мои, пока трудно сказать, какой конь придет первым, именем какого коня начнется сегодня похвальная песня.
У коновязи разгорается спор, вот-вот вспыхнет ссора.
— Победит жеребец тайши!
— Нет! Дымка придет первым! Если Дымка не победит, согласен выйти из юрты голым!
— Да ты и сейчас не особенно одетый…
— Бросьте… Лучший скакун — Алтай шагай…
Тут подошел Еши Жамсуев со своей Рыжухой. Места у коновязи не нашлось, он привязал Рыжуху за чью-то телегу. Сразу появился Гомбо Цоктоев.
— Что, Еши, решил попытать счастья?
— Да.
— Ну что ж… попытай. Пожалуй, победителем будешь.
— Может быть… Если из-за подковы не захромает.
Цоктоев покраснел, юркнул в толпу и стал что-то нашептывать то одному, то другому…
И вдруг все заинтересовались Рыжухой.
— Это из какой долины скакун, из какого улуса рысак? — насмешливо спрашивают у Еши приятели Гомбо Цоктоева.
— Не кобыла, а рыжая буря!
— Ноги-то, ноги какие! В шерсти, как в овчинных унтах!
Злые шутки сыплются со всех сторон. Но вот вынул трубочку изо рта Бадма Хоролдоев, знаток и лекарь лошадей, силач из второго табангутского рода.
— Мне пятьдесят лет, — говорит он. — Я прямо из люльки пересел в седло. Коней на своем веку видел всяких — и хороших, и плохих, и своих, и чужих. Ни одни скачки без меня не прошли. И я говорю: не спешите смеяться! У этой Рыжухи в глазах огонь, в челке ветерок…
Бадму Хоролдоева уважают, но все же он не Мунко-бабай. Шутники не унимаются:
— Ну, раз Хоролдоев сказал… Я ставлю на Рыжуху.
— И я, мне тоже хочется побыстрее разбогатеть!
— Почему, Еши, навоз не возишь на своем рысаке?
— Привяжи-ка ее подальше, а то жеребец тайши лягнет, и пропала твоя Рыжуха…
Еши не отвечает. Он отводит Доржи в сторону и говорит:
— Не слушай, что эти люди болтают. Наша Сиротка обязательно победит. Только повод не натягивай. Ногами обхвати покрепче, чтобы не свалиться. Понял?
— Понял, — отвечает Доржи.
Он встревожен. А вдруг Рыжуха отстанет от всех? Тогда придется всю жизнь терпеть насмешки.
Гомбо Цоктоев подошел к тайте, что-то шепнул ему… Тайша поднялся, стал обходить коней. Как только он дошел до Рыжухи, Цоктоев мигнул своим приятелям, и те подняли крик:
— Не допускать кобылу на скачки!
— Запретить!
— Она коней позорит!
Тайша с насмешливой улыбкой разглядывал Рыжуху. Из-за чего спор? Как мог этот дурак Гомбо Цоктоев подумать, что лохматая кляча в силах тягаться с его черным жеребцом!
— Что за шум? — властно произнес тайша. — Зачем запрещать? Резвый конек, пусть себе бежит.
Тайша ушел. Доржи кто-то схватил за руку. Это Тыкши Данзанов.
— Доржи, — шепчет Тыкши, — Доржи, я тебе полтинник дам. Вот он, видишь, полтинник… Ты придержи Рыжуху, если она вперед вырвется. Не давай обогнать моего Шоно шэхэтэ[39].
Тыкши вертит перед глазами Доржи монету с двуглавым орлом. Мальчик успевает заметить, что крылья у орла раскрытые, зубчатые. Кажется, что орел так и хочет влететь ему за пазуху.
В ушах стоял гул. Слышался резкий голос богача Га-нижаба — он предлагал безлошадной бедноте пустить на скачки своих жен… Интересно, у которой ноги окажутся проворнее… Эту издевку подхватил Бобровский. Он по-бурятски сказал Дагдаю:
— Если устроить состязание — чья баба на язык бойчее, Дарима Ухинхэна всех забьет. Она и так его брехню-по всему улусу разносит.
Дагдай молча смерил Бобровского взглядом. Тог вдруг съежился, опустил глаза и отошел. Разговор снова вернулся к Рыжухе.
— Еши, не уступай!
— Неужели узды получше не нашел, Еши?
— Ерунда! Что узда…
— Верно! Мы собрались не затем, чтобы смотреть, у кого узда красивее, а помериться, у кого вожжи длиннее.
Доржи чувствовал, что в душе у него два ветра дуют в разные стороны, две быстрые речки удаляются друг от друга…
Мальчик впервые столкнулся с таким искушением. «Полтинник — большие деньги. Можно, наверно, купить много пряников, леденцов и орехов. Если останутся монеты, можно подарить Аюухан — пусть платит ламам за лекарства, пусть поправляется…» Эти мысли сверлили голову. Он уже ощущал на ладони приятный холодок монеты. Вот он чистит монету золой. О, как она блестит? Доржи с размаху кидает ее далеко в траву и ищет. Вот он спрятал монету в рот и говорит Бадме: «Ну-ка, угадай — что у меня во рту?» Бадма не знает. «Деньга?» Доржи отрицательно замотал головой. «Бабка? Пуговица?» Нет, все не то. Никто не знает, что у Доржи за щекой полтинник.
Но сомнения продолжались недолго. Разве может ow обмануть дядю Еши, который поведал ему столько чудесных песен, смешных сказок, мудрых пословиц? Как он потом посмотрит ему в глаза? Неужели дружбу Еши он продаст за холодную монету Тыкши Данзанова?
А споры вокруг не утихают.
— Ставлю свою шубу, что победит Жаркий огонь! — горячится какой-то парень.
— Разве у тебя шуба? Скажи — девяносто девять заплат! — хохочет Цоктоев.
Доржи огляделся. Увидел Данзанова. Тот подмигнул ему и похлопал себя по груди: вот он, полтинник, здесь лежит, за пазухой.
Смех, суета, споры, ругань… Но вот шум стихает, все стараются протискаться вперед, вытягивают шеи, толкаются. Каждому хочется увидеть… А посмотреть есть на что: восемнадцать мальчуганов вскочили на красавцев коней. Кони! Взглянешь — и забьется сердце, загорятся глаза…
Доржи на Рыжухе примостился в стороне от других. Он стыдится поднять глаза, завидует мальчику, который сидит на Дымке. Дымка — это конь! Дымка под стать батору…
Кони рвутся вперед, танцуют на стройных ногах. Юные всадники едва сдерживают их… У всех коней туго завязаны хвосты и челки. Рыжухе же хвост завязали так неумело, что он похож не на упругий шар, как у других лошадей, а на большой кукиш…
Скачки должны начаться с окраины маленького улуса Лубчан. Теперь кони далеко. Только самые зоркие видят, как всадники топчутся на месте, подравнивают коней. Но нот кони пущены. Ветер шумит в ушах, у Доржи слезятся глаза. Кажется, что это не конь мчится, а бежит навстречу земля — желтая от засухи…
Толпа образует широкую горластую улицу, по которой должны промчаться кони. Вдали показались красноватые облака пыли. Они катятся по степи.
Восемнадцать огненных стрел, ураган восемнадцати долин, восемнадцать стремительных орлов!
Доржи забыл обо всем. Забыты были наказы Еши и Мунко-бабая, полтинник Тыкши Данзанова… Он крепко держит поводья и гриву, хлещет и хлещет Рыжуху. Он — батор, который нашел живую воду и мчится спасать друга, павшего на поле битвы со злыми людьми.
Доржи пригнулся к шее Рыжухи, следит за конями, которые вырвались вперед. И вот странное дело — они, кажется, больше не бегут, а замерли на месте… Потом происходят еще более удивительные вещи. Эти кони начинают приближаться к Рыжухе.
Теперь Доржи видит впереди только двух коней: как черная буря, летит жеребец тайши, как молния, мчится Дымка. Через некоторое время голова Рыжухи поравнялась с головой жеребца тайши. Долго лошади бегут рядом. «Всех опередил Дымка», — думает с тревогой Доржи. Черный жеребец начал отставать, вот он около хвоста Рыжухи.
Доржи на мгновение обернулся: позади — три головы, будто скачет трехголовый чудо-конь.
Земля, кажется, сошла с ума. Она несется навстречу, кружится, будто Доржи попал в бешеный водоворот. Доржи теперь может достать Дымку своей плетью. Сбоку появилась голова Жаркого огня и быстро исчезла. Вот Доржи прикоснулся коленом к ноге мальчика, который скачет на Дымке. Слышно, как храпят лошади…
Навстречу бегут люди, черные и лохматые, как осенние галки после дождя. Они вихрем проносятся мимо. Слышен только многоголосый крик. Мальчик видит перед собой счастливое лицо дяди Еши. «Спасибо, спасибо тебе, Доржи! Молодец! Молодец, Доржи!» — повторяет он. Из глаз у него текут слезы счастья. Он берет Рыжуху под уздцы и бежит, не давая разгоряченному коню остановиться.
Еши вывел Рыжуху на середину круга. Откуда-то появился Тыкши. Он схватил Доржи за босые ноги и стащил с лошади. Мальчик увидел над собой искаженное злобой лицо Цоктоева и руку его, сжатую в кулак. Через мгновение Цоктоев уже лежал на земле. Это кузнец Холхой толкнул его.
Доржи вскочил. Только бы никто не увидел его слез. Мальчик побежал в степь, бросился на траву и там уже горько заплакал.
«Разве скачки устраиваются не для того, чтобы узнать, чей конь быстрее? Почему кони богачей должны были прийти раньше Рыжухи? В чем виноваты я и дядя Еши?»
Доржи думал, что Хэшэгтэшагса всем интересуется. А почему на скачки не пришел? Почему не захотел на красивых скакунов посмотреть? Если бы он пришел, может, никто не посмел бы обидеть Доржи… Дядя Еши тоже хорош. Не заступился.
Постепенно обида утихала. Теперь уже не хотелось плакать. Он жалеет, что не крикнул этим заносчивым богатеям: «Хоть десять раз затевайте скачки, все равно ваши жеребцы не опередят нашу Рыжуху!»
Доржи явился домой уже под вечер. Прибежал Шагдыр и с гордостью показал монету, которую ему подарил Тыкши.
— Мой Савраска так и лез вперед, а я удерживал его, — объяснил Шагдыр. — Я куплю сахару, и угощу тебя, — пообещал он Доржи.
— Не нужен мне твой сахар. Я лучше сухого кизяка поем… Не хочу я с обманщиком играть.
— Подумаешь… А я похвальную песню Мунко-бабая слышал, — поддразнил Шагдыр.
Доржи очень захотелось расспросить Шагдыра о песне Мунко-бабая, но он удержался.
Что же было после того, как он убежал в степь?
А было вот что.
Улусники заволновались, зашумели:
— Песня, скоро ли похвальная песня?
— Где Доржи?
— Убежал куда-то.
— Не будет похвальной песни! Богачи не допустят!
— Будет!
В середину круга вышел Мунко-бабай.
— Тише! Сам Мунко-бабай начинает похвальное слово! — раздалось сразу несколько голосов.
Похвальная песня — древний, седой обычай. Если на скачках, при покупке или продаже коней зазвучат эти слова величания — все вокруг умолкают, и тут бессильны помешать нойоны, ламы, шаманы.
Мунко-бабай встал посреди круга, степенно оглядел улусников, медленно поднял правую руку. Все смолкли. Даже кони, казалось, перестали ржать, звенеть удилами.
— Как же не быть похвальной песне! Кто это посмел крикнуть? Я скажу свое слово… Много лет уже на всех скачках я благословляю коней-победителей. Но сегодня мне хочется найти самые звучные, самые дорогие слова… Где же Рыжуха? Ну-ка, подсадите меня, друзья, тяжеловат я становлюсь.
Двое мужчин подсадили Мунко-бабая на Рыжуху. Вдали сгрудились тайша Ломбоцыренов, Бобровский, именитые гости. За ними нойоны помельче. В стороне — Мархансай и Ганижаб.
Гордо и радостно оглянулся Мунко-бабай. Он сидит молодцом, будто вот-вот поскачет на этом лихом, горячем коне. Он не спешит начинать свою песню.
Ему подносят большую красивую чашу самой хмельной араки, какая нашлась у собравшихся. Он высоко поднял эту чашу. Левую руку старик прижал к сердцу. Поводья Рыжухи держат Еши и Дагдай.
Грива Рыжухи украшена разноцветными хадаками. Все удивляются, что у нее даже бока не потемнели от пота, будто она не пробежала несколько верст по знойной степи, а паслась на прохладном лугу. Рыжуха так несмело мотает головой, точно стыдится, что обогнала всех красавцев скакунов, посрамила их кичливых хозяев.
Через край полна радостью улусная беднота. Через край полна чаша в руке старого Мунко-бабая. Вот он еще раз оглядел толпу и начал свое похвальное слово — складно и медленно. По обычаю, он помянул имена важных лам и знатных нойонов, а потом заговорил о тем, чего с нетерпением ожидал народ:
Мунко-бабай еще выше поднял над головою тяжелую» чашу.
Да разве упомнишь все, что сказал в тот раз старый Мунко.
А Доржи ничего этого не слышал. Ему рассказал о слове Мунко Еши Жамсуев. Доржи хотел узнать все-до капельки — как говорил Мунко-бабай, как надели на Рыжуху-победительницу дорогую узду, обернутую алым» сукном, и как поднесли Еши Жамсуеву шелковый синий халат.
Доржи жалко, что он не видел всего этого. Было лишь одно утешение: на будущих скачках он опять всех на Рыжухе обгонит и тогда уж сам, своими ушами, услышит похвальное слово, сложенное народом, рожденное в добрых сердцах мудрых людей.
СЕРЕБРЯНЫЕ УЗОРЫ
С каким нетерпением ожидал Доржи скачек, и вот они прошли. Что принесет завтрашний день — огорчит или обрадует? Доржи думал: дядя Хэшэгтэ рассказал ему уже обо всем, что знал. Но оказалось — у дяди еще много припасено всякой всячины. Наверно, можно долгие-долгие годы прожить вместе с ним, и все равно каждый день будешь узнавать от него что-нибудь новое.
А произошло вот что.
Сундай привез из Боргоя дяде Хэшэгтэ его сундучок.
Сундучок оказался совсем не таким, каким его представлял себе Доржи. Крышка у него совсем горбатая — поставь на нее чашку чая, разольется. Он обит железной лентой, как бочонок обручами перетянут. И настоящий замочек — маленький, с наперсток, — висит на нем, словно что-то караулит.
— Дядя Хэшэгтэ, почему вы свой сундучок в Боргое оставили?
— А ты попробуй его поднять. Не смотри, что маленький, он тяжелый. От вас буду уходить, тоже оставлю. Потом попрошу с кем-нибудь его отправить.
— А что в этом сундучке? — глаза у Доржи заблестели.
— Ты лучше спросил бы не о Том, что в сундучке лежит, а о том, какая пища в этом котле варится, — дядя показал на свою лысеющую голову, а когда увидел расстроенное лицо мальчика, добавил: — Ничего, потерпи… Открою — увидишь.
В тот день Доржи напрасно ждал — дядя так и не открыл сундучок. Что бы сказал дядя, если бы Борхонок начал рассказывать улигер, дошел до самого интересного места и вдруг сказал бы: «Завтра приходите, завтра закончу»? Разве хорошо было бы? Как дядя этого не понимает! Лучше бы он совсем не привозил этот сундучок. Конечно, в нем спрятаны какие-то очень интересные вещи, иначе дядя не стал бы его всюду возить с собой, не стал бы запирать настоящим замком. Неужели он так и не откроет? Может быть, ключик потерял в дороге? Мальчику почудилось, что в сундучке кто-то тихо-тихо посвистывает, шевелится.
…Вот открывает дядя Хэшэгтэ свой сундучок. Внутри сундучок сделан из чистого золота, сияет так, будто в нем очень долго жило само солнце. На крышке звезды горят… Их так много, как на зимнем небе. Горят, хоть зажмуривайся…
Из сундучка выпорхнули три белые-белые птицы. Головки у них алые, лапы желтые. Сели птицы на золотую крышку. И вот — одна загадки стала загадывать, вторая песенку запела, а третья начала улигер рассказывать. Доржи очень захотелось погладить их, приголубить. Потянулся рукой, но птицы вспорхнули: и улетели…
Доржи открыл глаза. Было еще рано, даже мать спала. На сундучке по-прежнему висел замочек… Может быть, и в самом деле в сундучке живут птицы, которые и петь и говорить могут. Ведь рассказывают же, что в городе люди ходят с умными птицами и те все-все говорят человеческим голосом. Если пройдет глупый человек, птица узнает и при всех скажет… Сидит птица на красивом сундучке, и сундучок сам все время песня поет. Может, и у дяди такой сундучок? Может, он его в городе купил?
Доржи опять заснул. Его разбудила мать, когда солнце было уже высоко.
— Сыночек, вставай. Дядя сундучок открывать собирается.
Дядя Хэшэгтэ сидел у юрты на войлоке. Он снял замочек, открыл крышку… Правда, крышка оказалась не золотая и птицы оттуда не выпорхнули, а все равно интересно. Не зря Доржи ждал так долго — целый день и ночь.
Дядя вынул из сундучка маленькие молоточки, ножницы, разные острые железки — не то ножички, не то шилья, маленькую — с ладонь — наковальню и такой же маленький мех. Настоящий мех, как в кузнице у Холхоя, с кожей по бокам, с тонким птичьим горлышком. Потом он вынул стеклянные пузырьки — в одном было что-то белое, вроде муки, в другом — зеленые-зеленые камешки, в третьем — розовая водичка.
Прибежали мальчики. Откуда они узнали? Будто их звали… И Аламжи, и Затагархан, и Шагдыр, и Даржай — все здесь. Как бы дядя не рассердился и не прогнал Доржи вместе с ними…
Дядя вынул из сундучка почти готовые ножны, вытащил ножик. Острым шилом начал водить по ножнам. То одной железинкой царапнет, то другой. Мелкие-мелкие стружки падают на войлок.
— Доржи, скажи маме, пусть чаю принесет.
Дядя уже два раза успел попить чаю, а конца работе не видно. Как у него рука не устала, как шея не заболела? Нет, Доржи не нравится — слишком долго делаются серебряные ножи.
— Дядя Хэшэгтэ, кому вы делаете ножи? Кто будет их носить?
— А тебе что — завидуешь тому, кто будет носить? Тот будет, кто книг не читает, а в хлеву рогатых коров считает… Понял?
— Понял… Это вы про таких, как Мархансай-бабай?
— Хорошо, если понял… Не старайся украшать себя серебром да золотом. Что с того, если люди скажут: «Ах, какой дорогой ножик у этого Доржи!» Пусть лучше скажут: «Какой умный и добрый сын у Банзара!»
— Умным и добрым хорошо быть?
— А как же! Я много всяких людей повидал. Умных и добрых, глупых и злых. Помню, давно это было, в одной богатой свадьбе. Там гостей было несколько сот человек. Жених здоровый, краснорожий, как ваш Тыкши Данзанов. Сапоги на нем были из городской кожи, такие сапоги, может, только царские дети носят. Халат из дорогого шелка. Золото, серебро на нем так и блестело — на каждом пальце по два кольца… А вот умом он не сверкал…
— Глупый был?
— Уж не знаю, глупый или какой, а людей насмешил. У нас есть обычай, сам знаешь, испытывать у жениха силу и мудрость. Ну, когда силу испытывали, он выдержал. А вот когда дело дошло до мудрости — на каждом шагу спотыкался.
— Его что, бегать заставляли?
— Что там — бегать! Через три горы надо было перепрыгнуть. Встал один старик и спросил: «Скажите добрым людям: что мы называем тремя самыми дорогими драгоценностями на свете?» Жених думал-думал, моргал-моргал, в затылке почесал и ответил: «Если в моем табуне поискать, то там белоногий жеребец есть. Мне за него полсотни золотом предлагали… Если это насчет украшений, то богаче, чем у меня, ни у кого не найдете… Если о женщинах эта загадка, то краше моей невесты не сыщете». Вот уж посмеялись гости! Когда поутихли, один из гостей объяснил: «В младенчестве нет ничего дороже молока ласковой матери; в зрелые годы нет ничего дороже заветов мудрых стариков; в Преклонном возрасте нет ничего дороже похвалы и почета родного народа». Так надо было ответить.
Мать Доржи снова принесла чай.
— Нагса, они вам мешают, работать не дают, — Цоли кивнула на мальчиков.
— Нет, пусть сидят… Хорошее слово работе никогда не мешает.
— Что вы окружили дядю? Хоть бы сели подальше.
— Ничего… Может, поглядят — и делу научатся. Я сам так же учился у Баллы, отца этого Затагархана. Я был старше Бадлы на пятнадцать лет, а сидел перед ним, как провинившийся послушник перед грозным ламой.
— А вы, дядя, и правда любите ножи делать? недоверчиво спросил Доржи.
— Конечно, люблю, как не любить! Приятно же, когда простые серебряные пластинки превращаются в узоры. Этими узорами много можно сказать. Того языком не скажешь, что узорами можно. Да и кормить себя надо…
— Мой отец, говорят, хорошие ножи делал… Только один раз будто бы золото и серебро испортил. Тогда его сильно избили, — проговорил Затагархан.
— Нет, Затагархан. Его не за то избили, а за то, что узоры на ноже заговорили.
— Не бывает, чтобы узоры заговорили, — Шагдыр презрительно поджал губы.
— А ты слушай! — Доржи больно толкнул Шагдыра в бок. — Не мешай.
— Тогда отец твой, Затагархан, еще совсем молодой был, а его уже все знали, слава его далеко была слышна. Далеко было известно и имя богача Тосото. Мучил он людей, дышать им не давал. И вот захотелось Тосото, чтобы твой отец сделал ему нож. Ну, Бадла и сделал. Ни сил, ни умения не пожалел, постарался. Богачу нож понравился, он его долгие годы носил. И до самой смерти носил бы, если бы один умный человек не прочитал узоры на ножнах.
— Как прочитал? — спросил Даржай. — Это же не книга!
— Тот нож был интереснее многих книг, мой мальчик. Вся жизнь, все жестокости этого богача были на этом ноже.
— Вот видишь, — Доржи снова толкнул Шагдыра. — А ты не веришь. Было же…
— Не деритесь, а то перестану рассказывать, — строго проговорил дядя. — Вместо восьми колец на тех ножнах было восемь тугих петель. А вместо вот этих восьми пуговок было восемь цветков — восемь девушек, которых богач Тосото загнал в могилу. Люди смотрели на нож и про себя называли девушек по именам. Потом Бадла изобразил на ножнах пустую чашку, и все поняли: это народ желает, чтобы богач разорился, чтобы у него нечего было даже в чашку налить. И еще на том ноже было видно, как в очаг льется вода. Это знак того, что у богача погаснет в очаге огонь. Вот за это твоего отца, Затагархан, и избил богач, когда узнал.
Хэшэгтэ умолк. Дети смотрели на него, ждали, что он еще скажет.
— Да, настоящий мастер был твой отец… И тебя люди хвалят, может, в отца пойдешь. А тот все умел своим резцом сказать.
Дядя Хэшэгтэ стал дуть маленькими мехами на уголек, тлевший между камней.
Доржи жалко, что дядя Бадла умер. Если бы не бык Мархансай-бабая, он и сейчас Жил бы, сидел рядом с дядей Хэшэгтэ на этом войлоке, чай пил. Сам объяснил бы, как заставил свой узоры разговаривать, как такие ножи делал, что их словно книгу читают. Дядя Ешй тоже недавно заставил свой хур словами разговаривать на богатой свадьбе. У Эрдэмтэ-бабая, у покойного Баллы, у дяди Еши — у всех умелые руки! «Все, о чем думает умная голова, все могут высказать умные руки». Кто это сказал? Доржи не помнит. А ведь правильные слова. Бывает даже так: кто-нибудь боится сказать словами — говорит руками. Тот ножик богатый хозяин долго носил, всем показывал — и не знал, какие это узоры… А что, если мать вместе с соседками сложит про Мархансая обидную песню какими-нибудь скрытными словами? Мархансай-бабай не догадается, что это про него, станет ходить по улусу пьяный и орать эту песню! Вот смешно будет!
— Когда ты совсем маленький был, в овечьей шкуре лежал, — снова заговорил дядя Хэшэгтэ, посмотрев на Затагархана, — отец тебе нож сделал и сказал: «На этих ножнах я сыну свое завещание оставил. Вырастет, взглянет на нож — и, если умный будет, поймет, что отец хотел ему сказать». Принеси, Затагархан, этот нож. Посмотрим, может, и прочитаем отцовское завещание.
— Нет у нас этого ножа… Мы его ламе Попхою отдали.
— Попхою? Зачем?
— Он сказал, что на этот нож злые духи зарятся.
— Не духи, а Попхой на него позарился, вот что, — сверкнул глазами Хэшэгтэ.
Старик рассердился, встал, опять сел, взял ножницы, отбросил их, потянулся за шилом.
Даже маленький мех недовольно вздохнул.
— Зря отдали вы Попхою. Он-то знает, что ножу цены нет.
Доржи внимательно следит за умелыми пальцами дяди Хэшэгтэ. Нет, не зря ковыряет он шилом, не зря падают мелкие светлые стружки — на ножнах получилась настоящая серебряная бахрома из тонких-тонких шелковых ниточек, из серебряной паутины. Настоящая кисточка! Хотя и долго делается, а видать, хороший ножик будет. Наверно, сам Бадла похвалил бы…
— А вы, дядя Хэшэгтэ, можете так сделать, чтобы узоры заговорили?
— Нет, Доржи. Я не умею…
— Нож скоро готов будет?
— Какой ты быстрый, Доржи… Наша работа долгая. Эти кольца еще десять дней ковырять нужно. Потом надо золотом покрыть, молитву прочитать, чтобы хозяин на добрых людей его не обнажал… Вот какая у нас долгая и трудная работа.
Так прошел этот день. Мальчики до самого вечера не отходили от дяди Хэшэгтэ, но он больше ничего не рассказал.
Глава четвертая
БУДЕШЬ ЛИ ТЫ ПОМНИТЬ МАТЬ, СЭСЭГХЭН?
Аюухан становилось все хуже и хуже. Она не могла уже поднять голову, лицо вытянулось, стало землистого цвета Руки, худые и длинные, беспомощно лежали вдоль тела. На пальцах были видны все косточки, будто бусинки, нанизанные на жилы. Только в глазах еще теплилась жизнь.
Аюухан позвала сына и рассказала ему, как нужно стирать. «Зачем это?» — удивился Затагархан. Мать заговорила еще тише:
— Выстирай рубашку, выкупай сестру и приходи сюда.
Затагархан выстирал рубашонку, умыл Сэсэгхэн в солончаковой воде, расчесал ей волосы большим самодельным гребнем.
— Теперь слушай меня, сыночек, — сказала Аюухан, когда он пришел с сестрой в юрту. — Я скоро умру, и вы тогда совсем осиротеете. Ты большой мальчик, тебе будет легче, а она… — На глазах матери Затагархан увидел слезы. Ему тоже захотелось плакать, спазмы сдавили горло. — Отведи ее к Мархансаевым, — продолжала больная. — Они богатые, очень богатые. Должно же быть у них сердце, не бросят они сироту. Много ли ей надо? Крышу над головой и кусок со стола… Знаю, что с малых лет будет слышать ругань, но хоть сыта будет. Мархансай обещал мне при народе позаботиться о сиротах, когда его бык вашего отца убил.
Аюухан заплакала, обняла дочь, прижалась к ее щеке жаркими, сухими губами.
— Может быть, к тебе придет когда-нибудь счастье, доченька… Как я хочу верить в это…
Затагархан усадил сестренку в тележку. Мать еле слышно сказала на прощанье:
— Скажи Мархансаю: я молюсь за его добрую душу…
Затагархан медленно тащит за собой тележку с сестренкой. Доржи подталкивает сзади. Они еще издали услышали, что в юрте Мархансаевых кто-то жалобно плачет. Наверно, Гунгар. Ребята не помнят, чтобы из этой юрты когда-нибудь слышались смех, песня, тихая мирная беседа. И Сэсэгхэн будет каждый день плакать, и никто не утешит ее…
Когда дети вошли в юрту, Мархансай сидел у очага без рубашки, вытянув к огню ноги. На грязной груди у него болтался на шнурке божок в рамочке. Сумбат и Жалма мазали Мархансаю спину каким-то маслом.
— В гости пришли, что ли? — насмешливо спросил он Затагархана.
Мальчик остановился в дверях, не зная, с чего начать. Потом собрался с духом и сбивчиво проговорил:
— Мархансай-бабай… мать у нас умирает… Она просит, чтобы вы взяли Сэсэгхэн… Я буду приходить и смотреть за ней, пока она маленькая. Вы же обещали матери… А ей совсем плохо…
Мархансай привстал. Глаза его, не мигая, уставились на Затагархана.
— Что? Я обещал? — прохрипел он. — Почему я должен воспитывать чужих детей? Или в Селенгинской степи, кроме меня, других людей нет? Забери, девчонку! Слышишь, немедленно забирай, и чтобы вас здесь не было!
— Мархансай-бабай, не оставьте нас… Мать молится за вашу добрую душу…
— Молится? Пусть молитвами и кормит вас. Щенка от злой собаки приютил бы, от него польза будет, — а от девчонки что? Да и хворая она… Мать ненадолго переживет.
Затагархан с надеждой взглянул на Сумбат, но та сделала вид, что ничего не слышит.
Мархансай сплюнул в туесок желтую табачную жвачку и прогнусавил:
— Эй, Жалма, покорми чем-нибудь этих бродяг да проводи, чтобы собаки не разорвали.
Затагархан еще раз посмотрел, на Сумбат: «Неужели не скажет доброго слова?» Сумбат пошевелила тонкими губами и выговорила:
— У нас и без нее полна юрта сирот.
— Оставьте девочку, — попробовала заступиться Жалма. — Ведь небольшой расход…
— Замолчи! — рассвирепел Мархансай. — Я уже сказал: пусть убираются.
Сэсэгхэн испугалась его красных свирепых глаз, заплакала, спряталась за спину Затагархана и выглядывает оттуда… Они смотрят друг на друга: с ненавистью — самый богатый человек Ичетуя, хозяин тысяч голов скота, и со страхом — маленькая девочка, мать которой не сегодня-завтра умрет.
Доржи выбежал из юрты. Глаза его, полные слез, ничего не видели. Следом за ним понуро вышел Затагархан. Они бережно усадили в тележку девочку и побрели к дому.
— Ну что? — спросила Аюухан.
— Сказал, что щенка бы взял, а наша Сэсэгхэн ему не нужна.
Затагархан заплакал. Плакали Тобшой, Аюухан. Плакал и Доржи.
— Что же будет с тобой, доченька, после моей смерти? — с глубокой тоской проговорила Аюухан.
— Если есть на свете лед, который никогда не тает, то это сердце Мархансай-бабая, — сказала с печалью в голосе бабушка Тобшой.
Доржи пошел домой. В ушах звучали жестокие слова Мархансая: «Щенка от злой собаки приютил бы. а девчонка не нужна».
Все в улусе сразу же узнали, что Мархансай выпроводил Затагархана и Сэсэгхэн. Люди возмущались: ведь когда бык запорол мужа Аюухан, Мархансай божился, что будет заботиться об осиротевшей семье. Во многих юртах проклинали Мархансая, вздыхали и о судьбе Затагархана и его сестры, думали, как помочь им в беде.
К Аюухан пришли Димит и Эрдэмтэ.
— Мы приютим девочку, — сказала Димит.
Аюухан с благодарностью взглянула на них и тихо сказала:
— Спасибо, дорогие. Но у вас ведь и без нее полна юрта детей.
Когда Доржи рассказал дома, как Мархансай обошелся с девочкой, дядя Хэшэгтэ сказал:
— Правду говорят в народе: как из камня не приготовишь обеда, так и от богача не дождешься доброго дела. Возьми, Цоли, девочку себе.
— Как же я могу без Банзара?.. Приедет, скажет, что делать.
…Четыре дня прошло, как Ухинхэн уехал в Кяхту. Эти дни для Аюухан как четыре долгих года… Все думы у нее теперь о русском докторе Марии: может быть, она все-таки принесет исцеление.
Солнце остановилось над юртой, и Аюухан почувствовала, как стало согреваться ее иззябшее тело. Ведь многие выздоравливают, а. ей, видно, грехи мешают. Да, грехи… Аюухан вспомнила, что в детстве дразнила старуху, у которой был пестрый язык… Все боялись этой старухи, — никто не видел, правда, пестрых пятен на ее языке, но знали, что если старуха с пестрым языком пожелает человеку зла, не миновать несчастья. Потом — обидела Эрдэмтэ. Есть еще грех: когда она была совсем молодой, Попхой-лама схватил ее за руку. Она вырвалась и про себя сказала: «Бесстыдник в красной одежде!» Простят ли ей боги такое обращение со святым ламой? Вспомнила и такой случай. Другой лама принес однажды порошок и сказал: «Я даю тебе чудесное лекарство от всех четырехсот четырех болезней, которыми болеют грешные люди… Оно приготовлено из языков трех самых хитрых лисиц с трех высоких гор, из ржавчины кинжала, которым были убиты триста человек, из крови женщины, родившей трех близнецов-сыновей, из кала собаки, сушенного тридцать три года…» Когда лама отвернулся, Аюухан выплюнула порошок. Да, грешна она, очень грешна.
Не оставляет ее дума о маленькой Сэсэгхэн. «Взглянуть бы на нее через пятнадцать лет… Какая она будет? Наверно, станет самой красивой девушкой улуса. Будет ли она помнить свою мать? Пожалуй, не вспомнит, забудет, маленькая она еще у меня».
После полудня Аюухан почувствовала себя лучше. Она была бы совсем здоровой, если бы не теснило в груди. «Это оттого, что у меня немного болит горло, — успокаивала она себя. — Хоть бы кто-нибудь догадался откинуть полог юрты… Увидела бы степь, соседей. От свежего воздуха дышать стало бы легче».
Аюухан посмотрела вверх. Через дымоход виднелось небо, круглый кусочек голубого шелка. А по шелку, как иголка в руках мастерицы, мелькает что-то быстрое и темное… наверно, над юртой пролетают веселые, болтливые ласточки.
Аюухан захотелось пить… Воды бы со льдом из колодца… Тобшой сидит на жгучем солнце недалеко от юрты, мнет шкуры, которые прислал Мархансай.
«Когда же Затагархан станет совсем взрослым, женится? Когда же отдохнут руки нашей бедной старухи? А почему в юрте нет Сэсэгхэн? А, она около бабушки, — догадывается Аюухан. — Они о чем-нибудь рассуждают. Смешно — старый да малый… А где Затагархан? Да, он ушел в лес за сосновой хвоей, чтобы я распарила распухшие ноги. До леса далеко, проходит весь день…»
— Воды, дайте воды, — попросила Аюухан.
«Они слышат, но не хотят подойти. Я надоела Тобшой». Вдруг она поняла: у нее нет голоса, ее не могли услышать. «Что со мной? Скорее бы приезжал русский доктор». Все эти дни Аюухан казалось, что она слышит стук телеги Ухинхэна.
В юрту вошла Сэсэгхэн. Она подошла к кровати и что-то объясняет матери. Аюухан силится понять и не может. «Она, наверно, жалеет меня… Или кушать захотела…»
Сэсэгхэн не хотела кушать. Просто ей в унт попал камешек. Она уже объясняла бабушке, но слепая Тобшой не поняла внучку, которая показывала ей пальцем на ножку. Тобшой даже в жаркий день надевает ребенку унты, чтобы крапива не обожгла, чтобы мухи и пчелы не укусили… Бабушка в ответ протягивала внучке коровий рог с молоком да сметану в чашке, над которой кишели мухи. Вот Сэсэгхэн и пришла жаловаться матери… А мать не встала, не помогла. Девочка горько заплакала.
Аюухан видит слезы дочери. Взять бы ребенка на руки, позабавить игрушкой. Но в глазах потемнело и слабость разлилась по всему телу. «Я даже не могу сказать последнее материнское слово ребенку… Да она и не поймет, маленькая… И слепая Тобшой не узнает мое последнее желание…» Ей хочется поцеловать Сэсэгхэн, но та где-то далеко. Может быть, поманить ее пальцем? Нет, нельзя. Лама говорит: тот, кого зовет умирающий, тоже должен умереть. А Сэсэгхэн должна жить…
«Как скоро наступает вечер… Или это дождь собирается? Почему в юрте появился жидкий серый туман? Кто вошел в юрту? Неужели Мария? Как хорошо, что ты пришла, Мария!» Она, кажется, приняла ее исцеляющее лекарство, сразу будто силы вернулись…
— Воды, дайте воды!
Как тихо идет к колодцу Тобшой! Аюухан чудится, что она встала с постели, догнала старушку, взяла тяжелое деревянное ведро. Вот она зачерпнула холодной, прозрачной воды. Почему же ведро без дна? Плохо, когда в доме нет хозяина, заботливой мужской руки… Она потянулась к ведру, поскользнулась и упала в колодец… Ой, как глубоко! Она летит и летит вниз, в темноту… Но вот где-то появляется солнечный свет… Нет, это не солнце, это светит ее дочь, маленькая Сэсэгхэн… Но почему она все удаляется и удаляется?..
Сэсэгхэн подошла к кровати матери, взяла со стола чашку и выпила холодный бульон. Потянула туесок с топленым маслом. Мать никогда раньше не разрешала трогать, отбирала, а сейчас даже не смотрит.
Возле матери горит светильник. Огонек манит Сэсэгхэн, тянется к ее пальцам. Сэсэгхэн спрятала руки за спину: огонь, как злой щенок, кусается… Сэсэгхэн взяла со столика шелковый платок, в который была прежде завернута длинная тибетская книга. Уголком платка стала дразнить огонь. Тот рассердился, уцепился за платок и побежал по нему, как золотой жучок.
Сэсэгхэн бросила платок и громко заплакала. Живые язычки заметались у ее ног, Сэсэгхэн затопала на них унтами, и огоньки исчезли. В юрте остался горьковатый, едкий дымок.
Во дворе забеспокоилась Тобшой.
— Посматривай там за девчонкой, пожара бы не наделала. Что-то горелой тряпкой пахнет, — кричит она Аюухан. Но та молчит, и старуха успокоилась.
Шкуры вымазаны гнилой печенкой. Такие шкуры любят собаки. Тобшой боится, как бы они не утащили чужие шкуры: с Мархансаем потом не рассчитаешься. Она палкой отгоняет собак, которых и нет поблизости.
— Иди-ка сюда, внучка! — зовет старушка.
Сэсэгхэн не отзывается. «Заигралась, видно», — > решила Тобшой.
Сэсэгхэн много раз видела, как в светильник добавляли масла. Она осторожно веяла туесок, оглянулась на мать и плеснула в светильник. Он сердито зашипел и погас. Огонь, наверно, спрятался куда-нибудь. Девочка стала искать. Но маленького огонька не видно ни под кроватью, ни под столом. Сэсэгхэн распахнула халат матери. Нет, там нет огонька. Но она нашла то, что разбудило в ней давным-давно забытые воспоминания. Сэсэгхэн осторожно потрогала сморщенную материнскую грудь. А мать не смотрит, не говорит: «Не надо»…
В юрту кто-то вошел.
Сэсэгхэн обернулась и увидела незнакомую белолицую женщину. Та тоже за. метила девочку и вдруг бросилась к ней, подхватила на руки…
В юрте плакали Затагархан и Тобшой. Незнакомая женщина накормила Сэсэгхэн чем-то очень вкусным, чего девочка раньше никогда не ела, и дала удивительную, невиданную игрушку…
Эта игрушка была зонтом фельдшера Марии Николаевны Орловой, жены штаб-лекаря Кяхтинской таможни.
СЭСЭГХЭН — ПО-РУССКИ РОЗА
Ухинхэн увел Марию Николаевну и Сэсэгхэн к себе. Мария Николаевна не может успокоиться: ей все видится покойница и припавшая к ее груди девочка. Ей никогда не забыть глаза этого ребенка, полные страха и тревоги, и то, как доверчиво она прижалась к ней, чужой, незнакомой женщине.
Ухинхэн угощает Марию Николаевну чаем, но она отказывается: не привыкла пить чай, забеленный сметаной, приправленный солончаковой солью и маслом, зеленый кирпичный чай. Она сидит грустная, думает о судьбе Сэсэгхэн. Кто позаботится о сироте, воспитает, подымет на ноги?
О смерти Аюухан сразу же узнали все соседи. Эрдэмтэ, Сундай и Холхой вынесли покойницу из юрты под тележный сарайчик. Около нее поставили Аюша-бурхана, зажгли свечи. Мать Доржи с соседками прибрала в юрте, вынесла проветрить одежду, постель.
Мария Николаевна и Дарима напрели воды. Дарима не умеет говорить по-русски, и они объясняются жестами. В большом медном тазу они выкупали Сэсэгхэн, досыта накормили, напоили горячим молоком, остригли ей головку. Девочка сразу же уснула. Мария Николаевна разрезала свой пестрый платок и наскоро сшила ей платье — длинное, ниже колен.
Женщины переговариваются между собой:
— Видать, добрая, как жалеет сироту!
— Умная и красивая…
Сэсэгхэн проснулась счастливой. Она всматривается в лицо Марии Николаевны, и ей начинает казаться, что это ее мать. Только мать стала совсем другой — здоровой, помолодевшей. И голос у нее теперь другой…
Утром Ухинхэн рассказал Марии Николаевне, как болела Аюухан, как ее лечили ламы и шаманы и, наконец, о том, как Мархансай отказался приютить маленькую Сэсэгхэн.
В юрту одна за другой заходят соседки. Им интересно посмотреть на русскую женщину, которая оторвала Сэсэгхэн от груди мертвой матери. Приходят и просто сказать спасибо за участие, которым их никто не баловал. Некоторые приходят, чтобы попросить русское лекарство.
Мария Николаевна вышла из юрты и села на траву. Ее окружили улусники. Многим хочется поговорить с ней, но они не знают и столько русских слов, сколько пальцев на руке. А жаль, очень много хочется рассказать этой доброй женщине.
Рядом играет Сэсэгхэн. Она довольна. Она еще не может понять всей тяжести горя, которое обрушилось на нее.
Еще накануне Марии Николаевне пришла мысль удочерить Сэсэгхэн. Сейчас она думает об этом. Вспоминает свое детство. Совсем ребенком она тоже осталась круглой сиротой, ее вырастили, воспитали чужие люди. Она не может бросить эту девочку на произвол судьбы… А как отнесется муж? Он хороший, сердечный… Но вдруг не одобрит? Мария Николаевна знает, что ему ответить: «Не ты ли сам много раз говорил о трудной жизни бурят? — скажет она. — Я понимаю, что мы с тобой не сможем изменить общее положение, судьбу народа. Но помочь сироте — наш долг». Потом она расскажет про все, что видела здесь: про бедность, беспомощность, темноту. Он поймет, поддержит ее.
Новое опасение возникает в душе Марии Николаевны: «Мы же не всегда будем жить в Кяхте: Алексея Ивановича могут перевести по службе. Тогда придется оторвать девочку от родных мест. Она забудет родной язык, может потерять брата… Вправе ли мы обречь на это ребенка?»
И все же Мария Николаевна твердо решила: если бабушка и брат Сэсэгхэн согласятся, она заберет девочку с собой.
Аюухан похоронили на следующий день в час коня[40]. Молитву над покойницей прочитал отбившийся от дацана лама Хурдан Тугут. Народу собралось много. Каждый постарался чем-нибудь помочь сиротам: принесли масла, молока, хлеба. Добрые, участливые слова слышит от соседей и старая Тобшой.
Не пришел только Мархансай. Он сидел в своей юрте, мрачный, раздраженный, досадовал, что не взял в дом Сэсэгхэн. Если бы он приютил сироту, Тобшой до смерти работала бы на него даром, овчины обрабатывала бы. Да и из Затагархана вышел бы второй Балдан… Парнишка станет хорошим плотником, не пришлось бы платить за починку телег, саней… А лет через пять и Сэсэгхэн смогла бы овец пасти… И люди сказали бы, что Мархансай не такой уж бессердечный, как иные думают. Да, просчитался он, что не взял в дом сироту…
Вечером Мария Николаевна должна уехать домой.
Там ее жду? неотложные Дела, маленькая приемная дочка Стэмка, больные. Она попросила Ухинхэна поговорить с Тобшой и Затагарханом, передать им ее желание удочерить Сэсэгхэн. «У нас тоже лишнего нет. У начальства наша семья не в почете. Но сироту воспитаем как родную дочь…»
Тобшой сначала молча обдумывала, а потом согласилась. Затагархан же воспротивился разлуке с сестрой. Но соседи образумили его:
— Подумай, ее будут лечить.
— Она будет сыта, одета, ее будут учить грамоте.
— Ты сам еще мал, сам нуждаешься в уходе. Разве ты сумеешь вырастить больную сестренку?.. И мы бы не отпустили ее далеко, но, видишь, каждого свои дети связали, у каждого нужда в юрте.
— Вспомни, что сказал тебе Мархансай, когда ты пришел к нему.
Так говорили пожилые люди, и Затагархан послушался их.
К вечеру Ухинхэн запряг лошадей. Провожать Марию Николаевну собрался весь улус. Затагархан смахивал слезы.
А Сэсэгхэн уже давно на телеге. Ее окружили женщины.
— Что означает «Сэсэгхэн»? — спросила Мария Николаевна.
Женщины смотрят друг «а друга, не понимают, о чем она спрашивает…
Но вот Димит, жена Эрдэмтэ, догадалась. Она торопливо сорвала красный цветок и протянула его Марии Николаевне.
__ Это… Это… Сэсэг… Сэсэгхэн, — сказала она.
— A-а… Роза! — обрадовалась Мария Николаевна.
— Роз! Роз! — заулыбались, зашумели женщины.
…Гром грянул неожиданно: никто не заметил, как собралась гроза. Когда подняли головы, увидели: небо стало черно-синим… Закапал крупный дождь. Едва успели укрыться под крышей, как начался ливень. Дождь шел долго, а люди все беспокоились, как бы он не перестал так же неожиданно, как начался. Ведь все забыли, когда последний раз шел дождь.
— Дождь как раз вовремя. Покос полило, трава будет, — сказал Эрдэмтэ.
Дарима постлала кошму «а мокрую телегу. Тобшой поцеловала внучку и Марию Николаевну.
Ухинхэн натянул вожжи. Из-за уходящей тучи глянуло ясное, словно умытое, солнце. Ухинхэн хлестнул лошадь и направил ее к дороге, через которую, как нарядные ворота, была перекинута цветистая радуга…
Затагархан и Доржи взяли под руки старую, как-то вдруг ослабевшую Тобшой и повели ее в опустевшую юрту.
Доржи положил руки на плечи друга, глянул в его осунувшееся от горя лицо.
Мальчику захотелось ободрить, утешить Затагархана — ведь ему так тяжело!
— Пойдем к нам, — тихо сказал Доржи.
Затагархан согласился.
Они провели вместе весь дань.
Вечером мальчики помогали матери, доившей коров, отгоняли от коров телят, разжигали в загородке дымокур, чтобы комары не беспокоили скот. Затагархан ушел поздно.
Доржи подсел к дяде Хэшэгтэ.
— Как теперь станет жить Затагархан? Трудно ему будет… — Доржи задумался. — Дядя, — спросил он, — а где ваши родители?
— Я маленький был, когда они умерли.
— Кто же вас научил грамоте?
— Да так… чужой человек.
— Добрый, наверно, был?
Хэшэгтэ улыбнулся.
— Не добрее Мархансая.
— Как же так? — удивился Доржи. — А я думал…
— Да. Дорого обходилась мне каждая буква. Целый год у него даром овец пас. Покажет мне бывало одну букву, потом скажет: «Если хочешь узнать следующую, паси десять дней». Так год и прошел. Думаешь, легко было?
Доржи от удивления даже рот открыл.
— Почему же он так поступал?
— Хэ, почему… Не то что батрака грамоте учить, письмо соседу не хотел прочитать даром. Любил, чтобы его упрашивали, подарками одаривали. Придут без подарка — откажется, скажет, что очки потерял… Принесут подарок — Очки сразу найдутся. И приносили: людям же надо знать, что в бумаге сказано, может, Что важное. Вот какой человек был.
Доржи от кого-то уже слышал про этого человека. Кто же ему рассказывал?.. Нет, он, наверное, ошибся. Доржи занялся очагом — дрова в нем чуть Тлели. Но вот наконец дрова разгорелись. Появились красные, желтые, синеватые языки пламени… «Да ведь это Эрдэмтэ-бабай рассказывал! Ну да! Только тогда были не буквы, а краски, и нужно было не овец пасти, а за каждую краску терпеть пятнадцать щелчков».
Дядя Хэшэгтэ стал для Доржи ближе, еще дороже. «Какая счастливая дорога привела тебя к нашей юрте, дорогой и добрый дядюшка Хэшэгтэ! Живи у нас долго-долго. Будешь в нашей семье самым почетным, самым главным», — мысленно обращается к нему Доржи.
НАКАЗ ДЯДИ ХЭШЭГТЭ
На третий день после похорон Аюухан в юрту к Банзаровым вбежал Затагархан. Его глаза были заплаканы.
— Что с тобой? — участливо спросила мать Доржи.
— Мархансай бабушку обманул: сказал, что она плохо шкуры обработала, а сам другие подсунул…
Хэшэгтэ рассердился.
— Пойдем со мною к Мархансаю, Доржи.
В юрте были и пастухи и слуги. Мархансай пил чай.
— Я знаю тебя давно, Мархансай, — громко сказал Хэшэгтэ. — Ты еще в детстве был жадный. Пока, бывало, не отберешь у нас все бабки, спать спокойно не мог. Кто здесь богаче тебя и тайши? А тебе все мало! Слепую старуху обманываешь, бессердечный ты человек. А с сиротой как поступил? Священных богов не боишься! Ты обязан был позаботиться о сироте.
Мархансай молчал, только лицо его все больше наливалось кровью… Хэшэгтэ продолжал:
— Ты думаешь, что тебя все уважают и любят. Как бы не так! За что тебя уважать? Незнакомая русская женщина приютила сироту. А ты? Забыл, что и твой сын может остаться сиротой? Забыл народную мудрость: «Тело — тень, богатство — роса»? И сильный слабеет, и богатый, случается, становится нищим.
Никто еще так не разговаривал с Мархансаем. Даже сам тайша, когда Мархансай был явно виноват, не упрекал его такими словами.
Мархансай стал красный, как кусок сырого мяса. А потом вдруг закричал:
— Не тебе меня учить! Как ты смеешь, бездомный босяк!..
— Я сказал то, что вижу и думаю. Не умею, как иные, плевать в спину и хвалить в лицо.
Хэшэгтэ часто говорил Доржи, что слова, сказанные двадцати ушам, тяжелее, чем те, что сказаны только двум.
Мархансай понимал это и рассвирепел еще больше.
Как только Хэшэгтэ с Доржи ушли, Мархансай оседлал лошадь и помчался к Тыкши Данзанову. Он ворвался к нему, разъяренный, как зверь.
— Какой же ты зайсан? — закричал он с порога. — Тебе только за чужими бабами бегать! Настоящего порядка установить не можешь! Забыл, что у народа должен быть старший, так же как у шубы должен быть воротник?
Мархансай перевел дух и вновь стал кричать на оторопевшего зайсана:
— Это ты виноват, что какой-то нищий Хэшэгтэ, у которого нет даже слепой собаки и хромого ягненка, оскорбил меня, Мархансая!.. Да я у самого белого царя в почете, а он облил меня грязью, очернил при всяком сброде.
Мархансай не давал Данзанову слова сказать.
— Или ты наведешь порядок, или… я найду крепкую узду, покажу тебе середину дороги. Кончатся для тебя хорошие Дни…
Мархансай рассчитывался с Тыкши за все сразу — и за то, что тот выиграл у него кобылу, и за обидные слова, сказанные Данзановым в день скачек, и, главное, за неуважение к нему соседей.
— Вон сколько развелось саврасых без узды — всякие Ухинхэны, Еши…
В тот же день Данзанов явился к Банзаровым. Он не слез с коня, не зашел в дом.
— Эй, Банзаровы дома?
Цоли вышла к нему.
— Муж дома?
— Нет его, зайсан. В карауле он.
— Хэшэгтэ Нуктуев у вас? Позови его.
Хэшэгтэ вышел. Тыкши стал кричать:
— Ты зачем сюда приехал? Кто тебя приглашал? Как смел Мархансай-бабая перед всеми позорить? Ты кто — судья или большой чиновник, чтобы решать, кто прав, кто виноват? Немедленно убирайся отсюда, а то плохо тебе будет, дурная голова. До седых волос дожил и не образумился…
— Подождите, зайсан. Объясните: что я неправильного сказал Мархансаю?
— Замолчи, слушать тебя не буду… Поли, если он останется здесь, отвечать будете вы. Еще казаками называетесь… Пятидесятник ашабагадского караула… Пожалуюсь атаману, он твоего Банзара по головке не погладит. — Тыкши повернул коня и поскакал, провожаемый всеми собаками Ичетуя.
— Я не хочу делать вам неприятности, — задумчиво проговорил Хэшэгтэ. — Нужно уходить.
— Не уезжайте, дядя Хэшэгтэ. Если зайсан придет, мы скажем, что вы давно уехали, — вмешался Доржи.
— Поживите хоть несколько дней, — уговаривали и Бадма с Харагшаном. — Мы вас спрячем.
— Нет, дорогие мои… Я ни в чем не виноват. А невиноватые не прячутся.
— Что за скверный человек этот Тыкши! — покачала головой мать.
— Ругать его бесполезно. Не упрекаем же мы ворону за то, что она каркает, а не поет соловьем… Его не переделаешь. Надо уходить, я и так загостился.
Хэшэгтэ сложил свои пожитки, оделся. Попил чаю на дорогу. Мать завернула ему мяса и масла, принесла теплые носки и рукавицы. Он взял палку, поцеловал ребятишек. На прощанье сказал Доржи:
— Я передал тебе, Доржи, что мог. Но все это — только первый пригорок, первый твой шаг к знаниям. Учись русской грамоте. Будешь знать ее — крылья у тебя вырастут.
Старик замолчал. Потом вновь заговорил:
— Среди русских много умных людей с хорошей душой. Я пойду сейчас по улусам и всюду буду рассказывать про русскую женщину Марию, которая взяла в свою семью сиротку бурятку. Пусть радуются люди ее доброму сердцу. И слушай меня, Доржи. Всем, кто откроет мне полог своей юрты, я буду рассказывать о богаче Мархансае. Пускай никто не подъезжает к его коновязи! Пусть все честные люди сторонятся его!
Он еще раз поцеловал ребятишек, пожелал всей семье сытно и тепло жить.
Мальчики и мать проводили его до мостика через Ичетуй. Дядя ушел на север, в незнакомые дали…
А ведь дядя так и не успел ножны золотом покрыть, не услышал Доржи и его молитвы о том, чтобы хозяин не поднимал ножа на добрых людей…
Когда дядя скрылся за поворотом дороги, Доржи разрыдался, как маленький…
Через несколько дней приехал молодой парень и увез дорогой сундучок, который постоянно напоминал Доржи о его умном, хорошем дяде Хэшэгтэ.
У ТВОЕГО ОТЦА ЕСТЬ НАГАЙКА
Дядя Хэшэгтэ рассказал Доржи много смешных небылиц, трогательных легенд и чудесных улигеров. Он не жалел сил, чтобы научить мальчика грамоте. Самое интересное на свете, говорил дядя, — это книги.
Для неграмотного книги — что? Так, пустые крючочки на бумаге, рогатые и хвостатые загогулины. А для грамотного — мудрые наставления, описания далеких стран, жизни богов и баторов, загадки и сказки или грозные повеления высоких нойонов.
Как говорил Хэшэгтэ-нагса? Где-то далеко и давно жил ученый человек. Он написал мудрую книгу. Сам он, может быть, уже умер, а книга его все живет, люди ее читают, и человек, как живой, со всеми разговаривает… Понравились Доржи эти слова. Дядя Хэшэгтэ зажег у него в душе огонек, который всю жизнь теперь не погаснет, такое окно открыл, которое никогда не захлопнется.
И еще дядя Хэшэгтэ рассказал, что у русских много хороших книг. В тех книгах обо всем написано — что было, есть и что еще только будет. Каждая страница, верно, с золотой буквы начинается. Хоть бы кто-нибудь одну страничку потерял. Нет, не теряют. Наверно, пуще глаза берегут эти книги.
Может быть, надо было удрать тайком из дому, уйти с дядей? Ходили бы они везде вместе, смотрели, как люди живут… Доржи все кожи, все серьги увидел бы, которые Хэшэгтэ-нагса сделает, все его мудрые слова запомнил бы… А потом, если бы соскучился без матери и отца, без братьев и товарищей, без своей Хоройшо — самой горластой собаки улуса, прибежал бы домой. В Ичетуй каждый, наверно, дорогу покажет…
По матери он скоро соскучился бы. Такой мамы ни у кого нет. Она угадывает даже то, чего Доржи и сказать не успел. Едва замерзнут у негр ноги, как она протягивает теплые носки; только проголодается, как она ставит перед ним чугунок с едой. Издали увидит Доржи и сразу узнает, с какой новостью он бежит домой. Все по лицу у него читает, как грамотный по книге. Необыкновенная мать у Доржи!
Но Доржи не может во всем слушаться мать. Она не велит Доржи ссориться с мальчиками. Особенно наказывает дружить с Даржаем, сыном Ухинхэна. «Вы с ним в один день родились, — говорила она. — Ты утром, а Даржай к вечеру. Мать у него заболела, так я вас обоих грудью кормила. Значит, Даржай тебе вроде брата приходится». Пускай Даржай будет братом. Ну, а если Даржай задается, как же не подраться с ним? Нет, взрослые многого не понимают. Правда, Доржи теперь не до драк. Он из юрты почти не выходит. Все мысли у него о книгах. Даже улигеры Борхонока так, пожалуй, не занимали его, даже о Рыжухе перед скачками столько не думал.
Доржи решил прочесть все монгольские книги, которые лежат в сундуке. Одну за другой вынимал он их из сундука и сидел над ними до самого вечера, пока не темнело в глазах, буквы не становились одинаковыми и, как муравьи, расползались по бумаге. Но раньше Доржи думал, что все книги интересные. А оказалось не так. В сундуке их было много: «Книга предсказаний», «Приключения Гууша-багши», «Приключения Саран-хухы» и другие. В этих книгах описывались похождения богатых баторов, ханов. Вот откуда брал свои улигеры тот важный старик сказитель в синем шелковом халате, который останавливался у Мархансая! Хранилась в сундуке и «Летопись древности», написанная дедом дедушки Доржи. Но в ней совсем уж ничего не было интересного — имена лам и нойонов, описания пожаров, засух, суровых зим.
Может быть, интересные книги лежат на самом дне сундука? Но там остались только тибетские — узкие длинные листы у них не сшиты. На каждом листе раскрашенные изображения богов и богинь. Эти книги завернуты в истлевшие куски шелка. Некоторые лежат в длинных деревянных ящиках, как в гробах. Их никто не читал, они дремлют в шелку и атласе. Кому они нужны? Сколько ни старайся, все равно не поймешь ни одного слова.
Отец рассказывал Доржи истории про жизнь этих книг. Вот, например, самая большая. Эту книгу будто бы украл из тибетского дацана один лама. Говорят, он сначала предлагал за нее верблюдов, груженных золотом. Тибетские ламы не согласились. Тогда он украл книгу. Дедушка Доржи купил ее случайно у какого-то лекаря, и не за караван верблюдов, нагруженных золотом, а за безрогую коровенку… Вот другая книга, дед отдал за нее двух коней. Но дед зря отдал коней — неинтересная книга… Доржи сунул ее в сундук. Больше читать нечего. Потянуло к ребятам.
Услышав голоса мальчиков, Доржи вышел из юрты.
Ребята играли неподалеку — сделали изгородь из палок, а внутрь изгороди положили белые камни. Камни — это пасущийся скот. Самые мелкие камешки — телята и ягнята. Шагдыр играл в сторонке. Слышно было, как он кричал на Гунгара, который выщипывал руками жесткую траву и складывал в маленькие стога:
— Ты опять мало накосил! Зря только арсу мою жрешь, бездельник!
Доржи видел, что Гунгар боится Шагдыра. А тот покрикивал на Гунгара, ну совсем как отец.
— Доржи, иди играть с нами, — позвал Даржай.
— Он с нами теперь не играет. Он ученый — книги читает, — поддразнил Аламжи.
— А разве это плохо? — Доцжи обиделся.
— Мой отец говорит: только ленивые сидят за книгами, — заявил Шагдыр.
Даржай и Аламжи сердятся на Доржи: очень уж гордый стал. Чем бы ему досадить?
— А у нас ночевала тетя Мария, — вдруг вспомнил Даржай. — Она моей матери подарила лапчатые рукавицы — у Них каждый палец отдельно, можно даже иголку держать и шить.
У Даржая живот большой, на руках и ногах цыпки. Он смотрит на Доржи снизу вверх, и ему трудно сохранять гордый вид.
— К нам тетя Мария пришла бы ночевать, только у мае нет чистой, хорошей кошмы, чтобы постелить ей, — тихо проговорил Эрдэни.
— Когда тетя Мария приедет в другой раз, она у нас будет ночевать, — уверенно сказал Доржи.
— Ну да, будет она у вас ночевать… Мой отец хорошо говорит по-русски, — возразил Даржай.
— А мой отец хуже говорит, что ли? — Доржи рассердился.
— Все равно она у вас не станет ночевать. И даже не зайдет, — заявил Аламжи.
— Нет, зайдет. — У Доржи от обиды даже губы задрожали.
— А зачем она зайдет? — насмешливо сказал Даржай. — Твой отец казак, а у тети Марии отец на каторге умер. Она рассказывала. Его, может, казак убил.
— Нет, Доржи, не зайдет она к вам — вставил Аламжи. — Если-узнает, что здесь живет казачий пятидесятник, через порог не перешагнет.
— У вас, Доржи, в прошлом году сотник ночевал? — лукаво спросил Даржай. — Твой отец тогда так старался, что второпях заколол неприкосновенного барана — сэтэра… А если бы приехал станичный атаман? Отец свою голову разбил бы от усердия…
— Ну, да что с тобой разговаривать… Все вы из одной овчины скроены. Еще отцу нажалуешься. А у твоего отца есть нагайка. Ой, боюсь, боюсь!
Аламжи съежился, словно очень испугался. А Даржай стал хлопать в ладоши, прыгать вокруг Доржи.
Мальчики засмеялись.
Доржи сжал кулаки и кинулся на обидчика. Аламжи заслонил Даржая и насмешливо выкрикнул:
— Ты что замахиваешься? Подожди, когда станешь пятидесятником.
— Он будет и сотником. — Даржай высунул голову из-за спины Аламжи и снова спрятался.
— Конечно, будет!
— Да-а… — протянул Аламжи. — Мой отец говорит: казаки налогов не платят. Гордые, шашки носят…
Аламжи повернулся к ребятам:
— Пойдемте купаться, я нашел глубокое место. Ребята побежали, перегоняя друг друга.
Шагдыр взял прут, забрался на спину Гунгара и хлестнул его по ногам. Тот засеменил к дому.
Доржи остался один, присел на камень. «Подумаешь, нашел глубокое место… Без тебя разыщу… А вот буду пятидесятником, и сотником буду. Выше Усачева стану». Доржи зажмурился и представил себе: он въезжает на красивом коне в улусважный, в погонах. Даржай и Аламжи низко кланяются ему… Хорошо!.. Но тут он вспомнил сказку дяди Хэшэгтэ о кичливом зайце, разговор его с отцом о начальниках. Доржи даже покраснел… А что, если тетя Мария и вправду не захочет у них ночевать? Лучше жил бы отец дома, как дядя Ухинхэн. Нет, однако лучше, что отец начальник. «Казаки давно увезли юрты из улуса поближе к своим караулам, а мы остались… Если бы и мы уехали, никто бы меня не дразнил, — подумал Доржи, а потом все же-решил: — Без Эрдэни и Аламжи, без Затагархана и Даржая скучно было бы. Хорошо, что отец оставил нас в Ичетуе».
Доржи больше не сердился на ребят. Ему захотелось побежать к ним, вместе С ними нырять, ловить скользких рыбешек, сделать что-нибудь такое, чтобы все в улусе смеялись. Насмешил ведь он недавно взрослых. Это еще до ухода дяди Хэшэгтэ было. Запряг трех собак в тележку Затагархана, из прутика дугу сделал, колокольчик повесил… Надел старую шляпу, сделал из шерсти усы. Сидел в тележке важно, вроде нойона. Собаки тележку тащили, а он кричал во все горло: «Подати, подати платите! Опять будете на засуху да на бедность жаловаться, У кого денег нет — штаны отберем, у кого штанов нет — рубахи возьмем, у кого рубах нет — воротники от рубах снимем!»
…Когда через несколько дней приехал отец, Доржи впервые не побежал навстречу, впервые не снял седло с лошади, даже не похвастался, что умеет читать монгольские книги.
ТАЙЛАГАН
Дальние улусы уже не раз устраивали шаманские жертвоприношения — тайлаганы, а дождя все не было. Позвали и джидинские улусы шамана Сандана. Назначили тайлаган. Доржи упросил отца взять его с собой.
На вершине высокой горы Баян-Зурхэн горел большой костер. Издали он напоминал кисточку на верхушке остроконечной бурятской шапки. Рядом были разложены два кбстра поменьше. Около костров стояли большие чугуны, наполненные водой.
Когда Сандан кончил свой шаманский танец, мужчины принялись пить араки. Богатые привезли араки в расписных фарфоровых кувшинах, бедные — в берестяных туесочках, глиняных бутылях. Первые чаши были поднесены шаману и старикам. Затем выпила молодежь.
Неподалеку от костра стоял рыжий конь. Вот его подвели ближе к огню и черным платком завязали глаза. К коню подошел Эрдэмтэ с другими мужчинами.
Шкуру убитого коня с головой, копытами и хвостом набили сеном, повесили на высокий березовый столб, головой на северо-запад. Затем был задушен жирный баран. Его шкура вскоре повисла рядом с конской. Шаман взял немного жиру и бросил в костер: угостил духов.
С вершины Баян-Зурхэна ясно видно, что натворила жестокая засуха: на деревьях пожелтели листья, будто сейчас не разгар лета, а глубокая осень; трава редкая, белесая, как истлевшая солома. Кругом тихо — умолкли птицы, даже не слышно гудения пчел и шмелей.
Раньше с горы были видны блестящие ручейки и озера. Казалось, будто они кипят и людям жарко не от далекого солнца, а от этой близкой кипящей воды. Теперь же озера высохли, на их месте остались белые пласты солончака. Отсюда не видно, но все знают: над пересохшими озерами не летают больше неторопливые утки, там стоит неумолчный крик воронья, пожирающего дохлых рыб и лягушек.
Обмелела и Джида. Она бежит теперь узкой спокойной ленточкой. Только по самому берегу тянутся ярко-зеленые невысокие кустики. Эти островки свежей зелени манят и дразнят…
Люди сидят труппами. Вот о чем-то разговаривают разодетые в шелка зайсаны разных родов. Среди них и Тыкши Данзанов.
У большого камня примостились Еши и Холхой. Они говорят о новых жердях для своих тээльников, смотрят на широкий простор, открывающийся с горы. Удивляются, как широки и просторны степи, как обширны долины рек и как мало хорошей земли у простых людей.
— Посмотри-ка, — Еши показывает Холхою на склон ближней горы. Изрезанный клочками покосов и посевов простых улусников, он похож на заплатанный халат.
Доржи уже навострил уши: все ждет, что дядя Еши расскажет какую-нибудь веселую историю. И вот Еши вдруг подмигнул Холхою, показывая глазами на Мархансая, который подходил к ним.
— Я и раньше слыхал про эту корову, но не верил. — Еши сказал так, будто они с утра только об этом и говорили. — Если не брехня, то здорово, конечно. Неужели у нее в самом деле двенадцать сосков и все доятся? А много ли она молока дает?
— Говорят, каждый раз по два подойника надаивают, — в тон ему ответил Холхой. — А в иной день и больше. Доится так будто три раза в день.
— Три раза? — вытаращил глаза Еши.
— Ага. Так ведь у нее вымя вон какое! Вечером, когда корова домой приходит, оно чуть не по земле тащится.
— Вы про чью корову толкуете? — заволновался Мархансай.
— Это в ашабагадском роду, — небрежно бросил Холхой и снова повернулся к Еши.
Мархансай недоверчиво загнусавил:
— Корова с двенадцатью сосками? Не может быть.
А если и есть, так не к добру.
— Хозяин коровы, рассказывают, спрашивал у лам. Те сказали, что плохого в этом ничего не видят. Если бы, говорят, было три, семь, девять — это не к добру. А шесть, восемь, двенадцать — знак того, что хозяин быстро разбогатеет, — ответил Холхой.
— У меня в позапрошлом году теленок с шестью ногами родился, — вспомнил Мархансай.
— То ноги. А здесь соски. И все доятся.
— Нет, нет, брешут. Этого не может быть. — Но голос у Мархансая задрожал.
— Да и МЫ не особенно верим. Чтобы поверить, нужно своими глазами увидеть, своими руками потрогать, — проговорил Холхой равнодушно.
— Я не верю. Нет! — Мархансай махнул рукой.
Но сомнения уже терзают его. Если бы один Еши сказал такое, он и слушать бы не стал, но ведь и Холхой говорит… Родился же теленок с шестью ногами.
— Нет, это бабья выдумка. От баб всякую чепуху услышать можно, — успокаивал себя Мархансай, а сам уже видел чудесную корову. «Это же клад, — подумал он. — Сена ей нужно, как обыкновенной корове, а молока вон сколько дает… А насчет сосков, что ж, у собаки, например, сосков — как у урядника пуговиц, и никто не удивляется. То же и у свиней, которых русские держат. Почему у коровы не может быть? Что собака, что корова — все бессловесные четвероногие твари».
Некоторое время все молчали. Наконец Мархансай спросил у Холхоя:
— Молоко-то жидкое, однако?..
— У кого? А, у той коровы! Откуда нам знать? — пожал плечами Холхой. — Мы того молока не пробовали.
— Должно быть, жидкое, — сам с собой рассуждал Мархансай вслух. — У меня есть одна. Пеструха. Вымя большое, а молоко — синяя водичка. Мы его пастухам даем — арсу заправлять вместо сливок. А вот у Безушки вымя не больше моего кулака, а молоко какое! Нет, от большого вымени проку не бывает.
— Может, и в самом деле так, — согласился Холхой.
— Я-то уж знаю. Да и все подтвердят, — уверенно сказал Мархансай.
Холхой посасывал трубочку. Еши с равнодушным видом смотрел по сторонам. Мархансай вытащил свой кисет, полез за табаком. Как бы между прочим спросил:
— Это в ашабагадском роду? А в каком улусе, не слышали? Можно бы съездить, посмотреть…
— Были бы свободные лошади, почему не съездить, я бы съездил, — отозвался Еши.
— Я тебе дам кобылку, съезди, — неуверенно предложил Мархансай. — Сенокос еще не начался… А тебе все одно делать нечего. Только на хуре бренчишь.
В это время к ним подошел ашабагадский зайсан. Мархансай сразу к нему:
— Верно ли, зайсан, что в вашем роду есть необыкновенная корова?
Корова? Какая?
— У нее двенадцать сосков. И все доятся.
— Что? Двенадцать сосков? Вы что — спите или пьяны?
Холхой, Еши и все, кто был вокруг, громко расхохотались. Мархансай побагровел. От волнения рассыпал табак и даже не стал собирать. Посмотрел на Еши и Холхоя с ненавистью: «Бездельники», — и ушел.
…Вот наконец начинается — камлание. Шаман Сандан встает и идет, качаясь во все стороны, прыгает и приседает. У него железная шапка с рогами, увешанная колокольчиками и связками звонких раковин. Из-под шапки торчат нечесаные волосы. Лицо красное, с шапки свисают кусочки красной и синей материи. Они развеваются от ветра. Доржи подумал: «Сандан-шаман здесь так же прыгает и орет, как тогда в юрте у Аюухан».
В руках у шамана бубен.
Зачем он бьет по бубну то локтем, то коленом? А теперь вот держит бубен так, будто спасается от дождя… Какой противный звук! Зачем шаман замахивается бубном? Собирается бросить его? Взрослый человек, а кривляется.
Доржи вслушивается в заклинания, которые хрипло выкрикивает Сандан:
— Эхэ сагаан, тэнгэри, хозяин гор, тэнгэри! С шумом крылатым опустись, с ветром черным и ураганом состязаясь, опустись! Хозяин тайги, тэнгэри! С шумом и треском опустись, хозяев рек и озер опережая, опустись! О-о! О-о! О-о! — Изо рта шамана брызжет пена, глаза блещут безумным огнем. Он кружится на месте, бледнеет и трясется всем телом, точно в припадке, а затем делает прыжок и падает.
Доржи поглядывает на небо — может, и правда сейчас хлынет дождь? Но на жарком небе не то что тучи, не видно и легкого облака…
Доржи с ребятами отошли подальше, туда, где под чахлыми соснами сидят несколько подвыпивших казаков.
Молодой казак жалобным голосом начал песню;
Как только он пропел «от закона белого царя несчастной стала моя судьба», приятели схватили его за руки и зажали рот.
— Что ты поешь?.. Тайша, станичный атаман здесь…
Они пугают парня атаманом и тайшой, которых здесь нет. Угроза действует, и он замолкает.
— Здесь зайсанов много… Они услышат…
— Пусть слышат! — снова кричит пьяный. — Мне наплевать! Я никого не боюсь, пусть они меня боятся!
— Замолчи, худо будет. Вот, видишь, пятидесятник идет, — сказал кто-то и показал на отца Доржи.
Доржи огорчился. Он знал, что многие песни нельзя петь, когда близко тайша, зайсаны, ламы. Теперь выходит, что их нельзя петь и при отце…
Доржи думает: как поступил бы отец, если бы он услышал песню казака, который бранил нойонов и тай-шу? Неужели заявил бы пограничному приставу? Неужели донес бы станичному атаману?
Ему вспомнились слова Даржая: «Все вы из одной овчины скроены… У твоего отца есть нагайка…» Неужели он был прав? Выходит, что не все встречи бывают желанными, не. все разговоры приятными. Есть люди, которых сторонятся, а есть такие, к которым тянутся всей душой. Почему бы таким людям не жить вместе?
Доржи решает: «Вырасту, поставлю в степи большую-большую белую юрту, созову всех лучших людей на свете — маму, дядю Хэшэгтэ, Мунко-бабая — и стану жить с ними.
Дядя Эрдэмтэ разрисует юрту узорами… Дядя Еши будет по вечерам играть на хуре, Борхонок — каждый день рассказывать улигеры».
А еще хотел бы Доржи, чтобы в той юрте жил русский мастер Николай, о котором рассказывал Ухинхэн. Доржи очень хочется увидеть этого мастера.
Взрослым хорошо. Они могут оседлать коня и уехать хоть на край света. А Доржи — кто его отпустит? Иной раз с ребятами в степи заиграется, и то от матери достается. Обидно даже…
Они сели бы с Николаем у очага, налили бы чаю из. медного чайника, разговаривали бы долго-долго… Доржи передал бы ему привет от Ухинхэна, от всего улуса. А Николай дал бы ему на прощанье чудесный камень. Повернешь его на ладони — все желания исполнятся: Мархансай каждый день весь улус саламатом кормить будет, у Эрдэмтэ новая юрта появится… Поднимешь камень над головой — обильные дожди прольются, опустишь его к земле — густые травы зашелестят. С этим камнем он все книги, какие есть, прочитает…
Можег, Мархансай проведал, что у Николая есть такой камень, потому и ненавидит его?
Совсем «недавно Доржи встретил Мархансая на берегу Ичетуя и, чтобы позлить его, спросил:
— Дядя Мархансай, говорят, что скоро к нам в улус Николай приедет. Он всегда у нас жить будет?
— Какой Николай?
— Бестужев. Из Петровского Завода.
— Брешут, брешут, — разозлился Мархансай. — Его сюда не пустят… Их всех надо было бы ссылать не в наш край, а туда, откуда не возвращаются. Там давно для них место заготовлено.
А потом Мархансай улыбнулся и неожиданно ласково спросил:
— А кто тебе про это сказал? Не Ухинхэн ли?
— Нет. Ребята говорят… Ваш Шагдыр тоже…
— Я вам покажу, безобразники! — снова озлился Мархансай.
Да, Мархансай ненавидит всех, кого уважают Ухинхэн, Еши, Сундай, Эрдэмтэ — весь улус.
Когда Доржи увидит Бестужева? И увидит ли когда-нибудь? Кто знает, всякое бывает на свете…
Глава пятая
В СЕНОКОС
Раньше, когда Доржи был совсем маленьким, он спрашивал:
«Мама, мама… Почему у нас дверь плачет, а у других поет?»
«Мама, а мама… Почему у птиц тень голубая, у людей — черная?»
«Мама, а мама… Почему дети родятся без зубов?»
«Мама, а мама…»
Потом Доржи стал задавать другие вопросы.
Мать досадливо отмахивалась: «Поди спроси у летних звезд, почему они мельче зимних».
Не получив ответа, мальчик шел к отцу. Банзар сердился. Сын задавал вопросы, на которые он часто не знал ответа. А вопросов накапливалось все больше и больше. Мать заметила, что один и тот же вопрос Доржи задает нескольким людям. «Или память у него короткая, или мальчишка проверяет, одинаково ли думают. об одном и том же разные люди». Заметила она также, что если взрослый пытался отделаться от вопросов Доржи — вырастешь, мол, узнаешь, — тот сердился. Лицо у него становилось таким, будто он хотел сказать: «Не знаешь, что ответить, вот и говоришь так».
Теперь Доржи больше интересует то, что происходит в улусе. Он вдруг спросил сегодня: «Мама, помнишь, Еши на Рыжухе волка загнал, тогда еще волк зарезал овцу дяди Сундая? Почему волк коров Мархансая не тронул?» Мать удивленно взглянула на него: «С чего ты это вспомнил? Откуда мне знать?»
Доржи пошел к Мунко-бабаю. Может, тот объяснит?
После скачек Доржи частенько бывает в его юрте. Там собираются старики, пьют чай, покуривают, неторопливо беседуют. Доржи забирается в уголок, сидит тихо, слушает. Вопросов не задает, чтобы не прервать интересную беседу, не испортить старикам настроение.
На этот раз Мунко-бабай был один. Он погладил белую бороду, взглянул на Доржи, улыбнулся.
— Все тебе надо знать… Лучше бы грабли дома починил, сено пора косить.
— Расскажите, Мунко-бабай… И у Холхоя весной волк корову зарезал… А у Мархансая все коровы целы…
— А ты приглядись к стаду, Доржи, и сам поймешь… Вот посмотри: скот у богачей сытый, холеный… коровы красивые, сильные, они даже мычат по-особому — громко. По пастбищу ходят важно, перед тем как съесть клочок травы, кажется, каждую травинку обнюхают. Крапиву и полынь есть не станут. Молоко у них густое, жирное. Закормленный скот. У бедноты коровенки тощие, некрасивые. Они с жадностью пожирают корм, весною ищут траву в лесу, бродят по дорогам — собирают клочки сена, упавшие с возов. Голодное брюхо уводит бедняцких коров далеко от стада, там они и достаются волкам, тонут в речках, болотах… А богачи смеются, говорят потом бедняку: «Это тебя боги за грехи наказали». И лошади тоже, — продолжает Мунко-бабай. — Погляди-ка на бедняцких лошадей. Хозяин до последнего клочка срезал им хвосты и гривы, чтобы веревку свить, повод для уздечки… Бедной лошаденке от слепней и комаров отмахнуться нечем… Спина и грудь стерты чужой, неудобной сбруей. Сколько ни бей такого коня, он не побежит…
Мунко собирался еще что-то сказать мальчику, но помешал Эрдэмтэ, принес грабли — исправить зубья. Завтра идет косить.
Старик Мунко занялся работой. Доржи сидит молча. Может показаться, что Доржи дремлет, но это не так: мальчик обдумывает слышанное, отмеривает что-то в уме, отрезает там, где это нужно.
В вечернем воздухе над улусом стоит однообразный ритмичный звон — улусники отбивают косы, а Банзара все нет дома, не вернулся с границы. Мать беспокоится: «Неужели не мог договориться с начальством? Он ведь не простой казак, пятидесятник».
Соседи. уже косят. Косят всюду, где только растет трава на зимниках, на буграх, в кустах, на болотистых кочках Намактуя. Эрдэмтэ на своем зимнике прибрал каждую травинку.
«Как бы не упустить время», — думает Цоли. Ей нездоровится, ребята еще малы. Один выход — просцть. помощи у соседей. Соседи бы и рады помочь, да сами разрываются на части. Почти все должны косить сено Данзанову, Мархансаю, тайше, Бобровскому… Пока те не требуют, улусники спешат управиться со своими покосами.
Мархансай решил переждать еще два-три дня, дать траве подрасти. Он знает: стоит ему дернуть невидимую нить, которую он плел долгие месяцы, и пятнадцать — двадцать человек выйдут на его покосы. Они придут в ичигах[41] из сыромятной кожи, в потных, много раз залатанных рубахах. Они придут со своими косами, со своими туесками с простоквашей, усталые, молчаливые, будут работать там, где укажет Хозяин.
Цоли волнуется. «Не могла я заболеть осенью или зимой. В такое горячее время пришла болезнь. От Банзара нет вестей. Качается в седле где-нибудь на склонах Гунзана…» Она отправила Доржи к Эрдэмтэ — может быть, он поможет.
Эрдэмтэ только что пришел с покоса. Он с радостью помог бы, но должен скосить десять десятин Мархансаю да пять Данзанову.
Доржи зашел к Сундаю, но тот уехал в степную думу: его очередь дежурить со своей подводой, развозить нойонов.
У Цоли осталась последняя надежда — на Дагдая. Доржи застал его мрачным и злым.
— Я себе не накосил, даже в унты постелить нечего, а ты говоришь — помогите. А что отец делает? Не велик нойон… — с раздражением сказал он.
Доржи передал матери слова Дагдая. Он думает: «И в самом деле, людям даже свою траву выкосить некогда, не то что нам помогать. А кто будет косить сено у Затагархана? Ему и за слепой бабушкой присматривать надо, да и маленький он еще, слабый… В прошлом году косил, правда, а теперь вон сколько новых забот на него свалилось».
…Вечер завершился шумом, который поднял батрачонок Мархансая Гунгар. Он метался по улусу на хромой кобыле. На этот раз он созывал мужчин:
— Мархансай велит прийти утром косить сено… Да не опаздывать!
После Гунгара соседей обошел Ухинхэн.
— Завтра выходим на покос Аюухан. Мархансай обождет… — говорил он в каждой юрте.
От нижней городьбы Инзагатуя до самой канавы Эрдэмтэ вплотную друг к другу — узкие полоски покосов улусных бедняков. На зимнике покойной Аюухан выросла высокая, густая трава. Ни узкого нет нынче такой травы, как на ее полоске. Летом все, кому удавалось на час-другой урвать воду, пускали струйку и на зимник Аюухан. Сегодня один, завтра другой…
Недаром Мархансай стал подзывать Затагархана, спрашивать о житье-бытье, сунул даже старую рубаху. Встретил Тобшой, пообещал помочь во всем, поддержать. Затагархан и Доржи обрадовались, а Тобшой раскусила, в чем дело: Мархансаю не давал покоя их клочок покоса.
Мархансай действительно подсчитал: на зимнике Аюухан можно накосить тридцать пять — сорок копен сена. В засушливое лето это находка…
Бабушка Тобшой ответила:
— Вы обещали один раз помочь нам. Мы на вас больше не надеемся.
…Раннее утро. На траве поблескивают скудные капельки росы, будто сиротские слезы. Еще не слышно трескотни кузнечиков, лишь назойливо гудят длинноногие комары. Косари начали от изгороди, от кучи белых камней. Первым идет Ухинхэн, широко и легко взмахивая косой. Задним Дагдай — коса будто сама тянет его вперед. Следом Эрдэмтэ — точно плывет по высоким зеленым волнам. За ним Холхой. Лицо у него сосредоточенное, какое бывает, когда он работает в кузнице. Позади Холхоя вытянулись в ряд остальные — каждый знает свое место.
Дружно свистят косы. Косари не разговаривают, не останавливаются покурить. Кажется, что они увлеклись красивой игрой — спешат попасть на другой конец покоса. Все следят за взмахом кос, будто встревожены мыслью: вдруг косы оторвутся от земли и улетят, как легкокрылые птицы. Рубаха у Эрдэмтэ порвалась, голую спину кусают комары. Он подвигал лопатками и опять косит и косит. Отгонять комаров некогда, он ведь пришел помогать семье Аюухан. Изувеченная рука не слушается, но Эрдэмтэ не дает молодым обогнать себя.
Пришел восемнадцатый. Это Балдан. Никто в Ичетуе не сравнится с ним в мастерстве косьбы. Он подошел к Ухинхэну, поздоровался. Тот приветливо ответил и оглянулся назад. Все поняли без слов. Ухинхэн уступил свое место Балдану, сам встал на место Дагдая. Дагдай передвинулся дальше. Все семнадцать человек поменялись местами. Большой, неповоротливый Балдан встал впереди. Он приловчился и взмахнул косой.
Коса у Балдана неудобная, тяжелая и до того тупая, что ею и клочка травы, кажется, не срежешь. Балдан же машет ею легко, уверенно шагает по широкому прокосу. Улусники смотрят на могучую спину Балдана — кто с гордостью, кто с завистью, кто с удивлением. «Иметь бы такого сына!» — думают те, у кого нет сыновей. «Иметь бы такого зятя!» — думают отцы дочерей-невест. Нежнее всех думает о Балдане Жалма.
— Еши, тебя девушки обогнали!
— Хоть бы они покурить остановились! — шутливо жалуется Еши.
Косари заворожены звонкой музыкой кос. Они чувствуют приятную усталость в руках, солоноватый запах пота, смешанный с ароматом степных цветов и свежего сена… Сено! Есть сено — значит скот перенесет суровую зиму. Кончилось сено — придет конец и скоту. Сено — все: и скот, и молоко, и деньги…
Сено тяжелыми волнами ложится за косарями. Ребята с шумом и смехом возятся на скошенной траве. Свист кос что-то напоминает Доржи, но он не может сразу вспомнить, что именно. Мальчик напрягает память — и вдруг вспомнил! Женщины бьют шерсть. Гибкие прутья со свистом опускаются на белые кучи шерсти… Только лица косарей совсем другие, веселые, они ведь не на Мархансая работают.
А если закрыть глаза, в ушах начинает звучать песня. Доржи ее никогда раньше не слыхал, она родилась сейчас, в его сердце. Вот затянул Балдан, песню подхватили Ухинхэн, Эрдэмтэ, Холхой. Теперь все восемнадцать человек Поют:
И сразу же раздается дружный припев:
Но ведь на самом деле никто не поет. Почему? «Может быть, мужчинам не подобает петь? — думает Доржи. — Может, они песен не знают? Нет, дядя Хэшэгтэ говорил, что каждый человек знает хорошую песню. Но одному негде петь, другому некогда, а третьему — некому».
Косари идут дружно, как дети одной матери. Доржи кажется, что когда они закончат работу, мать нальет всем своим восемнадцати сыновьям по чашке молока, угостит саламатом. Седой отец, мудрый, как Борхонок, погладит их вспотевшие головы и скажет: «Молодцы, дети, мои!..» А потом будет большой праздник.
На краю покоса дымит костер. Затагархан и Тобшой пекут в золе лепешки, кипятят полный чугун чая… Костер остался позади косарей. Не сговариваясь, они выкосили участок Сундая, перешли межу зимника Дагдая. Косы притупились, косарей томит жажда, ноют руки, но никто не бросает работу.
Мархансай без шапки, без пояса еще издали кричит:
— Эй, дуры! Что вы здесь делаете? Что, вам работать негде?
Дулсан и Жалма молча посмотрели друг на друга и зашагали прочь.
— И ты, Балдан, отправляйся на мой зимник. Слышишь, что говорю? — орет Мархансай и топчет конем свежее сено. — Оглох, что ли, Балдан? — еще громче кричит Мархансай. — Сейчас же уходи отсюда…
— Пока не кончим косить, не уйду, — спокойно отвечает Балдан.
Мархансай трясет бичом, брызжет слюной:
— Все мне должны, всех в кулаке держу! Я вам припомню, что для меня клочка травы еще не срезали, а здесь косить время нашли!
Мархансаю не отвечают. Косы свистят еще дружнее. Он ищет, на ком бы сорвать зло. Доржи слышит, как, поравнявшись с Еши, Мархансай говорит:
— Где не нужно, и ты, оказывается, мастер косить. А я думал, только на хуре скрипеть умеешь…
Но вот работа закончена. Все подошли к костру, достали свою еду. Тобшой поделила две толстые горячие лепешки, угостила чаем.
— Большое спасибо вам, дорогие соседи, — повторяла она.
Доржи возвращался домой поздно, усталый, нагруженный пустыми туесками, мешочками косарей-соседей.
Он шел и думал о сегодняшнем покосе. Балдан лучше всех косит, а у самого не то что коровы — теленка нету. Дяде Еши в косьбе не угнаться за Балданом. Но зато какие он знает забавные истории! Пока чай пили, ели лепешки бабушки Тобшой, он только одну сказку про Будамшу рассказал. И то сколько все смеялись! Он обо всем на свете может смешно рассказать. Будамшу — бедный мальчик, а всех богачей и лам в дураках оставляет, с любым об заклад бьется и выигрывает. А все, что выигрывает, бедным людям раздает. У самого же ничего нет — ни юрты, ни барана. У дяди Еши столько рассказов про Будамшу, сколько зерен в полном мешке. Возьмешь одно-два зерна, а в мешке и не убавилось. Может, дядя Еши сам эти сказки выдумывает?
Доржи запомнил сказку, которую услышал сегодня. И сам теперь может рассказать, кому захочет. Слово в слово.
Шел, шел Будамшу, проголодался, в животе у него забурчало. Повстречался с одним ламой. Тот слышал, что Будамшу у всех заклады в спорах выигрывает, но не верил, хотел своими глазами увидеть. Лама сказал:
— Вон в той юрте живет скупой богач. Побьемся об заклад, что он тебя не накормит!
А Будамшу:
— Накормит! Давайте спорить.
— На что же мы будем спорить, ведь денег-то у тебя нет? — спросил лама.
— Зачем деньги? — ответил Будамшу. — Мы так будем: если он меня досыта накормит — вы мне всю свою одежду отдадите, а не накормит — я на вас целый год даром работать буду.
Лама и согласился, захотелось ему задаром работника получить.
Тогда Будамшу взял березовую палку, воткнул ее в сусликовую нору возле юрты скупого богача и сел рядом. Неподалеку спрятались лама и свидетели этого спора. Скоро из юрты вышел скупой богач, подошел к мальчику, спросил:
— Ты кто такой? Что здесь делаешь?
Будамшу ответил:
— Меня зовут Сатар Хооллуул[42]. Я золотистую лисицу стерегу.
«Странное имя», — подумал скупой богач и спросил:
— Что за лисица? Где она?
— Да в эту нору спряталась. Не шумите, а го спугнете.
Богач решил отобрать у мальчика лисицу.
— Давай, — говорит, — ловить вместе.
— Давайте, — ответил Будамшу. — Я схожу к вам в юрту воды попить, а вы садитесь, держите палку. Только не отходите, а то лиса убежит!
Богач пообещался не отходить. Вот он ждет, ждет, а мальчика все нет. Ему надоело сидеть, а уйти боится: Золотистая Лиса может убежать. Богач повернулся к своей юрте и крикнул:
— Сатар Хооллуул!
Жена богача услышала и удивилась: что с ним — для родных каждую крошку жалеет, а этого оборванца велит досыта накормить… А тот снова кричит:
— Сатар Хооллуул!
Ну, она и накормила Будамшу. Так Будамшу выиграл заклад. Лама отдал ему свою одежду и голым пошел в дацан. А Будамшу пошел своей дорогой — ему что: наелся у самого скупого, в ламскую одежду нарядился… теперь других лам и богачей будет обманывать.
«Занятная сказка, — Доржи засмеялся. — Вот встретиться бы Будамшу с Попхоем. Он наверняка выиграл бы у Попхоя нож Затагархана». А хорошо, что получилось так, как говорил дядя Ухинхэн, на зимнике, когда Цоктоев не дал побивать покосы. «Пусть Мархансай подождет, лучше Аюухан поможем». Если бы он не придумал тогда, трава бабушки Тобшой до осени не была бы скошена.
Когда Доржи пришел домой, отец уже спал. Он, оказывается, приехал еще днем. На следующее утро все поднялись, едва занялась заря. Торопливо попили чаю и стали собираться на сенокос. В двуколку запрягли каурого. На телегу поставили кадушку арсы, положили косы, завернутые в кошму, вилы, грабли, постлали доху, пристроили большой чугун для варки мяса. Сзади привязали медный котелок. Поверх скарба отец положил живого барана и мешок с мукой, сшитый из цельной шкуры теленка. Там, где у теленка были глаза и уши, на мешке поставлены круглые заплатки. Когда Доржи был поменьше, он боялся этих глазастых мешков.
Доржи с трудом забрался на телегу. Здесь так тесно, что рукавицу негде положить. Бадма уселся верхом на коня, Харагшан пошел с отцом пешком, чтобы погонять корову и теленка.
Дорога плохая — ямы, тарбаганьи норы, камни да бугры. Телегу трясет. Все, что лежит на возу, норовит расползтись во все стороны и упасть. Доржи держит вещи руками, прижимает коленками… А поклажа будто решила измучить его. Чугун и горшок сползают к краю телеги, чтобы упасть и разбиться. Баран пытается высвободиться от пут. Арса выплескивается из кадушки, чтобы запачкать штаны и чистые ноги Доржи. Доржи прислоняется к чугуну, черному от сажи… Мальчика кусают комары, но их некогда отгонять. «Как бы не потерять книгу», — думает он. В ногах лежат косы. Кошма размоталась, и острые лезвия синеют, как жала ядовитых змей.
Впереди бежит Хоройшо. Собака чувствует себя участницей важного события и оглядывается на повозку: как, мол, там, все ли в порядке?.. Жары еще нет, а Хоройшо уже высунула язык.
Доржи с завистью посматривает на Бадму. Хорошо ему верхом. А Доржи от комаров даже отмахнуться не может. Мошкара лезет, кажется, под кожу. Чем выше солнце, тем беспощаднее становятся слепни. Конь трясет головой, машет хвостом, бьет ногами.
Как нарочно, на дороге попалась ямка. Телега едва не опрокинулась. Кадушка покатилась с воза по дороге, оставляя за собой белую ленту арсы. Остановились. Банзар бросил на телегу пустую кадушку, выругал Доржи и сдернул его с воза. Доржи не успел даже заплакать.
Теперь Бадма восседает на телеге. Доржи забрался на коня. На коне, конечно, спокойнее. Только сидеть больно — не зажили ссадины после скачек.
Но вот наконец и зимники. Распрягли коня, на длинной веревке привязали теленка, накосили сена корове.
Соседи уже выкосили свои зимники. Теперь косят на просторном зимнике Мархансая, женщины и дети сгребают сено в кучи. Только покос Банзара стоит нетронутый. Саранча и кузнечики от соседей перебрались сюда. Такой треск и шум — оглохнешь… Сыновья повели поить коня к канаве, Банзар начал косить вокруг телеги.
Прибежала Хоройшо, улеглась под телегой. Она помахивает хвостом, сыто щурится, облизывается, морда вымазана арсой — наелась, видать, досыта. Бадма занялся чаем. Надо было зарезать барана, Харагшан сбегал за Эрдэмтэ.
Эрдэмтэ пришел вместе с женой. Когда баранью тушу разрубили на части и повесили в амбаре, Эрдэмтэ устало опустился рядом с Доржи и спросил:
— Ты что на меня так смотрел, пока я с бараном возился?
— Я давно, Эрдэмтэ-бабай, хотел вас спросить. Вы говорили, что животных любите, из дерева их вырезаете. А сами ходите к людям скот колоть. И вам не жалко?
— Как не жалко, Доржи, очень жалко. Иной раз рука не поднимается. А что делать? Детям и Димит надо кусок мяса принести, самому поесть надо…
У Доржи сжалось сердце, как в тот раз, когда Эрдэмтэ рассказал о красках Жарбая.
В это время к костру подошел сосед Степан. Доржи много раз видел его в кузнице Холхоя. Рядом с ним мальчик — ростом поменьше Доржи, коренастый. Глаза синие, на носу и щеках пятнышки, как капли ржавой болотной воды… Но самое удивительное — голова: будто кто-то вылил на нее расплавленное золото, так и блестит! Мальчик тоже внимательно рассматривает Доржи. Увидел книгу и что-то сказал своему отцу. Степан ответил и кивнул на Доржи.
— Папа, о чем он?
— Говорит, что и у него есть книги.
— А его отец что сказал?
— Если ты хочешь учиться по-русски, можешь заниматься вдвоем с его сыном. Он уже по букварю читает…
Степан скрутил цигарку, прикурил и подал Эрдэмтэ. Тот похвалил табак. «Крепче, чем араки у иной хозяйки». Димит стала варить мясо. Бадма нарвал и накрошил дикого лука. Димит налила кровь в бараний желудок, приправила диким луком, солью, мелко нарезанным жиром, затем перевязала и опустила, в чугун.
Доржи узнал, что соседского мальчика зовут Саша и что ему девять лет.
Мальчики стали играть, собирать бабки, кормить зерном голубей. Голуби сидят на крыше амбара, кружатся на одном месте, кланяются и повторяют: гур-гур, гур-гур.
А потом все уселись у костра на мягких душистых кучах сена. Перед Степаном и Сашей поставили деревянную тарелку, полную баранины. Ели с аппетитом. Степан Тимофеевич похваливал «горячую бурятскую колбасу».
Димит подоила Пеструху, вскипятила чай. Когда она и Эрдэмтэ собрались уходить, Банзар отрезал им мяса:
— Сварите ребятам.
— Дай-ка мне косу, Банзаря попробую, — попросил Степан Тимофеевич. Он встал, поплевал на ладони, легко пошел по прокосу.
— А ведь не разучился! — весело крикнул он Банзару. — Докошу вон до того камня — руки истосковались.
Когда Степан отдал Банзару косу, тот похвалил:
— Твердая, видать, у тебя рука, сосед.
— Пожалуй, так. — Степан присел, закурил. — Только теперь не коса, молот меня кормит. А раньше косил… Ох, как мы с батькой косили! Батька-то уже в годах был, а поддразнивал меня: «Ну-ка, сынок, потягаемся. Не отставай от отца!» После такой работы будто живой воды напился, силы прибывают. Да… Здесь так не косят… Кому коса не позволяет, у кого из-за харчей силенка слаба. Да и травы такой нету… Вон, гляди, покос Ухинхэна. Трава — как усы у кота после драки, пересчитать можно. Да и у других соседей тоже. Холхой хорошо сказал: «Мой покос, говорит, подолом халата накрыть можно».
— Верно, сосед, — кивнул головой Банзар. — А в засуху совсем плохо… — Он помолчал, потом спросил: — Видал, как Балдан косит?
— Как же! Он может…
— А ты себе уже накосил? — спросил Банзар.
— Мне покоса не дали. Зайсан говорит: «Зачем тебе, две козы — не отара». По канавам да по болотам придется собирать траву.
Степан Тимофеевич с Сашей ушли поздно.
Доржи, засыпая, упрекнул отца:
— Почему ты не научил меня говорить по-русски?
А тот даже не расслышал вопроса, сидит, думает о чем-то. О чем он? Наверно, о сене. У Мархансая вон сколько накошено, отсюда видно — кучи, копны, толстобокие стога… А у них трава еще живая стоит.
Сквозь сон Доржи слышит говор, редкие всплески смеха, однообразный свист кос. Доносится мычанье Пеструхи. — Ясно слышится, как петух соседа Степана сердито жалуется на бессовестного павлина. Доржи знает, почему петух сердится. У петуха был пышный красивый хвост. Павлин занял его на один день, чтобы слетать в гости, и не отдает. С тех пор петух каждый день кричит: «Тугас-шубуун, су-лым а-сыш!» (Павлин-цтица, верни мой хвост!)
Доржи проснулся уже утром. Братьев нет. На дворе начинается еле уловимая, гудящая музыка знойного летнего дня. Утихают назойливые песни комаров, солидно, басовито запевают пчелы.
Вскоре прибегает Саша, ребята опять затевают игры.
РУССКИЕ СЛОВА
Отец не заметил старого корня и сломал косу. Что делать? У кого найдешь лишнюю косу? Может, Степан поможет? Доржи увязался за отцом.
Мальчик с трудом узнал старый домик родственницы Еши. Раньше здесь на крыше росли полынь, крапива и все сорные травы, какие есть в окрестностях Ичетуя. Сейчас на домике новая крыша, стены побелены. Кажется, что солнце во дворе у. Степана приветливее, чем у соседей, — так все блестит кругом. Домик поглядывает на улицу светлыми окошками. Рядом новый сарай, кузница. Вокруг дома — высокий забор из прутьев, из прутьев же загородка для коз и козлят…
Доржи заглянул в огород. Как интересно! На толстых палках висят большие листья, с рукавицу взрослого человека. На каждой из палок набекрень надеты тяжелые золотистые шапки.
— Что это? — шепотом спросил Доржи у отца.
— Подсолнечник.
Они зашли в дом. Степан что-то мастерил. Он отложил работу, подвинул гостям табуретки. Сидеть на табуретке Доржи не нравится — высоко, гораздо удобнее на кошме. Степан повертел в руках сломанную косу и что-то сказал Банзару.
— Ты пока побудь с Сашей, а мы пойдем в кузницу, — сказал Банзар сыну.
Саша взял со стола растрепанный толстый букварь. На стенах развешаны картинки. На одной изображен пожар, среди дыма стоит человек с горбатым носом, в белых узких штанах, в большой шапке, похожей на войлочную шапку Эрдэмтэ. На других картинках нарисованы люди на конях, они стреляют друг в друга, рубятся шашками, такими же, как у отца. Саша стал ему объяснять, что там нарисовано, но Доржи не понял.
В комнату вошла тетя Алена — мать Саши. Она босая, ноги у нее белые и большие. Руки сильные, похожие на руки мужчины. На голове — цветастый платок, через плечо опускается светлая коса с голубой лентой. Платье у нее из красного, тоже цветастого материала. В улусе соседки не носят халаты красного цвета, надеть такой халат — большой грех. А она, видно, смелая, не боится богов.
Мать Саши внесла большой, пузатый блестящий кувшин. Она поставила кувшин около печки, сняла две звонкие крышки, налила в него воду. Затем она опустила в кувшин горячие угли из печки. Доржи удивился. Он ожидал, что вода зашипит и угли погаснут, но сквозь маленькие дырочки виднелись яркие угольки. Вскоре вода стала кипеть, выбрасывая струи пара… Не волшебный ли это кувшин? Не шаманка ли тетя Алена? Кувшин все сильнее сердился на то, что в него налили воду и положили огонь. Он пыхтел и шумел, кажется, был готов убежать.
Степан и Банзар вернулись в дом.
— Папа, что это такое? — Доржи показал на кувшин.
— Самовар.
— Са-мо-вар… — неуверенно повторил Доржи.
Он разглядел в углу избы еще какую-то диковину, потихоньку спросил отца:
— А это что?
— Станочек. На нем разные вещи из дерева вытачивают.
За столом тетя Алена угостила их свежими огурцами, супом с капустой, морковью и луком, ноздреватым белым хлебом. Потом принесла жареной рыбы. Но вкусней всего был чай, забеленный козьим молоком, чай, из самовара. Мать ни разу не поила его таким вкусным чаем.
— Ты что так много пьешь? Хватит… — отец дернул Доржи за рукав.
Если бы не отец, Доржи пил бы еще и еще. Пусть без молока, без чая, пусть только воду — обжигающую, горячую, которая тонкими струйками бежит из золотистого носика.
Дядя Степан с отцом о чем-то разговаривают. Доржи обидно, что он не понимает.
А говорили они вот о чем. Отец спросил Степана, как сделать полозья для саней. Потом зашел разговор про огород и про коз.
— Отчего ваши козы дают так много молока? Много сена едят?
— Одно сено — плохой корм для коз, — сказал. Степан Тимофеевич. — Капустные листья, картошку даем. Ведь и человеку одним хлебом не прожить.
— Наши буряты добрых двести пятьдесят дней в году не видят ничего, кроме арсы, — вздохнул Банзар. — Хорошо бы всегда иметь хлеб.
Все вышли во двор. Алена показывает гостям огород. Кажется, самая лучшая мастерица-бурятка развернула перед ними свое шитье, щедро расцвеченное яркими нитками. Глаза у Доржи разбежались. Здесь цветы, каких и во сне не увидишь, каких нет в Ичетуе, нет у подножья Сарабды и Баян-Зурхэна. Над цветами летают тяжелые пчелы. Огурцы, как маленькие живые зверьки, прячутся под густыми листьями с желтыми цветами. Их не сразу найдешь! Саша выдернул что-то белое, остроконечное, с рыжими усами. Вычистил ножиком и протянул Доржи… Тот откусил и сразу же выплюнул, как шаман Сандан, когда взял в рот кусок мыла. Все засмеялись. Доржи покраснел. Хорошо смеяться над другими; обидно, когда смеются над тобой.
Во дворе Доржи впервые увидел поросенка. Интересный зверь, — не теленок, не ягненок… О свиньях Доржи слышал и раньше — о них даже в загадках и пословицах упоминается, — а вот видеть не приходилось: улусники не разводят свиней.
Отец взял косу, которую Степан починил, и ушел. Доржи и Саша остались в огороде. Почему в улусе не заводят огороды, не выращивают овощи? Ведь все же любят и капусту, и огурцы…
Доржи старается запомнить русские слова, услышанные от Саши. Оказывается, свою юрту русские называют «дом», а ямашку — «коза». Доржи заучил еще одно слово — «са-мо-вар».
Ребята долго играли в огороде. Только к вечеру Доржи вернулся к себе.
— Папа, откуда приехал дядя Степан?
— Издалека. С Волги.
— Откуда?
— С Волги. Река такая есть.
— Как Ичетуй?
— Больше.
— Как Джида?
— Больше, — раздраженно ответил отец.
— А почему они приехали? Разве там плохо?
— Если бы было хорошо, наверное не приехали бы.
— А почему там плохо?
— Надоел ты… Помолчи хоть немного.
Доржи думает, что отец сам не знает, почему приехал Степан Тимофеевич и чем плохо было дяде Степану в его улусе на Волге. Странные люди эти взрослые. Никогда не скажут прямо, что не знают.
Банзар положил в мешок баранье стегно и протянул сыну.
— На, утром отнесешь тете Алене… Она суп из одной капусты варит…
Очень хорошо, что они с Сашей повстречались летом, когда самые короткие ночи. Уснешь вечером, даже ни одного сна не успеешь увидеть, — и опять солнце, опять с утра до вечера можно играть.
Чуть стало светать, Доржи вскочил, взял мешок с мясом и побежал.
Опять весь день провел он с Сашей. Когда под вечер стал собираться домой, тетя Алена положила ему в туесок куриных яиц, дала два больших кочана капусты, положила луковицу. А Саша подарил картинку со стены.
Кроме дяди Хэшэгтэ, никто не делал Доржи таких чудесных подарков. Бадма и Харагшан стали рассматривать картинку. Заинтересовался ею и отец.
— Это война с Наполеоном. Самая большая война. Вот это Наполеон, французский царь, — объяснял он сыновьям, показывая на человека в белых штанах. — Этот белоштанник тогда столько людей загубил, столько горя принес! Половина Москвы сгорела. Выгнали его из Москвы, бежал без оглядки… Тогда в деревнях песни пели, как француз удирал, портянки потерял…
Отец сварил суп с мясом, капустой. Его заправили не степным мангиром, а настоящим луком. Буряты выдумали про лук загадку: «Кто увидит старуху в рваной желтой шубе — сейчас же от жалости заплачет», — но сами его не садят.
Утром позавтракали подаренными тетей Аленой яйцами, три штуки оставили матери. Доржи заторопился к своему новому другу.
Они сидят на берегу реки, листают истрепанный Сашин букварь. Доржи нравится, что в нем много картинок и под каждой русское название.
Потом ребята собирают на дне высохшей речки камешки, на пустых зимниках — мелкие бабки. Саша учит Доржи игре в городки, они по очереди стреляют из лука.
Новые слова приходят к Доржи каждый день, с каждой новой игрой, даже в споре, в короткой дружеской ссоре.
Доржи теперь уже сносно говорит по-русски, пробует выводить русские буквы. Это не так трудно: он пишет монгольскую букву, а рядом с ней — русскую… Каждое русское слово тащит за собой целую кучу других. Вот Доржи запомнил, что бурятское «унеэн» по-русски — «корова», и оказалось, что нужно заучить такие слова: теленок, бык, рога, копыта, мясо, молоко, масло, сметана. Если запомнил, что юрта по-русски называется «дом», как же обойдешься без таких слов, как стена, пол, потолок, окно, крыша, дверь, порог, крыльцо?
Иногда ребята заиграются, даже про обед забудут. А вспомнят — бегут к кому ближе. У Банзаровых Сашу угощают мясом, жаренным, на углях. Саше нравится и урма, он называет ее бурятской кашей, нравятся ему и сушеные молочные пенки. Но арса Саше не нравится. Доржи не понимает: может быть, Саша не хочет есть из деревянной посуды? Когда же он посолил арсу, Доржи рассмеялся. Разве солят арсу?
Угощение у тети Алены богаче. Творог, яйца, варенье, русский пухлый хлеб… А сколько добра у них в огороде! Но и Доржи не все по душе. Ему не нравится некипяченый суп. У него, правда, хорошее название — «окрошка», — но вкус у него, должно быть, такой же, как у соленой арсы. Лучше съесть в отдельности яйца, холодное мясо, лук, а потом запить все это кислым, приятным квасом.
Сашин букварь совсем истрепался, возле каждой буквы пятна от пальцев. Около букв «ц», «ч», «ш», «щ» бумага протерта почти насквозь и пятна такие, будто здесь закопченный чугун ставили. Трудные эти буквы; как ни старается Доржи выговорить, вместо них получается звук «с». Вместо русского «чай» выходит «сай».
Степан Тимофеевич почти ежедневно после обеда подсаживается к мальчикам. Он медленно диктует: «ма-ма», «па-па», «Са-ша». Большим пальцем, загрубевшим от огня и железа, водит он по строчкам букваря.
Доржи уже пишет по-русски не только свое имя и имя друга, но выводит имена Алены, Степана, отца, матери, братьев.
— Вот ты какой молодец! Старательный мальчик, толк из тебя будет, — хвалит его Степан Тимофеевич.
Доржи больше не возит копны сена. «Пусть учится мальчишка, — решил отец. — В школу, видно, придется отдавать. Начальство покоя не дает».
Едва только горластый петух возвещает наступление дня, Доржи вскакивает, умывается, торопливо ест и бежит к Саше. А тот встречает его бурятским приветствием, которому научил Доржи:
— Амар сайн, Доржи!
— Спасибо, тебе так же, — улыбается Доржи, стараясь подражать отцу. Банзар так отвечает на приветствие Степана Тимофеевича.
ЕЩЕ ОДНА ЗАГАДКА
Когда все сено было убрано, отец с братьями уехали с зимника. Доржи остался гостить у Саши.
Стояла теплая, ясная пора — первые дни осени. В тех местах, куда летом проникали жаркие, иссушающие ветры, листья с деревьев и кустов уже облетели, цветы увяли, травы пожелтели. А. на поливных лугах, на низменностях, вблизи канав и болот, все оставалось еще по-летнему.
Мальчики лежат в тени, на пахучей мягкой траве. Доржи отложил букварь в сторону, разглядывает цветы, что растут здесь же рядом. Он может сорвать любой из них, стоит протянуть руку. А может, не срывая, сплести из них косичку, а потом снова распустить: растите, цветы дорогие!
Цветы! Сколько их, и как мало похожи они друг на друга! Даже взрослые не знают все их названия. Вот из одной зеленой чашечки вытянулись четыре одуванчика. Одуванчики по-бурятски называются «дабдя-нямня». Чудное слово. Наверно, его придумали маленькие дети. Оно понравилось взрослым, те посмеялись и решили: пусть эти цветы так и называются.
Здесь их всего четыре. Почему они отделились от других, отбились от стада? Ведь вон там, за кустами, их не счесть сколько!
Весною дабдя-нямня мелкие, низкорослые. Потом начинают тянуться вверх, у них появляются золотые пушистые головки. Оторвешь стебелек — густое белое молоко побежит по зеленым жилкам-трубочкам.
Осенью одуванчики поседеют, поднимутся у них на макушках легкие белые волосы. Если подуть, они поплывут по воздуху, как пушинки. Останутся у дабдя-нямня лысые, чуть рябоватые маленькие головки…
О каждом цветке многое можно рассказывать. Вот, к примеру, эти синие цветы. Они похожи на маленьких собачек с острыми ушами. Если же оторвать уши, цветок вдруг начинает походить на рябчика. И оказывается, даже косичка у него есть. А в косичке — капелька душистого меда.
В разную пору живут разные цветы. Одни зацветают раньше всех, но они тусклые, неприятные. Их и скот не ест, и бабочка на них не сядет, я пчела к ним не подлетит. Живут они долго, до глубокой осени. А другие начинают цвести позже, но зато они яркие, цветут пышно. Растут они в тенистых местах, куда редко попадают солнечные лучи. Эти цветы недолговечны: чуть прикоснись к ним — и сразу опадут еще не успевшие распуститься бутоны. В середине сенокоса этих цветов уже не увидишь, будто и не было их… И трудно поверить, что пройдет зима, весна и следующим летом они снова зацветут в этих местах еще ярче и краше прежнего.
Почему это так? Ведь могли бы все цветы, какие только есть на свете, распуститься рано-рано, вместе с первыми подснежниками — ургуями, — и жить долго-долго, до самых холодов. Нет, пожалуй, неинтересно было бы увидеть сразу все цветы — надоело бы. Лучше пускай сегодня будут одни цветы, а через несколько дней совсем другие.
Доржи вспоминает слова Эрдэмтэ-бабая о цветах. Хорошо он тогда сказал! Сколько их всегда вокруг! Одни распускаются, другие увядают, а Доржи раньше такой глупый был — пробегал мимо, не, замечал.
Вокруг нераспустившихся, еще зеленых шариков собрались в хоровод пышные, крупные цветы. Они, как большие свечи, горят тихо и ярко под лучами солнца. Ветра нет, не шевелится ни одна травинка, цветы не кивают головками. С легким шуршанием падает на траву маленький увядший листочек. И вдруг один цветок, самый ближний к Доржи, начинает качаться и звенеть, как живой бубенец. Доржи догадывается, что в круглой чашечке цветка запутался шмель.
Но вот шмель освободился и полетел ввысь, растаял в густой синеве неба. Шмеля уже давно не видно, а в ушах все еще слышится его звонкое, радостное гудение.
Саша лежит молча, то ли думает о чем-то, то ли дремлет. Поблизости шумит вода. Вдруг послышалась песня. Доржи знает, что это поет Жалма. Вот и она — босая, в одной рубашке. За время сенокоса Жалма стала совсем черной от солнца. Девушка снимает с плеча грабли, присаживается у ручья.
Доржи смотрит на Жалму сквозь ветви кустов, как через узорчатую решетку.
Девушка поет свою песню, умывает руки, лицо, утирается свежим сеном, а потом синим старым платком. Она черпает загорелой рукой воду и пьет. Пьет долго — с раннего утра, видно, не уходила с покосов хозяина.
Вымыв до колен ноги, Жалма села на траву, сорвала какой-то цветок, понюхала и бросила прочь — видно, горький, неприятный у него запах. Сорвала другой, держит его в губах, мнет стебелек в сильных загорелых пальцах. Она смотрит куда-то вдаль, снова начинает петь — звонким, нетерпеливо радостным голосом:
Чуть помолчала, послушала, будто и в самом деле ожидает — не раздастся ли топот горячего коня.
Хорошо поет Жалма; никто в улусе не поет лучше нее. Мальчика удивляет другое: почему Жалма поет о Балдане с такой радостью и вместе с грустью? О каких рысаках Балдана она поет? Разве были когда-нибудь кони у Балдана? Почему Жалма поет о том, чего нет и не может быть? Она ведь не сказки рассказывает…
Жалма теперь молча сидит на бережку, нюхает все тот же цветок, мнет его в пальцах. А когда от цветка почти ничего не остается, бросает его на землю. Затем встает, поправляет косу, потягивается, стряхивает с рубашки сухие травинки, берет грабли и торопливо уходит.
Жалма идет все быстрее и быстрее, все дальше мелькают в траве ее загорелые ноги, и зубчатые грабли то появляются, то исчезают за ветвями кустов.
Саша что-то говорит, но Доржи не хочется отвечать. Его тревожит одна загадка: почему Жалма пела о том, чего нет, что и представить почти невозможно? Он пытается вообразить: по степи мчится черный рысак, летит быстрее Рыжухи, а на нем — Балдан в синем шелковом халате, сшитом Жалмой. Доржи улыбается Ему даже намного неловко — будто он обидел Балдана, посадив его на коня, которого у того нет, нарядив в халат, который только в песне сшила для него Жалма.
Много, очень много на свете непонятного. Может быть, он; Доржи, поймет потом, когда станет большим, когда у него вырастут усы, когда примет казачью клятву?
Долго еще лежит Доржи с закрытыми глазами. Каждый день приносит ему что-нибудь новое. Как хорошо, что он приехал сюда с отцом, подружился с Сашей, учится говорить по-русски! Как хорошо в Инзагатуе, на зимнике.
В сердце Доржи звенит песня Жалмы.
КЛОЧОК СЕНА
Бывали годы, когда Эрдэмтэ собирал до тридцати копен сена. А один раз накосил даже около ста. Он запомнил это лето на всю жизнь… Нынче же едва набралось десять копен — даже теленку не хватит на зиму. А он дни и ночи ходил с косой по кустам, собирал каждый клочок травы..
Теперь уже девятый, день косит он сено для коров Мархансая. В полдень он пошел к Мархансаевым и сказал, что отработал свой долг — выкосил десять десятин.
— Ты что, насмехаешься надо мной, что ли? Почему десять, когда должен одиннадцать десятин?
— Как одиннадцать? — опешил Эрдэмтэ. — Вы же сами говорили — десять.
— Не спорь, Эрдэмтэ, у меня все сосчитано.
— Как же так, Мархансай-бабай? Вы же сами…
— Что — сами? — закричал Мархансай. — Ты, брат, хитер, как я посмотрю. Когда приходишь с пустой кадушкой, кукуешь, вроде кукушки, а как отдавать долг, так каркаешь, как ворона.
— Кричите на свою жену, — рассердился Эрдэмтэ. — Если совесть ваша будет спокойна — выкошу еще десятину.
Эрдэмтэ вернулся домой, стал отбивать косу. Его трясло точно от лихорадки. Молоток не попадал по блестящей полоске косы. Крепко его обидел Мархансай.
И вот… этого только не хватало: на его копне стоит коза, жует сено, как будто для нее Эрдэмтэ лазил по канавам и болотам. Другая коза тянет клок сена со второй копны. К ней бежит козленок. Эрдэмтэ сразу вспомнил, что говорил Мархансай: «Появятся русские со свиньями и козами — не будем тогда косить травы с росами, носить шубы с полосами»[43]. Эти слова, как тяжелые холодные градины, ударили по сердцу Эрдэмтэ. Что же получается в самом деле? Он бьется из последних сил, кое-как накосил десять копен. Каждый клочок сена ему дороже, чем богачу все его состояние. А сено у него растаскивают! Он, Эрдэмтэ, уже с середины зимы будет ходить по улусу с пустым мешком под мышкой… Разве русский Степан не видит, что он жилы надорвал, работая на других?.. Эрдэмтэ вскочил, на ходу схватил толстую палку, побежал к козам… Навстречу ему уже бежит Степан — увидел своих коз у чужого сена, торопится прогнать.
— Убери, убери их, не то мясо из них сделаю! — кричит разбушевавшийся Эрдэмтэ.
Степан что-то объясняет ему, извиняется, но тот не слушает, кидает в коз камнями и палками. Коз уже нет, а Эрдэмтэ все еще кричит:
— Ёсли держите коз, караулить надо! Еще увижу коз у своих копен — ей-богу, мясо сделаю. И ничего с меня не возьмете. Пусть скотина самого тайши придет, и той ноги переломаю.
Димит стоит у костра, зовет мужа, ей стыдно за него перед соседом.
— За что вы обидели хорошего человека? За клочок сена? В прошлом году коровы Мархансая растаскали не одну копну, а вы смолчали.
— Тогда не было засухи.
— Это про вас, однако, говорят: «Сколько ни вари сухое мясо, жирного бульона не будет. Сколько ни жди, глупый не поумнеет».
Эрдэмтэ сосет погасшую трубку. «Замолчит ли когда-нибудь эта языкастая баба?!»
— Вот и табак у вас из огорода Алены.
— Перестань, наконец! Бывает, что соседи ссорятся. Даже дерутся.
Эти слова еще больше рассердили Димит.
— Ссорьтесь с улусниками, хоть косы друг другу выдергивайте. А Степана не трогайте. Он же один здесь живет среди нас. Ну-ка, если бы мы жили в русской деревне и на нас бы так кричали!.. За помощью — так вы к Степану, а из-за клочка сена — на него с палкой.
Эрдэмтэ ничего не отвечает жене, берет грабли и идет к копне, чтобы подровнять сено. Но оказалось, Степан Тимофеевич сделал это до него — все копны в порядке.
«Эх, наверное, обиделся на меня сосед», — подумал Эрдэмтэ.
А Степан Тимофеевич не то что обиделся. Он понимал, что не Со зла на него накричал Эрдэмтэ. Но все Же брань соседа тяжестью легла на сердце. Он запер коз в сарай и, ни слова не сказав мальчикам, игравшим у сарая, пошел к дому.
У дома его ожидал незнакомый молодой бурят.
По одежде, по загорелому лицу видно было, что пришел он издалека: ичиги разорвались, из них вылезли портянки. Он положил косу, завернутую в тряпку, разулся. Прежде чем зайти в дом, попросил воды и умылся.
«Наверно, пришел, чтобы я ему косу склепал», — с раздражением подумал Степан Тимофеевич и спросил:
— Коса поломалась, что ли?
— Нет… — ответил парень и опять замолчал, потом проговорил: — Я из Большого Луга, хочу наняться к кому-нибудь сено косить. Своего-то скота у меня нет.
— Как зовут?
— Меня зовут Хубита, а отца моего звали Табитой.
Гость огляделся, спросил:
— Вас-то Степаном зовут? Тимофеевичем?
— Ну да. Я Степан Тимофеевич.
Парень вздохнул с облегчением.
— Я много слышал про вас… За советом к вам пришел… Добрые люди дорогу указали. Помогите нам, от всех наших улусников прошу: зайсан над нами издевается… Из-за покоса нас четверых засудить хотят. Вот дело в чем… — Гость взглянул на Алену. Та догадалась и вышла, чтобы мужчины могли поговорить наедине.
Алена долго работала на огороде. Когда же вернулась, парень бережно прятал за пазуху несколько листов бумаги, муж убирал со стола чернильницу.
— Я тоже богатеньким не по нутру пришелся, — проговорил Степан. — Того и гляди со света сживут.
Алена поставила самовар, сварила яиц.
Степан Тимофеевич вспомнил, как недавно к нему приходил дед Мунко. Тоже сидел долго, много раз обдумывал каждое слово перед тем, как сказать. Наконец заговорил: «Живи в дружбе с соседями… Мы рады доброму человеку… Если тебе понадобится шерсть для чулок, овчина для унтов, приходи к нам. Мы не из толстоногих богачей, хорошего человека всегда выручим».
Слова старого Мунко, появление вот этого парня, приветливое отношение соседей — все припомнилось Степану Тимофеевичу. И сегодняшняя ссора с Эрдэмтэ представилась уже пустяковым, незначительным недоразумением.
…Хубита ушел рано утром, когда все еще спали.
СТЕПАН ТИМОФЕЕВИЧ
Прошло несколько дней. Доржи и Саша вернулись с речки мокрые, голодные — и сразу за стол. Алена налила им рыбного супа. Называется суп — «уха». Хороший суп, у окрошки название интереснее, а вкус хуже.
G улицы послышался какой-то шум. Мальчики насторожились — не Эрдэмтэ ли опять раскричался из-за коз?
В избу вошли Ухинхэн и Еши. За ними — Степан Тимофеевич. Алена с тревогой взглянула на мужа. Тот не сел, ходит по комнате, возбужденный, красный.
— Ну как, Степа? Зачем зайсан требовал?
Ухинхэн спокойно проговорил:
— Плюнь, тала. Зайсан перед тайшой выслуживается… Хорошо ты ему ответил…
Алена прижала руки к груди:
— Неужто беда какая, Степа?
— Какая беда. Никакой беды нет, — беззаботно ответил Еши. — Этот коротышка Тыкши на всех лает… Захотел показать, что он большой нойон.
Еши вдруг встал, поднял плечи, выпятил живот и прокричал хриплым, лающим голосом:
— Если живешь в улусе, делай все, как другие! Бери коня и ступай в степную думу — нойонов возить! Что? Говоришь, нет коня? А мне какое дело?
Еши заложил руки за спину, важно прошелся по избе и так посмотрел вокруг, что даже Степан Тимофеевич улыбнулся.
У Доржи от смеха в глазах слезы: ну совсем Тыкши Данзанов.
— Нигде спокойно жить не дают. Крепостным был — на волю рвался. Вольным стал — хоть в петлю полезай. — Степан положил на стол свои большие руки. — Только не дождутся этого…
— Ты, тала, разве крепостным был? — удивленно спросил Ухинхэн.
— Был. Все мы были, вся семья. И Алена из крепостных.
— Как это — крепостным? — У Еши от любопытства даже рот приоткрылся.
— А очень просто. — Степан Тимофеевич задумался. — Как бы тебе рассказать попонятнее? Вот сестра у меня была, Фрося, лет шестнадцати. Барин наш, помещик, в карты ее проиграл кому-то. Увезли девку, больше мы ее и не видели. И меня мог проиграть, и отца, и мать…
— Тыкши Данзанов вчера двух коров Бобровскому в карты проиграл, — вспомнил Еши.
— Ну вот, и сестру так же. Отец весь век о воле мечтал. Нас из кабалы вызволил, а сам крепостным помер.
Ухинхэн подвинулся ближе, достал кисет, набил трубку.
— Да-а, тала, — протянул он. — Видно, жизнь у вас там не слаще нашей. Как на волю-то вырвался? Я слышал — выкуп нужен. Дорогой выкуп-то?
— Дорогой. Отец за нашу волюшку жизнью заплатил.
— Жизнью? — Ухинхэн задумался.
Мальчики сидят тихо. Доржи слушает, старается понять каждое слово, иногда шепотом переспрашивает у Саши.
— Вспоминать тяжело. — Степан Тимофеевич провел широкой ладонью по лбу. — А узнать вам не помешает. Небось думаете, что в русских краях молочные реки текут…
Отец мой конюхом и кучером у барина был. Коней любил — страсть, — медленно заговорил Степан. — И барин тоже, как хорошую лошадь у кого увидит, совсем ума решался. Денег нет, так он сколько хочешь дворовых продаст, семьи разлучит, а коня купит. Рысак у него был знаменитый, Демоном звали. Чтоб его купить, барин чуть не половину имения заложил. Но уж и кони у него были! Барин отца от лошадей ни на шаг не отпускал и спать ему приказывал в конюшне. «Ты, говорит, Тимошка, за коней у меня в ответе. Ежели что — голову снесу, плетьми засеку!» Придет в конюшню, белым платочком по шее лошади проведет — не дай бог; ежели на платке пыль останется! До отца другой кучер был, так барин его повесить хотел. Петлю на шею сам накинул… Как не повесил — не знаю. Опамятовался, наверно. В солдаты сдал.
У отца вся радость в конях была. Он с ними, как с малыми детьми, нянчился, побои от барина сносил, лишь бы он его с конюшни не прогнал…
— Ну да, — прервал Степана Еши. — И Балдан с Мархансаем как теленок тихий. Все делает, чтобы хозяин не выгнал, с Жалмой не разлучил. Я его раньше никак понять не мог. — Еши закурил. — Пошел я, помню, в лес… Люблю побродить. С птицами по-птичьи пересвистываюсь, песню пою… Вышел на опушку — Балдан у кучи жердей сидит. Без рубахи, черный весь от солнца. Веткой оводов отгоняет, жует что-то. Я подошел ближе, вижу — черную лепешку в простоквашу макает. Туесок с простоквашей маленький, меньше кулака. Жалко мне стало Балдана. «Почему, спрашиваю, не просишь хозяина, чтобы мясо давал?» А он как глянул на меня: «Иди, говорит, своей дорогой. Что ты знаешь, кроме своего хура…»
Ухинхэн рассмеялся:
— Ну и правильно ответил Балдан. Ты чго, Мархансая не знаешь? Это только ты сумел у него мяса поесть. А Балдан ночью по чужим котлам не лазает.
Еши смущенно кашлянул. Ухинхэн повернулся к Степану Тимофеевичу и уже совсем по-другому сказал:
— Знаешь, тала, обидно за Балдана. Умелый, сильный, а сидит у этого кривоногого…
— Ведь он же из-за Жал мы, — вмешался Еши.
— Я на его месте взял бы Жалму за руку и пошел с ней куда дорога поведет… Да что говорить! Все мы… — Ухинхэн махнул рукой.
Саша потихоньку дернул Доржи за рукав.
— Пойдем в бабки играть.
Доржи тоже хочется покатать бабки, отыграться, ведь он вчера проиграл Саше, — но как же уйти и не дослушать? Ох, уж эти взрослые, всегда перебивают друг друга.
— Да, — спохватился Ухинхэн, будто угадал нетерпение мальчика. — Так как же отец выкупил тебя?
— Ну, давайте доскажу, — нехотя начал Степан Тимофеевич. — Пожар в конюшне случился. Отца в тот день дома не было, барин его послал за чем-то. Вернулся, а конюшня горит вовсю. Барин как полоумный мечется. Отец кинулся в конюшню, всех лошадей вывел. Рубаха в огне, волосы обгорели. Повалился на землю. Мы подбежали, а он черный весь, изо рта кровь хлещет. Трое суток мучился.
— А барин что же?
— Барин? Я пошел к нему лекаря просить. Он усмехнулся даже: «Тимофей мужик здоровый, так выживет». Помер отец.
— Все они такие, — с негодованием произнес Ухинхэн. — А волю-то как он тебе дал, тала?
— Видно, совесть проснулась… Позвал: «Женись, говорит, Степка. Вольную дам». Я благодарить. А он: «Отцу спасибо скажи. Он для тебя волю выслужил».
Мальчики вылезли из-за стола: теперь можно и в бабки поиграть!
— Что, сосед, Банзаров сынишка у тебя живет, что ли? — спросил Еши, ласково посмотрев вслед мальчикам.
— Гостит, — улыбнулся Степан. — Хороший мальчуган. Послушали бы, как он с моим Сашуткой по-русски разговаривает! Запомнит новое слово и торопится связать его с другими. И уже не забудет. То и дело прибегает: «Дядя Степан, можно сказать по-русски, что трава растет?» — «Можно», — отвечаю. А он: «У вас говорят — «мальчик растет»?» И ну хохотать: по-бурятски, мол, так нельзя. Трава-то растет, а мальчик не растет, а становится большим. Вчера, слышу, с Сашей рассуждает: «Зачем столько названий — чушка, свинья, хряк, боров, поросенок, хрюшка? Надо бы назвать хрюшкой — и все, А капуста? Почему вдруг «кочан»? Надо не «кочан», а «пузан»… То ко мне пристает с вопросами, то к Алене. Писать и читать учу его.
— Совсем русским парнишка становится, — добро-: душно проговорил Еши.
— А сам ты как грамоте научился? — поинтересовался Ухинхэн. — Или у вас там все грамотные?
— Грамотные? Во всей деревне только поп да дьячок читать и писать могут. А меня учитель нашего барчука грамоте выучил. Хороший был человек — разговаривал со мной, книги давал читать. А потом его куда-то вызвали, больше он не вернулся. Я его часто добром вспоминаю. Говорили, его в солдаты забрили, а может, где-нибудь здесь, в рудниках.
— Почему это с хорошими людьми всегда так получается? Нет им счастья в жизни. Кого засекут до смерти, кто сам от жизни откажется, а кто мучается весь свой век, — задумчиво проговорил Ухинхэн, ни к кому не обращаясь.
Еши встал, прошелся по избе, громко вздохнул.
— Ты о чем это? — спросил Степан.
— Да вот, на дворе жара… косить все равно нельзя… Хорошо бы холодной араки чашечку. — Еши повел носом и подмигнул: — Однако, кто-то в Ичетуе сегодня пить будет, я за двенадцать верст запах чую.
Алена рассмеялась:
— От Еши ничего не спрячешь. Пойдем-ка, Степан. Я к празднику наварила, завтра ведь успенье.
— И от меня скрыла? Вот так жена, — шутливо сказал Степан Тимофеевич. — Сейчас попробуем.
Он выбрался из-за стола и вместе с Аленой вышел. Еши погладил голову, негромко сказал:
— Хорошие люди. Жалко, что я свой хур дома оставил.
Степан Тимофеевич и Алена скоро вернулись. Они поставили на стол деревянную бадейку, сняли белый платок, которым она была завязана.
Брага была прозрачная, как весной желтая смола на деревьях, холодная, как вода в роднике.
Степан Тимофеевич налил всем по чашке, раздвинул на столе тарелки. Алена поставила на середину большую сковородку жареной картошки.
— Ну, давайте чокнемся по русскому обычаю.
— Хорошая араки. Крепкая. Даже в голову ударила, — причмокнул Еши.
Ухинхэн сидел молча, подперев голову. Видимо, какая-то дума не давала ему покоя.
— Те, которые в Петровском Заводе, хотели, чтобы всем крестьянам воля была, — медленно начал он. — Мне это мастер Николай говорил… Редко такие баре бывают. Ну, их и заклевали. А что ты на воле делал?
— Поженились мы с Аленой. Барин обещание сдержал и дал ей вольную. На своей земле полоску выделил: пашите, мол. Ну, мы с Аленой и взялись за землю. С хлебом всегда были, с картошкой. Думал, весь век так проживу… Ан нет. Проиграл наш барин в карты все имение, всех крестьян, всю землю и куда-то пропал. Даже не простился. Новый барин приехал и говорит: «Уходите, чтобы духу вашего не было». А у нас уже Сашутка был.
— У них у всех сердца нет, тала, — резко сказал Ухинхэн. — У Мархансая батрак был — Шантагархан. Здоровый, вроде Балдана. Безобидный, глухой на оба уха. Шесть лет скот пас… А зимой Мархансай взял да и выгнал его. Не нужен стал. Мороз, а Шантагархан босой. Мы уж собрали ему — кто старые унты, кто овчину. Ушел куда-то… Может, замерз в степи, может, с голоду помер. Вот она, жизнь наша… Везде, видно, одинаковая. А я вправду думал, что в русских краях лучше живется.
Степан усмехнулся:
— А мы с Аленой в Сибирь за счастьем пришли. Надеялись: зацепимся за клочок земли, обживемся, сына поднимем. Так нет же, и отсюда норовят выжить. Этот Тыкши все время придирается.
За окном послышались голоса мальчиков.
Степан Тимофеевич снова разлил брагу.
— Выпьем за наших ребят. Вон они какие дружные. Может, им легче жить будет.
Все чокнулись.
Утром Доржи разбудила тетя Алена.
— Экий ты соня, вставай! Отец твой приехал!
Доржи вскочил. Во дворе стоял расседланный конь. Отец нес большую охапку сена.
— Папа! — Доржи прижался к отцу.
Банзар ласково отстранил сына.
— Я за тобой, Доржи. Собирайся. Простишься с матерью, и поедем в Кяхту, будешь учиться в школе.
Доржи, оторопев, не знал, радоваться или плакать. Подошел Степан Тимофеевич, погладил его по голове, ободряюще проговорил:
— Это тебе, Доржи, большое счастье выпало. Попьем чаю, попрощайся с Сашей. Смотри, учись хорошенько…
Глава шестая
НОЧЛЕГ
У Доржи болит шея, ведь он с утра головой вертит: на этой стороне деревня, на той часовня — все надо разглядеть. Сосны и те, кажется, другие, чем в Ичетуе.
— Однако, не доедем сегодня. У кого-нибудь ночевать придется. — Отец остановил коня у одинокой темной юрты, в стороне от дороги.
Попросились на ночлег. Коня пустили в тээльник, сами пошли в юрту. Хозяйка — толстая, медлительная женщина — собралась с тремя батрачками доить коров. Они взяли по два подойника — значит коров много, доить будут долго. «А мы будем сидеть без чая», — с грустью думает Доржи. Он проголодался и. хочет спать. Мальчик прижался к отцу и дремлет. Дома поел бы чего-нибудь вкусного, напился бы теплого молока. А здесь ни лепешки, ни молока. Нудные слова хозяина текут, как капли кислой арсы из дырявой торбы.
— Банзар, я слышал, ты человек не бедный, казачий нойон, начальник. У тебя скот есть… Зачем твоему сыну русская грамота? Поучится в школе — домой не жди, уедет в русский город. Не будешь знать, живой он или умер. Раз в год получишь письмо с ладонь, да и то поддельное, настоящее-то жулики вытащат.
— Доржи вернется домой.
Чувствуется, что отец говорит не столько, чтобы ответить старику, сколько, чтобы утешить себя.
— Вернется? Если птенец облетел полсвета, его в родное гнездо не заманишь… Грамотные забывают родные обычаи.
Отец молчит, будто одобряет слова старика. Уж не собирается ли он повернуть к дому?
— Книги жизнь укорачивают, — не унимается старик.
Глаза у Доржи слипаются. В полутьме он видит только голову старика. То она становится крошечной, то вдруг заполняет всю юрту. Старик все шамкает:
— Я тебе, Банзар, правду говорю… Напрасно будешь мучить ребенка. Я жизнь прожил, букв не знаю, цифры на гривеннике не могу прочесть. И не обеднел ведь от этого…
— А я и буквы и цифры знаю, — громко говорит Доржи.
Старик помолчал, пожевал губами и прошипел со злостью:
— Видишь, Банзар, он уже перестал уважать старших. Что грамота? Ваш Мархансай книг не читает, а кто в Ичетуе богаче его, скажи мне, Банзар.
— Дядя Хэшэгтэ говорит: «Не тот богат, кто владеет скотом, а тот, кто владеет светлым умом», — резко отвечает мальчик вместо отца.
— Замолчи, теленок, — ворчит старик. — Хватишь этого богатства, пожалеешь еще… Если заболеешь, в Кяхте ни ламы, ни шамана не сыщешь.
— Там врачи, фельдшера, — неуверенно говорит Банзар.
— Там тетя Мария, — добавляет Доржи.
— Эх, Банзар, Банзар… напрасно…
В юрту входит хозяйка. Она лениво бранит своих помощниц. Зажигают огонь, и Доржи видит: у очага сидит костлявый лысый старикашка.
Хозяйка приносит полную миску горячего мяса.
— У тебя есть нож, мальчик? — спрашивает старик.
— Нет у меня ножа, — сердито отвечает Доржи.
— Как же ты будешь есть мясо? Принесите ему топор, пусть рубит мясо.
Батрачка кладет рядом с Доржи тяжелый топор.
— Мы обойдемся одним ножом, — заступается за сына Банзар.
Доржи не может есть это протухшее мясо. Скорее бы спать, а потом — утро и Кяхта.
В путь тронулись с рассветом. У Доржи не успела запылиться шапка, у лошади еще не вспотели бока, а он уже беспокоится, то и дело спрашивает отца, скоро ли город.
— Еще не скоро, не торопись, — неохотно отвлекается от своих дум отец.
— Чьи это дома в лесу? — не унимается Доржи.
— Летники купцов.
Ой, какие интересные летники у купцов! Целая стена из мелких окошек, на пчелиные соты похожа. Зачем это? Не бывают же пчелы ростом с барана?
Купцы странные люди, однако. Вон сколько простора вокруг, степь какая широкая, а они в лесу жмутся, между кустов и деревьев летники понастроили. На телеге негде проехать… А может, они нарочно в лесу живут, чтобы по дрова далеко не ездить? И Рыжий Вася, наверно, где-нибудь здесь живет…
Усталый конь тяжело тянет телегу по песчаной дороге. Показались первые домики пригорода. Доржи встал на телеге, держится за плечо отца. В котловине между гор, как на огромной мозолистой ладони, лежит на желтом песке Кяхта.
СРЕДИ НОВЫХ ДРУЗЕЙ
Утром Банзар повел сына в школу. Улица, на которой помещается школа, называется Большой. Доржи разглядел все — и коричневую крышу на деревянном доме и красный узорчатый карниз. Он сосчитал: двенадцать окон, а над ними деревянные буквы: уездное уч…лище.
Во втором слове пятно. Доржи догадался, что там не хватает буквы. Слово незнакомое, он не знает, какой буквы не хватает. «Наверно, написано, что здесь школа, в которой учатся дети казаков и пятидесятников», — решил мальчик.
За столом сидит человек. У него рыжеватая борода, мохнатые брови. Он пишет и так низко склонился над столом, что носом чуть не касается бумаги.
Отец терпеливо ждет. Наконец тот, с рыжеватой бородой, кончил писать, поднял голову и указал на стул. Отец сел. Доржи сел на пол, но отец дернул его за руку, и Доржи вскочил. Рыжебородый некоторое время рассматривает Доржи, потом говорит:
— Сними шапку, не баранов в степи пасешь.
Доржи срывает с себя шапку, будто это не шапка, а горячий чугунок.
— Как тебя зовут?
— Доржи, сын Банзара. А отец — Банзар, сын Боргона…
Учитель (Доржи уверен, что человек за столом — учитель) улыбнулся бойкому ответу. Отец тоже доволен: сын не испугался, не спрятался за его спиной. Учитель что-то записывает, подзывает отца, тот расписывается гусиным пером. Доржи заметил в углу бумаги двуглавого орла с раскрытыми крыльями. Ему вспомнился серебряный полтинник Тыкши Данзанова.
Интересно, зачем расписался отец? Он уедет, а Доржи останется. Отец своей подписью привязал его, как теленка. Вот так же Данзанов продал Рыжему Васе несколько коров: расписался на какой-то бумаге, и скупщик забрал скотину. Доржи грустно… Отец подтолкнул его к двери, они вышли.
— Этот человек — смотритель уездного училища. Николай Степанович Уфтюжанинов. Он в вашей школе самый главный.
— Уфту… Уфту… — Доржи не может выговорить фамилию начальника. Ему стыдно: как же он станет учиться, если фамилию не может сразу запомнить?
— Жить будешь вот здесь, — отец показывает на деревянный домик во дворе.
Посредине большой комнаты — длинный некрашеный стол, вокруг него скамейки, тяжелые и крепкие, как телеги. У стен — кровати, узкие и высокие. За столом сидят два мальчика, читают. Еще один спит на кровати. Из-под овчинного одеяла торчат его ноги.
— Посиди. Я схожу за сундуком.
Отец вышел. В комнату вбегает мальчик, бросает на стол ранец, шапку вешает не на вешалку, а на самоварную трубу около двери. Доржи с интересом следит за ним — ростом он повыше его, лицо красноватое, волосы черные. На носу пятно от чернил. Под глазом синяк, толстая губа рассечена…
Не двойняшки ли мальчики, которые читают за столом? Одеты они почти одинаково, глаза у обоих пугливые, недоверчивые. Тот, что немного поменьше, косоват.
Мальчик, который пришел последним, садится на кровать и стаскивает с ног пыльные унты. Он кричит тем двум:
— Высушите мне чулки!
Косоглазый на лету ловит чулки и выбегает во двор. А с кровати раздается новое приказание:
— Принесите чернила!
Второй мальчик подает чернильницу.
Доржи подходит к столу, за которым уселся толстогубый, заглядывает ему через плечо. Тот выводит на обложке тетради: «Ученик второго класса русско-монгольской войсковой школы Гытыл Бадаев».
Те двое боязливо шепчутся, будто в комнате лежит больной.
— А ну, тише! — цыкнул на них Бадаев. — А то ашабагадский теленок проснется, — он кивает на спящего.
Гытыл обошел стол, не оборачиваясь, спрашивает Доржи:
— Ты из харанутского рода? Правду говорят, что собаки виляют хвостами, а харануты — языком?
— Я из первого табангутского рода.
— Ну? Не врешь? Тогда мы из одного рода. Эти двое — харанутские, спит ашабагадский теленок. Если не хватит бумаги, будем писать на его шкуре.
Доржи не знает, что ответить.
— Я из сартулов, — говорит Доржи, чтобы отвязаться.
— А-а… Ну, тогда я с тобой иначе буду разговаривать. Сартульские двуногие быки в прошлом году забодали моего брата.
— Ну и что же?
— Как это — что же? Да ты меня не боишься, что ли?
— А чего тебя бояться?
Гытыл замолчал, обдумывая слова Доржи.
— Ну раз так, будем дружить, — неожиданно предлагает он.
Те двое за столом испуганно переглянулись. В сказке говорят, если в поход отправляются жилистый и зубастый, для окружающих радости мало…
— Уж не заболел ли Ганжур? Что-то долго спит, — косоглазый вопросительно смотрит на Гытыла.
— Я его сейчас вылечу, клопа пущу.
Гытыл достает из кармана кремень, трут и огниво. Он высекает искру, подносит к ноге спящего тлеющий трут. Тот мигом вскакивает. Все смеются.
— Клопы не любят сонь, — назидательно говорит Гытыл и незаметно показывает на Доржи.
Ганжур подходит к Доржи, поднимает на него заспанные злые глаза. Доржи не успевает сообразить, как получает в лоб звонкий щелчок.
— Бар… барана тебе в подарок!
Доржи поднимает руку и изо всех сил щелкает Ганжура в лоб. У того трясутся щеки, показываются слезы.
— Коз… козу тебе в подарок! — выкрикивает Доржи.
— Молодец, Доржи! Еще можно коня, верблюда, корову подарить, — подзадоривает Гытыл.
Мальчики стоят друг против друга со сжатыми кулаками. Оба готовы и подраться и разреветься.
— Здорово он тебе влепил, Ганжур. Даже у меня лоб чешется, — дразнит Гытыл.
Ганжур бросается на Доржи. От новой рубашки Доржи оторвалась пуговица, покатилась по полу.
— Отпусти, рубашку порвешь!
Бадаев, не вставая со скамейки, дернул Ганжура за плечо. Тот упал и оглядывается вокруг: ищет, чем бы запустить в своих недругов.
— Хватит, — спокойно говорит Гытыл. — Побаловались. Нечего пыль поднимать.
В комнату воШел отец, принес сундучок и постель Доржи.
— Ну, я уезжаю. Учись хорошо, не дерись с ребятами. Понял?
— Понял.
— А пуговица где?
— Оторвалась.
Отец оглядывает комнату, ребятишек. Останавливает взгляд на Гытыле, который исподлобья посматривает на него.
— А ты не смей обижать моего сына. Я живу недалеко, служу в карауле начальником. Если Доржи заплачет — услышу. Учителям да смотрителю жаловаться не буду. Я пятидесятник, скажу твоему отцу — он шкуру с тебя спустит.
Гытыл молчит. Доржи с отцом выходят во двор. Отец садится на телегу, наказывает сыну:
— Я предупредил смотрителя… Если ребята будут обижать — скажи ему. Слушайся учителей, не озорничай.
Банзар не поцеловал сына на прощанье. Хлестнул лошадь, выехал за ворота. А в глаза Доржи, наверно, попали комары — у него текут слезы, сквозь них видятся две телеги, два отца машут кнутами. Доржи не вытирает слез. Теплые капли бегут по щекам. Он думает о матери, слышит ласковые слова, которые она сказала бы ему сейчас…
— Постереги мой сундук, Доржи, — приказывает Гытыл. — А я погуляю.
— Таскай свой сундук с собой.
Гытыл удивлен:
— Вот ты какой…
Доржи достал Сашин подарок — букварь — и говорит:
— Зачем нам ссориться? Табангутские, сартульские, ашабагадские, харанутские — все одинаковы. Незачем, Гытыл, обижать ребят из других родов.
— Ты меня не учи… Видал я таких умников. Вот я тебя…
— А ну, ударь…
— И ударю. Что ты мне сделаешь?
Доржи и сам не знает, что сделает. Но Гытыл не ударил, хлопнул дверью и ушел.
Доржи знакомится с остальными мальчиками. Косого паренька зовут Цыдып, а его товарища — Шираб.
— Приедет Аносов, Гытыл перестанет задираться, — говорит Цыдып.
«КРАСИВА ЛИ МОСКВА?»
Мальчики идут по городу. Доржи все интересно. Вот круглые крыши русского дацана, похожие на копны сена. Какие большие окна у магазинов — на коне можно въехать!
На берегу Грязнухи — чайные склады. Напротив богатого дома купца Немчинова — вонючая зеленая лужа. В ней возятся ленивые свиньи. Тут же шагают какие-то гордые птицы. Доржи не видывал таких: важные, как тайша. А рядом маленькие. Они неторопливо выступают в белых халатах, в сапожках из красной кожи. Доржи слышит, как они говорят друг другу: «баян — хушэр, баян — хушэр» (богат — силен, богат — силен)… Ганжур и Шираб рассказывают Доржи, как называются улицы, где чей дом, магазин, что такое трактир, приют…
Вот и гостиные ряды. Сегодня базарный день, и народу — как муравьев в муравейнике. Брось вверх шапку, она упадет не на землю, а кому-нибудь на плечи и поплывет, как на волнах. Ржут кони, скрипят телеги. На телегах — бочки со смолой, кадушки с медом, мешки с мукой, солью. На свежих шкурах разложено мясо. На длинной телеге блестят глазурью глиняные горшки. Хозяин легонько ударяет по ним кнутовищем, и горшки звенят — каждый по-своему. В мешках пронзительно визжат поросята, кто-то с шумом бросает листы кровельного железа, пьяный трясет над головой мешочком с медными деньгами. Кажется, что люди пришли сюда не продавать и покупать, а ругаться, кричать, махать руками. Купцы выпячивают животы, наверно чтобы казаться потолще. Они заросли мохнатыми бородами, из каждой бороды можно свить крепкую веревку. Купчихи метут землю шелковыми кистями узорчатых шалей.
Мальчики идут мимо куч чая, закрытых парусиной. Издали эти кучи можно принять за войлочные юрты. Рядом ругаются нарядные монголы, гортанно бормочут костлявые китайские купцы, разодетые в дорогие шелка. Полуголые грузчики, надрываясь, таскают сверкающие кипы шелка, огромные вороха мехов. В другом ряду — кожевенные товары: юфть, козловые и опойковые кожи. Дальше — ткани, ковры.
— Как много добра! — Доржи ошеломлен. — Какой богатый город!
— Богатый город! — насмешливо повторил Шираб. — В Кяхту свозятся товары из трех стран — из России, Китая, Монголии… Смотри, вон китайские цупны сколько мехов скупили!
Мимо мальчиков важно шагают верблюды, нагруженные вьюками мехов. На последнем покачивается китаец с длинной косой.
Доржи смотрит во все глаза. К прилавку подходит человек в залатанном зипуне, совсем как халат у Эрдэмтэ-бабая. Ему надо купить фунт подсолнечного масла. Он пробует то у одного, то у другого, говорит: «Вроде горчит, вроде жидковато…» Наконец покупает. Долго роется в большом истрепанном кошельке, осторожно вытряхивает медную мелочь, подносит к глазам, показывает лавочнику монету, спрашивает, сколько эго копеек. Потом вздыхает, вытаскивает из-за пазухи какую-то тряпицу, в уголке узелок. Развязывает зубами, достает полтинник. Долго пересчитывает сдачу.
Следом идет другой — бородатый. Говорит важно и громко. Этот выбирает рыбу, смотрит, нюхает ее. Покупает несколько бочек, вынимает из кармана новые, шуршащие бумажки. Купец, похожий на Рыжего Васю, суетится, торопливо отсчитывает сдачу.
Но вот сквозь крик и гам ясно послышался чей-то печальный голос. Доржи увидел старика с морщинистым лицом, длинным горбатым носом. Глаза прикрыты черными стеклами, седые волосы растрепались. Перед ним лежит на земле старая солдатская фуражка без козырька. В руках у старика маленький желтый хур, похожий на муравья. Хур поет и плачет. Доржи вспоминается Борхонок, родной улус.
Старик наклоняется, ищет и не может найти свою фуражку. Он слепой. Наконец нащупал фуражку, достает несколько медных монет, выбрасывает из фуражки камешек и сухие крошки конского навоза, которые бросили туда озорные ребята.
— Кто это? — спрашивает Доржи.
— Это Соломон, его здесь все знают.
— Почему его шапка на земле лежит?
— Туда бросают ему деньги на хлеб.
Под самой высокой крышей — большие весы. Рядом весело переговариваются, курят русские и буряты. С бочонка соскакивает парень с усиками, подходит к Доржи.
— Ты откуда?
— Из Ичетуя.
— Зачем приехал?
— Учиться…
— Учиться? Вот хорошо!.. Хочешь посмотреть Москву?
Доржи вспоминает картинки в Сашином букваре: на одной — Москва, на другой — Петербург.
— Хочу.
Веселый парень с усиками подхватывает Доржи на руки, ставит на чашку весов, как мешок муки. Чашка поднимается вверх, мальчик оказывается над площадью, под самой крышей сарая. Вторую чашку спускают вниз, накладывают на нее камней, гирь. Доржи держится за железную цель, смотрит вниз, на шумную толпу. Там смеются, показывают на него пальцами… Чашка весов раскачивается, как лодка на реке. Внизу кто-то шутливо напевает: «Бай-бай, бай-бай». Это еще больше сердит Доржи.
К весам подходит невысокий мужчина.
Доржи удивляется: щеки у него заросли бородой, а подбородок голый! Мужчина осуждающе качает головой, что-то говорит. Весы опускаются. Доржи шмыгает в толпу. Опять вокруг смех, крик, шум. Мимо пробегает молодой парень с окровавленным лицом, за ним — толстый купец с железной палкой в руке. Неужели он ударит его этой железиной?
— Эй, красива ли Москва? — кричит кто-то Доржи.
Доржи не отвечает.
Вечером Гытыл угощает всех пряниками, леденцами. Доржи не берет. Он лежит на кровати, вспоминает родной улус, юрту, думает о матери. Что она сейчас делает? Шьет что-нибудь… или доит коров. А может, вяжет теплые чулки?
Мальчик закрывает глаза. Ему хочется вбежать в юрту и радостно крикнуть: «Мама, мама, я вернулся к тебе!»
«Почему я раньше так редко помогал матери? — думает мальчик. — Почему не уступал ей самый вкусный, лакомый кусочек?..»
Мать никогда не сидит без дела. Если растянуть все шкуры и кожи, которые она обработала, на них можно поместить все стада Мархансая. Если растянуть нитки, которые она спряла, хватит до самого далекого города земли — до Петербурга…
Доржи ясно видит лицо матери — седые волосы на висках, морщинки у глаз. Тоска щемит сердце мальчика. Ему вспоминается господин смотритель: колючий взгляд, рыжие усики… Потом — старик Соломон. В руках у него стонет маленький желтый хур… Вот бежит, как дикий гуран, парень с окровавленным лицом. Койка стала вроде чашки весов, качается у самого потолка. Опять слышатся жалобы стариковского хура, звуки летят над долинами Джиды и Селенги, встречаются в синем небе с песнями старого Борхонока.
ПЕРВЫЕ ДНИ
На следующее утро приехали еще пять учеников. Койку рядом с Доржи занял Муни Батуев. У него желтые глаза. Он до самых бровей зарос жидкими бесцветными волосами. Приехали Шагдыр Зориктуев, Рандал Сампилов, кривоногий Дондок Мункуев. Высокий казак привел сына, поставил около самовара его сундук, наказал хорошо учиться, не драться с ребятами. Так же, как отец Доржи, припугнул мальчишек. Ребята оглядели казацкого сына: куда уж с ним драться, он и так едва не плачет…
— Как тебя зовут? — спрашивает Доржи.
Тот отвечает тонким жалобным голосом:
— Цокто Чимитов.
Доржи читает по-монгольски и по-русски, умеет складывать и вычитать.
Его приняли во второй класс. Но многого он еще не знает, придется догонять.
Доржи садится за один стол с Цокто Чимитовым, В классе шумно. Над черной доской — две позолоченные рамы. В одной — царица с большущими удивленными глазами, во второй — румяный остроносый царь. На другой стене. — в маленькой потрескавшейся рамке кудрявая женщина. В руке у нее гусиное перо. Голову она наклонила набок и смотрит на Доржи.
— Что это за женщина? — спрашивает Доржи у соседа.
Гытыл смеется:
— Это не женщина. Это мужчина. Самый большой ученый России, сын рыбака.
Доржи стыдно: самого большого ученого России принял за женщину… Он рассматривает портрет. Как сын рыбака смог стать самым большим ученым? На стене заметил еще одну рамку. В ней — седой старик с орденами и лентами. Доржи видел его в книгах Степана Тимофеевича.
— Этого я знаю, это Суворов, — уверенно говорит он.
Ребята смеются. Гытыл присвистывает и топает пыльными унтами.
— Нет, брат, не Суворов, а Державин, — поправляет Цыдып.
— Тоже военный начальник?
— Нет. Он — учитель Пушкина, пиит.
Вот какая беда: мужчину называет женщиной, учителя путает с военным начальником…
Кто-то кричит: «Идет!» Это вызывает такой же переполох, как слово «думцы» в улусе. Наступает тишина. Только густая пыль по-прежнему висит в воздухе. Входит учитель арифметики Адам Адамович Крыштановский. Все встают. Встает и Доржи. Учитель показывает на доску, спрашивает:
— Это чей скакун? Выходи к доске.
Все-молчат, кажется, даже не дышат. Адам Адамович еще настойчивее повторяет вопрос, показывает на доску. Там нарисована лошадь с горбом, как у верблюда. Во рту у лошади трубка. Учитель подходит к Гытылу.
— Твой скакун?
— Мой…
— Садись на него.
Гытыл неохотно встает, прикрывает голову руками. Адам Адамович размахивается линейкой и шлепает его по шее.
— Садись, — уже беззлобно говорит он Гытылу.
Доржи разглядывает учителя. У него круглое безусое лицо. Голова блестит, как начищенный самовар. Одет он во все черное, только воротничок рубашки белый. Учитель часто вытирает платком свой шишковатый нос.
— Положите руки перед собой, — приказывает он. — Кто там чешет шею? Перестань, а то я линейкой почешу… Арифметика, которую мы с вами изучаем, — мать всех наук. Ясно? Без арифметики, как без ног, нельзя сделать ни одного шага… Цокто Чимитов — к доске.
Чимитов у доски. Адам Адамович не поворачивается к нему, говорит медленно, со вздохами, будто не ребят учит, а кому-то на свои болезни жалуется:
— У тебя есть два рубля. Ты зашел в магазин купца Собенникова. Пиши…
Цокто в верхнем углу доски пишет цифру «200». «Ага, — догадывается Доржи, — в двух рублях двести копеек».
— На пятьдесят копеек ты купил чаю для матери. Сколько денег осталось?.. Ну-ка, отвечай! — учитель кивнул Ширабу.
Тот вскакивает с места, вытягивается, как казак перед атаманом, и гаркает во все горло:
— Сто пятьдесят копеек!
— После этого ты купил на гривенник сахару. Сколько осталось? — учитель показывает пальцем на Доржи.
Доржи встает и отвечает:
— Два рубля осталось.
Ребята смеются. Доржи краснеет.
— Как же так? — разводит, руками учитель. — Чаю купил на полтинник, сахару на гривенник, а денег не убавилось. Ты, наверно, приказчика надул?
Доржи молчит.
— Ну, садись. А ты, Цокто, помогай новичку. Будет плохо заниматься, переведем в первый класс. Цыдып, иди к доске… После всех покупок осталось, значит, сто сорок копеек. Ты покупаешь еще три аршина ситца по двадцать копеек, приказчик протягивает тебе покупку… Что ты делаешь дальше?
— Забираю покупку и ухожу.
— Эх, Цыдып, Цыдып! Ты всю арифметику за лето с молоком выпил, — качает головой учитель. — Надо сказать приказчику: «Я изучаю арифметику с Адамом Крыштановским. С вас, господин приказчик, следует восемьдесят копеек сдачи». Понял?
Учитель поднимает палец с золотым перстнем, собирается еще что-то сказать, но звенит колокольчик: «Хватит, хватит, хватит!» Адам Адамович собирает книги и торопливо выходит. В классе галдеж. Гытыл прыгает с парты на парту. Но вот опять звенит колокольчик, перемена кончилась. Начинается урок рисования.
Учитель рисования Артем Филиппович Крюков — сутулый, маленький человек. В руке тросточка. Под мышкой бумага, свернутая в трубочку, и зеленая папка. Костюм вымазан мелом. Артем Филиппович старается строго смотреть на учеников, но из этого ничего не получается: из-под густых бровей блестят умные, добрые глаза.
— Люди научились рисовать очень давно, — говорит он, поглаживая редкие светлые усики. — Первые письмена состояли из рисунков. До нас дошли эти древние изображения. Наши предки оставили нам свои рисунки на каменных плитах, на утесах и скалах. Многие из них еще не разгаданы.
«Это все равно, как отец Затагархана писал на ноже свои заветные мысли. Только на скалах лучше, — решает Доржи, — Нож легко потерять, лама за лекарство может отобрать. А скалы вечно стоят. Их ведь люди с собой не носят, не дарят, и ламы не могут положить эти скалы с письменами в свои кожаные мешки».
Артем Филиппович показывает на доске, как древние люди изображали орлице, зверей, птиц. Ребята же смотрят не на доску, а на спину учителя и смеются. Теперь и Доржи видит, что у того на мундире ниже двух тусклых пуговиц — большая шестиконечная звезда. Гытыл нарисовал ее мелом на спинке стула, Артем Филиппович не разглядел и прислонился… Сейчас он ходит между партами, показывает рисунки в альбоме. Доржи с интересом слушает объяснения.
В конце следующей перемены в класс заходит смотритель.
— Кто измазал мелом стул? — строго спросил он. — Встать!
Все молчат. Тогда смотритель подходит к Гытылу Бадаеву, схватывает его за ухо, нагибает и три раза стукает головой об стол.
— В угол до конца урока ламайской веры бесстыдник!
Урок ламайской веры тянется долго. Лысый маленький Содном Хайдапович Бимбажапов бубнит о том, о чем ребята много раз слышали от стариков и старух, отцов и матерей, от лам, — о грехах и добродетелях, об аде и рае. На Бимбажапове — широкий коричневый халат с длинными рукавами, как у монголов. Вот он достает китайскую фарфоровую баночку с синими драконами, нюхает табак. Доржи ждет — все-таки развлечение, — что учитель сейчас чихнет, но тот только жмурится и вытирает нос красным платком. Как будто откуда-то издалека доносятся слова: «Десять белых добродетелей. десять черных грехов…»
Скорее бы кончился урок!
Следующим уроком было российское землеописание.
Учитель Иван Сергеевич Белогорский, когда рассказывает, кладет на стол маленькие полные руки, хмурится. Лицо у него смуглое, полное. Ему жарко. Он расстегнул на груди рубашку.
Доржи внимательно слушает учителя. Гытыл говорит, что учитель рассказывает много такого, чего нет в учебнике. Сейчас он заговорил про Урал.
— Горы там богаты отменно. Снаружи-то, простым оком, немного узришь. Скалы, сосны, снега белые. А чуть притронулся, камень какой с места сдвинул — и уже перед тобою загадка. Столько минералов знатнейших, столько горных пород богатых, что даже самые ученые мужи диву даются. Михайло Васильевич Ломоносов премного помог своими трудами в овладении естественными богатствами отечества…
Иноземцы многажды делали набеги на русские земли, — продолжает учитель. — Они помышляли не токмо изничтожить престол государя, но и завладеть всеми сокровищами, коими природа так щедро наградила наше любезное отечество.
Иван Сергеевич остановился.
— Все ли понятно?
Поднял руку Гытыл Бадаев.
— Ты, Бадаев, не помышляй спрашивать о том, что не входит в круг нашего урока.
— Иван Сергеевич, я в одной старой-старой книге читал, что на Урале были заводы Демидова. Они и сейчас есть. Сколько же лет этому Демидову?
— Сколько лет заводам, столько и Демидовым. Один Демидов умирает, появляется второй, третий, четвертый. Демидовский завод не бывает сиротой.
— Иван Сергеевич, у нас в улусе один проезжий останавливался. Говорил, что на тех заводах людям очень тяжело.
— Я же сказал, Бадаев, чтобы о не относящемся к уроку не спрашивать… Хватит. Кто перечислит полезные горные породы?
Поднимается несколько рук.
…Последний урок называется военная экзерциция. Учителя зовут Микушкин. Он говорит по-бурятски так же, как по-русски. Под командой Микушкина ребята шагают во дворе с деревянными ружьями на плече. Очень интересно! Доржи вспоминаются картинки в избе Степана Тимофеевича: Наполеон в треуголке, люди на конях с шашками наголо. Да, это не то что урок ламайской веры!
Гытыл ни одной минуты не может усидеть на месте. Он всех задирает, мешает делать уроки.
— Почему ты такой беспокойный? — спросил его Доржи.
— Огонь у меня в груди.
Гытыл подошел к Цыдыпу.
— Давай деньги!
— У меня нет.
— Врешь! — Гытыл с размаху ударил Цыдыпа и вытащил у него кошелек.
— У меня целее будет, у тебя ребята отберут.
Цокто Чимитов отдал Гытылу деньги сразу, как только тот подошел.
— Если ты, Цокто, кому-нибудь скажешь, я пущу тебе сокола, — пригрозил Гытыл.
Никто не знает, что за сокол у Гытыла, но все боятся.
— Рандал, а у тебя есть деньги?
— Есть.
— Много?
— До весны хватит.
— Отдашь мне?
— Как же не отдать, — усмехнулся Рандал.
— Ну, давай!
— Мои деньги у господина смотрителя. Иди, может, он и отдаст.
— Ну и дурак, только песни горланить умеешь.
Доржи понравилась выдумка Рандала. он решил так же увернуться от Гытыла. Но тот уже придумал новую затею: пристроил над дверью дощечку и на нее поставил кружку с водой. От дощечки протянул нитку к двери и привязал к ручке. Ребята с нетерпением ждали, чтобы кто-нибудь вошел.
Ждать пришлось недолго. Заскрипели ступеньки, в комнату шагнул сам смотритель. На его новую фуражку с блестящим козырьком, с белым гербом вылилась целая кружка воды.
Мальчики обмерли. Смотритель снял фуражку, стряхнул воду, решительно подошел к Гытылу, схватил его за ухо и, как дикого коня на поводу, повел к кровати. Гытыл понял. Он стал собирать свои пожитки.
— Это ты бросил дохлую кошку в ящик с чаем в магазине Собенникова? Это ты связал хвостами коров у Соднома Хайдаповича?..
— Господин смотритель, он сам рассказывал, что и бурхан-багша в юности любил чудить…
— Замолчи, дурень. Ты из школы исключен. Если покажешься здесь, в полицию отправлю.
Гытыл вернул деньги Цыдыпу и Цокто. Сказал по-бурятски:
— На прощанье обмыл смотрителя святым аршаном. Будет дольше жить, вас мучить…
Мальчики долго вспоминали проделки Бадаева. На память о нем остались клички, которые он щедро раздавал каждому: «Желтый генерал» Шагдыр, «Синий мальчик» — Цокто, «Алый теленок» — Ганжур. Гытыл не успел одарить кличкой Доржи, но в школе его прозвали «Красива ли Москва?»
Доржи все больше тоскует по дому. Не нравится ему этот шумный город, сердитые учителя, пшенная каша, щи и рисовый суп, которыми кормят в столовой. Мать и соседки никогда не готовят такой противной еды.
Дома захотел играть — играй, захотелось спать — ложись, вздумал искупаться — беги к речке. А здесь ты будто на цепи, как бурхан-в божнице, — ни повернуться, ни поболтать. Спать загоняют рано, будят чуть свет, поваляться в постели не дают. Надоела и эта военная экзерциция. Как только Доржи встает в строй, ноги перестают слушаться его. Какой интерес топтаться на одном месте, махать руками? Может быть, Микушкин просто смеется над ребятами? Писать буквы, слова, добавлять и отнимать числа — это дело, а ходить Доржи умеет и без учителей.
Нет, не нравится ему здесь. В улусе все не так. Если чего не знаешь, спроси у взрослых. Разве мало узнал Доржи от Мунко-бабая, Эрдэмтэ-бабая, от дяди Еши? А ведь они не кричали на него, не били линейкой, не смотрели злыми глазами.
Трудно столько уроков высиживать за столом — ноет спина. Нет, Доржи не привыкнет к этим чужим порядкам.
Наверное, у Доржи в груди поселился хитрый зверек. Когда тот спит, Доржи спокойно. Но вот зверек просыпается, начинает потягиваться, поворачиваться с боку на бок. И тогда мальчику хочется порвать учебники, вылить чернила и бежать в родную степь. Ведь убежал же Ганжур…
Доржи представляет себе, как он убегает. Вот юрта, где они с отцом ночевали. На пороге сидит противный старикашка. Он увидел Доржи и обрадовался: «Ага, убежал? Значит, не сладко в школе-то? Поедешь в Кяхту учиться? Бедняга… Накормите его, а то он умрет с голоду…»
Доржи уже давно Лежит в постели. Все мальчики спят За окном темная ночь. Доржи тоже хочет уснуть, он закрывает глаза, считает до ста, но сон, видно, рассердился на Доржи — обходит его. Как весело было в эту пору в прошлом году!
…Отец вернулся с жатвы. На телеге были постелены кожи, сложены снопы — колосьями друг к дружке.
Отец помог матери взобраться на воз. Та осторожно, как родных детей, стала подавать с телеги снопы. Отец укладывал их, пузатых, подпоясанных золотистыми кушаками, на деревянной площадке… Под ногами шуршала помятая трава, бесцветная сухая солома. В соломе тонко пищали пугливые мыши, прыгали взъерошенные воробьи. Бестолково тыкалась Хоройшо, всем мешала… Откуда-то пришла пестрая бездомная кошка.
А когда наступили заморозки, отец на небольшой площадке срубил лопаткой всю траву, выровнял землю, полил ее водой. Потом он уехал в караул. Доржи с матерью разостлали па этой площадке овчинные одеяла — шерстью вниз. Доржи взобрался на самую верхушку стога, стал — сбрасывать тяжелые снопы. Мать перетаскивала снопы на площадку, на одеяла, трясла их, била палками. Потом она стала веять зерно. Мать не. умеет свистеть — приглашать ветер, — свистел Доржи: ветер услышал и заторопился, прибежал из-за семидесяти гор играть и свистеть вместе с ним.
Доржи любил смотреть, как мать веет зерно. Будто стоит она перед очагом, из которого поднимается живое веселое пламя; пыль, мелкая рыжая мякина — вроде сизого дыма. Крупные зерна прыгают внизу и потрескивают, как горячие угольки. А по краям очага скапливается седой пепел — мелкие семена сорных трав.
Лучшие, крупные зерна, падают вниз. С ними — мелкие камешки, сухие ягодки шиповника, зубчатые колечки мертвых червяков. Мать долго, с женским терпением, выбирает из зерен сор. Около нее прыгают довольные воробьи, выхватывают из-под рук зерна.
— Мама, поймай воробья, — просит Доржи.
— Суп, что ли, из него варить?
— Они зерна растаскивают..
— Ничего, тебе останется… А их ждут голодные птенчики…
Любил Доржи вместе с братьями молоть зерно на ручной мельнице. Она стоит возле сарая — большая, тяжелая. Еще дед Боргон положил круглый камень с дыркой в середине на другой камень. С тех пор мельница не знает покоя. На ней мелют зерно все соседи. Доржи знал, у кого какое зерно, кто мелет чаще других. У Ухинхэна зерно тощее, синеватое, с головней; у Холхоя — набухшее в воде, рыхлое…
У Мархансая своей мельницы нет. «Зачем тратиться на покупку мельницы, когда у соседей можно молоть?» — рассудил Жарбаев. От него чаще всех приносили зерно: через каждые три дня. Доржи любил, когда приходил Балдан. Тяжелый камень легко слушался его… Балдан приноровился насыпать зерно, не останавливая мельницу. Казалось, что камень вот-вот соскочит и разобьется о стенку. Приходила и слепая Тобшой. Она чисто собирала после себя муку — зрячий так не сумеет.
— Ни одного зернышка не уронили, — удивлялась мать.
— Зачем ронять? Моя бабушка тоже была слепой, так она даже шубу себе сама кроила, другим не доверяла.
Берестяные туески делала, на продукты меняла, нас кормила, — отвечала Тобшой.
Многое вспоминается Доржи: переезд на зимники, дни сагалгана, песни Жалмы, веселые рассказы Еши…
АЛЕША АНОСОВ
В воскресенье ребята не сидели дома. У каждого в городе есть знакомые. Только Доржи идти было некуда. Он стоял у окна, смотрел на улицу. Мимо проходили нарядные горожане, в обнимку брели, покачиваясь, пьяные. Усатый полицейский прохаживался возле питейного заведения. На пролетке важно восседала женщина — вся в черном, с пером на большой шляпе. У ее ног — маленькая лохматая собачонка.
За спиной раздался голос:
— «Приветствую тебя, пустынный уголок!»
Доржи обернулся. У дверей стоял худощавый мальчик. На нем поношенная рубаха, на плече — мешок. В руке — перевязанные веревкой книги. У мальчика большие зеленоватые глаза, по лицу рассыпаны веснушки. «Как у Саши», — подумал Доржи.
Мальчик пристроил книги на краешек стола, вытащил из мешка одеяло, сшитое из цветных лоскутков, положил его на свободную кровать. Сдернул фуражку, стал оглядывать стены и неожиданно проговорил по-бурятски:
— Неужели не могли вбить лишнего гвоздика?.. Ты новичок? Я Алексей Аносов.
— А я Доржи, Банзара сын.
Доржи понравилось, что Алексей держится просто, дружелюбно.
— Где ты научился говорить по-нашему?
— Мы живем в бурятском улусе, казаки. Все песни, все загадки бурятские знаю. Ты погоди, я сейчас…
Алексей куда-то убежал, принес ведро воды, щепок, поставил самовар.
— Будем пить чай. Доставай свою кружку, — по-хозяйски распоряжался Алеша. — Я гостинцы из дому привез.
Он развязал мешок, стал выкладывать на стол белый хлеб, свежие огурцы, вареные яйца.
— На, попробуй, — Алеша протянул Доржи румяную лепешку. — Мама пекла.
Доржи взял. Она оказалась с творогом. Сладкая, вкусная.
— Хорошая лепешка, — похвалил Доржи.
— Это, брат, не лепешка. Шанежка.
Самовар вскипел. Мальчики уселись за стол.
— Ну, как тебе школа? Нравится? Гытыл не пристает?
— Гытыла уже нет, исключили, — с грустью ответил Доржи. — Веселый был…
И Доржи с увлечением стал вспоминать о проделках Гытыла. Когда он рассказал, как Гытыл облил водой смотрителя, Алеша рассмеялся.
— Вот за это молодец! А вообще-то не люблю я его. Обижает тех, кто послабее.
— Он же сильнее всех. Что ж, ему никого и не трогать?
— Сильнее… В прошлом году я ему так наподдавал, смирным потом ходил… Хочешь, я покажу, как любого можно с ног сбить? А ну, встань.
Доржи вылез из-за стола. Алеша подскочил к нему, подставил ногу и изо всех сил толкнул в грудь. Доржи упал, Алеша придавил ему лопатки к полу.
— Все. На лопатках. Отпустить?
— Отпусти, — чуть не плача, проговорил Доржи. — Прыгаешь, как дикий козел.
— Да ты никак обиделся? Я же показываю, как надо.
Доржи надулся, стал смотреть в окно. Алеша тряхнул головой.
— Я ведь охотник, а на охоте ловкость нужна. Ты думаешь, почему я в школу опоздал? На охоте был.
— Ну?
— А что, не веришь? У нас в степи дрофы водятся. Знаешь, степные курицы… Больше барана. Хитрые… Близко не подпускают. Вот мне и захотелось добыть такую.
Доржи сел на скамейку. Он уже забыл про свою обиду.
— Поймал?
— Какой ты быстрый! Взял я потихоньку у отца ружье — и в степь. Темно еще было. Я спрятался за камнем. Солнце взошло, смотрю — тут они. Три штуки. Стал подкрадываться, они заметили, побежали. Знаешь, как они бегают, ого! Ну, я за ними, а они дальше. Подпустят немного и опять убегут. Один раз совсем близко были.
— Чего ж ты не стрелял?
Алеша смутился.
— Боязно было? — понимающе спросил Доржи.
— Ага. — Но Алеша сразу же спохватился. — Не то что боязно, я живьем хотел поймать.
— Ну и как, удалось?
— Да не перебивай же ты! Подкрался я к одной дрофе, схватил ее за ногу…
— А она и взлетела, — подсказал Доржи.
— И вовсе не взлетела. Кричать стала. Тут со всей степи набежали дрофы и ну бить меня крыльями, долбить клювами. Я — бегом, они — за мной, целое стадо. Ей-богу. Вижу — гора. Я и спрятался за камнями, ружье высунул да как бабахну!
— Попал?
— Попал. Трех сразу убил.
— Как же ты их домой донес? Они ведь тяжелые.
Алексей, видно, растерялся, потом быстро проговорил:
— Я их бросил… Стало темнеть. А я далеко зашел, дороги не знаю. На второй день только домой попал — пастухи дорогу показали, хлеба дали.
— Со мной почему-то ничего такого не случается, — вздохнул Доржи. — Ты вон какой храбрый.
Алеша снисходительно усмехнулся:
— Это что, со мной и не такое бывало. Потом расскажу.
— Расскажи сейчас.
— Надоело. Пойдем лучше в город. На базаре, наверно, народу много. Может, драка будет… Побежим скорей, а то еще дежурный привяжется.
Ребята шагают по песчаным улицам. Доржи с уважением и завистью посматривает на Алешу. Почему он, Доржи, ни разу не взял у отца ружье? Вот и нет у него ничего интересного.
По обеим сторонам улицы — покосившиеся домики с подгнившими заборами. У каждого дома, даже у самого плохонького, — большие красивые ворота. Иные с тонкой узорчатой резьбой по карнизу. «Это, наверно, обычай такой. Русские любят широко открывать ворота для дорогих гостей, вот и стараются, чтобы ворота были красивыми. Заходи, в доме найдется место для доброго человека», — думает Доржи. Он вспоминает родной улус. И у бурят такой же обычай! У юрты гостеприимной семьи всегда стоит прямая коновязь, будто приглашает: «Не проезжай мимо. Привязывай коня, в юрте есть чем тебя угостить».
Дома, дома, дома… «В котором из них живет Мария Николаевна?»
Мальчики вышли на площадь. Здесь большая белая церковь — русский дацан.
— Алеша, а что там внутри?
— Как — что? Молятся, а кругом иконы висят. Хочешь посмотреть?
— Меня же не впустят. Еще изругают.
— Со мной можешь не бояться. Зайдем. Там как раз служба.
Когда Доржи вошел в церковь, ему почудилось, будто он овца, попавшая в чужую отару, будто он в. чужом тесном халате… Он огляделся. Со всех сторон на него смотрели с икон изможденные, страдальческие лица. Это, наверно, русские боги. Доржи вспомнились бурятские боги — многорукие, многоголовые, с большими синими животами, с глазами на лбу, на ладонях, на ступнях ног. Изо рта у них пышет огонь. Есть, правда, и другие — золоченые, улыбающиеся…
В церкви гудит густой бас русского ламы — отца Онуфрия. Доржи видел его в школе — он преподает, в уездном училище. С виду отец Онуфрий совсем не похож на ламу Попхоя. У Попхоя шея тонкая, головка маленькая, с куриное яйцо, глаза узкие, будто в две щели налито по капле мутной воды. У Онуфрия же глаза большие и злые. Шея у него толстая, нос шишковатый, красный.
— Возблагодарите господа за судьбу свою, смирением и покорностью снищите любовь и благоволение божье. Терпите муки и страдания во славу царя небесного! Я поведаю вам притчу о святой мученице Харитине…
Доржи отгоняет от себя думы о бурятских богах, слушает притчу о маленькой девочке Харитине.
Отец Онуфрий молитвенно сложил руки, закатил глаза под мохнатые брови.
— Паства моя! Ни словом, ни делом не помышляйте претив господа бога и его наместника на земле — самодержца всея Руси, помазанника божия!
Служба кончилась.
— Ну как? — спросил Алексей, когда они шли домой. — Понравилось?
— Интересно. — Доржи помолчал и добавил: — Ламы тоже всегда говорят, что надо, белого царя и нойонов слушаться.
— А ведь правда. Я был в дацане, — нерешительно проговорил Алексей. Потом сказал задумчиво: — В церкви хорошо поют. На рождестве послушаем, красивая служба будет… Ну, кто скорей добежит! — вдруг выкрикнул он задорно и побежал.
Доржи припустился так, что прохожие шарахались и чертыхались. Но Доржи не до них — ему надо обязательно прибежать первым.
В комнате было темно.
Алеша стал зажигать свечу, нечаянно задел книги, которые так и. не убрал со стола. Доржи принялся собирать. их с полу.
— Как много у тебя книг! Неужели ты все прочел?
— Конечно.
— И помнишь — в какой про что?
— Ну да. Стихи наизусть помню. Слово в слово. Давай вот зажмурюсь, а ты по книжке следи. Пушкина, хочешь, по памяти расскажу? Нам в прошлом году учитель математики Давыдов о нем рассказывал… Ой, хорошо читает!
— Как же так, он ведь задачи должен задавать?
— Ну и что же? А он Пушкина любит и сам сочиняет.
— А почему я его не видел?
— Болеет. Ходить не может, ноги у него отнялись. Хочешь, как-нибудь пойдем к нему вместе, проведаем его?
— Хочу. А ты, правда, слово в слово можешь?
— Могу. Смотри. Вот тут… Эту книгу Пушкин написал.
Алеша раскрыл перед Доржи маленькую истрепанную книжку-. Доржи уткнул палец в страницу, а сам смотрит на Алешу. Алеша встал прямо, высоко поднял золотистую, как у Саши, голову и начал… Будто песню запел. Он то выкрикивал слова, точно Доржи глухой, то шептал, будто боялся разбудить кого-то. Алеша поднимал вверх сложенные ладони, словно ждал, что Пушкин положит на них золотые зерна своих улигеров.
Где, от кого слышал Доржи такие улигеры? Может, они снились ему?.. Нет, вспомнил Доржи, он слышал их от Борхонока. И у того слова плыли, как белые птицы.
Алеша замолк. Он кончил или остановился чуть отдохнуть?
— Алеша… Какой это улигер?
— Это поэма Пушкина. Называется «Руслан и Людмила». Руслан сражается со страшной головой, спасает княжну Людмилу.
— Алеша, а где живет этот Пушкин?
— В Петербурге. Новые книги пишет… Слушай дальше.
Доржи старался представить себе русский город Петербург, который, наверно, еще больше Кяхты. В красивой светлой комнате сидит в русском халате Пушкин. У него, как и у Борхонока, седая борода, в руках — маленький желтый хур. Доржи слышит его голос, видит богатыря, скачущего на сказочном скакуне-хулэге. А ученый кот ходит и ходит на золотой цепочке вокруг высокой сосны, которую русские называют дубом.
Доржи вздохнул.
— Что, надоело? — Алеша замолчал.
— Нет, что ты!
Лицо у Алеши то радостное, то строгое. Доржи не может понять: как это Алеша целую книгу в голове носит? Может быть, он над ним шутит и того, что он говорит, в книге нет. Просто хвастается, что такой умный… А может быть, и в самом деле запомнил. А что, если книга как круглый камень? Толкнешь — он и покатится с горы, до самого подножия. И эта книга так же: только начнешь, скажешь несколько слов — остальные сами придут тебе в голову.
Доржи поглаживает книгу рукой. Страницы у нее желтоватые, буквы маленькие, ровные. Нет ни одной картинки. Слова стоят по четыре, по пять в ряд. Не так, как в букваре, — там слова под картинками или в тесных клеточках, как бараны в загородках.
Сердце у Доржи замерло: неужели и он научится читать вот так, даже без книги?
— Алеша, подожди!
Алеша не услышал, не остановился, будто он один в комнате и разговаривает с тем далеким русским улигершином Пушкиным, у которого белая борода, а в руках желтый хур.
— Читай, Алеша, медленнее.
— Ладно.
— Нет, постой. Скажи-ка, а вот здесь что написано? — Доржи наугад раскрыл другую книгу.
— Здесь? Нет, я из поэмы еще одну песню скажу.
Доржи спохватился. Никогда нельзя перебивать, когда рассказывается улигер. Хорошо, что Алеша не рассердился, не ушел. Он повторял за Алешей певучие, не всегда понятные ему слова.
Глава седьмая
НОВЫЙ ЧИТАТЕЛЬ
Доржи готовился к урокам. Он старательно выводил русские буквы, ему хотелось, чтобы они были крупными и красивыми. Буквы же заваливались, чернила расплывались.
К комнату вошел Алеша. Лицо у него, как всегда, веселое, в зеленоватых глазах — задорные искры Он положил ранец на стол, вытащил книгу в красивом переплете.
— Что это у тебя за книга? — заинтересовался Доржи.
— Сочинения Сумарокова. В библиотеке взял.
— Биб… би… — Доржи споткнулся на незнакомом слове.
Алексей добродушно рассмеялся. Доржи обиделся.
— Друг не должен смеяться… Ты лучше объясни: что это? У нас в Ичетуе такого нет. Магазин?
— Нет, в библиотеке книги не продаются. Их дают на время читать. Прочтешь — верни и бери другую книгу.
— Где же она?
— Да у нас же, в уездном училище.
— А мне туда можно?
— Почему же нельзя? Пойдем.
Уроки в уездном училище кончились, классы стояли пустыми. Алексей открыл дверь. Доржи остановился у порога, удивленно раскрыл глаза. Никогда раньше ему не приходилось видеть столько книг. Они были всюду — в шкафах, на длинных полках вдоль стен, на столе, даже на полу.
Доржи шагал так осторожно, будто под ним хрупкая и шаткая льдина. Из-за шкафа вышел старичок, поздоровался с ребятами. Старичок в холщовой рубашке, на голове торчком стоят белые легкие волосы. «Как у Суворова», — подумал Доржи. Старичок быстро моргал глазами и перелистывал книгу, которую держал у самого носа.
— За книгами пришли? — спросил он.
— Этот мальчик хочет записаться в библиотеку, — и Алексей показал на Доржи. — Фамилия его Банзаров.
Доржи с обидой посмотрел на товарища: «Я и сам бы мог ответить. Не немой ведь».
Алексей взял со стола книгу, перелистывает страницы. Доржи через плечо товарища разглядывает картинки и по ним догадывается, что в книге написано про сиротку. Вот она собирает грибы. Вот баюкает ребенка. Тащит тяжелый самовар. Может, это Сэсэгхэн. Хорошо, если бы нарисовали, как приходит Мария Николаевна, уводит сиротку, дает ей красивые игрушки. Но о Марии Николаевне в книжке ничего нет.
— Как много здесь книг! — с восхищением проговорил Доржи.
— Какое там много, — отозвался старик и закашлялся. — Здесь все старые, никому не нужные книги. Вот, например, эти толстые, на верхних полках — ими только печи топить… А полезных мало. Все лучшее — подарки Алексея Орлова, штаб-лекаря таможни.
Доржи смотрит и смотрит… Разные мысли пробудили в его голове слова библиотекаря. Теперь он заметил, что здесь есть книги, похожие на богатых нойонов. Толстые и важные, они одеты в красные, синие, зеленые халаты. Есть книги, нарядившиеся в желтую кожу. Они лениво дремлют на верхних полках красивых шкафов… На груди у них золотые буквы, узоры, звездочки. Они горят, будто медали, ордена или золоченые пуговицы на мундирах чиновников… Ниже этих толстых и важных книг пристроились книги попроще, а еще ниже — совсем тощие и растрепанные. Они как бедные слуги. На корке одной книги Доржи заметил наклейку, она похожа на заплату на халате пастуха. Много таких книг свалено в кучу на полу… «Им даже места на полках не нашлось, — пожалел их Доржи, — А может, эти книги самые мудрые? Ведь и многие улигершины в старых халатах ходят!»
— Дайте мне почитать вот эту книгу.
— Сочинения Сумарокова? Ты хочешь такую же, как у Аносова, да? Не надо, пока еще рано. Аносов у нас как взрослый читатель. Иногда ухитряется прочесть и то, что не следует…
Старик протянул Доржи тонкую, ярко раскрашенную книжку.
— Прочти-ка сию сказку, занятная книжица… Где трудно покажется — Аносов поможет.
Мальчики пошли домой. Во дворе Доржи остановился и долго разглядывал картинки.
— Посмотри-ка, Алеша, девчонка в красном малахае. А волк-то какой страшный! Интересно, наверно.
— Прочитай… А потом вот эту, — Алеша протянул Доржи засаленную тетрадь. — Мне дал один дядя. Ему в русской деревне какой-то старик рассказал, а он записал.
Доржи по складам прочитал первую страничку тетради: «Сказка о том, как батрак Балда перехитрил попа».
— Ну и книжечка, — разочарованно произнес Доржи. — Тощая, даже буквы не печатные и без картинок.
Алексей улыбается.
— Ты сначала прочитай.
Доржи недоверчиво посмотрел на товарища.
Когда мальчики поднялись на крыльцо школы, Доржи спросил:
— Старик, который выдает книги, учитель?
— Нет, не учитель, библиотекарь уездного училища Матвей Семенович Соколов.
— Алексей, а что такое «сказка»?
— По-бурятски — улигер, онтхон…
СМЕЛАЯ СКАЗКА
Как быстро бежит время! Минул месяц с того дня, как Доржи пришел в школу. Теперь он знает всех одноклассников, запомнил имена учителей, привык к школьным порядкам. А сколько новых русских слов усвоил на уроках, в разговорах с учениками, во время игр!
По вечерам ученики рассаживаются вокруг стола, делают уроки, читают. В самодельном подсвечнике горит толстая свеча. Она, кажется, счастлива, что ребята сидят над книгами, и льет светлые слезы радости: восковые капли падают на стол. Доржи читает сказку, которую ему дал Алеша, он все не может ее осилить. А в тетради всего несколько страниц. Но что же делать, если рядом со знакомым словом встречаются три неизвестных? И вот Доржи по совету Алеши завел словарик. За короткое время в словарике появилось более трехсот слов. Сколько же накопится до весны? Но их не только на бумаге, в голове хранить надо.
Доржи нравится умный и находчивый Балда. Он радуется, когда Балде удается перехитрить попа и бесенка. Доржи вспомнились рассказы про хитрого бурятского мальчика Будамшу. Сколько их знает дядя Еши! Будамшу всегда в дураках оставляет нойонов и лам. Как похожи русский Балда и бурятский мальчик Будамшу! Может быть, они знали друг друга; может быть, даже дружили… «Интересно, — думает Доржи, — жив ли сейчас поп, о котором говорится в сказке?» Да он где-то уже встречал этого попа. Доржи напрягает память… и перед ним как живой встает лама Попхой. «Этот русский улигершин хотел рассказать о Попхое, — думает Доржи, — но Попхоя никто, кроме селенгинских бурят, не знает, а попов знают все в России. Вот он и заменил… Кто же тогда Балда? Да это же Балдан!» Воображение Доржи рисует новую сказку. Лама Попхой идет искать послушника и встречается с Балданом. Доржи так ясно представил щуплого Попхоя и рядом с ним большерукого, высокого Балдана, что рассмеялся. Попхой совсем вытеснил из сказки жадного попа, а Балдан заменил Балду. Он, так же как Балда, работает за семерых, а постель его не лучше соломы, на которой спит Балда. Попхой видит, как силен Балдан. Чем ближе день расплаты, тем печальнее становится лама…
Ребята уснули, а Доржи спать не хочется. Он думает о том, что хорошо было бы прочитать книжку про Будамшу. Почему нет такой книги? Во всех монгольских книгах, которые прочитал Доржи, пишут только о ханах и баторах. А Будамшу — простой мальчик, сирота… Найдется ли человек, который напишет книгу о нем?
Утром Доржи отдал Алеше сказку, Мальчику стало грустно, словно он расстался с близким товарищем. Она, наверно, теперь затеряется среди многих книг, самая дорогая, первая русская сказка, которую он сам прочитал.
На перемене Доржи прибежал в библиотеку, протянул Матвею Семеновичу книжку про красную шапочку.
— Не хочу про девчонок читать. Неинтересно.
— А про что же тебе интересно?
Доржи рассказал ему про тетрадь со сказкой.
— Значит, понравилась?
— Очень! А почему она написана чернилами? Почему из нее не сделали настоящую книжку?
Матвей Семенович улыбнулся.
— Мало ли хороших книг не напечатано.
Библиотекарь показал Доржи на полку, где стояли нарядные книги:
— Вот эти книги напечатаны тысячами, а путь у них короткий — на библиотечную полку.
Доржи торопится в класс, несет под мышкой новую книгу. О чем она расскажет ему?
Много звезд мерцает на небе. А сколько во всех книгах слов!.. Запомнит ли их когда-нибудь Доржи?
Раздался звонок. Пора в класс.
МУШТРА
До недавних пор ребята любили уроки военной экзерциции. С Микушкиным было весело, он простой, не кричал на ребят, не наказывал. Ребята жалели, что в неделю бывает только четыре его урока.
Так было до недавних пор. Теперь же все стало по-другому. Микушкин выстроил учеников посреди школьного двора и кричит:
— Ноги выше! Шаг тверже! Чтоб земля гудела! Да быстрее!
Ребята бегут мимо него — усталые, измученные. Многие уже едва волочат ноги по пыльному двору, а Микушкин кричит:
— Грудь вперед! Шире плечи! Как ружье держите? Вы что: казаки с ружьями или бабы с метлами?
Ребята совсем обессилели, а Микушкину все кажется мало.
— Головы выше! Еще выше!
Куда же выше! Некогда нос вытереть, фуражку поправить… А у некоторых фуражки съехали на глаза, и они идут как слепые… У других ремни ослабли. Все тяжело дышат.
— Грудь вперед! Тверже шаг! Чего раскисли? Шираб, ты что плетешься, как пленный француз? А ну, марш вперед! Остальные — кру-гом!
Микушкин начал гонять учеников по одному, по двое. Чимитова гонял, гонял, тот споткнулся и упал. Встать не может.
Мальчики так устали, что ни рукой, ни ногой пошевелить не в состоянии. Пить хочется — каждый выпил бы всю Грязнуху. Спины у всех мокрые. «Неужели каждый раз будет такая мука? Неужели Микушкину приятно, что ребята задыхаются, что у них немеют ноги, трясутся руки?»
Микушкин построил учеников полукругом, сам стал посредине. Доржи всматривается в его лицо — хмурое, злое. Он, кажется, никогда и не улыбался…
Мальчики в новых темно-синих мундирах с блестящими пуговицами тяжело поднимаются в гору. За плечами у них торчат деревянные некрашеные ружья…
В сторонке шагает высокий и нескладный Микушкин. У него широкое носатое лицо, длинные усы, из-под фуражки выбились седые волосы. Он в потрепанном военном мундире.
— Ать-два, ать-два! — зычно командует Микушкин. — Кто там семенит, как козел? К смотрителю отправлю! Ать-два, ать-два!..
«Неужели и в лесу будет мучить?»
Вот и первые сосны — лапастые, с шершавыми стволами. Недалеко смолокурня, от дыма ветви у сосен стали темные.
Следом за Доржи шагает Цыдып, то и дело наступает на пятки. Доржи сбивается с ноги, чуть не падает.
В лесу прохладно. Пахнет прелой травой, хвоей, гарью. Лес редкий, нет ни сухих деревьев, ни пней, ни валежника. Все, что можно, горожане подобрали на топливо.
«Скорее бы кончились занятия…»
На сосне сидит красноголовый дятел, постукивает клювом в толстую кору, достает жуков, червяков… Заслышал шаги ребят и полетел — то поднимается, то опускается чуть не до земли, будто качается на высоких волнах. Вверху замерли тяжелые ветви, четким узором печатаются на голубом шелке неба.
Чем глубже в лес. тем красивее вокруг. Неподалеку шумит река. У осин, у диких яблонь желтые и ярко-красные листья. И в Ичетуе, наверно, так же пожелтели листья. На низкорослых кустах шиповника ягоды как коралловые бусинки. Доржи любил их собирать. Полную шапку приносили они с Сашей домой. А вот на соседних высоких кустах сочные, зеленые листья, они будут такими до поздней осени, как зеленые костры в опустевшем лесу.
Под каждой березой и осиной — ковер из листьев. Дальше сплошные заросли брусники — под темно-зелеными листьями прячутся тугие коричневатые ягоды. Доржи думает: «Когда нельзя нагнуться — ягоды всюду. А придешь с туеском — и не найдешь».
Хочется лечь, набрать полные пригоршни кислых ягод… Хочется поваляться, покидаться сухими шишками, посвистеть по-птичьи, с переливами. Но нельзя — рядом шагает насупившийся Микушкин.
— Посмотри-ка, сколько ягод, Цыдып! — не оборачиваясь, тихо говорит Доржи.
— Что толку! — с досадой отвечает Цыдып.
— Кто разговаривает в строю? — строго прикрикивает Микушкин.
«Скорее бы домой».
Миновали ямы, из которых печники берут глину, прошли и мимо сараев, где когда-то был кирпичный завод, вышли на широкую поляну, по-летнему зеленую. Кое-где видны синие лесные цветы на тонких высоких стеблях. Нарвать бы этих цветов да принести домой, поставить в банку с водой…
— Стой! Раз, два!
Мальчики остановились.
Доржи видит: загорелое, бугристое и морщинистое лицо Микушкина вдруг дрогнуло, глаза засветились. Микушкин погладил усы и спросил:
— Ну, орлы, устали?
— Далеко прошли, — за всех несмело и неопределенно ответил Чимитов.
— Садитесь.
Ребята не сели, а повалились, как подкошенные. Теперь им, кажется, и не подняться. Доржи заметил на лице Микушкина какое-то смущенное, виноватое выражение.
— Ну, как? Нравится военная экзерциция?
Мальчики молчат. Микушкин посмотрел на них и улыбнулся.
— Трудно? Знаю, что трудно. Но так мы и должны заниматься. Так требуют циркуляры, начальство. В других школах тоже так учат — бегом, ползком, кругом… Ноги выше вскидывать, начальство глазами есть. Не унывайте… Ну, ребятишки, отдохните немного. Да бруснику, глядите, всю не оберите. Оставьте белкам да птахам.
Микушкин посмотрел вслед радостно разбегающимся мальчикам и вздохнул. Что из того, что он ненавидит бессмысленную муштру? Ведь не расскажешь ребятам о разговоре, который у него был со смотрителем. «Распустили учеников, любезнейший, — строго выговаривал Николай Степанович. — Где у них бравый вид? Гонять их надо до седьмого поту, а вы миндальничаете, как с благородными барышнями». Микушкину хотелось ответить достойно и резко: «Я знаю, чем нужно заниматься с учащимися. На войне с Наполеоном постиг, что важное, что пустяковое… Вы мне в этом не указчик, господин смотритель. Не люб — ищите другого. Вот мой сказ!» Но Микушкин смолчал. Нагрубить смотрителю — значило лишиться службы. А у Микушкина — больная жена и пятеро детей.
Микушкин смирился, но на сердце у него тяжело… Смотритель в школе вроде маленького царька. Разве думал Микушкин, что так будет, когда возвращался с войны?
ЖИЗНЬ ИДЕТ ДАЛЬШЕ
Несколько дней подряд зарядили холодные, осенние дожди. Мутным потоком бежит Грязнуха, даже всегда сухое русло Кяхты полно воды. По небу ползут тяжелые тучи. Под окном собирают крошки мокрые, взъерошенные воробьи.
А за стеклом какое-то лицо виднеется. Может, это мать. Она соскучилась по Доржи и плачет. Вот упала на стекло одна слеза, другая, третья…
Как испугалась мама, когда узнала, что он едет а Кяхту… Просила отца оставить, уговорить начальство.
— Нельзя, — ответил тогда отец. Благодари богов, что только один сын уезжает. Атаман требует, чтобы я всех отправил, говорит, еще в прошлом году надо было послать. Упрекает: «Пятидесятник, а сыновей настоящими казаками сделать не хочешь». Да и я думаю: пусть учится, легче жить будет.
Мать плачет. Стекло стало мокрым от слез. Нет, это плачет небо, расставаясь с теплыми днями…
Иногда небу надоедает хмуриться. Ветер сдует седые облака, выглянет солнце, и небо засияет голубизной. По утрам падают легкие сухие снежинки. Они тают в воздухе. Вот одна на подоконнике шевелится, как живая. Держи наклонился, чтобы лучше рассмотреть, но снежинка растаяла, осталась лишь маленькая капелька — слезинка. С неба падают новые звездочки. Какой чудесный мастер выточил их?
Проходят дни. Кое-где шелестят еще на деревьях листья, но в воздухе уже не звездочки, а мохнатые белые пауки спускаются на невидимых нитях.
В осенние дни особенно часто вспоминаются родные. В далеком Ичетуе, наверно, еще лето, цветут одуванчики, звонкие голубые колокольчики. Полевые огоньки тянут вверх раскрытые чашечки-ладошки, ожидают свежей капли росы… Хорошо бы зайти к соседям, поздороваться, как взрослый. Сделать вместе с Затагарханом новый лук, хур со звонкой струной… Забежать к Ухинхэновым, по «есть с Даржаем кислой арсы…
Воскресенье. День теплый-теплый. Доржи и Алексей взяли книги и отправились в лес. Дорога идет в гору, отсюда хорошо виден город. Покачиваются высокие сосны, роняют светлые капли вчерашнего дождя. Вот высокая ограда таможни. Пивной завод младшего Коковина Тяжелая песчаная дорога.
Дорога! Она, наверное, идет до самого Ичетуя и кончается у подножья Сарабды, у коновязи Банзаровых Она манит: «Беги, Доржи, я приведу тебя к дому!» Когда же по этой дороге заскрипят колеса отцовской телеги?
Под ногами — мокрые сосновые шишки, темно-зеленые листья брусники. Не раненый ли медведь уронил здесь горячие капли крови? Друзья шагают под соснами, между тоненькими березками..
Чик-чик… Чик-чирик…
— Алексей, о чем говорят птицы?
— Они говорят: «Куда забрались, курносые? Не ходите далеко, заблудитесь».
Друзья смеются.
— Алексей, ты согласен?
— С чем?
— Скажи, что согласен. Да?
— Не знаю…
— Поедем к нам на каникулы. Мы пойдем с тобой в степь. Поднимемся на Сарабду. Ты увидишь, до чего хорош наш Ичетуй. Сколько там будет подснежников, вся Сарабда голубая от них. Я скажу всем в улусе: «Вот мой лучший друг!» Соседи примут тебя как родного. Будешь плотничать с Затагарханом, он умелый парень… Захочет — твой портрет из дерева вырежет.
— Я должен матери помогать.
— Поедем, Алеша, будем купаться, рыбу ловить, ягоды собирать.
— Ну ладно! Потом решим.
— Нет, нет, решай сейчас! Давай руку!
— До весны еще далеко.
— Ну, придумал! Весна скоро: наступят холода, потом будет сагалган, а там снег начнет таять. Вот и весна!
Доржи говорил так горячо, что Алексей согласился. Над головами качают ветвями вековые сосны, щебечут птицы. Птицам смешно: мальчики толкуют о весне, когда еще и зимы не было.
— Пойдем на церковный пустырь ишйоков дразнить, — предложил Алеша.
Мальчики побежали. Вот и церковь. Доржи посмотрел на колокольню. По утрам и в сумерки отсюда разносятся чистые голоса колоколов. Как рождается эта музыка? Может, это ветер бьется о звонкую колокольную медь? Сейчас колокола молчат.
Доржи дернул Алешу за рукав:
— Алеша, как это получается колокольный звон?
— Там старик такой есть — дед Кеша. Он на них, как на хуре, что хочешь может.
— Ну уж, — обиделся Доржи, — опять смеешься.
— Правда! Вот провалиться мне на этом месте! Хочешь, слазаем на колокольню?
— Куда?
— На колокольню. Вот туда, гляди, — Алеша задрал голову, показал вверх, где на ярких зеленых куполах сияли золоченые кресты.
Доржи посмотрел, и у него сразу закружилась голова» будто он уже поднялся в самое поднебесье.
— Да нас туда не пустят?
— Пустят! Дед Кеша пустит! Мы с ним дружим. Обязательно пустит! Ему как раз звонить пора.
Мальчики прошли за церковную ограду. Дед Кеша оказался маленьким, веселым старичком. Он весь зарос бородой. Живет он в конуре, вроде собачьей будки. Совсем один живет. Сыновья — кто в рудниках кандалами гремит, кого Наполеон на войне в могилу загнал, кто нуждой задавлен, старому отцу помочь нечем. Но дед Кеша на судьбу не жалуется. Послушаешь его — так ему всего хватает: прихожане досыта накормят, церковный староста иногда двугривенный даст.
Мальчики подымались за дедом по крутой винтовой лестнице. Сердце у Доржи колотилось так, будто он готовился прыгнуть с высокой скалы.
Дед остановился на ступеньке передохнуть, обернулся к мальчикам, сказал:
— Когда звонишь, все в тебе будто поет… Это, брат, понять надо. Звонарь — не пустяковина какая-нибудь, иной раз звонарь главней архиерея. Колокола-то, они вроде как бы живые: если почуют, что у тебя на душе пусто, сколько ни старайся, настоящего звона не будет Бренчать станут, а благовеста от них не жди.
Доржи посмотрел вниз. Что это за тропинки между черными копнами? Да это же не тропинки, а улицы, и не копны это, а дома, магазины, склады. Сверху садики у домов похожи на маленькие зеленые огурчики…
По карнизам колокольни разгуливали сизые голуби, клевали что-то, старательно выговаривали свое «гур-гур».
— Как много голубей!
— Мирные, дружные птицы. Божьи…
А это что там, внизу, похожее на муравейник? Гостиные ряды! Люди тащат всякую всячину — кули, тюки, ящики. Длинные штабели товаров под белой парусиной похожи на большую кость, обглоданную муравьями.
Но все же самое интересное — это колокола. Вот дед Кеша расставил ноги, ухватился за веревки, привязанные к медным языкам колоколов. Глаза у деда стали шире и веселее, губы шевелятся. То ли молитву он шепчет, то ли песенку напевает. Движутся у деда короткие сильные руки, пританцовывают ноги — к ноге привязана веревка от самого большого колокола. «Бум, бум», — тягучим басом ухает колокол. А рядом другие поют, перекликаются, одни умолкают, другие вступают свежими, веселыми голосами; как бубенчики, перезваниваются совсем маленькие.
Колокола замолчали. Доржи не хотелось уходить. Дождаться бы вечера, посмотреть отсюда на закат, заночевать здесь — ближе к звездам, а утром раньше всех увидеть рассвет. И крикнуть на весь город:
— Эй! Просыпайтесь! Взгляните на нашу колокольню. У нас уже солнце!
…Теплые дни стояли недолго.
Вскоре выпал глубокий снег и не растаял. С каждым днем становилось холоднее. На оконных стеклах появились узоры — голубые причудливые листья. Утром они казались розоватыми. Иногда Доржи видел на стеклах верблюжат, коней-рысаков. Если же всматривался, кони исчезали. и появлялись белые медведи, и вокруг — густая тайга. А вот озеро. На спокойной воде замерли лебеди. Но и они появились ненадолго — улетели, верно. Доржи теперь видел ребятишек в белых шубах, среди них Борхонок с длинной седой бородой. Он держит голубоватый хур. Далеко, за плечами Борхонока, светит красная звездочка… «Это не звезда, — догадался Доржи. — Это отражается огонек свечи, что горит на столе».
— Доржи, что с тобой? По дому соскучился?
Доржи не ответил, не оглянулся, он думает о родном Ичетуе. Там все бело от только что выпавшего снега. Белые юрты, белые березовые коновязи, к ним привязаны белоснежные кони дорогих, желанных гостей. В степи пасутся отары белых овец, стада беломастных коров…
Уроки сделаны. Чем теперь заняться? Гытыл бы наверняка что-нибудь придумал. Но где он? Говорят, в Маймачене пилит дрова; говорят, умер в тюрьме, говорят, живет у брата в Петровском Заводе. Кому верить?
Все улигеры, сказки, легенды рассказаны, все загадки разгаданы. Ребята затеяли игру — прячут золотое колесо. Доржи любит эту игру. Колесом они называют стертый гривенник. Один из ребят должен угадать, у кого «золотое колесо». Он подходит к кому-нибудь и говорит: «Выходи, золото». Нужно ответить: «Золота у меня нет». Если угадает, что у тебя во рту гривенник, ты должен спеть песню, какой никто не слышал, или загадать три хитрые загадки.
Чаще всех в игре спотыкается Цокто Чимитов. Стоит ему только спрятать за щеку гривенник, как он краснеет, начинает быстро моргать глазами. Каждому видно, что «колесо» у него. А если ему приходится искать — ни за что не найдет. Несколько раз Цокто заставляли петь. Но только начнет он песню, как ребята дружно и задорно перебивают:
Цокто замолкает на полуслове. Ребята не любят ждать, они опять поют незадачливому пареньку:
Наконец Цокто вспомнил песню, которую наверняка никто не слышал. Мальчик начал уверенно и громко:
Но ребята опять перебивают беднягу:
Цокто стоит красный, растерянный. Он устал. Ребятам стало жаль его. Они затянули:
У Чимитова нашелся верный друг. Встал Рандал Сампилов. Цокто с облегчением вздохнул и юркнул в темный угол.
Рандал поет хорошо — от души, от сердца. Даже знакомые песни звучат по-новому, ребята не перебивают его. А закончит Рандал, и слышится дружная просьба:
Рандал не заставляет себя просить. Его песни летят, как быстрокрылые птицы. Он закинул голову и, покачиваясь в такт» запел:
Доржи вздрогнул, прислушался. Сейчас Рандал споет:
Но Рандал закончил иначе:
Доржи закрывает глаза. Перед ним — родная юрта. Вот веселая Ханда, вот и Димит. Слышится смех Даримьк жены Ухинхэна. Дулсан жалуется: «Так, видно, всю молодость и проходишь за чужим скотом…» Ей вторит Жалма… Доржи поднял на Рандала удивленные глаза:
— Это ты про Мархансая спел?
— Про какого Мархансая? Я пел про Бадалая.
— А кто такой Бадалай?
— Большелугский богач. У него пять тысяч голов скота… Сын лысого шамана, бурят-урядник, — объяснил из угла Цокто Чимитов.
— Эту песню сложили у нас в Ичетуе.
— Тоже придумал… Тебя послушаешь, так окажется, что все хорошие песни у вас родились.
— Нет, не все. А эта у нас.
Рандал Сампилов обиделся:
— Я не спорю: конь нашего зайсана отстал на скачках от вашей Рыжухи. Но в песнях вы нас не обгоните: такие песни у нас не зайсаны слагают.
— Рандал, если я вру, пусть сам Уфтюжанинов отрежет мне в аду язык… Вот, слушай, — и Доржи пропел всю песню про Мархансая.
— Эта песня сложена не в Большелугской долине и не в Ичетуе, — вмешался Цыдып. — У нас давно поют:
— Кто это — Занхадай?
— Зайсан нашего рода, — ответил Цыдып.
Долго спорили ребята. Называли улусы, вспоминали имена тех, кто сложил эту песню. Каждый старался отстоять честь своего улуса. Игра из-за этой песни расстроилась. Свеча догорела — продолжали спорить в темноте… Но постепенно спор увял. Тогда стали загадывать друг другу загадки.
Доржи слушает товарищей, но из головы у него не выходит другая загадка: как случилось, что везде и всюду поется песня, которую сложили женщины Ичетуя? Кто донес эту песню до далеких улусов? Она преследует богачей в Больших лугах, в Ангиртуе и Дырестуе… Доржи не ошибся в тот вечер, когда подумал, что эту песню будут петь в далеких улусах… Как хочется, чтобы люди узнали, в чьей юрте она родилась!
Теперь Доржи не так сильно скучает по дому. Только но вечерам вспоминается доброе лицо матери, братья, товарищи.
С каждым днем Доржи все больше привязывался к Алеше. Вот совсем недавно шли они по улице. Из одного дома слышался какой-то топот. Доржи спросил: «Русские матери тоже толкут в ступках зеленый чай?» Иной бы посмеялся над ним, но Алеша не такой. Объяснил, что это русская игра — пляской называется. Музыка играет, а под музыку прыгают и ногами топают. Очень весело. Обещал показать эту игру, привести в общежитие знакомых плясунов-прыгунов из уездного училища. В субботу вечером мальчики пришли. В руках одного из них был треугольный хур с железными струнами — балалайка. Ребята отодвинули стол, уселись на скамейке у печки, музыкант ударил по струнам. Два мальчика вышли на середину комнаты, подбоченились и поплыли, мелко переступая ногами. Потом подпрыгнули, присели, притопнули, хлопнули ладонями по коленям, по подошвам унтов. Очень интересная игра! Рука музыканта — как белая птица, которая попала в сети из серебристых нитей, не может вырваться и звонко хлопает крыльями…
Доржи вдруг оказался на середине комнаты. Подпрыгивает, падает, поднимается и снова падает… Когда слушает музыку — забывает двигать ногами, когда вспоминает про ноги — не слышит музыки.
Веселье кончилось поздно. Алексей мокрым веником вымел пол. А спать никому не хочется.
— Давайте рассказывать интересные истории, — предложил Цокто.
У каждого есть что рассказать, есть вещи, о которых он знает больше других. Алексей, например, любит говорить о птицах. Он знает их повадки, подражает птичьим голосам, так же, как Еши Жамсуев передразнивает нойонов, лам, зайсанов; Вот и сейчас он начинает новую историю:
— У нас в Большом луге писарь поймал два десятка гусей. Он сушил рыбацкую сеть, гуси сели и запутались. Писарь на всех гусей надел маленькие хомутики, уселся в мешок, и гуси подняли его высоко-высоко, под самые облака, пронесли над синими озерами, над зелеными степями…
Ребята не верят, но слушают с увлечением.
— Неправду говоришь, — упрекает Цокто.
— Как же, я знаю этого писаря. Он такой же подслеповатый, как Артем Филиппович.
Шагдыр Зариктуев рассказывает про своего земляка, который смастерил из железа человека.
— Тот кузнец недалеко от нас живет. Он поставил железного человека у своей юрты, хотел научить его овец пасти. И научил бы, да этого железного человека чужие люди украли…
Доржи тоже хочется удивить мальчиков. Он думает, о чем бы рассказать. Вспомнил про Еши Жамсуева. Если сказать: «У нас есть Еши Жамсуев, он играет на хуре, заведует магазейным амбаром. У него кобыла Рыжуха», — получится неинтересно. Ребята рассказывают про необыкновенных земляков.
— У Еши богатырская сила. Он перетащил с одной горы на другую огромное Каменное седло. Ламы его колдуном объявили, чуть руки ему не отрубили. Он замечав тельный мастер, умеет вырезать из дерева птиц и животных. А как рисует! Он еще маленьким был, когда один сосед из зависти перебил ему на руке жилы. Слышали бы, как Еши играет на хуре! Сколько улигеров знает! За семь дней и семь ночей не пересказать все сказки, какие он помнит. Наш Еши подружился в Петровском Заводе с самим Николаем Бестужевым. За это его не любит наш богатый сосед Мархансай. Еши очень умен.
Доржи задумался. Как им доказать, что Еши и правда очень умен?
— Он переспорил губернатора… Как переспорил, не знаю. Он не рассказывал, не хвастался. А то однажды зашел в суд. Там тайша Ломбоцыренов чужую землю хотел присвоить. Еши встал и крикнул: «Не твоя это земля!» Тайша рассердился и говорит ему: «Замолчи! Рачве ты не знаешь, кто я?» Еши ему ответил: «Как не знать, знаю. Ты — тайша. Это ты присвоил пятьдесят тысяч рублей в степной думе и опять к казенным деньгам руки протягиваешь. Я знаю тебя».
— Богатый он, ваш Жамсуев?
— В Ичетуе нет человека беднее…
У Климова, сына пристава, тоже есть свои любимые рассказы.
— Вчера ночью был обыск у одного лекаря из таможни. — Доржи насторожился. — Он запрещенные книги читает. Жалко… — Климов пожевал губами и добавил: — Жалко, что ничего не нашли. Он спрятать успел.
На следующий день было воскресенье., Алеша вернулся с базара, вывалил из кармана на стол пряники и принялся торопливо рассказывать:
— Какой-то мальчишка украл у одной женщины сумку с деньгами. Полицейский поймал его. Мальчишка плачет: «Я сирота, с голоду украл!» Полицейский ему кулак в нос тычет. Кулачище большущий, как верблюжье копыто. Народ собрался. Женщина отняла у полицейского воришку и сунула ему гривенник: «На, говорит, купи себе хлеба». Все так и ахнули, он у нее сумку хотел украсть, а она ему — деньги… «Вы, говорит, не бейте его, а лучше в воспитательный дом устройте». Полицейский смеется: «Там и без этого жулика всякой голытьбы полно, девать некуда». Она тогда к толпе повернулась: «А вы что смотрите? Сироту не видали? Чем сожалеть, да удивляться, лучше бы кто-нибудь усыновил его». Ну, народ загалдел: «Возьми такого, он в первую ночь обкрадет», «Нам своих детей девать некуда, не то что чужих брать!» Один бородатый рассмеялся: «Если душа болит, усыновите и воспитайте сами». А женщина ему: «Я, говорит, воспитываю сирот — бурятку и цыганку».
Доржи вскочил.
— Алеша! Это же Мария Николаевна!
Доржи рассказал мальчикам о Марии Николаевне и Сэсэгхэн.
— Почему ты раньше не говорил?
— Я думал, что их нет в Кяхте. Я заходил во многие дома, спрашивал людей. Может быть, ходить из дома в дом, пока не попадем к ним?
— Нет. Будем по очереди по воскресеньям дежурить на рынке. Придет на рынок — встретим.
— Давайте напишем на бумажках: «Кто знает Марию Николаевну, приходите в русско-монгольскую войсковую школу». Бумажки расклеим по городу.
— Правильно! Напишем, что будет выдано вознаграждение — рубль.
— Соберем по гривеннику.
Алексей предложил:
— Пойдем, Доржи, к Матвею Семеновичу — он многих в Кяхте знает.
Доржи и Алексей отправились в библиотеку. Матвей Семенович, услышав, что у Марии Николаевны воспитываются бурятка и цыганка, сразу отозвался:
— A-а… Вы про Марию Николаевну Орлову спрашиваете? Она живет во дворе таможни. Вон, у дороги на горе… Достойная женщина.
В ГОСТЯХ У МАРИИ НИКОЛАЕВНЫ
Искать не пришлось — только завернули за таможню, дом с белыми ставнями будто сам вышел навстречу. Мальчикам открыла Мария Николаевна.
— Проходите сюда, — Мария Николаевна взяла у мальчиков фуражки. — Вы ведь из Ичетуя? Ну, проходите, проходите, не стесняйтесь.
— Это он из Ичетуя, — Алеша кивнул на Доржи.
В комнату вбежали две девочки — Сэсэгхэн и еще какая-то курчавая, большеглазая.
«Цыганка, которую воспитывает Мария Николаевна», — догадался Доржи.
Девочки держатся за руки, смотрят на Доржи и Алешу. Вот она какая стала Сэсэгхэн… А Мархансай говорил, что долго не протянет!
— Ну, когда приехали?
— Мы учимся в войсковой школе, — робко сказал Доржи.
— Ах, да… Вы же в форме, я и не разглядела… Казаки, значит? — Она улыбнулась. — Ну, садитесь, казаки. Чай пить будем. Как бабушка Тобшой поживает?
— Соседи ей помогают. Всем улусом сена «накосили. — А то плохо было бы…
Красиво и богато живет Мария Николаевна! Все, все у нее есть. Цветы-то какие! На улице холод и снег, а они распустились, как весной. Наверно, когда начались заморозки, Мария Николаевна притащила их в свой светлый деревянный дом, посадила в мягкую землю, напоила водой и поставила на солнечном окошке. Она не только сирот жалеет, но и цветы… А что, если он попросит у тети Марии, когда поедет домой, самый маленький цветочек, укутает потеплее и в юрте в туеске посадит? Но мать, наверно, не разрешит окно в юрте сделать, войлок дырявить. А если и разрешит, так ни стекла, ни слюды не найдешь…
Да, богато живет тетя Мария. В избе у них только четыре человека — двое взрослых да двое детей. А стульев двенадцать. Все будут на стульях сидеть — и восемь еще незанятых останутся… Тетя Мария любит, видно, чтобы у нее побольше людей гостило. И у Доржи мама такая же. В юрте пять человек, а она купила у Рыжего Васи десять чашек.
Стулья стоят у стола и вдоль стен. На одном стуле кошка спит, на другом книга лежит в кожаном переплете… К стульям пришиты круглые красные подушки, чтобы мягко было сидеть. Если подпрыгнешь, подушка сама так тебя и подбросит, будто ей тоже поиграть хочется.
Позади дверь в другую комнату.
— Расскажи о Затагархане, что он делает? Не собирается сестренку проведать? — спросила Мария Николаевна.
— Он все мастерит. О Сэсэгхэн беспокоится, скучает… Просил, чтобы я к вам сходил.
— Сэсэгхэн у нас молодец. Смотри, как выросла.
Мария Николаевна налила мальчикам чаю, пододвинула вазу с конфетами, положила им на тарелки по куску бисквита.
— Ешьте. — Она повернулась к девочкам. — А вы, дочки, что же не садитесь?
— Мы не хотим, — звонко ответила Сэсэгхэн.
Доржи потянул ее к себе.
— Как твою сестренку зовут, Сэсэгхэн?
— Стэма.
— А брата помнишь?
— Затагархана? — Девочка вдруг опечалилась. — Нет, забыла. Мама говорила — мы к нему съездим…
Сэсэгхэн увернулась. из рук Доржи. О» на и Стэма играют в лошадки, на алой сбруе серебристые бубенчики. Девочки побежали, бубенчики зазвенели: «Сэсэхэн Сэсэгхэн, сэсэхэн Сэсэгхэн…»[44]
Доржи и Алеша пьют чай, едят желтый душистый пряник — бисквит.
После чая Мария Николаевна показала ребятам книжки с картинками. Книг здесь много — в другой комнате два полных шкафа, да еще в углу на полочках.
Доржи листает книгу, смотрит картинки. Книга с картинками — как дом со светлыми окнами. Через них видно все, что есть внутри.
— Еще эту посмотрите, — Мария Николаевна протянула ребятам большую тяжелую книгу. — Тут про войну с Наполеоном.
На картинке — невысокий горбоносый человек в белых штанах, в большом малахае, как у Эрдэмтэ-бабая. За спиной у него красные языки огня, синий густой дым. Доржи вспомнил слова отца: «Большая война была. Вот это Наполеон, французский царь, он тогда столько людей погубил, столько горя принес…» И Степан Тимофеевич рассказывал: «Наш царь не хотел, чтобы Кутузов самым главным над всеми солдатами был. А солдаты хотели. Ну, царь и не смог ничего поделать. Как стал Кутузов главным, все по-другому пошло».
Много интересных картинок про войну в этой книге. На одной картинке усатые большие солдаты смеются. На другой сражение нарисовано. Не поймешь, кто кого рубит, кто живой, кто мертвый, где чья пушка, чьи кони.
А вот женщина на коне. Крестьянка, видать, — в руках вилы. Она гонит куда-то пленных французов. Мария Николаевна сказала, что это жена одного старосты.
Мальчики долго рассматривают картинки.
Сэсэгхэн и Стэма играют в соседней комнате. Доржи очень хочется посмотреть, как играют девчонки. Мария Николаевна как будто угадала, о чем думает Доржи, позвала их к девочкам.
Доржи и Алеша никогда не видели раньше таких маленьких столов и стульев. Сэсэгхэн и Стэма усаживают за стол игрушечных человечков, похожих на настоящих девочек. На стене — коврики. На одном нарисован лес, полянка с зеленой травой, На поляне девочка в красной шапочке собирает грибы. Доржи узнал эту девочку — про нее у него была книжка. Матвей Семенович давал… Зря не прочитал тогда. Наверно, интересная книжка, раз у Марии Николаевны такой же коврик висит.
Где же муж Марии Николаевны? Вон окурок в пепельнице, вон серебряная коробка для табака. Забыл, наверно, и ушел. Интересно повидать его. Должно быть, хороший человек…
Мальчики собрались домой. Доржи и Алеша прощаются:
— До свидания, Мария Николаевна, Сэсэгхэн, Стэма!
— Приходите, мальчики, — приглашает тетя Мария. Приходите, приходите! — кричат вслед девочки.
ТАК ЗАРОДИЛАСЬ ПЕСНЯ…
Снова воскресенье. Последнее воскресенье. Дома остались только Доржи и Алексей. Через четыре-пять дней ребята разъезжаются на каникулы и сейчас ушли прощаться со знакомыми.
— Алеша, ты хотел взять меня с собой к больному учителю. Помнишь, рассказывал о нем?
— Пойдем сейчас. Хочешь?
Путь шел по песчаным улицам. Доржи уже не смотрел по сторонам, все улицы ему теперь знакомы. Потом свернули в какой-то узкий, кривой переулок, пошли по обрывистому берегу Грязнухи. Поднялись на горку, миновали часовню. Алексей остановился у низенькой избушки. «Неужели здесь живет учитель? — удивился Доржи, задерживаясь у порога. — Совсем как юрта Эрдэмтэ».
В комнате темновато, пахнет сыростью. В углу стоит кровать, застланная стареньким одеялом. У окна — широкий некрашеный стол, за которым сидят трое мужчин. Доржи бросилось в глаза, что в комнате много книг.
Учитель сидел в коляске, руки лежали на ее высоких колесах, словно он собирался двинуться в путь.
Одним из сидящих за столом был учитель рисования Артем Филиппович. Он взглянул на мальчиков и ничего не сказал, наверно, не узнал по своей близорукости. А если приглядится, спросит Доржи: «Ты что это шатаешься, как бездомный котенок?» Илья Ильич и Николай Степанович обязательно бы так спросили… Доржи узнал и второго мужчину — это муж Марии Николаевны, Алексей Иванович.
Больной учитель протянул Аносову узкую, сильную руку.
— Проходи, проходи, Алеша… Да ты с другом… Ну, здравствуй! Как тебя зовут?
— Доржи.
— Доржи — по-тибетски «алмаз». Хорошее имя… Как успехи, Алеша, как постигаешь науки?
— Хорошо, спасибо, — солидно ответил Алексей. — А вы как живете?
Учитель улыбнулся:
— Все бы и у меня ничего, Алеша, да вот соседская девушка обо мне забыла. Ты уж сделай доброе дело: поколи дров да картошки почисти. За печкой в корзинке.
Мальчики с охотой взялись за дело: натаскали дров, почистили картошки — она была мелкой и дряблой. Ножи тупые, будто сто лет с бруском не встречались. Мальчики сидят тихо, слушают разговор. Доржи приметил, что Артем Филиппович и муж Марии Николаевны меньше говорят сами, больше слушают хозяина.
— Что нового творите? — спросил Артем Филиппович.
— Ничего, кроме шуточных басен для «Литературного цветника». Да и то… Недавно пожаловал ко мне Илья Ильич. Какой ветер, думаю, тебя занес? «Не одобряю, говорит, ваши затеи, молодой человек… Издавать газеты и журналы — дело Петербурга и Москвы. Этот ваш альманах с рисунками да баснями — вредная выдумка. Начинаете С веселых басен, а как бы не окончили печальными элегиями». А я взял да и предложил ему самому статью написать. Что тут было! Бедняга даже заикаться начал.
Все рассмеялись.
— Не слушайте его, пусть каркает. Присылайте в альманах и басни, и пьесы.
— А я и не слушаю, Алексей Иванович… Какие чудесные карикатуры вы даете в альманах, Артем Филиппович! Злее всяких эпиграмм, особенно моих.
— Ваши эпиграммы прелестны. — Алексей Иванович взял со стола толстую тетрадь в яркой обложке. — Жена моя сколько раз альманах переписывала, а все от ваших эпиграмм в восторге…
— Нет, нет, — отмахнулся больной. — Не мастер я на эпиграммы. Это оружие не ранить, не раздражать должно, а разить наповал. Эпиграммы не стрелы амуровы, а пики богатыря. Пушкин владеет этим оружием непревзойденно. И вообще — какой талант! Пригласить бы его в нашу Сибирь, показать Байкал, Ангару, Селенгу, тайгу соболиную, сказать бы ему: «Вот чудесный край, не воспетый еще в песнях». Я уверен — Пушкин полюбил бы наши места за суровость, за красу их неповторимую…
Доржи забыл о картошке, которая кипит на плите. Он слушает, боится пропустить слово. Ему хочется, чтобы учитель побольше рассказал о Пушкине. Он теперь знает, что у Пушкина нет бороды, что он не играет на хуре. И улигеры у него совсем, совсем не такие, как у Борхой ока.
Но больной уже говорит о другом.
— Я часами стаивал на берегах Байкала. Красавица Ангара, единственная дочь Байкала, уносит все богатства, которые дарят ему бессчетные сыновья. Помните бурятскую легенду? Я мечтаю переложить ее на стихи. Представляете? Разъяренный седой Байкал схватил обломок скалы и швырнул его вслед своевольной красавице — дочери Ангаре. И по сей день тот камень лежит в ее бирюзовой воде…
— Да, да, — подтвердил Артем Филиппович. — Буряты эту скалу Шаманским камнем зовут. Я в альбом эти места зарисовал.
— Есть у меня еще одна мечта. — Больной воодушевлялся все большие и больше. — Пять или шесть лет назад, когда я еще в Иркутске учился, в одной деревушке увидел молодого беглого каторжника. Никто не знал, кто он, никто не спрашивал, куда он идет. Не ведали даже его имени. Крестьянки кормили его хлебом, парни угощали махоркой. Он ушел не по дороге, а полем — В горы, в тайгу. Так вот, я обязательно напишу о нем. Я покажу его таким, каким он врезался в мою память: измученным, оборванным, исхудалым, но гордым и непокорным. Он рвется из земного ада — с каторги. Все будут помогать ему: и люди, и птицы, и звери… Пусть звезды указывают ему дорогу, пусть его, босого, голодного, скалы защищают от ветра… Пусть ветви кедра укрывают его от холодного дождя… И он идет и идет… Спешит к своей матери, к любимой, к родному очагу. Но путь ему преграждает огромное море — бескрайный седой Байкал… А что, если с неба спустится стая белоснежных лебедей и перенесет его через Байкал? Как вы думаете, друзья?
— Скалы и ветки кедра — хорошо. А вот лебеди, пожалуй, не нужны, — покачал головой Алексей Иванович.
— Но ведь это же легенда…
— В ней действует живой человек — решительный, смелый. Такому Байкал не будет преградой… Он преодолеет его, хоть на бревне переплывет, — с горячностью вставил свое слово Артем Филиппович.
— Зачем на бревне, когда есть омулевая бочка? — подсказал Алексей Иванович.
— Во! — хлопнул себя по колену больной. — И в самом деле — чем не корабль омулевая бочка? Обязательно напишу. У меня уже есть отдельные строчки. Так хочется, чтобы легенда удалась мне и полюбилась людям.
— Еще лучше, если люди будут петь ее.
— Да, друзья, я напишу песню, — мечтательно произнес больной. — Она должна быть широкой, задушевной, сильней. Пусть она пробуждает, в душах прекрасные думы, добрые надежды, развеивает грусть. Пусть эта песня укрепляет в людях веру в свои силы.
— В необходимость борьбы и в возможность торжества добродетели, — договорил с жаром Артем Филиппович.
— Жаль, очень жаль, что вы уезжаете от нас. Ну, да ведь ненадолго… Надо ехать, чтобы вернуться здоровым.
— Да, здоровье мое в печальном состоянии. Если бы не вы, Алексей Иванович, да не супруга ваша — и хуже могло быть… Хочется быстрее подняться на ноги, вернуться в училище. Не знаю только, чем расплачусь за ваше доброе попечение. Вот и сейчас на средства товарищей еду…
— Полно, полно. И не стыдно вам?! — замахал руками Алексей Иванович.
Учитель попросил мальчиков уложить в сундук его книги. Это единственное его богатство. Часть он берет с собой, часть оставляет.
Когда мальчики вышли из дома, Доржи спросил:
— Алеша, как зовут твоего учителя?
— Дмитрий Павлович Давыдов.
…Через два дня ученики уездного училища провожали Дмитрия Павловича. Пришли ученики войсковой школы и многие учителя. У домика Давыдова стояла высокая телега с парой добрых коней. Вот вынесли два сундучка, постель, сзади укрепили коляску Дмитрия Павловича. От крыльца до телеги — живой коридор из ребят.
Потом открылась скрипучая дверь. Алексей Иванович и Адам Адамович вынесли больного на руках.
Дмитрий Павлович улыбнулся мальчикам.
— Хорошо учитесь, милые… — Он отвернулся, маханул рукой.
Телега тронулась. Ученики провожали Дмитрия Павловича до самого леса, кричали вслед, чтобы он быстрей возвращался, махали шапками.
Доржи и Алеша вернулись в школу позже всех. Последний вечер они проводят вместе. Алеша не может ехать в Ичетуй. У него мать заболела.
Первым уезжал Доржи. Отец был занят в карауле, и за ним чуть свет приехал Еши Жамсуев. Доржи не сказал ребятам, что это тот самый Еши Жамсуев, о котором он рассказывал. Еще кто-нибудь вздумает предложить ему поднять тяжелый камень во дворе школы. А если попросят вырезать из дерева фигурки зверей или птиц? Или станут расспрашивать, как он переспорил губернатора…
Как медленно плетется Рыжуха! Вот наконец дом… Доржи целует мать, плачет от радости. Братья тормошат его, разглядывают. Соседи удивляются: какой высокий и стройный стал Доржи! Мать угощает всем, что приготовила к его приезду. Она нарядила сына в новую шубу, новые унты.
Доржи не успевает отвечать на расспросы соседей.
Глава восьмая
ИЛИ В ПУТИ ЗАДЕРЖАЛАСЬ ВЕСНА?
Постепенно происходит смена одного времени года другим. Доржи не раз думал: хорошо бы заприметить тот день, когда на листьях впервые появляются желтые пятна, или тот, когда среди мартовских метелей и буранов вдруг по-весеннему засияет солнце, с крыш зазвенит первая капель.
В начале весны лучи солнца бывают особенно желанными и ласковыми. Раскаты первого майского грома кажутся не грозными, а скорее торжественными и радостными. Первые подснежники, что появляются ранней весной, приносят большую радость, чем самые нарядные летние цветы.
В летние знойные дни Доржи нередко тосковал по зиме. Он закрывал глаза и старался представить свист и стон метелей, скрип полозьев, треск льдин, сухой хруст снега. А среди зимы, когда все вокруг сковано льдом и занесено снегом, Доржи любил вспоминать о первых днях весны, когда только появляются на деревьях листья, слышится плеск, вешних ручейков, звонкая песня жаворонков, разноголосая перекличка кукушек.
…Каникулы кончились, а Доржи еще дома: в Кяхте свирепствует какая-то детская болезнь, школа закрыта.
В первые дни апреля установилась хорошая погода. Весенний ветер старательно слизывал снега, оголяя землю; солнце грело все теплее и теплее. Дружно чирикали воробьи, ребятишки галдели: «Весна пришла, весна пришла!» Да и пора быть теплу: давно миновал сагалган — праздник белого месяца. Значит, конец белым снегам, голубым льдам…
Доржи радовался: пришла долгожданная весна. Он хочет передать это чувство друзьям, всем дорогим ему людям.
— Эрдэмтэ-бабай, весна! — окрикнул Доржи проходившего мимо юрты Эрдэмтэ.
Тот остановился, угрюмый, мрачный.
— Да, весна… сена уже давно нет.
— Зачем вам сено? Скоро все зазеленеет. Ух, и хорошо будет!
— Эх, Доржи, Доржи, — вздохнул Эрдэмтэ. — Бедному человеку никогда не бывает хорошо. Зимой трудно, а весной и того хуже. Коровы-то, погляди, как отощали за зиму; чуть ветер или заморозок — свалятся, и не поднимешь…
— Ну, а летом, — уже огорченно спросил Доржи, — разве летом тоже плохо?
— И легом не легче, Доржи. Волнуешься, как бы засуха траву не погубила… А когда приходит пора косить, надо отрабатывать Мархансаю. Свои коровы опять на зиму без сена остаются. Нет, Доржи, всегда тревоги, заботы, горе. — Он с тоской посмотрел на мальчика. — Мал ты еще, Доржи. Вырастешь — и весна перестанет казаться тебе праздником.
Ночью выпал легкий пушистый снег. Это никого не встревожило. Весенний снег — однодневный гость. В эту пору случается, что утром бывает холодно, как зимой, днем по-летнему' тепло, а вечером свежо, как осенью. «Пусть хорошенько намокнет земля, дружнее и раньше взойдут травы».
Но на следующий день опять выпал снег. На этот раз утром приморозило, и снег не растаял. Голодная, озябшая скотина подняла рев. Горы окутал густой молочный туман. На небе негреющее солнце — красное, как начищенный медный чайник. Кажется, что снег и холод льются из этого чайника…
Те семьи, у которых есть еще сено, не выгнали скотину в степь. У кого же сена мало, дали слабым коровам и овцам по клочку, а остальной скот погнали пастись в кусты, по руслам Ичетуя и Джиды.
Погнал скот и Мархансай, хотя сена у него вдосталь. «Пусть, — прогнусавил он, — скотина сама кормится. Не так уж холодно, а ветоши в степи много». Его одномастные темные коровы растянулись вереницей до подножия Сарабды, спустились в низины Намактуя.
Жалме трудно одной управиться со стадом. Солнце еще высоко, а девушка совсем обессилела. Сесть бы, спрятаться за большим камнем от этого леденящего ветра. Но садиться нельзя. И Жалма, спотыкаясь и прихрамывая, пытается догнать упрямую черную корову. А та не слушается окрика, то подпускает Жалму, то убегает, щипля на ходу торчащие из-под снега высокие травинки.
Не успела Жалма загнать эту упрямицу в стадо, как другая корова отделилась и прямиком побежала к каменистому крутому уступу. Надо перехватить ее, перерезать путь, а то чего доброго сорвется с уступа.
Еще три коровы с жалобным мычанием подошли к далеким кустам. Жалма теперь беспокоится за них — там ведь притаились волки… А тем временем безрогая Чернуха решила возвращаться домой. Разорваться бы надвое, чтобы поспеть всюду! Новая беда: почуявшие прелый запах сена коровы ломают жерди, которыми огорожены прошлогодние стога и копны. Коровы просовывают головы в загородку, пытаются перебросить через себя тяжелые жерди.
Подножие горы каменисто, пересечено оврагами. Бегать тяжело. Может, это от пронизывающего ветра режет в груди?
Жалма собрала наконец стадо. Все было бы хорошо, если бы не те две безрогие коровы. Они сами не едят ветошь и другим не дают — мотают головами, мычат. И все стадо настораживается, поглядывает на гору. Будто эти безрогие манят туда: «Махнем через ту горку, там наверняка есть незагороженные стога».
И коровы побежали. Догоняй, Жалма! Бурхан-багша, видно, нарочно создал коров злыми и прожорливыми, чтобы они мучили бедную Жалму.
Старые унты совсем развалились. Камни ранят уставшие ноги. Жалма прислонилась к дуплистой лиственнице, села на обледеневшую кочку. Здесь меньше ветра, тише. Она подула на озябшие руки, стащила с ног унты, Снег внутри подтаял, и в унтах образовалась ледяная корка. Жалма спрятала руку за пазуху, чтобы потом теплой рукой потереть ноги. Но ноги уже ничего не чувствуют, будто чужие. Хоть в костер их положи, хоть в прорубь опусти… Даже снежинки на ногах не тают.
Зеленая, теплая весна не торопится или задержалась где-то в пути. Жалма натянула дырявые, короткие чулки. Как их ни крути, все одно кругом дыры. Она оторвала от подола кусок овчины, постлала в унты. Теплее не стало, даже пальцами не пошевелить.
Хочется есть, в животе такая боль, будто понатыканы острые гвозди. Сейчас бы хоть ложку чего-нибудь горячего… Свет появился бы в глазах…
Опять эта безрогая отбилась от стада. Жалма крикнула и не услышала своего голоса.
Почему ты такая, степь? Только изредка ты бываешь ласковой подругой, а чаще злой мачехой… Или ты весну не хочешь принять, или она тебя обходит?
Над Жалмой тусклое низкое — небо. По нему течет мутная ледяная вода. Хоть бы одну ложку чего-нибудь горячего…
Где же солнце? Вон серая, тусклая гора. Ближе к Жалме — лиственницы и березы. Они совсем, видно, промерзли — скорчились, подогнули колени. И солнцу холодно, оно само, как бездомная сирота, покраснело от ветра, прислонилось к сосне, что стоит на горе за камнями…
Жалма встала, ухватилась за тонкий, ломкий сучок лиственницы. Ноги словно чужие. Она пробует обойти вокруг дерева, спотыкается, скользит. Где-то близко, вот за тем холмиком, должна быть Дулсан. Она пасет яловых коров. Тоже плачет, наверно.
Ветер поднимает белесую снежную пыль, застилает глаза. Жалма видит только пять-шесть коров да дерево, у которого стоит.
К стаду приблудились чьи-то тощие коровы…
Вот стога прошлогоднего сена. Оно почернело, сопрело. Но Мархансай-бабай не велит давать его коровам, бережет.
В душе у Жалмы поднялась щемящая жалость к этим тощим коровам соседей! Они ведь тоже живут впроголодь. И пожаловаться не умеют…
Жалма подбежала к загородке, перелезла через крепкие жерди. Схватила в охапку мерзлое колючее сено, бросила его коровам.
Шум, рев…
Хозяйские и соседские коровы рвут друг у друга сено, втаптывают его в снег, в свежий навоз. Слабые, схватив клочок, трусливо бегут прочь.
Жалму будто кто-то торопил, подхлестывал. Она рушила все новые копны, бросала сено подальше, чтобы досталось и тем, слабым. Коровы вокруг жуют. Осталось только пять нетронутых копен.
Снова и снова голодное мычанье. Набежали яловые коровы, с ними чьи-то тощие, разномастные. А вот и Дулсан, задыхающаяся, с круглыми от страха глазами. — Жалма, что ты натворила? Ведь хозяин узнает… Жалма огляделась, губы у нее затряслись.
— Что ты делаешь, Жалма?
— Кормлю… — Жалма не узнала своего голоса, она опустилась на кучу сена, закрыла лицо руками: «Что теперь будет? Ведь Мархансай-ахайхан из-за клочка сена становится страшнее волка».
Жалма еще раз испуганно огляделась. Солнца уже нет, наверно, спряталось от страха. На небе появились первые, бледные звезды, они подмигивают Жалме: «А ну, брось еще сена коровам! Все равно попадет».
Жалма всегда берегла хозяйское добро — охапку сена, клочок шерсти, старые поводья от узды, даже кость собакам не бросала. Жила так, как велели хозяева. Что же случилось сегодня?
Рядом коровы жуют сено.
— Что мы будем делать, Дулсан?
— А мы не скажем хозяину.
— Мне жалко их стало, — тихо проговорила Жалма.
Девушки пригнали коров поздно. Мархансай похвал лил:
— Видно, на хороших местах пасли коров. Плесни-ка девкам арсы погуще, Сумбат.
А ВЕТЕР МЕТЕТ И МЕТЕТ…
На следующий день снега стало еще больше. Тяжелые хлопья все падали и падали…
К вечеру поднялся буран и с каждым часом все усиливался. Возле юрт, загородок, у сараев, вокруг коновязей образовались твердые горбатые сугробы. Люди выбирались из юрт, глядели на хмурое, неприветливое небо. Холод такой, что страшно выйти в степь. Небо и земля слились, ветер старается догола раздеть юрты, сорвать с них войлоки. Мужчины мечутся на тощих конях в поисках корма для скота, многие дают коровам последние клочки сена. Кое-кто снимает с крыш хлевов солому, вымокшую под дождем, высушенную ветрами. Черная, сгнившая, она падает, как дымная зола. Голодные коровы дерутся из-за нее, бодаются. И так день за днем. Доржи понимает: о школе нечего и заговаривать. Кто повезет его в такое время в Кяхту?
Сено есть теперь только у Мархансая и Тыкши. Из одного лишь Намактуя Мархансай привез больше десяти возов, натолкал в сараи, амбары. К сараям привязал собак, которые у него злее волков. Когда собаки были щенками, Мархансай бил их, морил голодом, дразнил, чтобы ненавидели людей.
— Кончится сено, — говорил он хвастливо, — хлебом скотину прокормлю. Никто не скажет, что Мархансай Жарбаев пострадал из-за зуда…
Начался падеж. Что будет дальше? Когда, в какой день выглянет солнце? Мрачные, понурые сидят у очагов улусники с давно потухшими трубками.
Еще до сагалгана какая-то женщина видела плохой сон: из вымени коровы в подойник сочилось не молоко, а кровь. Где живет эта колдунья? Поймать бы ее, черную тварь, чтобы не видела больше плохих снов!
Может быть, послать ламам в дацан щедрую жертву? Пусть попросят богов…
Но боги никогда — не спешат… Проходят дни, буран не утихает. Что делать?
Ухинхэн сказал Жамсуеву:
— Поезжай в думу, Еши. Скажи тайше, чтобы разрешил из магазейного амбара зерно выдать. Голодает народ.
— Да разве на всех этого зерна хватит? Только людей растревожим.
— Поезжай. Сейчас и чашке зерна каждый будет рад.
— Ну ладно. Вы молитесь небесным богам, а земному богу — тайше — я помолюсь, — попробовал пошутить Еши, но глаза его оставались грустными.
Тайша не дал Жамсуеву договорить:
— При чем тут казенный амбар? Ведь в амбаре не сено, а зерно.
— Люди мукой солому пересыпали, чтобы коров спасти. И скотину не спасли, и у самих теперь, кроме дохлятины, ничего нет…
_ Ладно, ладно! Сколько хлеба в казенном амбаре?
— Семь пудов.
— Раздели его между улусниками. Больше дай тому, у кого много скота.
— А может, больше тому, у кого много детей? А то Эрдэмтэ получит чашку зерна, а Мархансай пуд. Дети умрут с голода.
— Почему умрут? Разве мало падали — бесплатного мяса?
Еши смолчал. Огляделся вокруг: богато живет тайша. Вся юрта в коврах. На стене висят часы. Качается большой узорчатый маятник, словно отсчитывает минуты, часы человеческих страданий.
— Ну, дели, как хочешь. — Тайша взял гусиное перо, подписал бумагу. — «Пусть делит сам. Зерна мало, будут нарекания, вину свалю на него…»
Что для Ичетуя семь пудов? Тайша прибыл, когда Еши закрывал пустой амбар.
— Уже разделили?
— Разделили.
— Как у тебя у самого-то с сеном? Приходи, выручу… Всему скоту не хватит, а Рыжуху спасем.
Еши смекает: «Знаю, почему ты, тайша, вдруг таким добрым стал… Но хоть и спасешь Рыжуху, она тебе не достанется. Лучше я ее с горы в скалистый обрыв столкну».
— Спасибо, тайша. Потом расплачусь.
— Я не прошу.
Вечером Еши возвращался от тайши с мешком сена. В степи услышал за собой топот. Гонимые голодом и ветром, с ревом неслись за ним коровы, кони, быки. Страшные, исхудалые… Еши едва успел отскочить в сторону; еще миг — и его растоптал бы обезумевший от голода скот.
Доржи пришел к Еши, когда тот кормил Рыжуху се-ном. Мальчик увидел: бока у Рыжухи втянулись, вся она как-то сгорбилась, стала меньше.
— Ешь, ешь, Рыжуха, — приговаривал Еши и ласков во трепал ее по шее. — Ведь придет же весна, зазеленеет степь, будет много сочной травы. Резвись тогда до самой осени. Сильная станешь, красивая. К чему это ты. прислушиваешься?
Еши обернулся, увидел Доржи.
— А, дружок твой прибежал. Ну вот, на скачках опять вместе будете богачей срамить. Опять дорога, как струна хура, звенеть будет.
— Сайн, дядя Еши.
— Здравствуй, здравствуй, Доржи. Ну, иди, погладь Рыжуху. Она по тебе соскучилась. Ты почему не приходил?
— Мама не отпускает. Говорит, что вам не до меня.
— Это она хочет, чтобы ты около нее был. Сильно по тебе скучает. Бывало, зайду к вам, чашку чая выпить не успею, а твоя мать два раза вздохнет. Ну, рассказывай, как живешь? По-русски читать научился?
— Научился немного.
Еши снова взглянул на Рыжуху, улыбнулся.
— До осени седлать ее не буду. Пешком буду ходить. Пусть отдохнет, пусть соседи скажут: «Краше птицы стала Рыжуха».
Доржи вспомнил стихи, которые ему прочитал Алеша незадолго до отъезда, и громко произнес:
Еши с любопытством посмотрел на мальчика.
— Это из какого улигера?
— Это Пушкин написал. Русский улигершин, — с гордостью ответил Доржи.
ДВА СОСЕДА
Эрдэмтэ и Димит не спали всю ночь. Пала корова. Телята пали еще в первые дни зуда. Если сдохнет последняя корова, чем кормить детей?
— Пойду к Мархансаю. Буду просить сена. Пусть заставит работать на самой тяжелой работе.
Эрдэмтэ не успел и слова сказать, Мархансай загнусил:
— Нету, нету… нету сена. У меня на дворе такая же зима, трава не растет.
Но Эрдэмтэ не уходит. Мархансай молчит, даже не смотрит в его сторону. Может быть, он спит сидя?
Нет, Мархансай не спит. Сумбат вчера сказала, что хорошо бы кое-кому из улуоников дать немного сена: «За десять копен летом возьмем сто». А что, если вправду дать? Вроде дельный совет, убытка не будет…
«Так-то оно так, — отвечает сам себе Мархансай. — За десять копен сена я получу сто. Это, конечно, хорошо. Но еще выгоднее дать после зуда одному-двум по паршивой коровенке. Любой меня благодетелем посчитает, а я на десять лет седло на этих голодранцев надену. Ведь после зуда все нищими станут… Нет, сейчас надо не чужой скот спасать, а о своем думать».
Эрдэмтэ постоял, подождал и несмело проговорил:
— Мархансай-ахайхан… У вас много сена…
— А скота у меня разве мало? Сосчитай…
— Ахайхан, хотя бы один пуд…
— Не то что пуд — фунта не дам. Не по моей вине выпал снег, начался зуд. Ты думаешь, меня зуд не касается? Сколько скота у меня унесет…
— Я отработаю… Рук и ног не пожалею.
— Хоть из кожи выскочи, не потянешь столько, сколько любой из моих быков.
— Ахайхан. Пожалейте детей…
— Я тебе не ахайхан и не бабайхан. Все вы одинаковы. Когда сыты, нет в улусе никого хуже и злее Мархансая. А придет беда — все бежите к Мархансаю. Тогда я милый и добрый… Не жди, не пожалею… И другим скажи — пусть зря не ходят.
— Детей, детей моих хоть пожалейте.
— У всех дети. Дай одному — сто человек нагрянут. Я не солнце — всех греть, не ручей — всех поить.
Мархансай встал, сплюнул зеленую табачную жвачку. У его кривых ног лежала собачонка. Она глянула на хозяина и вдруг затявкала на Эрдэмтэ. Тот надел шапку и понуро вышел. Под мышкой у него пустой мешок. Снег успел замести его следы. У дороги — домик Степана Тимофеевича. Над крышей вьется мирный дымок. Что, если зайти, погреть руки, выкурить трубку?
В избе тепло и чисто, в грязных унтах зайти неловко. Эрдэмтэ поздоровался, взглянул на Степана Тимофеевича, Алену и удивился: лица у них мрачные. Степан Тимофеевич осунулся. «Что у них случилось? — подумал Эрдэмтэ. — Ведь зуд им не страшен. Коров нет, а козы… Если останется хоть одна веточка с корою, козы выживут, им хватит…»
— Садись, сосед, садись.
Эрдэмтэ сел, взял на руки козленка. Тот, тяжелый, теплый, доверчиво лизнул ему руку. Просит, видно, чего-то. Приятно держать его, сытого, кудрявого.
— Сена нету… Совсем беда, — со вздохом проговорил Эрдэмтэ.
— Беда, беда, — тихо подтвердила Алена.
Степан сокрушенно покачал головой.
— И у нас не сладко: хлеб на исходе. «Мархансай вспомнил, что я ему должен, ждать не хочет. «Хоть кузню, говорит, продавай, а долг верни». Кузню продадим, чем кормиться станем?..
Эрдэмтэ слышит и не слышит. В его голове одна мысль: «Где найти сено, где найти сено?..»
— Русский парень шибко мастер… Бурятский парень совсем не мастер…
Эрдэмтэ вытащил свою трубку, постучал ею об угол печи. Степан Тимофеевич протянул ему свой кисет.
— Это неверно. Буряты народ умный, трудолюбивый. Бедность всех заела.
Эрдэмтэ хоть и плохо знает по-русски, а понял, о чем толкует Степан.
— Правда, сосед, бедность.
Степан Тимофеевич тихо переговорил с женой. «Не меня ли осуждают: зашел, пол затоптал…» — забеспокоился Эрдэмтэ.
Алена вышла. За веником, наверное.
Эрдэмтэ все разглядел в избе. Хорошей кровати нет, теплых шуб не видно… У окна склонился над книгой Саша.
— Ваш Сашка, наш Аламжашка беда эбтэй. — Эрдэмтэ правой рукой пожал свою левую, чтобы Степан понял: эбтэй — дружные, неразлучные.
Степан Тимофеевич отсыпал в кисет Эрдэмтэ горсть табаку. В избу зашла Алена, принесла большой, пузатый мешок. Из него торчат зеленые клочки сена. Как оно пахнет! Алена протянула мешок Эрдэмтэ. Тот оторопел.
— Одна корова пропала. Одной корове сена надо. Беда большое спасибо, — проговорил он.
Алена налила в глиняную чашку капустного супу, поставила перед Эрдэмтэ, отрезала ломоть хлеба. Он с удовольствием поел супу, а хлеб не тронул. Степан Тимофеевич пододвинул к нему ломоть; Эрдэмтэ вытер рукой усы, виновато сказал:
— Парень мелкий беда много, — и положил хлеб за пазуху.
Эрдэмтэ вдруг подумал: «Степан может сказать: «Наши козы летом потравили ваше сено. Мы возвращаем тот клочок, из-за которого вы подняли такой шум».
Ой, как нехорошо!» Но Степан Тимофеевич сказал совсем другое:
— Приходите еще, сена больше нет, дадим соломы и капустных листьев. Пришлите Димит — пусть возьмет для ребят картошки.
— Спасибо, большое спасибо.
Эрдэмтэ потряс руки Степана и Алены, погладил золотистую голову Саши.
— Наш Аламжашка, ваш Сашка большой тала будут. Беда эбтэй.
Эрдэмтэ почти бежал к дому.
«Степан сам бедный. А ведь выручил… Не то что Мархансай, богатый сосед… Как отблагодарить Степана Тимофеевича? Пусть его сыновья и внуки в своей долгой жизни не будут знать ни в чем нужды. Пусть всегда у соседа Степана в очаге будет огонь, в мешке мука, в доме счастье».
Димит обрадовалась, что муж пришел не с пустыми руками.
— Я так и думала, что Мархансай-бабай нам поможет…
— Пусть твой Мархасай подавится своим сеном. Это сено Типан дал.
— Степан? Добрый человек… А вы обидели его летом.
— Зачем ты вспомнила, когда он забыл. Типан знает, что я не со зла кричал.
— Может, к Ганижабу сходите? Рассказывают, что он дает сено взаймы. За одну копну осенью нужно отдать семь.
— Десять отдам, лишь бы Пеструху спасти, — обрадовался Эрдэмтэ. — Но как привезти сено?
— Он и коня дает. «Летом, говорит, отработаете».
— Надо идти, — решил Эрдэмтэ.
Корову с трудом завели в юрту. Напоили теплой водой Димит поставила на очаг чугун с мясом, павшего теленка, залатала шубу мужа. Он положил ц сумку кусок мяса. За пазуху спрятал трут и огниво. Ребятишки ссорятся, не могут поделить русский хлеб, который принес отец.
Солнца не видно. Ветер без устали метет снежной метлой, чтобы ни одна травинка не досталась коровам, Эрдэмтэ вышел, крикнул жене:
— Возьми мешок да иди к Типану. Он обещал соломы и капустных листьев дать. Алена обещала картошки. Да мешок, смотри, пустым туда не носи, чтобы беды на них не накликать. Хоть горсть айрсы туда положи.
ЧТОБЫ БЫЛА ТИШИНА
Тыкши Данзанов прискакал в степную думу по срочному вызову. Вдоль стен уже сидели на скамьях девять зайсанов из девяти родов. Вскоре вошли Ломбоцыренов и Бобровский. Все встали. Некоторые низко поклонились.
— Садитесь, — на ходу проговорил тайша, прошел к своему креслу.
— Вы знаете, зачем мы вас вызвали?
Тайша помолчал, оглядел зайсанов. Те задвигались на своих местах.
— Люди шепчутся, подозревают вас в нечестности. А некоторые клянут не только зайсанов и нойонов, но даже существующие порядки и законы. Неблагонадежные есть в каждом роду, в каждом маленьком улусе. А вы за ними не следите. Вот ты, Тыкши, что ты знаешь про Ухинхэна, Жамсуева, про русского кузнеца Степана? Ничего не знаешь. А ведь вы отвечаете перед законом за свой род, так же как я в ответе за всю степную думу. — Тайша перевел дух, встал, с шумом отодвинул кресло. — Народ надеется на поддержку. А если люди узнают, что иные из вас давным-давно растащили магазейный хлеб, что будет? Вот ты, — тайша грозно взглянул на зайсана ашабагадского рода; тот встал — большеголовый, безусый, краснолицый, — как ты смел на глазах у всего улуса дать два мешка муки брату?
— Я не давал, тайша. Это сплетни… Злые люди брешут…
— Врешь! Вот они, жалобы. Есть свидетели, что ты роздал родственникам казенную муку. Здесь подписи — семнадцать человек, семнадцать глав семей. Они угрожают. Не одному тебе — всем нам. Ты слышишь? Не умеешь прятать кости, не садись жрать мясо.
Глаза Юмдылыка Ломбоцыренова вспыхнули злобным огнем.
— И вы не лучше. Знаю я вас… — Он снова повернулся к ашабагадскому зайсану: — Иди и уйми народ. Чем заткнешь голодные глотки — хлебом или глиной — твое дело. Но чтобы было тихо. Слышишь? Чтобы была ти-ши-на. Поступит еще одна жалоба — я приеду к вам и покажу народу на тебя. Тебя запрут в пустом амбаре и сожгут живьем.
В комнате тихо. Никто, кажется, не дышит. Тайша заговорил спокойнее:
— Вы разъедетесь и будете говорить всем, что тайша с Бобровским о народе думают — перед казной ходатайствуют, к губернатору собираются, перед всеми чиновниками челом бьют. Сделайте вид, что вместе с ними страдаете… Несколько своих плохих коров оставьте без корма, пусть они подохнут. Люди должны и около ваших юрт видеть павшую скотину… Выдайте немного муки. Пожалеете фунт — потеряете пуды. Верно я говорю?
— Верно, — нестройно отозвались зайсаны.
— Позаботьтесь, чтобы на подать деньги готовили… Зуд никого не спасет от подати — так и передайте в улусах, — добавил Бобровский.
— Ну, все. Расходитесь.
Зайсяны молча поклонились.
Юрта Тыкши Данзанова на возвышенности, в стороне от других. Ему видны все соседи вокруг — у чьей коновязи оседланные лошади стоят, над чьей юртой даже дымок не вьется… Зайсан пришел домой расстроенный, мрачный. Янжима только что встала с постели, сонная и вялая, разожгла огонь, поставила чай.
— Отец, зачем вас в думу вызывали?
— По головке гладили, — огрызнулся Тыкши Данзанов.
Янжима поняла, что отец не в духе, и умолкла. Чай вскипел. Тыкши залпом выпил несколько чашек, придвинул горячую лепешку, смерзну. «У всех унес покой чертов зуд. Даже тайша с Бобровским забеспокоились… А тут еще эти голодранцы того и гляди беспорядки учинят, отвечай за них». На глаза подвернулась дочь. «Дура, — неприязненно подумал Тыкши. — Сама замуж не выходит и мне не дает жениться… Двадцать три года, а ум, как у ребенка. Выгоню вот, будешь знать». Злоба на дочь сменяется тупой и трусливой злобой на тайшу: «Сам был бы без греха. Как же! Я-то знаю…» Пришла мысль, что если бы на свете не было Ломбоцыренова, тайшою стал бы он, Тыкши Данзанов. Чем он хуже Ломбоцыренова? Ничем! Богатством и хитростью и его бог не обидел…
Вспомнились соседи, и вот в душе поднялась волна лютой ненависти: «Передохли бы они со своей скотиной, спокойнее стало бы зайсанам. С одной податью хлопот сколько! Денег у них нет, а Бобровский каждый раз лает: «Не умеешь голытьбу в руках держать!» Его бы самого, рыжего волка, зайсаном посадить…» В голове Тыкши неотступная мысль: как бы проучить соседей, отомстить им за все неприятности? Вдруг свирепо залаяли собаки, привязанные у амбара. В юрту вошли Затагархан и Тобшой. Тыкши давно их не видел. «Старуха стала совсем седой, а все еще живет, смерть ее подобрать не может… А этот щенок каков… Не подумаешь, что нищий. У Мархансая Шагдыр в масле купается, а все чахлый… Соседи, что ли, их кормят?»
Тобшой повела по юрте незрячими глазами:
— Зайсан, вы дома?
— Я здесь. Говорите.
— Зайсан, корова на ногах не стоит, вот-вот подохнет… Соседи из последнего помогали, теперь и они не могут. Будет ли помощь от вас, зайсан? Когда перепись или ясак новый — вы нашу юрту не обходите, а когда нужда и мука смертельная — вас нет… Ведь если сдохнет наша корова — нам один путь: в ограду дацана с протянутой рукой…
Тыкшй сочувственно вздохнул:
— Тяжело, тяжело… Я знаю! Тайша с Бобровским днем и ночью хлопочут перед русскими нойонами. Скоро муку будем делить, может, они и сена немного достанут.
— Красивые слова, зайсан, богатые обещания. Ты посмотри, как люди мучаются. Нам не слова — помощь нужна.
— Как же, как же, я с радостью… Ночей не сплю, о народе думаю… У вас есть мешочек?
— Нету, зайсан…
Тыкши протянул старухе большую чашку отрубей. Янжима не поверила своим глазам: не сошел ли отец с ума?
Бывало, она горстку муки просыплет, он орет, как бешеный, кулаками грозит… А старухе — столько отрубей, да в такое страшное время?!
Тобшой держала чашку… Щепотку отрубей положила в рот, пожевала.
«Зубы-то ровнее и чище моих, — с завистью взглянула на нее Янжима. — Красавицей была в молодости, однако».
«Сразу замолчала, старая карга», — подумал Тыкши.
— Я не за этим пришла. — Старуха подняла голову. — Высыпь эти отруби на дворе, покорми воробьев. Мука-то из казенного амбара… Вы из этой муки себе лепешки печете, а отрубями меня подкупить хотите. Думаете, я слепая, не пойму. А я, может, зорче тебя, зрячего, вижу…
— В уме ли ты, старуха? Как ты смеешь говорить такое?
— В уме, Тыкши, в уме. Вы все одинаковы — и ты, и Бобровский, и тайша. Всех обманываете. Беги, передай тайше. Я не боюсь, дальше могилы — все равно не загоните…
— Бабушка, берите отруби, — стал уговаривать ее шепотом Затагархан.
— Молчи… Скажут еще, что мы со стола зайсана крохи начали собирать, честь свою потеряли. Они всему улусу должны помочь, не одни мы голодаем. А что хитрые люди вокруг творят, я вижу, все вижу.
— Бабушка Тобшой, нету же ни зерна, ни муки… Нету же…
— Ну и что ж… Нет, так нет… Но то, что зрячий зайсан днем не находит, слепая старуха ночью ощупью найдет…
Тыкши что-то промямлил в ответ — то ли слова оправдания, то ли тихую ругань.
Старуха повернулась к двери. За нею вышел и Затагархан с глазами, полными слез. Тыкши что-то сказал им вслед. Янжима не расслышала: во дворе горласто лаяли цепные собаки.
— Иди к соседям, — приказал Тыкши дочери, — к Ухинхэновым, Холхоевым, к русскому Степану… Слушай, о чем бабы и ребятишки болтают.
Янжима не впервые отправлялась в такой поход. По делам будто — иголку попросить, наперсток, ниток… Беда лишь, что соседи теперь понимают, зачем она ходит. Песню обидную про нее сложили… При ней теперь и разговоров не затевают.
Тыкши остался один, сел у очага. «Ничего, — успокаивал он себя, — это не первый и не последний зуд. Надо только следить за теми, кто народ мутит». Во дворе снова залаяли собаки и сразу утихли. В юрту вошел Цоктоев.
— Не тайша ли прислал?
— Нет.
— Ну, садись. Что нового?
— Да ничего. Ехал мимо, завернул погреться, — проговорил Цоктоев.
Тыкши посмотрел недоверчиво. «Хитер ты. Одному тайше верно служишь. Не только за рванью — за зайсанами следишь».
На этот раз Тыкши не угадал: Гомбо приехал повидаться с Янжимой, а спросить, где она, не решался. Тыкши вскоре догадался. «Ну что ж… Цоктоев молодой, собою не плох. Хорошо бы выдать за него Янжиму. Отвязался бы я от бестолковой дочки… Обидно, что голодранец, но зато с тайшой дружит, все его планы, все темные дела знает. Да и кто другой возьмет Янжиму? Если Цоктоев станет зятем — тайша в моем аркане».
Цоктоеву скучно сидеть с Тыкши. Но как узнать, скоро ли вернется Янжима, стоит ли ждать?
— У вас сразу неуютно стало, как Янжима в гости уехала, — не вытерпел Цоктоев.
— Сейчас не до гостей. Она пошла к соседям. Скоро придет.
Гомбо вытащил колоду карт: надо же чем-нибудь заняться, пока нет Янжимы.
Янжима вернулась не скоро. Злая. Ей ничего не удалось разведать, при ней соседи молчали. Зашла в юрту — отец и Цоктоев испуганно спрятали карты, думали, что чужой пришел.
— Хватит, Гомбо.
— Мне же обидно — барана проиграл, которого тайша пообещал.
— Ладно. Считай, что ты мне ничего не должен. Заходи почаще, рассказывай, какие новости в степной думе.
Цоктоев понял. Он рад: теперь можно не искать повода. приезжать к Янжиме. Однако надо сделать вид, что он расплачивается за проигранного барана.
— Все, что будет касаться зайсанов, все, что к вам будет относиться, — все узнаю.
Тыкши вышел. «Пусть молодые побудут наедине. Может быть, придется с ним породниться».
— Все мимо нас скачете, не заходите, — с притворной Обидой проговорила Янжима, когда они с Гомбо остались вдвоем. — Все с тайшой разъезжаете. До меня ли вам, до дочери простого зайсана… — с лукавым смешком дразнила она Гомбо.
— Зачем ты так говоришь, Янжима? Я же на тебе женюсь, и все у нас будет вместе.
— Знаю, как вместе: себе — саламат, а мне — чад и копоть.
— К чему такие слова? Я хочу с твоим отцом породниться. Он мне нравится.
— Ну и женитесь на нем, раз нравится. — Янжима обиженно отвернулась, узкие костлявые плечи у нее вздрогнули.
Цоктоев встал, обнял ее. Янжима улыбнулась, сделала вид, что вырывается. В глазах у нее и хитрость, и смешок, и тусклая надежда… Чем назойливее пристает Цоктоев, тем больше жеманится Янжима.
— Я знаю — вы хитрый. Говорят, около тайши хитростью и держитесь. Я боюсь… вдруг обманете, на другой женитесь. А про меня языкастые девки, вроде Жалмы, и так обидные песни орут.
Янжима прикрыла лицо руками, визгливо всхлипнула. На ее тонких бледных пальцах Цоктоев увидел шесть золотых колец. Красноватое золото. От кого-то он слышал, что это самое дорогое. Таких толстых, тяжелых колец и жена тайши не носит… У той кольца с красными и зелеными камнями. А эти сплошь золотые. Цоктоев посмотрел на свои руки: Нет, у него большие руки, ее кольца не подойдут, пожалуй… А может быть, два эти крайние на мизинец налезут? Ну это не беда: было бы золото, какой-нибудь бродяга чеканщик из него что хочешь сделает.
— Выходи за меня, Янжима. Разве плохо? Я у тайши вроде помощника, тесть зайсан… Не смотри, что у меня только три дойные коровы. Их скоро станет триста! Никого не будет богаче меня. Батраков будем держать… Тайша для меня все сделает. Я про него такое знаю… Он обещал меня поставить в магазейном амбаре.
— А Еши как же?
— Что Еши? Еши — ноготь на пальце тайши. Возьмет тайша ножницы — и нету ногтя… Вот скоро увидишь… — Цоктоев замялся — чуть было не сболтнул лишнее. И, чтобы отвлечь Янжиму, обнял ее за плечи.
— Еши что-то не очень разбогател в магазейном амбаре, — усмехнулась Янжима. отталкивая его.
— Глупый человек — вот и не разбогател. У очага сидит и руки нагреть не умеет, — оживился. Цоктоев. — Мы с тобой сеять не будем, а по десять урожаев в год снимать станем. Я тебя так одену — жена тайши позавидует.
— Я и сейчас не голая. А ваши наряды когда еще будут… Пока что про вас только обидные песни в улусе поют, болотной жабой дразнят, говорят, что вы кости родного отца не жалеете — срамите…
— А что мне отец? Робким, тихим был, таким и умер. Не то что отару — овчинную шубу мне не оставил. Жарбай своему Мархансаю вон сколько скота припас…
— Мне же неприятно, когда про вас плохо говорят… — Янжима прижалась головой к его груди.
— А ты всякую болтовню не слушай. Это они от зависти. Вот разбогатею, со всеми разделаюсь. За завистливые слова, за ядовитые песни… никого не пощажу… Все у нас будет — и сила, и богатство. Ну, я пойду. Завтра с утра с тайшой еду в Селенгинск по важному делу. Может, что-нибудь и куплю тебе.
Янжима вышла проводить жениха.
…Тайша Ломбоцыренов сидел, откинувшись на спинку саней, прикрытую ковром. Ноги в расшитых унтах упирались в спину Гомбо Цоктоева. Маленькие сани скользили по ледяной дороге, по снежным сугробам, поскрипывали по голой земле. За санями тайши скакал на Рыжухе Еши Жамсуев, одетый в старую доху. В Селенгинск приехали поздно вечером Остановились не у отца заседателя верхнеудинского земского суда Павлинова, к которому обычно заезжал тайша, а у сапожника Щукина. Цоктоев остался с конем, а тайша с Жамсуевым пошли в присутствие. Тайша вел себя здесь, как у себя в думе: хлопал дверями, со всеми разговаривал на «ты», спрашивал про каких-то чиновников. Старик с жидкой бородкой, с лишаями на щеках неторопливо достал из железного сундука тяжелую папку, привычно сдул с нее пыль. Послюнявил палец, стал листать бумаги. Еши Жамсуев не вытерпел, спросил:
— Сколько же нам выделили муки?
— Не спешите. Столько, сколько надо.
— Если бы вы знали, что у нас делается, заспешили бы.
— Вам выделено четыреста сорок пудов. Осенью надо возвратить вдвойне — восемьсот восемьдесят пудов.
«Царская-то власть не лучше Мархансая, — усмехнулся про себя Еши. — На несчастье людей наживается». Он расписался, получил направление в склад, что на краю Селенгинска.
— Может быть, часть разрешите улусникам вернуть мясом?
— Ты бы еще сказал «навозом».
Тайша повернулся к Еши:
— Ты ночуй у Щукина, а я с Цоктоевым вернусь в думу. Постараемся ночью собрать коней и отправить подводы. Утром получишь муку. Правильно?
— Правильно, тайша. Четыреста сорок пудов муки в такое время — бесценное богатство.
К сапожнику Щукину попросились на ночлег два молодых бурята. Они покормили лошадей, наварили мяса. Распечатали бутылку китайского спирта, щедро угостили хозяина, предложили и Еши, но он отказался. Утром ведь нужно муку получать с казенного склада. Парни утверждают, что знают Еши, а он не может припомнить, кто они, где встречались.
— Неужели забыл, Еши? Мы в гости в Ичетуй приезжали, лазали на вершину Баян-Зурхэна, прятались в пещерах Сарабды, купались в Джиде. Ты сильно изменился.
Еши развел руками:
— Скажите имя, припомню.
— Так вспомни. Гордым стал: ключи от магазейного амбара хранишь, с нойонами да чиновниками водишься.
— И меня ты знаешь, Еши. На скачках виделись, — вмешался в разговор второй парень. Он широк в плечах, силой, видно, не уступит Балдану.
Еши пожал плечами. Может, и правда видел когда-нибудь. Всех не запомнишь. «Да и парни какие-то — не лежит к ним душа. Напою Рыжуху и лягу спать, завтра надо пораньше встать». Он согрел ведро воды и вышел напоить свою красавицу. Стоит, любуется Рыжухой.
— Хорошая ты у меня… Получу свою долю муки, поделюсь с тобой: целую чашку размешаю в теплой воде, солончаком приправлю.
Тут со снежного неба вдруг посыпались горячие звезды. Еши упал на спину, а звезды горят все ярче и ярче, беспощадно обжигают его тело. Нет, это не звезды. Кто-то кидается головешками… На Еши рушатся стены домов, он удерживает их ногами. Помог бы кто-нибудь сбросить с ног непосильную тяжесть… По животу, по бедрам ползают многоголовые змеи. Но вот кто-то сбросил с ног тяжесть. Стало хорошо, легко…
— Готов, — сказал приятелю широкоплечий, наклоняясь над затихшим Еши.
Ветер и снег хлестали Эрдэмтэ по лицу. На усах намерз лед. Иногда ветер бил в спину, торопил. Тогда Эрдэмтэ с трудом удерживался, чтобы не бежать… Темно. Давно ли наступила ночь? С какой стороны восходит солнце, где заходит? Эрдэмтэ потерял дорогу, но он не думает о себе. Все его думы о семье — о сыновьях, о жене, о том, как спасти Пеструху-кормилицу. «Степан, добрый ты человек. Пусть несчастье не коснется твоего очага… Чем я отблагодарю за твою доброту?..»
Прямо перед ним стоял волк. Эрдэмтэ выдернул из-за кушака топор. Это же не волк, это коновязь торчит из сугроба. Значит, близко живут люди.
Неужели суждено замерзнуть в родной степи? Эрдэмтэ отыскал какую-то жердь, разрубил, но не смог высечь огонь, руки одеревенели. Куда идти? В какой стороне юрта? Он сел на снег. Нет. Сидеть нельзя, нужно идти… Неужели повеял весенний ветер? Голова стала свежая, ясная.
…Жаркий летний день. Трава густая-густая… Радугой играют алые, голубые цветы. Ветер сплетает из них венки. Эрдэмтэ косит сено. Какая острая коса! Спина у него голая, мокрая от пота. Жжет солнце. Ровными волнами ложится душистое сено. Вырастают высокие копны. У Эрдэмтэ никогда не было столько сена… Вдруг откуда-то появляются черные коровы и быки с огромными рогами, начинают пожирать сено, рушат копны. Эрдэмтэ поднял грабли, отогнал быков. Быки исчезли. В руках не грабли, а палка…
«Что со мной? Заснул на ходу?» — подумал Эрдэмтэ. Он побрел дальше, проваливаясь в сугробы, и вдруг увидел перед собой пять белых всадников на белых скакунах. Гремят серебряные удила. Это ведь его сыновья. Как они выросли! Неужели не узнают отца?
— Эй, Аламжи, Эрдэни!
Эрдэмтэ бежит, задыхается, машет рукой, чуть не дотянулся до хвоста белого скакуна… Нет, это не кони с белыми гривами, это ветер, буран…
Эрдэмтэ посмотрел на небо. Там, наверно, тоже зуд. Погиб весь скот. Осталась одна-единственная овца, она бежит куда-то в поисках корма… Нет, это не овца, это луна в туманном, облачном небе… Эрдэмтэ споткнулся, упал лицом в снег…
Откуда взялись у него скрипучие сапоги? Всю жизнь ничего, кроме овчинных унтов, не носил. Неужели умер кто-нибудь из нойонов и лама Попхой отдал Эрдэмтэ его сапоги? Нет, это скрипят полозья саней.
— Кто это?
— Я, Ганижаб. Слыхал ли ты про меня?
— Как же, как же! Я и иду к вам. Спасите меня, дайте сена. Я — Эрдэмтэ. Помните, в прошлом году я два дня забивал у вас скот?
— Знаю, знаю. Помогу. Кому же и помочь, если не тебе… Садись.
Эрдэмтэ сел мимо саней. А Ганижаб не обернулся, он не услышал, как тот закричал, не увидел, как побежал вслед.
Сугробы. Не сугробы, а новые белые сундуки. Тыкши Данзанов хитро подмигивает, говорит:
— Моя Янжима замуж выходит. Это приданое. Если красиво раскрасишь эти сундуки, будешь почетным гостем на свадьбе.
— Пусть нойоны будут почетными гостями. Мне бы возок сена за работу.
— Сделаешь красиво — получишь сена сколько надо… Эрдэмтэ работает. Когда он отказывался от работы? На широких досках сундуков появляются рисунки-кружки, а среди них узорные завитки. Вокруг толпятся ребятишки. Вот и сирота Затагархан. «Видите, как нужно рисовать узоры? Их можно читать, как хорошую книгу… Сколько ни смотрите на них, не надоест… Плохому мастеру никто не даст дорогие краски. Если Эрдэмтэ взялся за дело, он сделает. Правда, ребята?»
— Правда.
— Красной краской нужно рисовать маки, — говорит он детям.
— Это же не краска, это кровь вашей Пеструхи, — возражает какой-то мальчик.
Эрдэмтэ вздрогнул, попробовал краску на язык. Солоноватый вкус крови…
Эрдэмтэ давно потерял рукавицу. Зачем рукавица? Ведь так тепло, дует ласковый ветерок… Суровые дни зуда прошли. Скоро появится свежая трава.
Эрдэмтэ присел отдохнуть. Послышался смех ребят. «Это мои сыновья балуются. Радуются, глупые, что стало вдоволь мяса…»
Где-то близко залаяла собака. Помолчала и вновь залилась звонким, горластым лаем.
Дети Эрдэмтэ-бабая вернулись домой, озябшие, невеселые. Вместе с ними пришел и Доржи. Димит спросила маленького Дугара:
— Ну, чем вас угостили соседи?
Дугар оживился, повеселел, стал рассказывать о богатом угощении. Послушаешь, в самой богатой юрте самого знатного ламу так никогда не встречали, как Тобшой угощала Дугара. Мать слушала и улыбалась выдумкам сына, кивала головой, будто верила, что и вправду так было.
В юрте темно и холодно. У очага, накрытая старыми шубами и войлоками, лежит Пеструха. Она тяжело вздыхает. Если бы могла говорить, сказала бы: «К чему вы стараетесь спасти меня? Мой теленок погиб… Каково будет в летние дни пастись в степи около его белых костей?» Димит ставит заплатки на рукавицу Аламжи.
— Мама, отец принесет муки? — спрашивает Бато.
— Принесет, принесет.
— А масла?
— Может быть, и масла принесет. Будет у нас сено, поднимется Пеструха, тогда все появится — и масло, и сметана, и айрак…
— Мама, а мама… Чтобы сделать заваруху, кроме муки и масла, ничего не нужно? — не унимается Бато.
— Нужна вода, — вставляет Дутар.
— Без соли заваруха не выйдет, — говорит Эрдэни.
Аламжи слушает разговор братьев и вздыхает, как взрослый. В очаге тлеют гнилые палки…
— Чтобы заваруха была вкуснее, можно прибавить молока, — с воодушевлением говорит Дугар.
— Когда отелится Пеструха, я каждое утро буду пить молоко, — Бато смотрит на мать.
— Будешь… И простоквашу будешь кушать и творог. Пенок насушим.
— Сушить не станем. Воробьи утащат.
— А мы пугало из рваной шубы поставим.
— Айрак будем пить.
— Я не хочу айрака… Он кислый… — капризничает Бато.
— От айрака станешь большим, сильным, — убеждает брата Дугар.
— Не буду… Не хочу… — со слезами спорит Бато, будто его и в самом деле заставляют пить айрак.
Вздыхает Пеструха. Ребятишки, на которых надето все теплое, что нашлось в юрте, наблюдают за проворными пальцами матери. В чугунке кипит жидкая арса. Ребята разбирают чашки, затевают ссору из-за ложек. Димит разливает по чашкам арсу.
Доржи видит у очага большой черный чугунок с отломленными ушками. Много раз Доржи вместе с мальчишками Эрдэмтэ-бабая сидел вокруг него, обжигался заварухой, стараясь всех обогнать. Заваруха из отрубей, арса без сметаны и молока или просто вареное зерно всегда казались Доржи из этого чугунка особенно вкусными. А вот еще стоит пузатый чугунок с медным обручем по краю. В нем темное противное мясо павшей коровы…
— Мама, расскажи нам интересную сказку, — просит Дугар.
Димит стала рассказывать детям сказки о маленьком пастушонке Будамшу, который был всех умнее и хитрее, всегда выигрывал заклады в спорах с богатыми и сильными.
Доржи поздно ушел домой.
Залаяла собака. Прислушалась к своему голосу и снова залилась громким лаем.
— Я же говорила, что слышала чей-то крик, — говорит мужу Ханда.
— Нет… Это ветер шумит, — отзывается Холхой.
Холхой сидит за очагом, починяет хомут. Он вынул изо рта трубку, прислушался. Собачий лай заглушает все другие звуки.
— Кто-то кричал, — убежденно говорит Ханда.
— Может быть, соседский ребенок заблудился?
Холхой одевается, вместе с женой идет к выходу. Ребята заплакали — боятся остаться одни. Холхой и Ханда идут на лай. Собака встречает их, бежит вперед. Через несколько шагов она останавливается: в снегу лежит человек.
— Это же Эрдэмтэ! — узнает Ханда.
Холхой и Ханда вносят его в юрту, кладут на кровать, раздевают. Ханда поит его горячим чаем.
— Димит… Ганижаб привез сено? Он должен три воза… — бредит обмороженный.
— Ханда, позови-ка Димит., — говорит Холхой, — он, видно, шел к Гашижабу и заблудился. Хорошо, что не замерз совсем…
Димит уложила мужа у очага. Ноги у него не чувствуют ни холода, ни тепла, ни боли. Эрдэмтэ кажется, что он совсем здоров, только, не может шевельнуться. Теперь ему не нужен Ганижаб, его щедрость, его сено: Пеструха подохла. Видно, всему пришел конец. Оборвались нити, на которых держалась семья. Что будет, то и будет… Не один он оказался в такой беде. Случись все это только с ним, он не выдержал бы, пожалуй, пошел бы искать дерево с сучьями, реку с водоворотами.
…Свирепый ветер бушует, поднимает снежный туман над улусом.
Много скота погибло. Первыми пали старые, беззубые коровы. Потом кони и бараны. У молодых коров ребра вот-вот прорвут шкуру. Кости так торчат, что на них можно узду повесить. Уцелевшие коровы — живут вместе с людьми в юртах. Люди вытаскивают из юрт павших коров, зарывают в снег. Над падалью дерутся сытые собаки, с криком летают вороны и сороки. Они рвут кожу и кровавое мясо, обнажают белые ребра. Падали с каждым днем все больше. Ее бросают рядом с юртами: нет лошадей, чтобы вывезти в овраги, на склоны соседних гор… Не видеть бы весь этот ужас… Лечь бы в постель, закрыться с головой и уснуть надолго, до самого лета. Но сидеть без дела нельзя. Улусники собирают ветошь, раскапывают снег в тех местах, где раньше стояли стога сена.
Кончились дрова. Лес далеко, пешком не пойдешь… Кони же, хоть и остались кое у кого, так слабы, что пустые сани с места не сдвинут. На дрова рубят жерди, углы сараев, крыши. Не замерзать же! Среди сугробов торчат коновязи. Их не трогают.
Замахнуться на коновязь топором — то же, что водой залить огонь в очаге. Раз стоит у юрты коновязь, значит в юрте живет семья, есть конь, которого здесь привязывают, значит сюда заезжают гости… Нет коновязи — нет жизни в юрте.
Ветер свистит, метет желтоватый снег. Оставшиеся в живых коровы смотрят на людей печальными глазами.
Доржи зашел в хлев и видит: пала однорогая Пеструха. Он с плачем побежал в юрту. Отец вошел в хлев, постоял, покачал головой, потом принес волосяную веревку, привязал за шею коровы и потащил. Пеструха и мертвая не хочет уходить из хлева: упирается ногами, единственным рогом раздирает снег и землю. Отцу помогают Бадма и Харагшан. Доржи отвернулся…
Пеструху забросали снегом. Ветер с упрямым злорадством сдул его. На еще теплом боку коровы растаяли снежинки… Банзар, так и не сказав ни слова, вернулся в юрту вместе с Цоли. На дворе остался Доржи. Он не может уйти от Пеструхи, ведь целое лето он пас ее в степи вместе с Сашей.
Откуда-то появились два больших орла. Один с лысой головой. Он нетороплив, уверен в себе. Матерый орел. Второй поменьше, быстрый и сильный, с плотными тяжелыми крыльями. Доржи кажется, что кто-то связал, этих орлов и они не могут оторваться друг от друга. Поднялись, сложили крылья и как камни ринулись вниз, чуть. не упали на мертвую Пеструху… Потом опять взмыли в вышину. С клекотом, криком бросились друг на друга. На землю полетели темные перья. Доржи увидел, что все птицы исчезли, будто вымерли. Одна только пичужка вылетела поглядеть на поединок орлов. Орлы выпустили друг друга из когтей и, как две черные бури, налетели на легкомысленную птичку. На землю упало только несколько перьев. Будто и не было на свете бедной пичужки. Орлы принялись вновь терзать друг друга.
Отец вышел из юрты с кремневкой, прицелился. Когда орлы в смертельной схватке замерли на мгновение в воздухе, раздался выстрел. Старый орел упал с простреленным крылом.
Раненый орел бил крылом, взметал снежную пыль. В его помутневших глазах была такая злоба, что Доржи с опаской проговорил:
— Папа, не подходи близко. Вон какой он страшный…
Отец подбежал с палкой. Орел бросился на него. Когда все было кончено, откуда-то появились собаки, остановились в стороне с поджатыми хвостами. Доржи рассматривает когти, клюв, остекленевшие выпуклые глаза хищной птицы.
Жалко, что здесь нет Алеши Аносова. Он бы больше Доржи обрадовался. Алеша ненавидит орлов и коршунов, говорит, что они всем добрым птицам враги. Он бы про этот поединок орлов долго-долго вспоминал. Каждому бы рассказывал. Стал бы говорить, что дралось пять орлов и казак Банзар всех убил одним выстрелом. Он ведь не может иначе, когда о чем-нибудь рассказывает. У него люди на гусях за облаками летают, дрофы за человеком по степи гоняются.
Подошел Мунко-бабай.
— Из-за чего орлы подрались, Мунко-бабай? Мяса им мало? — спросил Доржи.
— Наоборот, они дерутся потому, что стало слишком много еды… Так и среди людей, богачей — нойонов бывает. Сколько мелких птах из-за этого страдает!.. Случись же какой беспорядок в народе, они забывают все ссоры и вместе обрушиваются на людей.
Мунко-бабай и Доржи вошли в юрту. Мать положила в очаг последние поленья. Поставила чугун с водой для заварухи.
Доржи склонился над книгой, но читать не может. За юртой слышится чей-то стон, плач женщины, вздохи мужчин. С этими звуками сливается вой волков, лай собак, клекот дерущихся орлов, карканье ворон над падалью. Но к этому Доржи уже привык. Другое мучило его. такая беда случилась с Эрдэмтэ-бабаем… А он весь день прособирался и не зашел. — Доржи уже много раз откладывал книгу, но как только он представлял себе холодную юрту с остывшим очагом, плач детей, он вновь начинал перелистывать страницы. Видно, мальчик, сам того не понимая, боялся принять новое горе на свою душу.
Когда Доржи в тот же вечер зашел к Эрдэмтэ, оказалось, что в юрте тихо, в очаге большой огонь. Видно, кто-то поделился сухими дровами. Пахло только что испеченной лепешкой — и муки соседи принесли.
Эрдэмтэ лежал неподвижно. Доржи сел на деревянную кровать.
— Сильно ноги болят, Эрдэмтэ-бабай?
— Болят, Доржи. Когда палец занозишь, и то больно. А у меня ведь обе ноги… Так и горят, хочется в ледяную воду их окунуть.
— А вы не стонете. Я думал — не больно.
— Стонать будешь, легче не станет.
— Эрдэмтэ-бабай… Можно, я схожу к Ганижабу — привезу сена для вашей Пеструхи? Мама отпустит.
— Не надо, Доржи. Теперь не нужен ни Ганижаб, ни его сено. Пеструхи нашей уже нет.
Димит тихо, почти шепотом запричитала:
— Как теперь будем жить? Дети мои, пойдете вы с чашкой от юрты к юрте… Может, добрые люди молока плеснут, простокваши нальют… А может, еще от порога вам скажут: «Идите домой, сами голодные».
Дети сидели в углу молчаливые, тихо во что-то играли. Даже маленький Бато не плакал, посматривал то на мать, то на отца.
— Что будет, то и будет. Не у нас одних такая беда. Но Димит как бы не слышала мужа, твердила одно и то же:
— Как жить будем, как жить?
— Ну, хватит, Димит. А вы, дети, что умолкли? Играйте веселее. Только ноги мои не заденьте. Нехорошо, когда в юрте так тихо. Точно все вымерли.
Но дети не двинулись с места. Только Бато ходит вокруг матери, шлепает себя ладошками по животу. Доржи знает — у него такой большой живот не от сытости. Ест все, что попадается. У Даржая тоже большой живот. Сколько раз Доржи дразнил: «Пузатый, пузатый!»
Глупый был тогда, еще в школе не учился.
— Расскажи, Доржи, что-нибудь. Не ругает вас учитель, когда учиться к нему приходите? Не бьет?
— Мы к учителям не ходим, они к нам приходят.
Эрдэмтэ улыбнулся:
— Вон как… Важные вы, однако, сопляки. Я что-то не видел, чтобы ламы к послушникам ходили. Все послушники к ламам бегают.
— Мы их в классе ждем. Комната такая, больше, чем летник у Мархансая. Колокольчик зазвенит, и учитель входит.
— Колокольчик? A-а… Учитель, значит, на телеге приезжает, с колокольчиком.
Доржи объясняет, что звонит старик истопник. Эрдэмтэ слушает и думает, что эти мальчишки потом нойонами станут. А грамотный нойон еще злее.
«Пусть другие своих ребят учат, — решает Эрдэмтэ. — А я не буду своих в город посылать». Эрдэмтэ даже усмехнулся. «В город! Кто моих детей в школу примет? Может, какой лама в послушники согласится взять. Троих отдал бы. Сыты, одеты, отцу с матерью помогали бы…»
Доржи что-то говорит, а Эрдэмтэ занят своими мыслями. Иногда он вставляет:
— A-а… Так, так…
Эрдэмтэ думает: «Бедным, наверно, лучше было бы, если бы никто не умел писать. Казна забыла бы, кто сколько платить должен. Приходит урядник, а ты ему: «Да я же уплатил!» Тот поверит: может, и правда уплатил… А то что — тычут пальцем в бумагу и твердят «плати» да «плати». Никуда не спрячешься. Бумага каждый пятак помнит». Но вслух Эрдэмтэ этого не сказал. Видно, не так уж он уверен, что грамота вредное дело.
— Учитель-то хороший у вас?
— Есть хорошие. А другие сердитые.
— Разве у вас много учителей?
— Много.
— Я слыхал, что в школе и рисовать учат.
— Да, учат.
— И ты теперь умеешь?
Доржи смутился.
— Трудно это. Не научился… Цифры решать могу, стихотворения рассказывать умею.
— Я же говорил тебе, что рисовать нельзя научиться. От пустого ореха, сколько ни грызи, пользы не будет…
— У нас некоторые мальчики хорошо рисуют, — сказал Доржи, чтобы отвести от себя разговор. — Дома, какие в Петербурге есть, рисуют. Очень похоже получается.
— Те ученики, значит, в Петербурге жили?
— Нет.
— Нет? Как же они рисуют, если не видели? И ты говоришь «похоже», а сам дальше Ичетуя да Кяхты не был. Головы вам, видно, в школе морочат.
— Не морочат… Нас учат.
— Учат… Нечего вас учить, если боги велели вам скот части, ламами или казаками быть.
Доржи не понимает, почему Эрдэмтэ-бабай рассердился.
— Эрдэмтэ-бабай, у меня в книжке есть красивые рисунки. Я вам покажу.
— Ты мне не в книжке, а вот на этой стенке рисунки найди!
— Как на стенке?
— А так. Вот это что такое? — Эрдэмтэ показал на стену.
— Заплатка… Войлок.
— Заплатка? Я же говорил, что ты не научишься рисовать… Смотри, это же теленок лежит. Вот голова. Видишь, глаза закрыл. Вот ноги, хвост.
Доржи с тревогой посмотрел на Эрдэмгэ-бабая. На стене войлочная заплатка, а он — теленок…
Эрдэмтэ теперь показывает на свой тулуп, которым его укрыла Димит:
— Смотри сюда.
Желтый тулуп когда-то обгорел. Эрдэмтэ, наверно, подошел в нем близко к костру, овчина сморщилась и почернела.
— Что ты видишь?
Доржи неуверенно говорит:
— Не знаю… Ну, обгорел тулуп, покоробило его…
— Эх ты! — Эрдэмтэ безнадежно махнул рукой. — Тут же целая картина. Вот, видишь, женщина доит корову. А это дым от дымокура.
Димит забеспокоилась: может, это нечистые духи смеются над Эрдэмтэ? Она подошла, положила ладонь на его голову.
— Не сходить ли мне в дацан за лекарством?
— Сиди дома. Ничего мне не надо. И ты обморозиться захотела? Боги помогут — и поднимусь.
Эрдэмтэ лежит молча. Нет, видно, никто его не поймет. Даже Димит… Жалко и Доржи. Хороший мальчик, а толк из него вряд ли будет. Выучится и станет, как Цоктоев, на жеребце тайши скакать. Зачем их в школе учат петербургские дома рисовать, когда они их в глаза не видели? Эрдэмтэ стал бы рисовать не петербургские дома, а коней, юрты, горы и степь.
Как не похожа жизнь у людей! Одни как по зеленой светлой лужайке идут, другие как сквозь колючий темный кустарник пробираются. Эрдэмтэ хотел рисовать — без пальцев остался. Мечтал коня завести — всю жизнь пешком ходит. Мечтал с Аюухан счастье найти — и это не получилось. И вот — дети голодные, Пеструха подохла. И сам он чуть живой лежит.
За какие грехи послал его бурхан на землю бедным человеком — свое горе грызть, на чужое смотреть?
Из груди Эрдэмтэ вырвался стон.
Доржи потихоньку вышел. На улице делалось что-то непонятное. Улусники выглядывали из юрт, перешептывались, на лицах были испуг и удивление.
Посередине улицы шел Мархансай и пел какую-то песню.
Никто не помнит, чтобы Мархансай когда-нибудь пел. Может быть, очень давно, когда был молодым, и он скакал на коне, распевал песни, шутил, смеялся. Если это и было, то с тех пор прошло много лет, много раз зеленели и увядали травы.
Мархансай шел и пел гнусаво-гнусаво. Никто не знал, какая это песня, но все слышали, что это не ругань, не Молитва, не обычное бормотанье. Люди замерли от страха, будто услышали карканье улишубуна, зловещей сказочной птицы. Все знают, что где-то есть такая страшная птица, она приносит людям горькое горе, лихую беду. Никто не видал ее, не слыхал ее песен, но все боятся этой птицы хуже смерти.
Немая, непонятная песня с хрипом вырывалась изо рта Мархансая. Одни улусники сжались в суеверном страхе, другие шептали что-то про себя, кто-то сказал со злобой:
— Видать, рад чужому горю…
Если бы Мархансай запел теплым летом, улусники только посмеялись бы: «Ну, Мархансай-бабай запел, наверно, год будет хороший». А сейчас его песню услышали, как тяжелый грех на душу приняли.
Мархансай шел мимо юрт, сытый, довольный, и все громче гнусавил свою песню без слов.
А Доржи еще долго глядел ему вслед. Вспомнились слова Хэшэгтэ-нагсы: «Каждый человек знает хотя бы одну песню». Вот и Мархансай-бабай знает свою песню. Только эта его песня во время зуда поется…
Почему, когда Мархансай-бабай был еще мальчиком, отец и мать не сказали ему, что нельзя песни петь, когда кругом печаль и горе?..
Почему это так?
СХОДКА
Ухинхэн ходил из юрты в юрту, созывал улусников на сходку:
— Будем говорить о наших делах, о магазейном амбаре. Приходите в юрту Мархансая.
Многие спрашивали:
— К Мархансаю? Как же он согласился?
Ухинхэн отвечал:
— Мы сказали, что тайша велел.
Доржи с Даржаем, конечно, тотчас же побежали к юрте Мархансая. Как же без них обойдется?.. Они примостились в темном углу за спиной Мунко-бабая, чтобы их не заметили и не выгнали. Люди не слушают друг друга. Каждый говорит о своем. Будь у тебя сорок ушей, и то не разберешь, кто о чем спорит.
— Надо еще раз в дацан ехать, богам молиться.
— Молись хоть до дыр во лбу, пользы не будет.
— Может, в Селенгинск русским нойонам жалобу писать?
— Да ничего они не сделают.
— К ним без пестрой бумаги[45] лучше не подходи.
— Я век прожил, а пеструю бумагу не видел.
Доржи Многих не знает — сюда собрались из второго и третьего табангутских родов.
Тыкши Данзанов еще с порога закричал:
— Что за сходка? Это, Ухинхэн, твоих рук дело, ты главный заводила?
Народ зашумел.
— Не мешай. Садись, раз пришел.
Доржи помнит, что раньше Ухинхэн садился позади всех и молчал. А теперь его даже зайсан побаивается. Ухинхэн встал и сказал громко:
— В цонгольском и сартульском родах второй раз делят зерно. Хоть и не даром дается зерно, а все же поддержка… Некоторые семьи, говорят, по два пуда получили. Почему у нас этого нет? Мы не можем ждать, пока глухой услышит, слепой увидит.
— Тайша приедет?
— За ним послали.
— А где Еши Жамсуев?
— Должен приехать.
— Еши — бездельник.
— Казна не дает зерна. Где же Еши возьмет?
— Сено для своей Рыжухи находит: у тайши берет. Что Еши, что тайша — одна, пожалуй, душа.
— Дело не в Еши.
— Зайсаны и нойоны виноваты.
— Для зайсанов и нойонов зуда нет.
— Как нет? У моей юрты тоже две сдохшие коровы лежат. Можете посмотреть.
— Ты, Тыкши, как тень — в ясный день от тебя не отвяжешься, а в пасмурный тебя не сыщешь! — выкрикнул кто-то.
— Нойоны нас и за людей не считают.
— Кто, кто вас за людей не считает? Назови — кто?
— Да ты первый. Когда ты был в магазее главным, разве о нас думал? Сколько казенного зерна отдал своему дяде? А он богаче, чем вся магазея.
— Верно, верно! Только считается, что амбар для общей пользы.
— Да его сжечь не жалко. Все равно пустой — зерно-то растащили.
— Кто растащил? Назовите, и пусть этот человек будет хоть с золотой головой, я его…
— Что же ты, зайсан, сделаешь с ним?
— Отправлю…
— Куда же?
— В губернию.
— В губернию? А он вернется обратно да вместе с тобой еще хлеще начнет нас доить.
— Мы сами разберемся. Кого надо, отправим в такую губернию, откуда не возвращаются.
— Необдуманный разговор может завести на неверный путь, — подал голос Мархансай и повторил свою любимую поговорку: — Нужно помнить, что у тиубы есть воротник, а у людей — начальник…
Мархансая перебил чей-то решительный голос:
— Когда у. тебя вдоволь сена, отчего не поболтать про воротники и начальников!
— Им что зуд, то и доход. Говорят, Ганижаб копну дает, чтобы осенью семь вернуть.
— Ганижаб? Не брешут ли?
— Всем дает?
— Эрдэмтэ ведь к нему пошел да заблудился — буран был. Чуть не замерз, — вставил слово Ухинхэн.
— И замерзнуть можно. А он потом скажет твоим сиротам: не семь, а семнадцать копен отдайте. Знаем мы Ганижаба.
Мархансай и Тыкши переглянулись. «Что делать?» — глазами спросил Мархансай у Тыкши. Тот едва заметно повел бровью. «Молчи. Скоро приедет тайша»…
— Ну, соседи, давайте о делах, — предложил Ухинхэн.
Улусники угрюмо молчат. Первым заговорил Даг-дай:
— Может, хлеба побольше сеять? Русские правильно делают. Ведь для посевов нет зуда.
— Как же. нету? — вступил в разговор Бужагар. — Если для скота один зуд в году, для хлеба их пять. То град побьет, то засуха погубит, то скот потравит, то сорная трава вырастет. Иной раз от дождя урожай сгниет.
— Это-то верно, — согласился Дагдай. — Если нет коня, поливной земли, хороших семян да острой сохи, сеять хлеб не под силу. А все же…
— Долгое это дело, — проговорил Сундай.
— Если сдохнет последняя корова, я даже думать о посеве не смогу.
— Да, — вздохнул Бужагар. — Все наше хозяйство на коровушке держится. Есть корова — значит каждый день будет хоть чашка молока. Иногда можно сметаны поесть. В праздник перед богами светильник зажечь, старикам араки поднести.
— Хорошо бы и коров держать и хлеб сеять, — мечтательно сказал Дагдай.
— Языком легче болтать, чем сохой землю пахать. Я три года сеял — хлеба не пробовал, калача не видел, — махнул рукой Бужагар. — Потом продал полоску.
— Ия продал…
Споры не утихают. Улусники сочувствуют друг другу в горе, ищут выхода, проклинают зуд. Все ждут тайшу, думцев. Вот и они — Ломбоцыренов и Бобровский. Доржи впервые увидел тайшу в такой одежде — ничто на нем не блестело, не сияло. Поношенный халат, отороченный шкуркой белого ягненка. Островерхая шапка тоже из простого меха.
Ребята замерли в своем углу. Да и взрослые притихли, разговоры и споры умолкли. Доржи вспомнилась школа: когда в класс входил смотритель, так же стихал шум и гомон.
Мархансай стал посмеиваться: «Ага, прижали хвосты! Забыли, что комолой корове нечего лезть к рогатым. Усы, бороды у всех, а ума нет. Ну, что ж… Борода и у козла есть, усы и у кота растут».
— Это что за сборище? — тайша грозно взглянул на Мархансая. — Как вы смели допустить такое в своей юрте?
Мархансай удивленно моргнул, открыл рот, но слова застряли в горле. Его выручила Сумбат:
— Не сердитесь, тайша. Нам сказали, что вы велели. Парень какой-то приходил…
— После поговорим, как ты посмел для такого дела двери своей юрты открыть, — жестко сказал тайша Мар-хансаю, а тот уперся в колени грязными растопыренными пальцами, верхняя губа его дергалась. — И ты, Тыкши, ответишь… Хорош, видно, порядок в твоем улусе. — Тайша снова оглядел присутствующих, начальственно спросил: — Кто разрешил сходку?
— Мы сами собрались, — за всех ответил Ухинхэн.
— О чем же толкуете? — Тайша стал теребить свои острые усики.
— Известно, о чем…
— О магазейных делах толкуем. Сами знаете, как помощь сейчас нужна.
— Амбары-то пустые.
— В других родах зерно делят, а в табангутских забыли.
— Чего же вы хотите?
— Хотим узнать, почему степная дума забыла про нас, — ответил Ухинхэн.
— Пришли бы в думу и спросили.
— Терпенье лопнуло ждать, — вставил слово Сундай.
— Если бы вы написали прошение губернатору, он бы помог. А если узнает, что вы самовольно затеваете сходки, шумите, — не зерно, а казачью сотню пришлет.
— Не пугайте, тайша.
Наступило молчание.
— Кто поднимает голос? — тайша вскинул брови.
— Я, — встал парень с длинной косой, здоровый, как Балдан. — В такое время, тайша, человек с кремневкой не особенно страшен. Страшнее того, что терпим, не может быть.
— Да ты кто такой, что так разговариваешь? — закричал тайша. — Знаешь ли, как я могу тебя проучить?
— Этот парень прав, тайша.
— Оттого, что вы его накажете, сдохший скот не поднимется.
— Вы меня не учите!
Поднялся Мунко-бабай.
— Зачем говорить злые слова, тайша? Люди ждут помощи. Когда такое горе, людей нужно не наказывать, а поддерживать. Помните, тайша, если бы не было нас, бедняков, не было бы и вас, нойонов. Вы сидите на высоком стуле не для того, чтобы народ на коленях перед вами ползал. Мы ждем не жестокости, а справедливости.
Старика поддержали несколько человек:
— Верно, верно говорите, Мунко-бабай.
— Вы, старик, хотите смуту сеять? Вам, поди, кажется, что тайшу можно запрячь и арсу на нем возить?
В ответ из толпы послышался другой сдержанный голос.
— Не поднимай шуму, тайша. Мы кривить душой не станем. Что нам твой суд, когда не сегодня-завтра нас ждет божий суд! Никакой нойон не смеет кричать на стариков. Мне девяносто шесть лет, я на двенадцать лет старше Мунко. Едва ли найдется кто-нибудь старше меня во всех табангутских родах. Я помню плети твоего отца, деда. На спине не хватает только рубцов от твоей плети. Попробуй ударь! Внуки и правнуки мои проклянут тогда твое имя… Слушай, что говорит народ…
Доржи приподнялся и посмотрел на говорящего. Голова у него белая, борода будто вымазана сметаной. Сам горбатый, как деревянная ложка. Лицо землистое, серое. Или это кажется потому, что у него такие белые волосы?
Стало тихо. Тайша не знал, что ответить. Он понимал, что необдуманное слово может повредить ему. Надо смолчать — так выгоднее. Слова у стариков тяжелые, как камни… Они поднялись вокруг тайши высокой стеною, вот-вот раздавят его. Тайша молчал. Народ ждал. Может быть, он встанет и заговорит: «Друзья, я виноват. Простите…» Но тайша не раскаялся, не стал просить прощения.
— Правильно говорят старики, — начал тайша. — Слова старика дороже золота… Да, я наказываю виноватых. А разве нужно гладить их по головке? — Ломбоцыренов оглянулся, спросил: — Я верно говорю?
Никто не ответил. Каждый старался угадать, куда клонит тайша, на чью голову он готовится упасть ястребом…
— Сделай любого из вас тайшой — разве вы не будете наказывать виноватых? До меня были тайши. Они тоже пороли чьи-то спины. Наши кости истлеют, а тайши будут и плети будут. Но не в этом дело. Старики правильно говорят, что в дни страданий люди ожидают помощи от тайщи. Я знаю это. Моя голова с вами в одном аркане… Вы заблуждаетесь, почтенные старики, когда говорите, что я не думаю о народе. Стараюсь, как умею. Вы же не знаете, сколько мне приходится ездить по начальству, гнуть шею и колени перед высокими «нойонами…
— А чего вы добились?
— Добился? Добился, что нам дали четыреста сорок пудов муки. Осенью вернем… Разрешение на муку у Еши Жамсуева, он ждет в Селенгинске подводы. Я две подводы послал. Чем галдеть, лучше бы снаряжали коней… Мы с Жамсуевым не будем для вас муку таскать на себе. Сейчас время дорого. Нужно скот спасать, нойонов попрекать успеете. Верно?
— Верно, верно, тайша! — раздалось несколько робких голосов.
— Вас много, — продолжал тайша, — а нас в думе двое — я да Бобровский. Мы хлопочем, горы бумаги исписываем… Несчастье не только у нас. Однако мы добились большой помощи: четыреста сорок пудов муки — не шутка.
— Верно, верно, тайша. Это спасение.
— Если я плохой тайша — пишите жалобу. Этому вас учить не надо, умеете…
— Не сердитесь, тайша… Мы же не знали, что вы выхлопотали муку.
Встал маленький старичок с короткой косичкой. Тихонько кашлянул в ладонь и заговорил:
— Тайша… зайсаны, нойоны… когда будете делить муку, вспомните про меня. Я больной, старый… Жена десять лет болеет. Дочь померла… малые внуки остались…
— У кого в семье нет больных и старых? У всех есть…
Поднялся другой старик. Мархансай дернул его за халат: чего, мол, тебе надо?… Но тайша заступился:
— Не мешай ему.
Старик говорил так, будто он в чем-то виноват и просит прощения:
— Мы не часто видим вас, тайша, не часто говорим с вами… Выслушайте нас, разъясните. Неужели белый царь хочет, чтобы мы, старые люди, умерли с голода? Слышит ли он наши стоны, знает ли нашу нужду? Не оставьте нас, от всех бедных прошу.
Тайша не успел ответить, раздался голос из угла, сзади:
— Это ты, Бурхи? Я узнаю тебя по голосу. Ну что же, встанем рядом, пусть народ посмотрит и решит, кому больше нужна помощь. Нас двое — я и старуха. Мы оба детьми ослепли. У нас нет ничего, кроме падали. Не оставьте нас…
Слепого перебила старуха — седая, беззубая:
— Вы слепой, я вам завидую: вы не видите., как над трупом последней коровы дерутся волки, как исхудали дети… Если видеть все это — зачем глаза? — Старуха заплакала.
— Ну, закончим разговоры. Стариков не забудем… У кого есть кони, чтобы привезти муку?
Таких оказалось пятеро. Да и то — потащат ли кони груженые сани?
— А не разделить ли хлеб в Селенгинске? Пусть каждый как хочет, так и везет свою долю, — предложил Бужагар.
Он хотел еще что-то сказать, но в юрту вбежал молодой парень. Он тяжело дышал. Лицо у него было такое, будто он сейчас крикнет: «Над нами крыша горит!» Парень сказал еще более страшное:
— Еши Жамсуев убился в Селенгинске. Пьяный упал с седла. Рыжуха тоже погибла, замерзла…
Все ахнули.
— Что ты! — вскрикнул Бобровский.
— Разрешение, разрешение на муку где? — заглушая шум, гаркнул тайша.
— Ничего у него нету. Колоду карт в кармане нашли. На складе ведомость показали: Жамсуев получил сполна четыреста сорок пудов. Ночью на добрых конях вывезли ту муку…
В юрте тишина. Кто-то нерешительно произнес:
— Еши никогда не играл в карты.
— Кроме своего хура, никакой игры не знал.
— Разве долго научиться плохому делу?
Тайша смотрел вызывающе, строго.
— Получайте! Все вы такие. Готовы сожрать друг друга… Опять виноваты Ломбоцыренов с Бобровским? Это не вы ли всегда орали, что Еши честный, Еши умный… Ну, что замолчали? Отвечайте, отвечайте же! — требовал рассвирепевший тайша. — Вы творите безобразия, а отвечать приходится мне с Бобровским…
— Как все это случилось? Как Еши мог?
— Его и спрашивайте.
В груди у Доржи что-то словно оборвалось. Неужели Еши проиграл казенную муку?.. Нет, нет! Не мог Еши сделать этого! Доржи вспомнил, как они готовились к скачкам, вспомнил доброе лицо Жамсуева, его веселые рассказы.
Кто-то вздохнул.
— Теперь начнется долгое дело. Надо ждать полицию.
— Кому же он проиграл?
— Узнать бы, кто получил муку на складе.
— Разве теперь поймаешь… Воры не издалека, конечно, — сказал Мархансай. — Из ваших же, из голоштанников.
— Да… заварили кашу. Кричали, что белый царь плох, вашей нужды не видит. А о том, каковы сами, — молчите, — попрекнул Бобровский.
— Несчастный мы народ, — покачал головой старик, жаловавшийся на свою слепоту.
…Доржи пришел домой, оглушенный известием о смерти Еши. Он как после тяжелой болезни: даже колени трясутся. Сердце бьется в глухом страхе, будто это он сделал что-то очень плохое.
В юрте тихо, хотя вся семья в сборе. Мать что-то говорит, но Доржи не слышит ее, не понимает. Ему кажется, что голова у него звенит глухо и назойливо, как большой колокол. Доржи лег на кровать. Никто не удивляется, не спрашивает, что с ним. Смерть Еши и в их юрту принесла горе и страх…
Мальчик не шевелится. Юрта кажется ему такой огромной, что до матери и на коне не доскачешь. Он встал, сбросил халат и унты. С головой укрылся отцовским тулупом, уткнулся в мягкую шерсть овчины.
Перед ним — летний простор, зелень и цветы. Небо, умытое светлым ливнем, утертое белыми облаками… Задорно смеется Еши. Его смех Доржи всегда различит в любой толпе, как звонкий голос Жалмы в хоре девушек. На Еши все тот же халат, та же старая шапка — старше, кажется, самого Еши. Рыжуха послушно подает ему переднюю ногу. Еши проверяет подковы, говорит: «Цоктоев уговаривал Холхоя испортить ноги нашей красавице. Вот собака! Нет, Доржи, Рыжуха нас не подведет!» Когда виделись в последний раз, дядя Еши был грустный, задумчивый. «Может, не скоро встретимся, Доржи», — сказал он. Доржи спросил: «Почему?» — Еши ответил не сразу: «Ты ведь в школу уедешь…»
Мальчик вспоминает бессчетные встречи с Еши. Они, эти встречи, не путаются в цепях куда-то уплывших дней, не возникают из тумана. Как же примириться с тем, что на свете нет уже ни Еши, ни Рыжухи? Нет, нет, нет! Еши жив. Он ни в чем. не виноват и будет жить дольше всех — смеяться, играть на хуре, веселить людей новыми рассказами о своих проделках.
На окраине улуса два амбара: старый и новый. На крепких дверях тяжелые замки. Рядом с амбарами притулился домишко Еши Жамсуева.
Амбары и домишко огорожены толстыми жердями. Над дверью старого амбара висит широкая доска. Раньше на ней была надпись: «Казенный экономический амбар». Надпись смыта дождями, стерта временем. Лишь кое-где остались еле заметные следы букв. Из-за доски выглядывает мохнатое гнездышко пичуги… «Магазейные амбары». В народе их зовут «пустышками».
Кругом тихо…
Гомбо Цоктоев стоит у юрты Тыкши Данзанова. Он прискакал в улус накануне, в день сходки. Цоктоев лениво поглядывает по сторонам. Не слышно даже голодного мычания, ржания. Собаки и те притихли. Гомбо ни о чем не хочет думать, но в голову лезут мысли о деньгах, которые он проиграл ночью Данзанову: «Неужели не верну хоть часть «проигрыша?» Вспоминается Янжима: «Эта дура надеется, что я возьму ее замуж. Зря надеется…»
Цоктоев еще раз осмотрелся вокруг. Тишина.
Но Цоктоев не знает, что тишина бывает разная. Есть мертвая тишина кладбища. Там — покой, непробудный сон, тление. Там и травы под ветром колышутся тихо, птицы щебечут вполголоса Поблизости пастухи не смеют петь…
А есть тишина жизни. Она совсем другая. Вот весенние почки — бесшумные, дымчатые, тихие. Но придет июнь, и пробудится в них буйная, неудержимая сила, зашумят деревья теплой зеленой листвой.
Тишина жизни скрыта в каждом зернышке злаков, в летучих семенах деревьев. Она таится в каждой капле воды, — из капель образуются буйные потоки, стремительные водопады, низвергающиеся со скал.
Но самая значительная и грозная тишина — суровое молчание людей, терпение которых доведено до предела. У этой тишины свои приметы: нахмуренные брови, твердо сжатые губы…
Такая тишина страшнее, чем та, что наступает между молнией и громом. Будь Цоктоев умнее, он почувствовал бы и понял, что именно так и затихли Ичетуй и окрестные улусы, деревни, села.
Рассвет бледный, неяркий. Солнца не видно, улус окутан туманной мглой. Серая пелена рассеивается, над юртами начинают появляться сиротливые дымки. Люди встают поздно: скота нет, торопиться некуда… Но жизнь в улусе все же идет, люди дышат, надеются…
Из юрт стали выходить улусники. Будто по уговору, все они пошли к магазейным амбарам.
Вот к амбарам направился и Балдан. Люди идут молча, понуро, будто бредут за невидимым гробом…
Может быть, и в самом деле впереди медленно шагает белый конь, запряженный в белые березовые сани и на них гроб из белых досок? Может быть, это большая ворона важно вышагивает впереди понурых людей, а за теми невидимыми санями волочится черная метла, выметает земные грехи покойника? Но нет, кругом только чуть синеватые сугробы. Сугробы-то белые, это тени от них синеватые…
Когда улусники обступили амбары, Гомбо пошел к Данзанову. Тыкши обрадовался:.если сломают у магазеи дверь, он доложит властям, те пришлют полицию, казаков. Людей поволокут на допросы, станут составлять акты. Можно будет снова погреть руки, сказать, что улусники растащили муку. Потом вспомнились угрозы тайши, что народ посадит проворовавшихся зайсанов в пустые амбары и сожжет живьем. Тыкши почувствовал, как по спине у него покатился ледяной шарик. Он зябко поежился…
Холхой без ключа открыл замок на двери дома Еши. Мужчины вошли. На печурке стоит чугунчашка с недопитым чаем, лежит кусок пригоревшей лепешки. На гвозде — старый халат, летняя шапка. В углу — неубранная постель. Все бывали много раз у Еши, но сейчас каждый подумал: «Не лучше нас жил бедняга».
Вот самодельный сундук. В нем лежит красная узда, старые сапоги Еши, синий халат, полученный на скачках, который он так берег.
Нет-теперь ни Еши, ни Рыжухи.
Из сундука достали хур и смычок. Ухинхэн вздохнул: «Никто на нем больше не сыграет».
За божницей нашли ключи от амбаров, папку с бумагами, замерзшие чернила… Все вышли. Ухинхэн нерешительно остановился на крыльце, в руках ключи и папка с бумагами.
— Открывай амбары, чего стоишь! — громко крикнул кто-то из толпы.
Этот резкий окрик вывел людей из оцепенения. Глаза заблестели, движения стали живее, на лицах появилась решимость.
— Открывай! — раздалось уже несколько голосов.
— Нельзя. Подождем зайсана.
— Чего ждать! Сами возьмем.
— Да там взять-то нечего, однако.
— Найдем!
— Открывай скорее!
— Нельзя без властей. Скажут — самоуправство.
К Ухинхэну подошел парень из второго табангутского рода, тот, который вчера говорил тайше обидные слова. Он хотел вырвать ключи. Ухинхэн оттолкнул его. В это время подошли Тыкши Данзанов и Гомбо Цоктоев.
— Это что такое? Смута? Будете ответ держать!
— Сначала вы ответите!
— Молчать!
— Сам помолчи, зайсан. Лучше открывай амбары!
— В них же ничего нет.
— Открывай!
Улусники окружили Данзанова и Цоктоева тесным кольцом, пошли к амбарам. Как щепки, попавшие в водоворот, двигались Тыкши и Гомбо.
Вот и амбар» Данзанов приметил, что у амбара валяются колья, камни. Не убежишь, придется открыть. Он повернулся к толпе, заговорил:
— Сородичи мои… Разве я стал бы скрывать от вас муку? Я за вас душой болею…
— Открывай! — загудел народ.
Данзанов понял: чуть помедлишь — и произойдет что-то страшное. Он торопливо сунул ключ в замок. Руки трясутся. Ключ свободно крутится в замке. Данзанов взял другой ключ, но не может попасть в замочную скважину. Кто-то положил ему на плечо тяжелую руку, дышит в затылок.
— Ты что, уснул?
— Сейчас, сейчас… — не оглядываясь, забормотал зайсан.
— Тише! Не напирайте! — Ухинхэн оттеснил улусников от Тыкши. Он знал: если они прибьют зайсана — навредят себе…
Дверь открылась. Люди хлынули в амбар, чуть не смяли Данзанова и Цоктоева, втолкнули и их. И тут все увидели: ни муки, ни зерна в амбаре нет. И хотя ожидали этого, у каждого сжалось сердце: теперь даже надеяться не на что. Окажись в, амбаре мешки с мукой, улусники не стали бы дожидаться разрешения начальства, не посчитались бы с законами, растащили бы их, не думая о последствиях.
Но муки нет. Вдоль стен пустые сусеки. На полках — пустые мешки с черными клеймами, с гербами. По сусекам с писком бегают мыши. Тут же стоят две мышеловки, обе с живыми крысами. Еши, видно, зарядил их перед отъездом в Селенгинск. В стороне по-хозяйски сложены гири и круглые серые камни с пометками: «10 фунтов», «25 фунтов». С потолка спускаются весы с квадратными досками.
Кто-то тяжело выругался и проговорил со злобой и удивлением:
— Все сожрали!
Данзанов искоса посматривал на тяжелый замок в руках Холхоя. Стукнет разок — и нет Тыкши Данзанова. И никто не помянет добрым словом… Жизнь показалась Тыкши шаткой и ненадежной: «Вчера — зайсан, «начальник, а сегодня — как та крыса в мышеловке».
— Чисто подмели амбар. Хлебом даже не пахнет, — с горечью сказал Сундай.
Данзанов втянул голову в плечи. Ему хотелось стать маленьким, незаметным… Куда девалась спесь? «Все стерплю, только б живым остаться». В коленях мелкая дрожь, в голову назойливо лезут трусливые мысли: «Неужели убьют? Я даже дочь не успел замуж выдать…»
Улусники повернулись к выходу. Цоктоев на пороге споткнулся, кто-то больно толкнул его в спину.
— Не болтайся под ногами!
Случись это еще вчера, Цоктоев стал бы ругаться, искать, виновного, грозил бы законом, тайшой. А сейчас только пригнулся, будто ожидая новых ударов. Но его больше, не тронули. Гурьбой подошли ко второму амбару. Открыли. В нем не оказалось ни весов, ни гирь, ни даже мышей… Данзанов заискивающе проговорил:
— Нету зерна, я же знаю… А вы не верили.
Из толпы послышались сердитые голоса:
— Богатые сожрали, вот и нету.
— Уж точно — не амбары, а пустышки.
— Сжечь бы их!
Данзанов с наслаждением обругал бы всех этих людей. Его подмывало сказать, что казенную муку пропил, проиграл Еши, которого они считали честным. Но он смолчал, вспомнил, что камни и колья валяются рядом. Снова начал озираться по сторонам — как бы уйти целым и невредимым. Но улусники не торопились отпустить его.
Ухинхэн стал рассматривать бумаги в папке Еши. Он оглядел улусников — от них помощи ждать нечего. Редко кто умеет и по-монгольски нацарапать свою фамилию. А многие бумаги написаны по-русски. Ухинхэн подошел к Тыкши Данзанову, протянул ему какой-то список.
— Ну-ка, зайсан, прочтите. У вас глаза, однако, привычнее.
Данзанов взял бумагу и сразу осмелел, будто Ухинхэн дал ему крылья, которые спасут его… Он заглянул в список и улыбнулся. Сейчас он ударит этих голодранцев больнее, чем палкой.
— Это список должников, — громко объявил Данзанов. — Здесь написано, что Эрдэмтэ должен в амбар два пуда зерна, Холхой — один пуд. Сундай — двадцать фунтов…
Народ приуныл. У многих и в самом деле есть старые долги… Давно бы отдали — да чем отдашь? Нужда с каждым годом все большая и большая…
Данзанов насмешливо скривил губы:
— Вы сами растащили зерно… Взять-то взяли, а не вернули. Вот амбары и пустые. А обвиняете нойонов.
— Мы брали горстями, а вы загребали возами.
Данзанов вызывающе посмотрел на улусников.
— А четыреста сорок пудов? Вчера все слышали, что Еши Жамсуев…
Договорить ему не дали. Со всех сторон закричали:
— Жамсуева не трогай!
— Еши не виноват!
— Чего кричите? — повысил голос Данзанов. — Вот список. Здесь ваши долги черным по белому записаны. Вот ты, Дагдай, еще в прошлом году взял пуд, да потом еще десять фунтов..
— Ну, эти фунты все равно никого не спасли бы.
— Как же… Шерсть на баране тоже из отдельных волосков состоит… — усмехнулся Данзанов.
— Читай дальше. Может, и те должны, у кого мука есть.
Тыкши снова начал читать список. Должники — одна беднота. — что с них возьмешь?
Ухинхэн перебирает в папке бумаги с гербовыми печатями. Данзанов потянулся к папке.
— Ты не поймешь — сказал он Ухинхэну. — Давай я их дома разберу.
— Не отдавай ему, Ухинхэн! — забеспокоился Дагдай. — Потом и следа этих бумаг не сыщешь!
— Верно! — загудела толпа…
— Как так — не давать? Я же зайсан, должностное лицо.
— Знаем, какое ты лицо…
— Читай при нас.
— Может, кто богатый должен?
— Разве богатому нужно магазейное зерно? — пожал плечами Данзанов. — Все это старые бумаги. Их давно выбросить надо…
— А может, и не так. Мы как слепые — ничего не видим, — вздохнул Холхой.
— Вот если бы кто-нибудь грамоту понимал…
И тут вспомнили про Доржи. Вместе с другими мальчишками он стоял поодаль и смотрел во все глаза.
— Погляди, Доржи, что это за бумаги. Помоги разобраться.
— Ничего интересного в этих бумагах нет, — буркнул Данзанов. — Да и не поймет мальчишка. Отдай. Сопли сначала утри, потом казенные бумаги трогай. Отдай, говорят!
— Не отдавай, Доржи. Порвет, на ветер бросит. Потом ищи. Видать, важная бумага, раз не хочет, чтобы ты нам прочитал.
Доржи отступил, спрятал бумаги за спину.
Потом так и впился в черные строчки. Взрослые люди ждут от него помощи.
Мальчик помахал бумагой с гербом.
— Это о порядке выдачи ссуды.
Ухинхэн взял у Доржи бумагу и подал Данзанову:
— Можешь выбросить или тайше на память подарить.
— А это указ от первого декабря тысяча восемьсот двадцать девятого года о запрещении корчемного вина. Корчмарей, которые не старше двадцати лет, надлежит отдавать в солдаты, а тех, кто старше, — в исправительные арестантские роты. В тюрьму, значит.
Ухинхэн передал и эту бумагу Данзанову:
— Нас это не касается; не то что вино из хлеба гнать — на болтушку для ребят муки. нет.
Данзанов с тоской и ненавистью посмотрел на Доржи. У того в руках замасленный клочок бумаги: распоряжение Тыкши Данзанова на выдачу из амбара двадцати пудов зерна Мархансаю Жарбаеву «за огораживание территории экономических амбаров».
— Вот это да! Мархансаю за жерди! Балдан жерди рубил, он и амбары огораживал, а Мархансай зерно получил!
— Отобрать! Пускай не грабит магазейных амбаров.
— По какому праву дал ты ему столько казенного хлеба?
— Я же зайсан. Ограда ведь нужна…
Возбужденные улусники двинулись к Мархансаевым, увлекли за собой Тыкши и Цоктоева.
Мархансай вышел на крыльцо своего зимника, узнал, в чем дело, и развел руками:
— Я законно получил… Жерди-то мои… Да и давно это было — два года прошло.
— Хоть двадцать лет. Отдавай муку! Балдан, а не ты пот лил!
— Отдавай, пока цел!
Мархансай затрясся, повернулся к Данзанову:
— Тыкши, ты же зайсан, ты бумагу подписал, усмири их… Это грабеж.
Данзанов отвернулся, будто не слышит. А из толпы закричали:
— Ты сам грабитель!
— Не отдашь по добру — силой возьмем!
— Чего слушать, пошли!
Но подойти к амбарам Мархансая было не просто — не пускали цепные собаки. Кто-то взял кол… Собаки подняли визг.
— Давай ключи, Мархансай!
— Открывай!
— Все мучаются, а ты песенки распеваешь!
— В доброе время соловей появился.
— Открывай, а то хуже будет.
— Не открою.
Заголосила жена Мархансая.
Сундай и Бужагар притащили длинное бревно. Улусники ухватились за него, раскачали, ударили в окованную железом дверь амбара. Дверь загудела, запрыгала, забренчал тяжелый замок.
Этого Мархансай не вытерпел.
— Не ломайте дверь, сумасшедшие! — взмолился он. — Сам открою.
— Повернулся медведь в берлоге, — рассмеялся Дагдай.
— Почуял, что не сдобровать.
Мархансай пошел к амбару, шатаясь, как пьяный. Глаза красные, щеки трясутся. Когда улусники начали отвешивать муку, повалился на мешки, запричитал:
— Я не такую брал… Той мукой я овец кормил. Это беззаконие…
Никто не обращал на него внимания. Мархансай встал и прошипел:
— Какой ты зайсан, когда бунтовщиков усмирить не можешь…
Кто-то ударил Мархансая в спину. От неожиданности он поперхнулся, прикусил язык. Обернулся — где обидчик? Никто не пошевелился. Насупившись, сжав кулаки, стояли вокруг соседи — Ухинхэн, Сундай, Холхой, Бужагар, Дагдай.
— Тогда я свои жерди заберу, — неуверенно проговорил Мархансай.
Тут такое началось, такая ругань поднялась. Даже у самых тихих, самых робких нашлись тяжелые слова черной ругани. Оказывается, не только Мархансай и нойоны умеют кричать… Сундай, Бужагар, Дагдай тоже знают плохие слова, но говорят их, может быть, только один раз в жизни.
Мархансай затрясся то ли от обиды и гнева, то ли от страха и что-то забормотал.
Улусники потребовали, чтобы Мархансай подвез муку к магазейному амбару на своих лошадях. Когда все было сделано и муку заперли, Доржи снова взялся за папку с документами. Тыкши Данзанов заискивающе сказал:
— Там больше ничего важного нет. Разойдемся, пообедаем, — предложил он. — Потом дочитаем.
— Нам все равно есть нечего, а ты успеешь, нажрешься!
— Читай, Доржи.
«Настоящий волчонок, — подумал Тыкши Данзанов. — А что будет, когда вырастет? На скачках меня подвел… Сейчас сколько из-за него терплю. Ну, придет день, за все рассчитаюсь».
Данзанов боялся, как бы мальчишка не наткнулся на одну бумажонку. Тыкши помнил ее; желтенькая такая… Не успел подумать, как Доржи вытащил ее из папки… «Ослеп бы ты на оба глаза… Пусть бы ветер вырвал и унес проклятую бумажонку… Сгорела бы она». Но ничего этого не случилось; Доржи громко прочитал записку. Это было распоряжение Тыкши Данзанова о выдаче двадцати пяти пудов зерна богачу Ганижабу.
Не успел Данзанов опомниться, как Доржи достал еще одну бумажонку. Она была написана по-русски. Мальчик прочитал и перевел: расписка Бобровского на сорок пудов зерна.
— Вот где зерно!
— Попался!
— Еши, помнится, рассказывал, да мы пропустили мимо ушей.
— Говорил, что зайсан здесь, как в своем амбаре, хозяйничает.
— Значит, не все бумаги устарели, зайсан.
Данзанов растерялся. Надо было выиграть время, он найдет лазейку, вывернется…
— Я законно выдал Ганижабу: он коня давал для магазеи. Зерно возили. И Бобровскому законно — тайша приказал.
— Знаем мы твои законы. Выдал, значит и расплачивайся.
— Верни зерно!
— Так ведь не я же взял. Ганижаб, Бобровский…
— Мы знать не хотим. Ты отдал зерно, ты и верни.
Тыкши понял, что спорить нечего. Не только зубы выбьют — головы лишишься. Он заюлил:
— Я не спорю. Виноват. Раз так получилось, отдам. Завтра же отдам. Только отпустите меня.
Все, кто стоял близко, рассмеялись:
— Чего захотел! Отпустите… Нет уж. Знаем тебя!
Снова всей толпой отправились к юрте Данзанова. Хлеба у него насобирали пятнадцать пудов. Забрали зерно, отруби, даже печеный хлеб. Приказали найти остальное. Данзанов при всех стал слезно просить взаймы у Мархансая.
Улусники посмеивались:
— Мархансай, выручай зайсана в черный день.
— Он тебе казенного зерна не жалел.
— Отдавай, а то хуже будет!
В магазейном амбаре набралось сорок семь пудов. Данзанова не отпустили даже поужинать. Ухинхэн пошутил:
— Простокваша не сокол, не улетит.
Улусники заставили зайсана делить муку. Доржи засадили писать список. Ухинхэн называл мальчику фамилии бедняков и следил, чтобы никого не обидели.
Все повеселели. Сорок семь пудов хлеба не ахти какое богатство для целого рода, но победа окрылила людей. Они впервые почувствовали свою силу и дали почувствовать ее Мархансаю и Данзанову. Доржи слышал, как кто-то громко оказал: «Мы их заставим еще баранами реветь». Слышал эти слова и Тыкши Данзанов. Он оглянулся, остановил ненавидящий взгляд на Доржи. Перед ним снова прошла картина сегодняшнего дня, отчетливо увидел он в руках Доржи эти проклятые бумажки.
— А с тобой, волчонок, я еще рассчитаюсь, — прошипел Данзанов. — Сполна ответишь за сегодняшний день. Попомнишь Данзанова.
Улусники заставили зайсана написать в конце списка получивших муку: «Дележом магазейной муки распоряжался я, зайсан первого табангутского рода, Тыкши Данзанов».
Вот и попробуй теперь обвинить кого-нибудь в беззаконии!
Данзанов и Цоктоев шли домой молча. Да и о чем говорить?
Не заходя в юрту, Цоктоев оседлал черного жеребца тайши. Гомбо ожидал, что Данзанов кинется упрашивать, чтобы нажаловался тайше на улусников, может быть, даже вернет ему деньги, выигранные ночью.
Но Тыкши ни о чем не стал просить Цоктоева.
Доржи долго не уходил домой. Вот он какой молодец — помог взрослым, прочитал русские и монгольские бумаги. А то улусники поверили бы Тыкши Данзанову.
Мальчику чего-то не хватало — будто был праздник без песни, май без цветов. Хотелось, чтобы взрослые качали головами, щелкали языком: «Ах, какой умный стал Доржи! Ах, какой ученый мальчик!» Но взрослые не хвалили его, не удивлялись, будто Доржи и родился грамотным. Может, когда из этой муки напекут хлеба, наедятся, тогда и вспомнят, что это он помог им. Вот тогда и пойдет о нем хорошая молва.
А пока пусть похвалят его в родной юрте, отец и мать. Мальчик сбивчиво, путано рассказал родителям обо всем, что произошло у магазейных амбаров. Мать слушала с гордостью и улыбалась сыну своей доброй, щедрой улыбкой.
А отец сидел молча, обхватив колени руками с узловатыми темными пальцами. Перед ним стояла остывшая чашка чая, рядом валялись обрывки ремней, кожаные лоскутки. Видно, отец делал уздечку. Хоть бы раз взглянул на Доржи, хоть бы одно доброе слово сказал.
Но отец не смотрел на него и не знал, что сказать. Он радовался, когда Хэшэгтэ учил сына монгольской грамоте. Он с хорошей надеждой отвозил сына в школу. И вот первые ростки учености. Какими цветами они зацветут, какие плоды принесут? Может, прав был тот старик, который живет у дороги в Кяхту: «Зачем твоему сыну русская грамота?» Видно, чем больше сын будет учиться, тем больше с ним будет забот и тревог. Одним поможет, других разозлит. Пристанет к богатым и сильным — оторвется от бедных и слабых. Неужели сыну придется от одних слушать слова благодарности, от других — проклятья? Одни будут называть его спасителем, другие — злым смутьяном. Не для этого он послал сына в школу. Хорошо, если бы Доржи не пристал ни к тем, «и к другим. Ходил бы между людьми — ученый, независимый. И среди начальства уважаемый, и среди бедноты свой человек. Банзар именно так старается жить.
— Папа, дядя Тыкши сказал, что все бумаги устарели, их нужно сжечь. А когда я их прочитал, меня все стали хвалить: «Какой умный стал Доржи, какой ученый! Молодец», — сказали.
— Ладно, не болтай ерунду, — сердито перебил мальчика отец и вышел из юрты.
Сын и мать с удивлением посмотрели ему вслед. Они не понимали, почему он рассердился.
…Когда Цоктоев рассказал все подробности, тайша спросил:
— Кто был зачинщиком?
— Да разве поймешь?.. Все кричали, грозились… Если бы не Ухинхэн, избили бы, — понуро отозвался Цоктоев.
Тайша помолчал, спокойно выговорил:
— Дурак.
Цоктоев не понял, кого обругал тайша — его, Данзанова или кого другого. Снова наступило молчание. Цоктоев, сидя на краешке стула, робко поглядывал на тайшу. Наконец тайша заговорил:
— Вы считаете себя умниками, а голодранцев глупее овец. А они сумели вас облапошить. Вы своими руками отдали им муку, на своих конях привезли. А их и обвинить не в чем. Даже законным документом заручились… Пусть твой Тыкши богов благодарит, что жив остался. А надо было ему бока намять, да и тебе тоже — может, поумнели бы.
Тайша нехорошо улыбнулся.
— Понимаю, — проговорил Цоктоев.
— Сомневаюсь, — отозвался тайша. — У тебя голова пустая, как шаманский бубен.
Цоктоев заморгал, заерзал на стуле, испуганно посмотрел на тайшу.
Тайша встал и вышел, не сказав больше ни слова, даже не взглянув на оробевшего Цоктоева.
Цоктоев опустил голову. Еще утром жизнь казалась ему простой и понятной. Думалось, что все тихо в улусе, что люди покорные. А вон как все повернулось за один день! Нет, эти загадки не по его зубам…
В Селенгинске началось следствие по делу Жамсуева. В полицию и к следователю то и дело таскали сапожника Щукина. Сапожник твердил одно: тайша и Цоктоев уехали, приезжие буряты угощали Жамсуева водкой, но тот отказался. Вышел напоить коня и не вернулся.
— Где эти парни?
— Уехали куда-то той же ночью. Даже за постой не заплатили.
Вызвали и тайшу.
— Как вы объясняете всю эту историю?
— Просто. Жамсуев выпил с теми парнями, сел играть с ними в карты. Денег у него не было, проиграл муку. Пьяный упал с коня, запутался в стремени. Обыкновенная история…
К следователю вызывали половых из питейного дома. Но они не опознали мертвого Еши, да и трудно было узнать его — лицо обезображено.
— С кем дружил Жамсуев в Ичетуе?
Ломбоцыренов и Цоктоев назвали около десяти человек. И вот одного за другим стали вызывать в Селенгинск: Ухинхэна, Холхоя, Бужагара, Сундая… С великим трудом доплелся до Селенгинска на обмороженных ногах Эрдэмтэ.
В разгар следствия в Ичетуе случилось новое событие: сгорел стог сена Бобровского. Был явный поджог. Никто не думал, что из-за этого начнется такое шумное дело. Бобровский поставил на ноги казаков, полицейские не спали ночей… Дело Ёши было забыто. Полиция усердно занималась расследованием поджога. Арестовали Ухинхэна и Сундая. Возле сгоревшей копны нашли рукавицу, похожую на рукавицу Ухинхэна. Сундая скоро выпустили, а Ухинхэна долго держали. Его допрашивали, били, требовали, чтобы сознался. Но Ухинхэн стоял на своем: он не виноват.
Урядники согнали улусников к юрте Мархансая. Тут были и из других табангутских родов, некоторых Доржи видел в день скачек, других — на сходке, совсем недавно.
Люди стояли понурые. Кто без шапки, а кто надвинул шапку на самые глаза, словно ни на кого не хотел смотреть.
Бобровский сказал:
— Если не выдадите поджигателя — всем не сдобровать.
Люди задвигались, затоптались на месте. А потом Доржи услышал какой-то невнятный гул, будто все эти люди сидели на дне глубокой ямы и гудели, не открывая ртов. Так бывало с Балданом: промычит что-то и сделает вид, что произнес слово.
А что сказали улусники все вместе, Доржи не знает. Может, они сказали: «Ладно, если сам объявится, покажем тебе на него». Или прогудели по-пчелиному: «Хорошо еще, что самого тебя не сожгли вместе с сеном… Не видать тебе поджигателя, как свой затылок. Замолчи лучше, рыжая борода». А может, и сами не знают, что хотели сказать…
Найти поджигателя не удалось. Ухинхэна выпустили. Улусники передавали друг другу слова старого Мунко: «Мы не часто видим настоящего Бобровского за его рыжей бородой. Он как кот: притворяется, что дремлет, а сам подкарауливает, как бы сцапать зазевавшуюся мышь. Его даже тайша боится, я давно заметил. На-; верно, губернатор или кто еще повыше подослал его подглядывать, за тайшой, чтобы тот их долю барышей не сожрал».
Следствие о поджоге прекратили. Власти снова занялись делом Еши, но уже вяло, без интереса. Удивительно — четыреста сорок пудов муки не иголка, а исчезли без следа. Ясно, что к этому причастна чья-то сильная рука. Но чья?
Кое-кто подозревал тайшу, Бобровского. Но как докажешь? У этой пары нюх собачий, глаз кошачий… Их поймать так же трудно, как у змеи ноги увидеть. «Лучше подальше от «их, от всей это истории, — рассуждали улусники. — Попадешь в этот водоворот — и «спасите» не успеешь крикнуть: захлебнешься».
Догадки, догадки… Лишь немногие обвиняли Еши. Большинство же считало, что он оказался жертвой недобрых людей.
ВОТ НАКОНЕЦ И СОЛНЦЕ
Пурга затихла. Сделала, видно, все, что могла. Ветер будто устал. Доржи подумал: «Когда заболеешь, мать склонится над тобой, погладит, поцелует — и сразу легче станет. Так и солнце после зуда…»
Никогда люди не ждали так праздника, как этого утра. Старики радуются, как дети. Ребятишки рассуждают деловито, как мудрые старики. До полудня еще далеко, а кругом вода, лужи. Улусники поднимают за рога и хвост уцелевших, едва живых коров. Те не держатся на ногах, трясутся, как в морозы. Их укрывают шубами и войлоками, ухаживают, как за больными детьми. По улице бредут самые некрасивые, самые уродливые животные на свете — ичетуйские лошади. Они спотыкаются о каждый комок кизяка.
Весна идет. Она все ближе с каждым днем, с каждым часом. Она теперь не ползет черепахой, а летит стремительным журавлем… Но на склонах Баян-Зурхэна, у подножий Сарабды и Бурханты не слышно мычания коров и телят, блеяния ягнят. Курлыкают журавли, каркают вороны. Над болотом пролетают быстрые кулики… У больших луж сидят парами осторожные турпаны. Они нарядились в желто-красные одежды и важничают, как главный лама… Болтливые галки тучей нависли над степью, кричат что попало. Длиннохвостые сороки кличут на чью-то голову то ли горе, то ли радость… Птицы рады весне, а люди — птицам. Кукуют кукушки. Под крышами сараев и амбаров воркуют голуби. Только черные вороны злобно поглядывают вокруг. Они спускаются на едва живых коров и с криком выщипывают шерсть. Костлявым клювом чистят черные крылья, ходят тихо, едва тащат ожиревшее за время зуда тело.
На Джиде еще белеет лед, а в степи уже зелено. Весь мир, кажется, вздохнул полной грудью после страшных дней зуда. Сосны разнежились на солнышке, роняют пахучие капли светлой смолы. В молодой траве запестрели цветы. Над ними жужжат не отогревшиеся еще пчелы. После каждой теплой ночи цветы становятся ярче, травы выше.
Наступила весна. А у многих все же гибнут от истощения последние коровы, спасенные с таким огромным трудом. Они только обогрели спины под лучами солнца, только потрогали губами первые ростки травы. Жалко смотреть, как гибнет скот в дни зуда, когда ревет ветер, жжет холод, падает тяжелый снег. Еще горше смотреть на гибель скота сейчас — ведь в степи зацвели цветы…
Отощавшие коровы принесли слабых, полуживых телят. Женщины доят жидкое, синее молоко, дают телятам соску. Туда, где жалобно мычит теленок, тянутся и остальные коровы. Они завидуют, наверно, той корове, у которой есть теленок.
Кое-кто из улусников идет к Мархансаю, Тыкши, Бобровскому, Ломбоцыренову. Еще во дворе снимают шапки. Мархансай дал нескольким семьям по корове с теленком — тем, у кого остались только собаки. Он раздает коров, которые дают мало молока — старых, беззубых. Но где найдешь молодых и жирных? Лишь бы на дворе мычал теленок, лишь бы было кого встретить с пастбища, к кому выйти с подойником.
О плате богачи пока не говорят: «Отведи корову домой. Насчет цены поговорим когда-нибудь в другое время». Улусники догадываются, во что обойдется эта помощь, — но как быть, что делать?
Никто не спешит на летники — нет коней перевезти юрты. Скот топчет покосы, молодую траву зимников. А трава поднялась густая, высокая. Она колышется и там, где раньше ее и не бывало. Раньше здесь овцы и кони травинку с трудом находили, а сейчас в этой траве может спрятаться баран. «Была скотина — мучили засухи; остались без скота — не знаем, куда траву девать», — говорят улусники.
Доржи многое узнал, многое понял за эти дни…
Беда не обошла и их юрту. Раньше у юрты бегали ягнята, козлята. Вечером в загородке протяжно мычали телята. Чадил кизячий дымокур. Мать доила коров… Теперь же за коновязью мягкие кучи земли, под ними трупы павших коров. Ветер доносит противный, сладковатый запах гниения. Он заглушает все остальные запахи. У Банзаровых, правда, осталось три коровы. Они принесли тощих, некрасивых телят. В такое время и это богатство. Коровы не отходят далеко от юрты — слабые, несмелые… Остался и каурый конек — он уцелел благодаря овсу, который отец получает в казачьем фуражном складе.
Отец ушел в караул пешком. В тот же день к матери зашла Ханда, жена Холхоя.
— Говорят, кто-то около магазейного амбара по ночам на хуре играет.
— Это, наверно, Еши, — тихо ответила мать.
— Янжима Тыкшиева видела, будто кто-то подъезжал к амбару на рыжем коне, в синем халате.
— Ну, этой девке я не верю.
Доржи чувствует, что стал взрослее. Когда приезжал Борхонок, он не отличал выдумку от правды… За дни зуда он узнал, пожалуй, больше, чем за все время учения.
Доржи думал, что интересное только из книг можно узнать и что только школьные учителя могут многому научить. Оказалось совсем не так. Во время зуда в Ичетуе жить было так же интересно, как книгу читать. Только очень жалко соседей, ребятишек и всех коров и телят-, которые с голода умерли, так и не дождавшись зеленых трав.
У Доржи болит голова. Может быть, оттого, что он много читает?
Доржи занимается, повторяет пройденное. Отец обещал отвезти его после сенокоса в Кяхту. Скорее бы сенокос!
Мальчики не отходят от Доржи. Они целыми днями слушают его рассказы о школе, учителях, об Алеше Аносове, Гытыле Бадаеве.
Затаив дыхание, ребята слушают улигер про ламу Попхоя и послушника Балдана. Доржи перенес в родной улус действие русской сказки, чтобы ребятам было понятнее и ближе.
Еще, еще расскажи, — просят мальчики. И Доржи рассказывает им увлекательную сказку про Руслана и Людмилу.
Даже взрослые приходят послушать Доржи. Мунко-бабай слушал, слушал, потом надавил курносый нос Доржи и сказал:
— У тебя зубы редкие. Много врешь парень.
Доржи жаль старого Мунко: столько лет прожил, а книг Пушкина «не знает, про Урал-гору, про заводы Демидова не слышал…
— Хорошо знать русскую грамоту… Научи, Доржи, как по-русски наши имена пишутся… — задумчиво говорит Холхой.
А ребята тормошат, просят:
— Почитай еще, Доржи, расскажи…
— А вы говорили, что только ленивые учатся, — напоминает им Доржи и убегает.
Как-то утром зашел Дагдай. Он отказался от чая, не присел на войлок, который мать Доржи постлала у очага.
— Собираюсь в Дырестуй. — Дагдай помолчал, а потом попросил: — Отпустите со мной Доржи. Я еду со Степаном, он обещал научить меня землю пахать. Доржи словами со Степаном обменяться поможет. Я же по-русски не умею.
У кузницы Холхоя стоял конь, запряженный в телегу. Все кони отощали от голода, а этот был бодрый, даже можно сказать гладкий. Не Гомбо ли Цоктоев достал его Дагдаю из какой-нибудь хитрости? Не ичетуйских улусников конь, из другой степи… Будто всю весну стоял возле магазейного амбара, хрустел зерном.
Степан Тимофеевич уже поджидал Дагдая, тоже привел своего коня. Вот это конь! Семья Степана Тимофеевича чуть не померла с голода, а коня прокормила. Кому-то в русскую деревню отдали за несколько мешков сена свой самовар, лишь бы конь силы не потерял. Степан еще Эрдэмтэ-бабаю целый тулун сена дал. «Конь у русских всю семью кормит, — рассуждал про себя Доржи, — как корова у нас, бурят».
Дагдай, Степан Тимофеевич и Доржи пошли пешком: не сядешь на телегу, когда на ней костлявая соха… Да и лошадям тяжело, после зуда все стали беречь лошадей, ходить пешком.
Идут молча, каждый думает о своем. Но вот Дагдай прервал молчание, заговорил под ленивый скрип колес, словно жалуясь:
— Плохо, Доржи, когда по-русски не знаешь. Хоть сколько-нибудь понимать бы… Эрдэмтэ и тот знает немного. А я как немой… Как ни стараюсь, не могу запомнить ни одного слова. А ведь тоже работать вместе с русскими приходилось… Ухинхэн вин как хорошо говорит… У меня, видно, голова бестолковая.
Дагдай долго говорил о своей жизни, рассказывал про русских, с которыми ему приходилось встречаться.
— Тебе, Доржи, повезло. Нам школа и не снилась.
Дорога шла под гору. Когда же свернули в сторону, начался подъем.
В гору и самому себя тяжело нести, каково же лошадям тащить телегу с тяжелой сохой. Хоть бы горбатые колеса сами быстрее вертелись…
Дагдай ласково понукал коня, так и добрались до места. На пологом южном склоне, на солнцепеке, чернели узкие полоски — клинышки распаханной земли.
— Дагдай-бабай, почему наши улусники, — спросил Доржи, — только здесь пашут, будто поближе к улусу нельзя?
— И в другом месте пахать можно, — ответил Дагдай. — Только не всюду наши кони в силах перевернуть дерн травой вниз. Каждая травинка корнями вглубь растет, держится за землю. Да и улусники не очень хотят пахать, ранить землю. Думают, что вспахать землю. значит испортить траву, лишить скотину корма. Вот какое дело. Я почему пашу? Меня Степан, русский сосед, картошкой угостил. Не пробовал? Мне понравилась. Чуть язык не проглотил. Мы картошку в золе пекли. Запах такой, будто нос гладит… Когда соберу урожай, приходи — целую гору напеку. Ешь, пока брюхо не заболит. У нас тут ее даже русские не сажают, не умеют. А Степан знает, как надо…
У каменистого бугорка коня остановили, распрягли, подложили под колеса телеги камни. Степан Тимофеевич спросил у Доржи:
— Где земля Дагдая?
— Он говорит, что пахотной земли у него никогда не было. Хлеба не сеял… А где же он собирается картошку сажать?
— Сундай уступил ему вот этот уголок — у него семян мало. Только то, что вы дали.
Когда конь был впряжен в соху, Дагдай попросил мальчика:
— Доржи, ты скажи ему, что у меня ничего не получается, сколько раз пробовал. Сошники, наверно, притупились или бестолковый кузнец сделал.
Дагдай поплевал на ладони, засучил рукава, затянул потуже кушак и пошел за сохой. Соха то глубоко врезалась в землю, то прыгала по поверхности, сбивалась с борозды, уходила в сторону… Дагдай едва поспевал за нею, когда спускался по склону.
Степану Тимофеевичу хотелось показать, как надо вести борозду. Но он не решался: Дагдай еще обидится… Наконец, не удержался:
— Дай-ка, я… Покажу, как пахать.
Взялся за соху и пошел. Доржи показалось, что он не по пашне идет, а на хуре играет.
— Доржи, скажи ему, что пахота — дело не простое. Я всю жизнь за сохой проходил, но и мне бывает трудно…
Дагдай и Степан Тимофеевич теперь пашут вместе. Обоим неудобно, оба вспотели. Степан Тимофеевич и лошадью правит и за сохой следит. Дагдая за руку держит. Постепенно Дагдай начинает понимать, в чем дело.
Потом Степан Тимофеевич отдает Дагдаю соху. Дагдай теперь увереннее направляет ее, шагает ровнее, веселее.
— Доржи, скажи, чтобы он спокойнее шел… Чем спокойнее, тем лучше получится.
Доржи передал его слова Дагдаю и сказал:
— А вы, дядя Степан, хорошо пашете.
— Ну, конечно… Ты же не удивляешься, что утка ныряет. У меня все родичи — пахари. Занятный у меня был дядя. Брат матери. Проезжали мы с ним мимо поля. Вдруг вижу, дядя забеспокоился, слез с телеги, взял с пашни горсть земли, смотрит на нее, трет, нюхает. Потом бросил и говорит: «Дурак хозяин. Такому только на печке лежать, а не крестьянством заниматься. Ну кто же на такой земле овес сеет!» А то поднимет с земли зернышко, склонится над ним и заговорит, будто оно разумное, слышит и понимает. «Если сгинут, говорит, все хлеба, все закрома земные сгорят в огне и останется одно только зернышко, брось его в землю — и станет это зерно очном всех будущих зерен. Придет пора, и вновь земля заколосится. Вот какая силища сокрыта в одном-единственном зернышке». Или бывало возьмет дядя кусок хлеба с тарелки, поднимет его над столом да заговорит о крестьянском труде — и кажется, что хлеб в его руке начинает светиться, как божья свеча. Понимаешь, Доржи?
— Понимаю!
Дагдаю кажется, что земля почувствовала в нем хозяина. Рассыпчатый желтоватый песок, кое-где смешанный с черной, жирной землей, легко вздымается сошником. Чем шире становится распаханная полоса, тем радостнее блестят глаза Дагдая.
Но вот работа закончена. Больше половины полоски Дагдай вспахал сам. Пока он шел последней бороздой, Степан Тимофеевич нарубил сучьев, разложил костер. Дагдай повесил над огнем чайник. Втроем уселись вокруг костра. Степан Тимофеевич говорит, обращаясь к Дагдаю. Доржи переводит:
— Я знаю много ремесел. А вот туеска из бересты сделать не умею. Хорошо бы научиться.
Дагдай молча взял топор и пошел в лесок. Скоро послышался стук его топора, напоминающий стук дятла. Чай не успел вскипеть, как Дагдай вернулся с берестой и пучком тонких корней. Корни он размочил, стал очищать бересту. — Желтая береста в его умелых руках как шелк, а гибкий корень — как нитка у мастерицы.
— Вот и туесок, — перевел Доржи слова Дагдая. — Осталось дно поставить да крышку подогнать. Сто лет можно масло хранить. Это вашему Саше. Буряты не отдают людям пустую посуду. Масла у нас нет, так жена хоть с молоком вам его принесет.
— Спасибо, спасибо, друг, — благодарит довольный Степан Тимофеевич.
— Доржи, узнай: сумеет ли он теперь сделать такой же? — просит Дагдай.
— Пожалуй, сумею. Посмотрите-ка.
Пальцы у Степана Тимофеевича сначала двигаются неуверенно, будто он боится разорвать тонкую бересту. Это ведь не железные листы… Швы получаются неровные. Дагдай останавливает его, медленно проделывает все сначала. Степан Тимофеевич кивает головой и улыбается: ясно, теперь понял!
Вот и готов второй туесок. Доржи рад, что он помог Дагдаю и Степану Тимофеевичу понять друг друга. Это с его помощью Дагдай научился пахать, а Степан Тимофеевич — делать туески. Глаза у мальчугана светятся гордостью.
Вскоре после того, как улусники наконец перебрались из Инзагатуя в Ичетуй, на зимники явился Данзанов.
— Если хотите жить среди бурят, — стал кричать он на Степана Тимофеевича, — кочуйте, как вСе, на летники. Нечего одному оставаться в Инзагатуе. Травы истопчете.
Степан Тимофеевич понял: богачи решили выжить его из улуса. Русский, мол, не привык кочевать, сам уедет… Но получилось не так, как задумали тайша, Данзанов и Мархансай.
Каждая юрта открылась для семьи Степана Тимофеевича. Соседи помогли перебраться, поставили ему юрту возле юрты Сундая. Алена и здесь вскопала землю, засадила огород.
Все дни Доржи теперь проводит с Сашей. Они подолгу сидят, склонившись над книгами. Теперь не Саша учит Доржи, а Доржи делится с другом крупинками знаний, полученных в школе. Хорошо им вместе. Все вокруг напоминает первые дни их дружбы — и козы, и вон та старая плетеная корзинка, книги, картинки о войне с Наполеоном.
Много позже Доржи не раз вспоминал эти дни, проведенные с Сашей у юрты-Степана Тимофеевича. И почему-то особенно врезался ему в память разговор между Сашиным отцом и Эрдэмтэ-бабаем.
Это было незадолго до отъезда в Кяхту.
По улусу шла Димит. В вытянутой руке она держала., большую чашку. За нею так же степенно шел Эрдэмтэ, вел за руки двух маленьких сынишек.
Они шли неторопливо, словно хотели, чтобы их все видели, словно они самые знатные, самые важные люди улуса. Их и в самом деле заметили — у юрт появились женщины, смотрели, заслоняясь ладонью от солнца, улыбались…
Эрдэмтэ и Димит поравнялись с юртой Сашиного огад, Тот вышел им навстречу. Эрдэмтэ показал на чашку, которую держала Димит.
— Вот молоко, Степан-тала, первого удоя молоко. Спасибо тебе, тала. Это Сашке молоко, — волнуясь сказал он.
— Зачем, что вы? — вышла из юрты тетя Алена. — Самим ведь не хватает. Не надо, спасибо.
— Не обижай соседей, Алена, возьми, — сказал Степан Тимофеевич. — Эрдэмтэ, мы с Холхоем сделаем тебе сошник. Я научу тебя пахать, семена дам.
— Хорошо бы… — вздохнул Эрдэмтэ.
— Будешь с хлебом. А корову верни Мархансаю.
— Почему? — испугался Эрдэмтэ.
— Да, да, обязательно отдай. Ты посмотри, что за корову он тебе дал? Пугало, а не корова. Подумай, сколько он сдерет с тебя за эту падаль!.. Сколько раз вы доили ее, чтобы накопить эту чашку молока?
— Два раза доили, — тихо произнесла Димит.
Степан Тимофеевич-с сомнением покачал головой.
— Однако, все четыре удоя… Если не отдашь это страшилище Мархансаю, всю жизнь будешь на него спину гнуть. Твои сыновья из долгов не сумеют выпутаться. Ты всем расскажи об этом… Всем, кто взял коров от Мархансая, Данзанова, Ломбоцыренова. Передай им мои слова… Я-то, видно, долго здесь не проживу, — богачи из-за меня покоя лишились. Даже тайша. Ты хороший и умный человек, Эрдэмтэ. Улусники тебе поверят. Посоветуй им хлеб сеять…
Из глаз Эрдэмтэ побежали крупные светлые капли. Может быть, он был тронут заботой дяди Степана? Может, увидел просвет и у него зародилась смутная надежда выбраться из дремучей тайги? А может быть, просто слезились больные глаза?
Эрдэмтэ был от души благодарен русскому соседу за доброе слово, понимал, что он дело советовал. Но коровенку Мархансаю все же не вернул, не смог, не решился расстаться с нею.
Дело Еши затянулось. Двое полицейских много раз приезжали в Ичетуй, угощались у Тыкши, стреляли в цель возле магазейного амбара, пили китайский спирт и бурятскую араки. Приезжал и прокурор. Но только начнет распутываться клубок, как кто-то вновь спутает все нити… Казалось, удалось выяснить, что муку украли еще с троицкосавского склада, в Селенгинск ее и не привозили. Потом опять почему-то начали ломать головы: как можно за одну ночь незаметно вывезти четыреста сорок пудов хлеба из Селенгинска? Наконец дело совсем заглохло. Кто-то острой саблей отрубил от клубка запутанные нити. В документах записали, что «Еши Жамсуев, будучи во главе казенного экономического амбара, расхитил тысячу триста пудов муки. В нетрезвом виде говорил Цоктоеву Гомбо о том, что собирается поджечь амбар. Цоктоев пытался заявить о преступлениях Жамсуева, но тот пригрозил ему ножом. В день своей смерти Жамсуев проиграл в карты неизвестным бурятам последние четыреста сорок пудов муки. Ввиду смерти преступника дело о хищении муки из табангутского магазейного амбара производством прекратить».
Папка с делом Еши Жамсуева была положена на нижнюю полку высокого шкафа.
— Мука украдена задолго до смерти Еши, он в краже не виноват, — убежденно говорил Ухинхэн.
Магазейным амбаром стал заведовать Гомбо Цоктоев. Когда об этом узнали в улусе, Холхой сказал при всех:
— Он туда давно рвался. Теперь зерно снизу будут грызть мыши, а сверху Цоктоев.
Глава девятая
СВЕЖИЙ ВЕТЕР
Доржи в третьем классе. Новые книги приносят новые знания, радости. Так под лучами солнца рассеивается туман, скрывающий дальние горы, ближние юрты.
Но на уроках скучно. Время тянется медленно, хотя уже прошло полугодие. Один день похож на другой. Иногда кажется, что учителя рассказывают то же, что говорили вчера, позавчера, в прошлом году.
Доржи теперь видит то, чего не замечал раньше. Раньше он думал, что только ученики всех боятся — учителей, смотрителя… Оказывается, что учителя тоже побаиваются смотрителя — одни больше, другие меньше.
Он так хорошо узнал учителей, точно жил с ними в одном улусе, был их соседом.
По тому, как учитель берет со стола карандаш, он угадывает, какая будет поставлена отметка; по тому, как учитель входит в класс, Доржи уже знает — расскажет ли учитель что-нибудь интересное или такое скучное, что сам чуть не заснет за столом.
Доржи всегда может сказать — ругал Бимбажапова смотритель или хвалил. Если глаза у Соднома Хайдаповича бегают и он все время поеживается, значит не сладко было. Если же улыбается во весь рот — похвалил смотритель.
Доржи не знает, есть ли на свете кто-нибудь трусливее Бимбажапова. Он боится собак, лягушек, мышей, зимой — снега, летом — дождя. На уроках, когда рассказывает про ад, тяжело вздыхает и оглядывается, будто сам должен туда скоро отправиться. И нет человека злее Бимбажапова. Когда кто-нибудь из учеников провинится, он с удовольствием говорит: «А тебе сегодня не избежать розги». Ребята прозвали его Кривоногим зайцем.
Те же уроки, те же душные классы… Наверно, учителя знают много интересного, но не хотят рассказывать. И Доржи не всегда слушает учителей. У него свои заботы…
Вот он закончит школу, станет грамотным. Грамотным казаком… Нет, это раньше Доржи только и мечтал — скакать на коне, в куртке c погонами и с шашкой на боку. Теперь это уже не особенно его привлекает. Кем же ему быть? Картинки рисовать, как Артем Филиппович, интересно, но не получается у него. Смотреть картинки Доржи любит.
И еще читать очень любит.
Попалась ему недавно книга. Она начиналась с середины и до конца не доходила. Наверно, одному мальчику начало понравилось, он и оторвал. А другой конец оторвал. Так и не знает Доржи, кто написал эту книгу. Конечно, не Пушкин, не Державин. Они стихи пишут. Этот, который написал, далеко, видно, ездил, интересных людей видел. Они живут не как в Ичетуе. Большим камням молятся, по высоким деревьям лазают. Черные все. И не одеваются.
А другие люди в больших домах живут. Таких и в Кяхте нет. Телеги у них — прямо юрты с колесами. Дети в школу ходят, даже девчонки.
Узнать бы, кто написал эту книгу. Наверно, такой, как Хэшэгтэ-нагса. Много ездил, много видел. У Хэшэгтэ тоже получилась бы книга. Может, когда Доржи станет взрослым, ходить и ему по далеким улусам, по таким местам, где и Хэгэштэ-нагсй не был, и написать книгу про все, что увидит, — какие унты и халаты носят, какие песни поют, про всю жизнь? Хорошо будет!
Незаметно прошли зимние холода. В один из солнечных дней марта в класс с шумом вбежал Алеша.
— Новый учитель приехал! Молоденький, даже без усов… Кажется, сильный. Добрый, однако.
— Откуда ты знаешь?
Учителя еще не видели, а уже — споры, предположения, надежды.
— Вот если бы он учил нас вместо Ильи Ильича, этой проклятой Осы.
— Нет, лучше вместо Бимбажапова.
— Хорошо бы стал смотрителем, вместо Рыжего медведя.
— Смотрители без бороды не бывают.
В самый разгар споров вбежал Цокто Чимитов.
— Ребята, сегодня не будет словесности. Заболела Осиха.
Дверь открылась. Вошел смотритель, за ним новый учитель.
Ребята вскочили. Николай Степанович постоял молча. Когда стало совсем тихо, заговорил:
— Илья Ильич не сможет пока вести свои уроки. Его временно заменит новый учитель Владимир Яковлевич Светлов. Познакомьте его, на чем вы остановились с Ильей Ильичом.
Николай Степанович вышел.
— Ну, садитесь.
Ребята рассматривают нового учителя. Из-под тонких бровей на учеников смотрят ясные голубые глаза. Они, кажется, проникают в сердце, угадывают заветные мечты. Усов действительно у него нет. Зубы ровные, чистые. Пышные кудрявые волосы. Мундир чуть тесен, учитель расстегнул верхнюю пуговицу…
Учитель подошел к окну, посмотрел во двор. Потом взобрался на подоконник и открыл форточку. В класс ворвался свежий весенний воздух, напоенный ароматом соснового леса. Он, видно, всю зиму ожидал около форточки… По классу полетели клочки бумаги — белые шальные птички. Владимир Яковлевич подошел к Цокто.
— Как тебя зовут?
— Цокто… Чимитов…
— Расскажи, Цокто Чимитов, о чем говорилось на прошлом уроке.
— Мы говорили о Гаврииле Романовиче Державине.
— Ну, ну… расскажи.
— Гавриил Романович Державин — самый прославленный, самый лучший пиит России. Нет пиита, которого можно было бы сравнить с Гавриилом Романовичем по силе и глубине таланта, — затараторил Цокто. — Каждая ода, им написанная, пленяет красивостью слога…
— Подожди, подожди, Цокто…
Владимир Яковлевич взял лежавшую перед ним книгу «Чтения о словесности».
— Ты, я вижу, слово в слово повторяешь, что в этой книге.
— Илья Ильич сказал, что эту книгу надо знать наизусть, — крикнул с места Доржи.
— Конечно, эта книга полезная, Илья Ильич прав. Но заучить мало. Все, что сказано в книгах, вы должны проверить собственным умом… Слышите — собственным умом. Учитесь отбирать полезное, отбрасывать ненужное. Процеживают же молоко, чтобы очистить его от сора. Правда?
— Правда, правда…
— В этой книге многое уже устарело. Наша словесность пополняется новыми отменными произведениями. Возьмите басни Ивана Андреевича Крылова. Или замечательные стихи Александра Пушкина. Он — достойный преемник и продолжатель таланта Гавриила Романовича Державина. Гавриил Романович сказал о юном Пушкине: «Вот кто заменит Державина». Илья Ильич, конечно, рассказывал вам об этом…
— Нет, не рассказывал, — оживленно отозвались ребята.
— Илья Ильич говорит, — с обидой в голосе сказал Алеша, — что Пушкина не надо читать. Он бунтовщик, и слог у него не изящный, простонародный.
— Ты что-то напутал. Илья Ильич не мог так сказать. Каждая строка, каждое слово Александра Сергеевича Пушкина понятны нашему сердцу, сердцу соотечественников, — продолжал Владимир Яковлевич. Лицо у него воодушевлено, глаза блестят. — До Пушкина ни один поэт так не проник в глубину жизни русских людей, не описывал так нашей родной природы.
…Доржи сидит за партой и думает о маленьком сочинении Пушкина, которое так красиво прочитал новый учитель. В книге его нет, учитель продиктовал — и они записали.
Теперь Владимир Яковлевич говорит уже совсем о другом, а Доржи все думает: как хорошо Пушкин сказал о зиме!
Доржи любит зиму — и холод зимний он любит, и снег. Особенно снег. Еще совсем недавно Доржи с Алешей бродили по лесу. Доржи лег на плотный, сухой снег лицом вниз, растянулся во весь рост-. Когда встал, на снегу был виден весь Доржи — и пуговицы, и каждая складочка на шинели, и пряжка. Где нос — маленькая ямка, а там, где снежок подтаял от дыхания, получилась ледяная корочка.
Видно, этот русский сочинитель Пушкин тоже любит зиму, тоже любит снег. Как хорошо он описал зиму в таком маленьком сочинении! Доржи посмотрел в тетрадь. Вот оно. Всего четырнадцать строчек — ступенек. И слов немного. Доржи сосчитал — пятьдесят семь. И какая большая картина нарисована этими словами! Пушистый-пушистый снег — взрослому до самых колен. Лошадка бежит рысью, сани везет, на облучке сидит ямщик в тулупе. Сзади на Эрдэмтэ, верно, похож. Только кушак красный.
Доржи даже глаза рукою прикрыл. Вот бегает тот беспокойный мальчик, себя в коня преобразив, за ним салазки, а в них собачка сидит. У него палец замерз, ему и больно и смешно. А мать не знает, как хорошо сыну, и в окно грозит. И Доржи мать не давала в зимние холода подолгу играть.
Доржи раньше думал, что только сильных баторов можно так красиво описывать. А здесь и подвигов нет и слова самые обыкновенные, как бабки, взятые из мешочка.
Если Пушкин написал о зиме, у него, наверно, есть и про весну, про лето, про осень. Скорее прочитал бы новый учитель!
Урок Владимира Яковлевича был и на следующий день. Мальчики заранее подготовили новому учителю по нескольку вопросов, торопятся задать их раньше других. Всех опережает Алексей Аносов:
— Владимир Яковлевич, почему считают, что русский язык хуже иностранных?
— Кто же это считает? Кто мог сказать такое?
— Илья Ильич говорил.
— Илья Ильич? — Владимир Яковлевич задумался. Ребятам интересно, что он скажет, как объяснит. — Я вчера говорил, что ничего не надо брать на веру. Вы ведь не поверите мне, если я скажу, что встретился с трехголовым человеком или что бывают разговаривающие бараны… Не поверили бы?
— Нет! Конечно нет!
— Так вот. На русском языке созданы бессмертные творения… Сумароков, Державин, Жуковский, Гоголь, Крылов, Пушкин воочию показали прелесть, богатство и силу русского языка! Люди часто ошибаются. Ошибаюсь я, ошибаетесь вы, Илья Ильич тоже может ошибиться.
Владимир Яковлевич провел рукой по курчавым волосам.
— И у других языков есть, конечно, свои достоинства, — продолжал он. — У каждого народа свой язык, своя культура. С малых лет учитесь ценить обычаи, язык, культуру любого народа… Но мы, кажется, опять, отвлеклись. Сегодня нам предстоит изучать оду Гавриила Романовича Державина «Водопад».
Мальчики третий год учатся в школе, но впервые они слышат такие понятные, прямые слова. Им лестно, что новый учитель разговаривает с ними как с равными. Молодой учитель не уклоняется от вопросов привычными для других отговорками: «Всему свое время: вырастешь — узнаешь». Он не обижает, как Илья Ильич: «Это не твоего ума дело». Ребята помнят, как однажды обратились они с каким-то вопросом к смотрителю, а тот ответил: «Все равно ни черта не поймете своими деревянными башками».
Ученики готовы день и ночь слушать нового учителя. Им кажется, что никогда не иссякнут запасы его знаний. Кажется, и медный колокольчик радостно слушает за дверью — поджал свой звонкий язычок, боится прервать Владимира Яковлевича. Но вдруг он словно захлебнулся от радости и зазвенел.
Жаль, что помешал колокольчик.
ЧУДЕСНАЯ ПОДКОВА
Все разговоры мальчиков — о Владимире Яковлевиче. Они стараются подражать ему во всем — в походке, в манере держаться. Они говорят те слова, которые часто произносит учитель, завидуют каждому, кого он похвалит.
Владимир Яковлевич входит в класс с радостной и нетерпеливой поспешностью, как отец после долгой разлуки. И ребята ждут его урока, как светлого праздника. Ученики из войсковой школы завидуют ученикам уездного училища: у тех уроки словесности бывают чаще.
Сегодня не состоялся урок рисования: не пришел Ар-гем Филиппович.
— Что случилось? Почему его нет? — заволновались ребята.
— В полицию вызвали. Он губернатора нарисовал недозволенном виде, — объявил Цокто Чимитов.
— Неправда…
— Ей-богу, мне Климов сказал.
Ребята зашумели.
— Значит, урока не будет.
— Не расходитесь, может быть, придет Владимир Яковлевич.
— Нет… У него урок в уездном.
— Алеша, пойдем послушаем у двери, — предложил другу Доржи.
— Пошли!
Друзья ускользнули, незамеченные пробрались в коридор уездного училища и замерли от изумления: у дверей класса, где шел урок Владимира Яковлевича, стоял смотритель. Да как стоял! Прильнув ухом к замочной скважине…. Заметив ребят, он выпрямился и строго прошептал:
— А вам что здесь нужно? Марш в класс!
Если сам смотритель так интересуется уроками Владимира Яковлевича, как же им не любить эти уроки?!
Владимир Яковлевич еще не обжился. У него net пока даже квартиры. Он временно остановился у церковного старосты, в большом желтом доме на углу Собенниковской и Большой. Ребятам кажется, что все тропинки ведут к этому дому. Одни приходят сюда за книгами, другие будто бы за чернилами и бумагой. Некоторые из учеников вдруг забыли значение того или другого слова и пришли спросить…
Отважились зайти и Доржи с Алексеем. Поднялись по широкой лестнице, открыли тяжелую дверь. В комнате учителя уже сидели ученики из уездного училища. Увидев вошедших, Саша Климов криво усмехнулся и надменно произнес:
— Здесь не хватало только кривоногих верблюжат. Владимир Яковлевич строго взглянул на Сашу.
— Если я еще раз услышу такие слова, рассержусь и не разрешу тебе приходить ко мне.
Владимир Яковлевич стал рассказывать ребятам о Петербурге, Москве, Казани — городах, в которых ему довелось побывать. В этот день Доржи впервые услышал о Казанском университете.
О чем только не разговаривали в комнате учителя! Об Отечественной войне тысяча восемьсот двенадцатого года, о московском пожаре, о Суворове, о Кутузове, о светлом уме Ломоносова, о чудесных книгах, о мастерах-умельцах, о царе Петре Великом.
Как-то Владимир Яковлевич показал ребятам согнутую полосу толстого железа.
— Кто скажет, что это такое?
— Подкова! — в один голос ответили мальчики.
Владимир Яковлевич улыбнулся.
— Это не простая подкова, а чудесная! Называется она — магнит.
По столу побежали мелкие гвоздики, прилипли к подкове и повисли, как нанизанные на невидимую волшебную нитку.
— Так и вы, ребята, тянитесь к самой чудесной подкове на свете — к науке.
Учитель обнял Доржи и Алешу за плечи, привлек к себе.
— Я прочту вам басню Ивана Андреевича Крылова «Рыбья пляска», а вы подумайте, кто скрывается за именами зверей.
Владимир Яковлевич начал тихо:
Доржи слушал не шевелясь, даже боялся моргнуть. По таежным дебрям идет лев, царь всех зверей, идет проверить, действительно ли сильные и богатые не дают покоя лесным жителям. Он подходит к старосте, который жарит на сковородке еще живых рыб.
«А кто же у нас в школе, как те бедные рыбы?» Доржи представил себе класс. Учеников бьет линейкой Илья Ильич, дерет за уши Содном Бимбажапов. Ребята хором плачут, стонут жалобно и громко. Неожиданно раскрывается дверь и входит директор училищ Иркутской губернии — сам Щукин. Его сопровождает смотритель. Вот Щукин остановился. «Что за шум в классе?» — строго спрашивает он у Николая Степановича. Тот сгибается в три погибели, сладенько улыбается. «Это ученики русско-монгольской войсковой школы поют хвалебную песню в честь вашего приезда, желают вам здоровья и благополучия». Директор училищ доволен. Он милостиво хлопает смотрителя по плечу: «Молодец, Николай Степанович».
…На столе лежит чудесная подкова. Рядом — маленькие гвоздики. Вокруг Владимира Яковлевича сидят ребята. Новый учитель притягивает их своими знаниями, как эта чудесная подкова.
Ребятам не повезло: Осиха, супруга Ильи Ильича, выздоровела.
Ученики собрались задолго до звонка: а вдруг все же будет урок Владимира Яковлевича?.. Но тревожно закашлял колокольчик, следом за ним раздался кашель Ильи Ильича. Он явился в класс с кипой книг под мышкой. После Владимира Яковлевича Илья Ильич показался еще более старым и злым.
— Кто открыл среди зимы форточку? — строго спросил он ребят.
— Владимир Яковлевич разрешил, — ответил Цыдып.
— Закройте сейчас же! Если кому из учителей жарко, могут сидеть на улице.
Начался урок. Илья Ильич больше, чем всегда, выпячивал грудь, закидывал голову.
— Повторим пройденное. Ну, Доржи, расскажи, о чем говорили на прошлых уроках.
— О творениях Гавриила Романовича Державина.
— Ну, ну… Рассказывай.
Доржи споткнулся на полуслове. Как быть? Рассказывать ли, как учил Владимир Яковлевич, или повторить, что говорил Илья Ильич?
— Ты что, все забыл за время моего отсутствия?
— Нет, не забыл.
— Почему же молчишь? Начинай. «Мы зрим в Гаврииле Романовиче Державине самого большою, самого примечательного пиита России!» — напоминает Илья Ильич.
Доржи неуверенно продолжает:
— …примечательного пиита России. Он создал возвышенные оды. Они певучи, преисполнены глубокого смысла. Одной из лучших од является его ода «Фелица».
— Так, так, — кивает учитель..
— Эта ода богата красками, музыкальна, но…
— Ну?
— Она не совсем правдиво отражает жизнь простых людей.
— Что? — уставился на Доржи Илья Ильич. Лицо у него стало такое, будто рядом неожиданно грянул гром. — Что ты сказал? Откуда ты это взял?
Как ответить? Доржи почувствовал, что весь класс не сводит с него глаз. Подумал и гордо ответил:
— Владимир Яковлевич сказал.
— А еще что он вам говорил? — голос у Ильи Ильича дрогнул.
«Надо помочь Доржи», — подумал Аносов и встал.
— Он говорил, что учебник словесности устарел.
— Так. Еще что?
— Державин, мол, большой пиит, но из него нельзя делать кумира…
— Что в словесности мало заучить, надо понять главное…
Илья Ильич хмуро слушает учеников. Ребята наперебой рассказывают ему все, о чем говорил молодой учитель.
— Он сказал, что Иван Андреевич Крылов — народный поэт.
— Он сказал, что творения Пушкина несравненно выше сочинений многих других поэтов.
— Что Державин сам сказал про юного Пушкина: «Вот кто заменит Державина».
— Все ясно… Довольно. Пока что будем продолжать занятия по-старому. Доставайте книгу по русской словесности.
Ребята нехотя достали учебники.
— Держите эту книгу в чистоте и порядке. Не рвите страницы. Берегите углы и переплет. Не думайте, что если новый учитель сказал, что она устарела, так на нее чугун можно ставить…
Ребята только сейчас поняли, что сослужили Владимиру Яковлевичу плохую службу. В душе у Доржи ночь. Надо было отвечать на вопросы Ильи Ильича, как отвечали раньше. И все было бы хорошо.
Доржи переглянулся с Аносовым. Алексею тоже не по себе — но как исправить положение?
— Почему мы Державина называем пиитом, а Пушкина поэтом? — спросил он.
Илья Ильич оживился:
— Разве может Пушкин разговаривать с миром на чистом, божьем языке оды, он, который плетет вирши? Слог у него, правда, неплох. Но уж очень просто, очень все просто…. И описывает Нередко простолюдинов… Ну, да хватит. Мы ведь речь ведем не о Пушкине, а о несравненном Гаврииле Романовиче Державине.
Илья Ильич повторял ученикам давно знакомые слова. Слушать его было неинтересно. Цокто Чимитов поднял руку.
— Что тебе?
— Почему Пушкин… — начал было Цокто, но Илья Ильич не дал договорить, вскочил из-за стола.
— Опять — Пушкин! Иных слов у вас нет, что ли? Новый учитель, видать, не знает никого, кроме Пушкина.
Ребята замерли. Щеки у Ильи Ильича дрожали, уши стали, красными.
Почему не звонит колокольчик? Нарочно молчит? Или старик истопник потерял его? Скорей бы конец урока…
Илья Ильич прерывисто дышал. Негодование переполняло его грудь. Он не помнил себя: тряпкой, которой вытирают доску, обтер себе лоб, сунул ее в карман вместо носового платка и выбежал из класса.
Ученики окружили Доржи, зашумели:
— Зачем ты сказал про Владимира Яковлевича?
— Я же не хотел сделать плохо.
— И ты виноват, Аносов.
— А тебя кто просил рассказывать о том, что Державин говорил о Пушкине?
Начался урок рисования. Но ребята не слушали Артема Филипповича. Перед глазами все еще стояло злое, красное лицо Ильи Ильича, в воздухе, казалось, висел его визгливый вопрос: «Ну, а еще что сказал новый учитель?»
ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
Вечером Доржи и Алеша взяли свечу и пошли в пустой класс — готовить уроки, читать. Дома мешают.
— Хорошо здесь. Правда, Доржи? — шепотом спросил Алеша.
— Хорошо… Только свечи уж очень короткие в лавке продают, — Доржи показал на оплывшую свечку.
— А ты за свои медяки хотел бы, чтобы Коковин аршинную свечку тебе дал?
— Тише, а то в смотрительской услышат. Алеша, а кто такой домовой у русских чертей? Вроде дворника, что ли?
— Ну да, — засмеялся Алеша, — почти дворник.
— А ведьма?
— Тоже нечистая сила.
— Домовиха?
— Не знаю. Не мешай читать.
— Алеша, черти — это то же, что у бурят шутхэры? А духи тогда кто такие?
Алеша удивленно взглянул на Доржи.
— Зачем тебе все это, Доржи?
— Да я «Бесы» Пушкина читаю. Взял в библиотеке. Бесы прямо стаями у него ходят.
— А что, мешают они тебе? — пошутил Алеша.
— Хорошее могло быть сочинение, а эти бесы испортили, — вздохнул Доржи.
— Как — испортили? Это же Пушкин.
— Хотя и Пушкин, все равно не поймешь, о чем тут написано. Всего полно. И луна, и снег, и колокольчик. А потом всякие ведьмы пошли.
— Ну и что же плохого?
— Неинтересно. Черти какие-то скучные, не знаешь, что они там делают. И Пушкин не может разобраться — то ли они хоронят кого-то, то ли свадьбу играют. Сам спрашивает…
Алеша прыснул.
— Ну и смейся, — обиделся Доржи. — Очень мне нужно с тобой разговаривать!
— Чего ты надулся? Здесь же Пушкин не чертей описывает, а зиму… Ч[то показалось в буране, то и написал.
— Показалось, показалось! А в другом сочинении о зиме ему ничего не показалось, а как хорошо написал. Там у него снег так блестит, что даже глазам больно. И вообще… мне теперь неинтересно о чертях читать. Хочу знать, как люди живут.
— Ты не понял, Доржи…
Почему это — не понял? Не такой он непонятливый, как думает Аносов. Каждому видно, что черти здесь испортили хорошее сочинение. И удивляться нечему. Бывает же: сделаешь два лука — из одного стрела далеко летит, из другого падает здесь же, у самых ног.
Доржи нехотя раскрыл учебник. В смотрительской послышались громкие голоса. Наверно, Рыжий медведь распекает кого-нибудь из учеников… Ребята притихли. Голос Ильи Ильича:
— Господа!.. Мы не малые дети. Я двадцать пять лет учу детей русской словесности. Вам, почтенный Владимир Яковлевич, едва ли столько лет от роду…
— Простите, Илья Ильич, я прерву вас…
— Когда говорят старшие, Владимир Яковлевич, младшим приличествует слушать…
Доржи и Алеша насторожились.
— Когда меня начали величать Ильей Ильичом, вы, почтенный Владимир Яковлевич, едва ли различали отца и мать… По-вашему, я — человек, отставший от жизни, невежда… Но ведь я, господа, за долгие годы службы не получил ни одного замечания. Я.служу богу; царю и отечеству как верный солдат. Меня знают все — и господин смотритель, и уважаемые родители. А вас кто знает, почтенный? Вы не успели вступить в класс, а уже подняли шум среди глупых мальчишек.
Кто-то угодливо, глуховато рассмеялся. Мальчики поняли: это учитель ламайской веры Бимбажапов вильнул лисьим хвостом.
— Я не вижу причин для смеха. Как бы не пришлось плакать навзрыд, как плачут малые дети. С кого, как не с нас, спросит господин директор училищ нашей губернии Семен Семенович Щукин? Он далеко, но услышит, будьте уверены, господин Светлов, все нецензурности, которые вы изволили говорить про Гавриила Романовича Державина. Вы забыли обо всем. И о том забыли, что на берегах Невы, в Санкт-Петербурге, существует министерство просвещения. Перед тем как преступить отцовский обычай, вы не вспомнили, конечно, светлое имя господина Сергея Семеновича Уварова, министра просвещения… А ведь он перед самодержцем всероссийским за нас в ответе. Можем ли мы молчать обо всем происшедшем? Нет, не смеем молчать. Так, мне кажется, думает и достопочтимый господин смотритель училищ Николай Степанович…
— Вы все время на кого-нибудь ссылаетесь, Илья Ильич. А самим нам для чего головы даны? — нетерпеливо проговорил Владимир Яковлевич.
— Если угодно, знать, почтенный Владимир Яковлевич, головы нам даны, чтобы пещись денно и нощно о просвещении отроков и не мутить их разум недостойными суждениями, — важно проговорил Илья Ильич.
— А я думаю… — начал было Владимир Яковлевич.
— Никто не интересуется тем, что вы думаете, молодой человек. Постыдитесь прерывать старших, — отрубил смотритель. Помолчал и заговорил вновь: — Господа, как вам известно, я несу полную ответственность за здешнее уездное училище и русско-монгольскую войсковую школу. Я не могу стоять в стороне от происходящего и спокойно созерцать возмутительные поступки одного из учителей. Я знаю дело учителя Светлова лучше вас — и говорю прямо: я боюсь. Господин Светлов не довольствуется уже разглагольствованиями на уроках. Он превратил свою квартиру в место сборищ учащихся. Бог ведает, о чем они там толкуют. Я вынужден обо всем поставить в известность господина директора училищ. Я считаю также, что учителю Светлову не место в нашей среде. Мне думается, что это единственно правильное решение. Его подсказывают закон и наша совесть. — Николай Степанович помолчал, тяжело вздохнул. — Вы, Владимир Яковлевич, любите поболтать о «вашем поколении». Мы знаем это ваше поколение. И мысли его знаем. И болезни его нам ведомы… По всей России, от Одессы до Нерчинских рудников, слышен запах этой заразы. Вам должно быть известно, что есть и лекарство от этой болезни. Оно в руках тех, кто охраняет спокойствие и незыблемость престола.
По возрасту и по знанию жизни я гожусь вам в отцы, — продолжал Николай Степанович. — И говорю как сыну: вы сеете вредное семя. С давних пор, из века в век, недобрые люди пытаются возмущать спокойствие России. И раньше бывали бунты и смуты, однако, видите, ничто не нарушило вековечного порядка в Российской империи. Разве не так?
— Крепче и могущественнее становится наше отечество, — поддержал Илья Ильич.
— Какие есть суждения?
— Все понятно. Не может вести русской словесности, боязно доверить и русскую грамматику, — проговорил Бимбажапов.
— Позвольте, господа, и мне высказать свои мысли, — попросил Владимир Яковлевич.
— После, после.
Медленно и спокойно заговорил Иван Сергеевич:
— Я не политик и не дипломат. Я интересуюсь лишь вопросами российского землеописания. Но в таком разговоре и я не могу оставаться в стороне. Раз дело касается чести школы, чести учителей — ни у кого не может быть «хаты с краю»… Так вот, я хочу сказать, что мы еще слишком мало знаем Владимира Яковлевича. Илья Ильич прав, когда говорит, что он не успел еще как следует вступить в класс. За этот малый срок Владимир Яковлевич показал нам кипучую энергию… Он принес много нового, интересного. Мне кажется, что он научил нас, какими должны быть отношения между учителями и учениками…
— А не скажете ли вы, Иван Сергеевич, что-нибудь более новое? — перебил смотритель.
— Скажу, скажу. Мне думается, что молодому учителю, Владимиру Яковлевичу, следует указать на его ошибки и, конечно, оставить его в школе.
Вслед за Иваном Сергеевичем заговорил Артем Филиппович.
— Мы призваны учить детей, господа. Поэтому нам дороги близкие отношения с ними. Владимир Яковлевич, как мне мыслится, на верном пути. Но он излишне беспокойный, говорит не всегда обдуманно. Это беда всех молодых. Вспомните, каждый из нас в молодости немножко буянил. Вы, Владимир Яковлевич, должны слушаться советов старших… А мы, старики, будем подсказывать вам, предупреждать от ошибок, поправлять. Нельзя отталкивать от себя молодого коллегу.
— Он в университете не научился, а вы его здесь научить хотите! — выкрикнул Илья Ильич.
— Я говорю не об обучении, а о воспитании.
— Вы, Артем Филиппович, оправдываете тяжкие проступки учителя Светлова. Да чего от вас ждать, ведь вы даже на господина губернатора карикатуры рисуете, — раздался резкий голос смотрителя.
— Я думаю… — заговорил еще кто-то. Доржи и Алеша узнали по голосу учителя арифметики Адама Адамовича. — Я думаю, что Иван Сергеевич и Артем Филиппович высказали правильные суждения. Оттолкнув, легко погубить молодого человека. Отдать в солдаты, послать звенеть кандалами — причины сыщутся, но какая от того польза? Придет другой молодой учитель. Что же, и с ним должна повториться эта история? Давайте присмотримся к Владимиру Яковлевичу. Он окончил Казанский университет — гордость отечества, негаснущий очаг русской научной мысли, гнездо…
— Знаем, знаем, чье там гнездо!
— …гнездо людей науки. Мы, старики, уходим, из жизни и должны оставить после себя смену. Молодежь понесет дальше начатое нами славное дело народного просвещения. Господин смотритель собирается принять слишком поспешное решение… Есть ведь другой выход: пусть Владимир Яковлевич даст слово нам, старшим коллегам, вести себя обдуманно, слушаться нашего совета, не отступать от программы министерства просвещения. Пусть признает свою вину.
— Я ни в чем не виноват!
— Помолчите. Вы не на ярмарке, — отрезал смотритель. — Господа коллеги!.. — обратился он к учителям. — Неверно представлять случившееся как ошибку наивного юноши. Я смотрю глубже. Я вижу заранее обдуманное, преднамеренное действие с гнусной конечной целью. Никто не смеет помышлять, что мы будем сидеть сложа руки, покуда этот юнец станет продолжать свои разглагольствования, читать среди глупых мальчиков отвергнутые цензурой бунтарские вирши Пушкина. Мы-то знаем, кто такой Пушкин! Только заслуги батюшки его, Сергея Львовича, спасли бунтаря от вандалов и Сибири. И тяжко слышать, когда почтенные, казалось бы, люди одобряют затеи, опасные для престола российского… Я вас имею в виду, Иван Сергеевич, Артем Филиппович, и вас, Адам Адамович. Мне стыдно за вас. Все мы помним, что произошло на Сенатской площади. Дым пороховой еще не рассеялся, стволы ружейные не остыли… А мы уже готовы поддержать крамолу. Не дай бог, услышал бы эти разговоры господин министр или господин директор училищ…
Наконец заговорил Владимир Яковлевич.
— Напрасно господин смотритель считает учеников глупыми мальчиками, — начал он. — Мой университетский учитель Николай Иванович Лобачевский, да и все просвещенные люди нашего времени учат нас, что к детям надо относиться с уважением и любовью. Только тогда учитель сможет принести им пользу. Вы обвиняете меня в том, что я восторженно отзываюсь о творениях Александра Сергеевича Пушкина. Вы пытаетесь даже представить меня защитником Пушкина… У него и кроме нас с вами хватит в России искренних друзей и… злобствующих врагов… С каждым годом все больше и больше почитателей его таланта и ума. Скажите честно, Николай Степанович: был ли в России до Пушкина сочинитель, который бы поднял такую бурю в умах? Был ли когда-нибудь более самобытный поэт, подкупающий гениальной простотой стиха?
— Хватит о Пушкине! Что он за фигура — чиновник министерства, попечитель дворянства? Кто не пишет стихов? И моя дочурка пишет, недурно получается… Могу показать…
— Да читали ли вы, Николай Степанович, стихи Пушкина?
— Читал и читаю… Даже люблю. Но не вашего Александра Пушкина, а стихи Василия Пушкина, талантливого стихотворца.
В смотрительской раздался осторожный смешок, потом вновь послышался голос Владимира Яковлевича:
— Я не откажусь от своих слов. Как русский человек, я горжусь творчеством нашего соотечественника Ивана Крылова. В чем вы меня можете обвинить?
— А в том, что с вредным умыслом подбираете басни для чтения детям. И смысл их толкуете злонамеренно… Ученики услышали от вас басню «Рыбья пляска» и теперь поговаривают: мы, мол, знаем, кто лев и кто староста и что за рыбки пляшут на сковороде… Разве у Крылова нет других басен? Разве у него мало басен, которые учат добронравию, почитанию старших?
Доржи шепотом спросил:
— Алеша, ведь он про рыбьи пляски прочитал нам не на уроке, а у себя на квартире. Откуда они узнали?
— Это Климов, наверное, наябедничал.
— Я читаю лучшие, — продолжал Владимир Яковлевич, — и вообще этот разговор носит странный характер: Иван Андреевич Крылов у государя в почете. Он еще в четырнадцатом году произведен в коллежские асессоры, а ныне — статский советник, кавалер нескольких орденов. В чем же вы опасность усмотрели?
— Знаем, знаем Крылова… Ему ордена дают не за басни, подобные «Рыбьей пляске»… Не за это его и чинами жалуют… Наоборот — для того, чтобы подобных басен у него меньше было… Да не впрок ему, видно, государевы милости. Ну, довольно об этом. Расскажите лучше, как вы осмелились очернить память Гавриила Романовича Державина.
— Я внушал ученикам, что отечественная словесность очень многим обязана превеликому таланту Гавриила Романовича. Я учил детей видеть и его недостатки: сокрытие пороков нашего общества.
— Ну, все?
Еще раз хочу сказать, что у меня нет вины перед отечеством, перед наукой, перед учениками моими. Долг учителя я вижу в том, чтобы не затемнять сознание учащихся, а дать простор для свободного полета их мысли, способствовать их стремлениям к науке, истине, желанию улучшить судьбу родного народа. Мы должны воспитывать их так, чтобы сердца юношей исполнились гордостью за все прекрасное, чем богато наше отечество, чтобы сердца их были открыты гневу за каждую несправедливость, которых, увы, немало в нашем обширном отечестве.
Меня может отозвать отсюда только директор училищ Иркутской губернии — он назначил меня сюда. Вы не властны уволить меня, господин смотритель. Я ухожу. А вы можете продолжать свое судилище.
После ухода Владимира Яковлевича в смотрительской долго все молчали.
Когда узнаешь что-нибудь интересное, очень трудно удержаться и не сказать об этом друзьям. Но Доржи и Алеша вытерпели: ни один человек не узнал, что происходило в смотрительской.
…Рано утром приоткрылась дверь, в комнату юркнул Бимбажапов — без стука, без предупреждения. Подошел к столу и сказал, отчеканивая каждое слово:
— Не двигайтесь с места. Сейчас пожалует сам господин смотритель.
Голос у Бимбажапова сорвался — получилось смешно. Он повернулся к двери, открыл ее настежь. В комнату ворвался холодный утренний воздух, белый кудрявый пар.
— У вас воздух такой, что медведь задохнется.
Скоро пришел смотритель. Он молча остановился у стола. Бимбажапов с трепетом взглянул на него и замер.
— Ученики! Из смотрительской исчез резной бронзовый подсвечник с амуром. Случай возмутительный. Подозрение падает на всех вас. Откройте свои сундуки и ящики. Живо!
Мальчики покорно выдвинули из-под кроватей сундучки. Бимбажапов обошел их и ногами подровнял:
— Отомкните замки. Все сразу, быстро! А ты что медлишь? — закричал Бимбажапов на Шираба.
Бимбажапов, как большая лягушка, быстро двигался от одной кровати к другой. Он заглядывал в ранцы, перетряхивал белье… Особенно тщательно осматривал книги: читал названия, долго тряс каждую книжку.
Мальчики были удивлены: потерялась ведь не почтовая марка, не конфетная обертка, которую можно спрятать между страницами книги, а бронзовый подсвечник…
Смотритель не двигался с места, не дотрагивался до вещей, будто ребята больны холерой и он боится заразиться.
Бимбажапов рылся тщательно, с видимым удовольствием и умилением. Обыск прекратился лишь тогда, когда ушел смотритель. Бимбажапов встал, оглянулся, вытер подолом халата руки и прошипел со свистом:
— Мы вам всем покажем!
— Они не подсвечник искали, — со злостью сказал Алеша, как только Бимбажапов вышел. — Мы с Доржи знаем: они боятся Владимира Яковлевича… Он нас учит не так, как они хотят… Они думают, что он нам книжки неразрешенные давал. Вот что они искали, а не подсвечник.
Все думы Доржи — о молодом учителе. Пусть он не дает уроков в их классе, лишь бы остался в уездном училище. Лишь бы хоть изредка спрашивал: «Ну, Доржи, как успехи? Не шалишь ли слишком? Смотри у меня…» Зайти бы к нему, сказать, что ребята его любят… Доржи вспоминает все известные ему русские ласковые слова.
И вот на следующий день после уроков Доржи решился пойти к учителю. Он умылся, крепко затянул ремень, застегнулся на все пуговицы. Пошел он Один, даже Алеше не сказал.
— Нету здесь вашего Светлова, не живет больше. Я не стану держать неблагонадежного… — сердито встретил Доржи церковный староста.
Доржи разыскал новую квартиру Владимира Яковлевича. Учитель поселился у маляра на Таможенной улице, в покосившемся низеньком домике. Мальчик вошел, огляделся. Пахнет сыростью, скипидаром и лаком. Владимир Яковлевич разбирал на полу книги, складывал их на низкую кровать.
— A-а… Доржи?.. Садись, садись.
Доржи снял фуражку, поздоровался и сел на стул. Стул оказался на трех ножках, и Доржи едва не упал.
— Сюда садись, на кровать.
— Как ваше здоровье, Владимир Яковлевич?
— Очень хорошее. Отличное, Доржи.
Доржи смотрит на руки учителя. Какие они сильные, чистые… Такие руки могут сделать немало хорошего. Звонкая струна хура Борхонока, тяжелый молот кузнеца Холхоя, острый резец Эрдэмтэ-бабая, меткая кремневка отца — все, кажется, им под силу.
— Мне бы какую-нибудь книгу.
— Какую книгу, Доржи? Да ты сам ли надумал разыскать меня? Может, тебя кто-нибудь подослал! Не смотритель ли?
— Что вы, Владимир Яковлевич…
— Ну хорошо. Я знаю — ты честный и добрый мальчик.
— Нам сказали, что вы захворали. Все ребята забеспокоились, вот я и пришел навестить. Не принести ли какого лекарства? Может, позвать лекаря? Есть хороший лекарь, Мария Николаевна Орлова. Если я ее попрошу, она придет.
Учитель рассмеялся:
— Спасибо, Доржи. И я с Орловыми знаком. Ничего мне не нужно.
Владимир Яковлевич не желал, видно, говорить о том, что так интересовало Доржи. Мальчик не осмеливался сказать учителю, что он случайно подслушал разговор в смотрительской. Владимир Яковлевич, наверно, рассердился бы, ведь нехорошо подслушивать разговоры взрослых.
— Я рад, что вы, мальчики, мной интересуетесь, — сказал Владимир Яковлевич. — Но, дорогой Доржи, заниматься мне с вами не придется. Я должен уехать. Ты в школе об этом не рассказывай и не приходи больше, если худого мне не желаешь. И другим накажи. Ладно?
— Владимир Яковлевич… — Глаза у Доржи застилали слезы.
— Понял меня, Доржи?
Доржи молча кивнул.
Вот так и дядюшка Хэшэгтэ однажды ушел из жизни Доржи.
— Возьми книгу. На память. Это баллады Жуковского. Книга полезная.
— Владимир Яковлевич… Если будете проезжать через улус Ичетуй, зайдите к нам в юрту, пожалуйста. Мы живем недалеко от дороги. Мать будет рада вам. Она угостит вас саламатом.
— Спасибо, дорогой Доржи. Обязательно зайду.
Вернулся он от Владимира Яковлевича поздно. Мальчики проснулись. Доржи спросил Алешу:
— Проверка была?
— Была.
— Я спал?
— Ну да. Вон и сейчас еще под одеялом лежишь, — Алеша кивнул на койку. Там будто и в самом деле кто-то лежал, так ловко устроили.
Все засмеялись. Доржи быстро разделся и укрылся одеялом.
Открылась дверь, и в комнату вошел Петр Гаврилович Микушкин. Он прислонился к косяку двери, долго снимал фуражку, чему-то улыбался, а когда пошел к столу, уронил табуретку.
Мальчики ужаснулись — Петр Гаврилович был пьян. Как же это так, ведь они его никогда не видели таким… Что будет, если узнает смотритель?
Они не знали того, что случилось днем. Микушкина вызвал смотритель и сообщил ему то, чего Микушкин больше всего боялся.
Петр Гаврилович стоял посередине комнаты, пошатывался, озирался по сторонам, будто не понимая, куда он забрел. Тяжело сел за стол.
Мальчики с тревогой смотрели на учителя. Он все в том же ветхом военном мундире. Локти заштопаны. Лопатки торчат, как сложенные крылья.
— Доброго здоровья, ребятушки…
Микушкин погладил обвисшие усы, побарабанил пальцами по столу, вздохнул, заговорил упавшим голосом:
— Вот и нету больше учителя военной экзерциции Петра Гавриловича. Теперь есть ночной сторож чайного склада Микушкин.
Он вдруг пьяно рассмеялся и выкрикнул:
— Эй ты, Микушкин! Отопри ворота, хозяин едет!
На глазах у него блеснули слезы.
— Я хотел добра, — снова заговорил Петр Гаврилович, — я требовал уважения к человеку. Разве я не достоин уважения, а? Все отдал отечеству, весь свой порох расстрелял. А кто я теперь? Никто… Может, придется вам когда-нибудь побывать за Москвой, в селе Бородино, там вся земля чугунными ядрами усеяна. Нагнись только, искать не надо… Пушечные стволы изуродованные валяются. Никому они не нужны… Заржавели пушки. Внутри паук поселился. Хорошо пауку, надежно — лошадиные копыта не раздавят, дождевая вода не промочит… Вот и мой удел такой же… Состарился, стал неугоден — и выбросили. И теперь охраняй хозяйский чай, чтобы воры не растащили. Ходи с колотушкой, звезды на небе считай.
Микушкин уронил на стол голову и заплакал. Плечи вздрагивают. Вместе с ним плачут и мальчики.
— Может, вы не верите, что я солдатом был? У меня все тело в рубцах. Под Вязьмой меня среди трупов оставили, за убитого посчитали. А я выбрался да еще солдатика одного на себе вытащил. А мы в окопах мечтали: кончится война, всем — и павшим и живым — памятник, мол, из алмаза воздвигнут. Напишут: «Спасителям России, верным слугам бога, царя и отечества. Славьтесь в веках, герои!»
Памятник, как же! Выкатили бочонок водки — пейте и расходитесь. Кто куда. Живите, как сумеете. От хорунжего Петра Микушкина сам французский император бежал, а здесь меня смотритель хочет на колени поставить.
Петр Гаврилович снова обмяк, плечи у него опустились.
— Не хочешь учить детей, как мы велим, уходи, нет тебе куска хлеба, нет тебе крыши над головой. Я попробовал покориться, ребятушки. Ради семьи, ради больной старухи… и вас мучил… Начальству угодить пробовал. Да душу свою пересилить не смог. Вот мне кукиш и показали: на, Микушкин, бывший солдат, спаситель отечества и престола, чудо-богатырь… Иди-ка ты в дворники, да гляди, с грязными ногами в переднюю не лезь! Смешно? Мне так очень смешно.
Микушкин громко и зло расхохотался. Затем он встал — высокий, сутулый. Выпрямился, расправил широкие плечи, будто в атаку на врага собрался. И вдруг опять ослаб, медленно опустился на Табуретку. Мальчики видят: за один день Петр Гаврилович похудел, седых волос у него прибавилось.
— Я выпил, чтобы забыться, — тихо заговорил он. — В первый раз за много лет напился. Когда у женщины горе, она плачет…
Микушкин встал, горбясь и пошатываясь, пошел к двери. Он вышел не оглянувшись.
Доржи закрылся с головой одеялом и плачет.
Он думает о двух учителях, совсем не похожих друг на друга. Вот они стоят рядом. Оба они не могут учить ребят так, как им хочется. Стоят они оба перед Доржи, добрые и заботливые, умные и смелые.
У Доржи плачет сердце, сжимается, как в день смерти Аюухан, как в черные дни зуда, как после страшной вести о гибели Еши Жамсуева, как после расставания с дядюшкой Хэшэгтэ.
Да, Владимир Яковлевич и Петр Гаврилович — разные люди, но оба они дороги мальчику. Один сразу притянул к себе, как чудесная подкова-магнит. А другой долгое время был чужим, неприметным — «Микушкин», «Наполеон», «Мучитель»… Если бы раньше разгадать его добрую душу…
Подушка у Доржи стала мокрой от слез. Он лежит молча, но чувствует, что и все его товарищи не спят, переживают то же, что и он.
…Доржи вдруг увидел себя у подножия горы. На вершине стоит высокий человек, выше Балдана, а лицо у него Владимира Яковлевича. Он достает из золотого сундука широкую белую книгу и громко называет всех, кто вместе с Микушкиным отстоял отечество от иноземцев. Он так громко говорит, что далеко слышно. И эхо каждое его слово разносит по темным лесам, по дальним улусам. Долго человек этот читает. А у горы стоят неподвижно много-много людей с обнаженными головами и после каждого имени крестятся…
Проснулся Доржи поздно, когда за окном уже сияло солнце, слышался шум и хохот ребят. «Будто ничего и не изменилось», — подумал Доржи. И опять сердце у него сжалось, словно он потерял самых близких, родных людей.
ЗА ЗДОРОВЬЕ БУДУЩИХ ЧИНОВНИКОВ!
Доржи издали увидел возле рынка Цоктоева, обрадовался нежданной встрече. Цоктоев ведь из Ичетуя приехал, может, недавно у них в юрте был, пил чай, который мама сварила. Как тут не обрадоваться! Конечно, лучше бы кто-нибудь другой приехал из соседей. Хорошо бы встретиться с дядей Холхоем, Ухинхэном. Могли приехать Степан Тимофеевич, тетя Алена, Саша… И братьев захватили бы с собой. Вот хорошо было бы!
Ну, ничего — Цоктоев тоже свой человек… Доржи обиды на него не помнит. Он, правда, ругался тогда у канавы, на скачках худо сделал Доржи. Ну Да ладно, чего уж там…
Цоктоев, видно, тоже обрадовался встрече. Руку подал.
— Здравствуй, Доржи. Ты теперь совсем, как чиновник стал. Только усов не хватает, а так — вовсе на писаря похож. Ну, хорошо ли учишься?
— Хорошо учусь, дядя Гомбо. Вы из Ичетуя приехали?
— А то откуда же?
— Как моя мама?
— Ничего. Был я у вас. Твоя мать меня саламатом угощала. А отца не было дома. Однако, на службе был.
Вот как хорошо разговаривает дядя Гомбо.
— Вы с тайшой приехали?
— С ним. Он по присутственным местам ходит, а мне к Орловым надо зайти, старуха Тобшой носки послала Сэсэгхэн и второй девчонке. Ты не знаешь, где они живут?
— Знаю, дядя Гомбо. Вон туда, в гору надо подняться.
— Ты к ним ходишь?
— Хожу иногда.
— Тогда передай. Да не потеряй, а то старуха рассердится.
Он протянул Доржи мягкий пушистый клубочек, перевязанный тонким кожаным ремешком. И Цоктоев, значит, может выполнить просьбу бедной соседки. Видно, не такой уж он плохой человек… Доржи рад, что есть повод лишний раз забежать к Орловым. Ему приятно держать в руках носки, связанные в родном Йчетуе, руками доброй бабушки Тобшой.
— Ну, чему вас учат в школе?
Доржи стал рассказывать.
— О-о, — протянул Цоктоев. — Скоро совсем умным станешь…
Одет он, как настоящий богач. Все на нем новое, даже кушак. Вытащил новый желтый кисет, достал огниво из кожаной сумочки, которая висит на кушаке. Трубка тоже новая, в чеканных серебряных узорах.
— Вы долго здесь пробудете, дядя Гомбо?
— Нет, сегодня же уедем. Нам с тайшой еще в Иркутск надо. А оттуда, может, и в Петербург махнем, — прихвастнул по своему обыкновению Гомбо.
Доржи и удивился и позавидовал. Все же хорошо быть около тайши, хоть люди и не особенно одобряют. Может, они это из зависти?
— Ты, Доржи, бурятские обычаи не забыл? При встрече надо угостить земляка. Конфет хочешь?
— Хочу. Только у меня денег нет.
— А разве я когда-нибудь был без денег! Пойдем-ка…
Доржи, обрадованный, пошел за Цоктоевым. Приятно встретиться с земляком…
Во всех русских домах, когда переступишь порог, надо подниматься по ступенькам вверх. А Цоктоев повел Доржи куда-то вниз, в темноту. Они спустились по скользким, обшарпанным лесенкам в большую грязную комнату. В ней стояли деревянные непокрытые столы, в углу за широким грязным прилавком сидел усатый сердитый мужчина. Цоктоев стал с ним о чем-то шептаться. Доржи заметил, что дядя Гомбо показал на него усатому, оба они засмеялись, и Цоктоев протянул усатому деньги.
Дядя Гомбо денег не жалеет, чтобы угостить Доржи! Хозяин отвесил конфет. Мархансай-бабай ни за что не купил бы, даже если бы Доржи кровавыми слезами плакал, просил. «Иди, иди, сказал бы, пусть тебя русские учителя конфетами кормят. От сладкого зубы заболят…» А дядя Гомбо вон какой добрый.
Цоктоев принес кулечек с конфетами, коробку табаку и два стакана вина. Наверно, очень вкусное, дорогое. Может быть, такое вино в Петербурге царские гости пьют.
— Ну, выпьем до дна, чтобы ты хорошо учился…
«Пусть боги сделают, чтобы ты со всеми был такой щедрый и ласковый», — думает Доржи. Пить ему не хочется, да и боязно, а не выпить нельзя: дядя Гомбо обидится, отцу скажет, что Доржи его угощение не принял.
Цоктоев и Доржи капнули из стаканов на край стола, будто около невидимого очага. Пальцами брызнули по сторонам — угостили хозяина неба. Доржи поднес стакан ко рту, сделал большой глоток. И сразу такой треск раздался в ушах, будто вся посуда упала с полок и разбилась вдребезги. В глазах жаркий огонь полыхнул, прокатился в желудок, горячими искрами брызнул из глаз. Словно кто-то острым ножом резанул. Доржи вскочил, рукавом стал вытирать губы, язык, а потом выбежал вон. Он слышал, как смеялись вслед ему Гомбо Цоктоев и хозяин.
Доржи шел по улице понуро, сам не зная куда, из глаз у него бежали слезы. Мальчик вспомнил, как Цоктоева ругают в улусе. Видно, он стоит того. Нет, Доржи не станет больше ему верить, пусть хоть золотая голова у этого Гомбо на плечах вырастет. Даже если кто скажет, что Цоктоев добро сделал, все равно не поверит.
Все было гадко: этот усатый, и лестница, и неровный пол, и мухи. Столы мокрые, пальцы к ним прилипают. Видно, нарочно чем-то клейким намазали, чтобы люди прилипали, как мухи, и не могли уйти. И он, Доржи, сын Банзара, внук Боргона, тоже чуть не прилип к этому противному столу. Нет, он больше никогда не поддет в такие места, не тронет чашку с ядовитой водкой…
В кармане у него носки бабушки Тобшой. Он не вынет их из кармана, пусть все время будет с ним дорогой подарок из родного Ичетуя. А завтра отнесет Марии Николаевне, и она обрадуется подарку, хотя у них всего много. Доброму сердцу слепой старушки Тобшой обрадуется…
В трактире плотной стеной повис сизый табачный дым. Зашел Гомбо Цоктоев, оглядел посетителей и вышел. Через минуту вернулся с тайшой Ломбоцыреновым. Гомбо Цоктоев убрал со стола пустые бутылки, угодливо пододвинул стул. В трактир вошел Чимит Гармаев, казачий десятник, давний друг тайши. Ломбоцыренов обрадовался:
— Вот с кем можно поговорить!.. А ты, Гомбо, иди, иди на квартиру и жди.
Цоктоев нехотя пошел к двери.
— Ты, тайша, в Кяхте по делам думы?
— Да. А ты?
— К сыну Цокто приехал. Он учится в войсковой школе.
— Хорошо учится?
— Хвалят.
Ломбоцыренов помолчал, спросил:
— Почему тебя не видать? Важным нойоном стал, думу забыл.
— Не смейся надо мной, Юмдылык. Такие нойоны, как я, другим стремена чистят, седла таскают.
— Ну уж, не прибедняйся. Не завидую я тем казакам, что попали в твои руки. Знаю тебя: с малых лет любил командовать, над другими громом греметь.
Он разлил по рюмкам коньяк.
— Скучно здесь, Друг Чимит… Иногда думаю: почему далеко Петербург?
— Великий царь Петр не предусмотрел, видно, что здесь будет скучать тайша Ломбоцыренов. Обязательно построил бы Петербург поближе!
Оба засмеялись. Юмдылык вновь налил рюмки. Выпили, тайша задумался.
— Что это ты хмуришься, тайша?
— Да вот хромает у меня русская грамота. А тайша без русской грамоты, что конь без подковы. Верно?
— Так, тайша.
— Эх, если бы в годы нашего детства была хоть эта паршивая школа… Наши отцы были богатые и неглупые, догадались бы учить нас.
— Да и так не найдется тайши, который бы сравнился с тобой.
— Зачем оглядываться, сравнивать? Кони на скачках не ждут отстающих. Народом управлять — не шутка.
— Закон очень строгий, тайша, и подати большие.
— Иначе нельзя! Народу нужны крепкая узда и длинный бич.
— Это тоже верно…
Выпили еще.
— Значит, ты к сыну приехал, Чимит?
— К сыну.
— Ты молодец, Чимит, далеко видишь. Правильно делаешь, что учишь сына. Вот слушай меня. По нашей верноподданнейшей просьбе министр просвещения разрешил нам послать в Казанскую гимназию пять бурятских мальчиков. В Казани есть и университет. Обучатся наши дети, сядут на такие кресла, которые нам и не снились. Вот будут глаза и уши у тайши Ломбоцыренова! Верно?
— Верно, тайша.
— Посылай в Казань своего Цокто.
— Что вы, тайша! Он же еще мал.
— Не спорь. Ты умный человек. Пусть появится на сибирской земле молодой волк Цокто Чимитов. Подумай: атаманы, перед которыми ты каждый день гнешь спину, будут дрожать перед твоим сыном.
— Да кем же он будет?
— Кем угодно может стать.
— Как же можно сразу решиться на такое… Разве мало других детей? В каждом улусе бедные семьи с радостью отдадут своих ребят куда угодно.
— Детей бедных мы не будем посылать. И вообще, ты слушай, что говорит тайша Ломбоцыренов, подожми хвост и молчи. Я о тебе стараюсь, о твоем будущем забочусь. Разве ты добра сыну не хочешь? Станет твой сын высоким чиновником, правой рукой губернатора… Тогда из царских законов хоть штаны себе шей, хоть унты крой… Указами государственного Департамента, как веревками, сможем опутать. Один глупый Юмдылык веревки в такой узел сплетет, что десять умных Сперанских не распутают.
— А если пастухи возьмут топор да разрубят тот узел? — Чимит Гармаев искоса посмотрел на тайшу и усмехнулся.
— Не разрубят!
— Я тоже так думаю, тайша. Учить детей надо. Может, и в самом деле большими начальниками будут. Только ждать долго.
— Как долго? Давно ли мы сами были мальчиками?
— Верно, верно, тайша. А почему только пять мест?
— Можно было выхлопотать больше. Но зачем? Если все станут грамотеями, кто будет пасти наших коров? Кто для нас сено будет косить? Я все продумал: одного посадим в Верхнеудинске — в земском суде, второго — поближе к губернатору… Здесь, в Кяхте, тоже своя голова нужна… Присмотрел я место и для остальных, только помолчу пока. К каждому из них протянем веревку, а в нужную минуту — дерг одного, дерг другого..
— Хорошо придумал, тайша.
— Я всегда хорошо придумываю, Чимит. Я хотя и старая лиса, но зубы у меня пока не затупились.
Друзья снова засмеялись. Тайша наполнил рюмки.
— Ну, выпьем по русскому обычаю: за здоровье будущею чиновника Цокто Чимитова.
Чимит Гармаев сразу же налил еще.
— А теперь — за упокой Еши Жамсуева. — Он поднял рюмку, посмотрел на свет: — Хороший коньяк… И магазейной мукой не пахнет!
Тайша махнул рукой.
— Э, к чему вспоминать старое, позабытое…
Оборванный мальчуган завел в трактир слепого старика в темных очках. Тот остановился у порога, поклонился на все четыре стороны. Достал скрипку и смычок.
— Что это за старик?
— Слепой Соломон, нищий.
Старик не успел провести по струнам смычком, как подскочил половой и вытолкал его на улицу. В зале заиграла шарманка.
За соседним столиком кто-то стал хвалиться, что он хороший плотник: «Меня все подрядчики знают». За другим столом здоровый детина вытянул огромные свои ручищи:
— Люди… Люди добрые, почему никто не ценит эти руки?
Парень с размаху ударил кулаком по столу. Зазвенели рюмки. Откуда-то появились городовые, подхватили его под руки и потащили. Парень не сопротивлялся.
— Это он нарочно сделал, чтобы переночевать в участке. Ему, наверно, жить негде, — пояснил Чимит Гармаев.
«БУРЯ МГЛОЮ НЕБО КРОЕТ»
Уроки в школе отменены, в классах полы чисто вымыты, пятна на партах соскоблены. На окнах висят занавески до того белые, что так и хочется забрызгать их чернилами. На школьном дворе пылища, словно верблюжий караван прошел. Это тридцать старшеклассников уездного училища идут с метлами через двор, не оставляя ни клочка бумаги, ни одной соринки.
Доржи вспоминает: в канун сагалгана так же бывает. Метут вокруг юрт, чистят навоз из-под коров, лед с речки возят — воду запасают, чтобы в дни праздника свободнее быть. У кого нет нового халата, просят на время у соседей. Отец с матерью надевают все лучшее, выходят из юрты, брызгают на все стороны чаем. Перед божницей горят светильники, дымится ладан — ведь в день сагалгана, на рассвете, всех людей обойдет добрый бог. Как его зовут? Доржи забыл. Этот бог дарит каждому человеку по одному году возраста, благословляет, чтобы до следующего сагалгана все жили спокойно.
Но сейчас ведь не сагалган, и русского праздника вскорости не предвидится, а вон какая суета. И завтра ведь не добрый бог будет обходить школу, а, может быть, сердитый помощник директора всех училищ Иркутской губернии. Возраста он, однако, никому не прибавит… Хотя бы лишнюю пятерку в журнале подарил, сказал бы: «У этого Доржи пусть будет по арифметике пятерка вместо двойки».
Каков же сам директор училищ, если его помощника даже смотритель так боится?
После обеда всех учеников выстроили во дворе в круг. По кругу прохаживаются смотритель и Бимбажапов. Похоже, что они играют в кошки-мышки, игру русских ребят. Смешно даже: Уфтюжанйнов — кошка, Бимбажапов — мышка. Вот-вот побежит смотритель за Бимбажаповым.
Уфтюжанйнов проверяет, чистые ли у учеников руки, в порядке ли одежда. Многим велит получить новые куртки, брюки. Тем, у кого синяки и ссадины, велит даже на школьный двор в эти дни не выходить. А те и рады. Доржи обидно: когда надо, даже синяка нет. Пошел бы на целый день к Орловым играть с Сэсэгхэн.
А накормили-то как вкусно! Почему каждый день не приезжает этот помощник директора? Хорошо было бы! Ходили бы сытые, нарядные.
Смотритель приготовил для гостя самую лучшую комнату в своем доме. Ее обставили так, будто тот приедет на целый год.
Ничего, кажется, не забыли — в классах чисто, собак в дальний угол привязали, чтобы не тревожили.
Уфтюжанйнов устал. Домой пришел поздно, поел плохо, без удовольствия. Все ли сделано? Кажется, обо всем позаботились. И письмо о злонамеренном поведении Светлова заготовлено. Николай Степанович усмехнулся; «Молодец Илья Ильич. Талант. Написал язвительно и с достоинством».
Ученикам войсковой школы не дают покоя разные догадки и предположения.
— Конечно, смотритель его боится.
— Даже уроки отменил.
— Как же не бояться, когда это самого директора помощник.
— Страшный, однако.
Ученики решают: он должен быть похож на царя — с золотыми кистями на плечах, с широкой лентой через всю грудь, в орденах. Ведь на портрете царь такой.
— Посмотреть бы поближе.
— Послушать, что скажет…
— Придет ли к нам?
Учителя тоже встревожены, хотя и стараются не показать этого. Зачем в самом деле помощник директора пожаловал в училище? Из-за малого дела не приехал бы… По поручению самого директора, конечно. Может, этот выскочка Светлов накляузничал, расписал, что все у них устарело, что детей плохо учат. Если так, надо всем стоять друг за друга.
Владимир Яковлевич обрадовался, узнав, что ждут помощника директора. Он решил с ним поговорить и все рассказать о порядках в училище. Светлов слышал, что Андрей Денисович Ершов человек просвещенный и справедливый. Он, конечно, станет на его сторону.
…Помощник директора Андрей Денисович Ершов прочитал письмо о недостойном поведении учителя Светлова уже в день своего отъезда из Кяхты. Взял синий карандаш и прочитал еще раз — с карандашом.
«Все это, конечно, ерунда, — подумал он. — Но зачем мне ввязываться в эту историю? Письмо адресовано директору, пусть он и разбирается».
Ершов собирался уже выйти из кабинета, как вдруг кто-то постучался.
Андрей Денисович нетерпеливо ответил:
— Войдите!
— Я учитель, Светлов Владимир Яковлевич, — сказал вошедший.
«Легок на помине», — с досадой подумал Ершов, а вслух сказал:
— Садитесь, Чему обязан?
Светлов говорил долго и горячо. Андрей Денисович после первых же слов перестал его слушать. «Действительно, докучливый этот молодой человек. И когда он наконец — кончит?»
— А какие хорошие мальчики в нашей школе, господин помощник директора! — продолжал Светлов. — Каждое слово так и ловят. Доверчивые и любознательные. Как можно быть возле них и не войти в их мир…
Помощник директора не удержался и громко зевнул. Тут только Светлов понял, что этому человеку нет никакого дела ни до него, молодого учителя, ни до мальчиков, которые пришли в училище за знаниями. И он на полуслове оборвал свою речь.
— Очень хорошо, — растягивая слова, проговорил Ершов. — Я доложу господину директору. О его решении вас известят. Вы удовлетворены?
Светлов сухо поклонился и вышел.
…В комнате учеников войсковой школы непривычно нарядно и чисто. На двери — зеленые портьеры, на подоконниках — цветы. На тумбочке, покрытой салфеткой, — графин с кипяченой водой. Стол накрыт скатертью, на нем фарфоровые чернильницы. Даже подойти боязно — вдруг чернильницу опрокинешь… Кровати застланы новыми одеялами. На стене, между окнами, висят два портрета каких-то незнакомых военных, в лентах, со шпагами.
Мальчики знают: как только скроется возок с Ершовым, все это поснимают и унесут… Чернильницы, пожалуй, оставят — и только.
— Так он к нам и не зашел, этот Ершов, — с обидой говорит Доржи.
— Чего захотел! Ему и без нас дел хватает.
— Хорошо, если бы зашел…
— Он над войсковыми школами не начальник.
— Вот придумал! Если не начальник, зачем нам все это притащили? — Доржи показал на цветы, портреты, одеяла. — Конечно, начальник.
— Он еще может зайти…
Чтобы их не застали врасплох, ребята по очереди караулят у окон. У одного напевает песенку Рандал Сам-пилов, у другого молча стоит Цокто Чимитов.
Доржи сидит на кровати. Он представляет себе, как это будет.
Вот зайдут помощник директора училищ и смотритель. Помощник директора оглядит комнату и скажет: «Молодцы, казаки! Чисто живете!» Потом он подойдет к Доржи и спросит: «А ты сочинения наизусть знаешь? Умеешь читать по памяти»? — «Умею». — «Ну-ка, прочитай, что знаешь». И тут окажется, что от страха Доржи все позабыл. Тогда начнут читать другие, а помощник директора укоризненно покачает головой. «Как же так, Доржи? Другие знают, а ты нет… Ты, видно, плохой ученик. Ничего у меня не проси, ничего для тебя не сделаю. А вы, мальчики, кто стихи читал, скажите три самых заветных желания. Я исполню».
И вот ребята закричат: «Хотим самую интересную книгу иметь! Хотим, чтобы Владимир Яковлевич вернулся! Хотим, чтобы нас домой погостить отпустили!»
И все получат по самой интересной книге, будут слушать Владимира Яковлевича, поедут гостить домой. А у Доржи ничего этого не будет…
Доржи обидно до слез. Неужели он при помощнике директора забудет все, что так старательно выучил? Ведь он повторял эти стихи чаще, чем Мунко-бабай свои молитвы.
— Нет, я помню, — громко говорит Доржи. Он подходит к столу, высоко поднимает голову, как Алеша, когда читал «Руслана и Людмилу». Доржи начинает неторопливо, внятно:
Мальчики посмотрели на него с удивлением и замолчали.
Доржи читает стихи, и кажется ему, что навстречу бегут горы, леса, дороги, сосны. И вот он видит Ичетуи, степь — дорогую, знакомую до последней травинки, до мелкого камешка.
Здесь же он чужой, до него никому нет дела. Даже этот начальник Ершов не захотел зайти к ним в школу. А ведь мальчики ждали его, думали: придет, спросит: «Как живете?» Скажет: «Хорошие ребята, стараетесь, учитесь». Смотрителю прикажет: «Не ругайте, не обижайте этих мальчиков».
И снова Доржи видит родной Ичетуй. Там буран, все занесло снегом, даже юрт не видно среди высоких сугробов. Ветер, шумит и воет — уже не в печальном стихе Пушкина, а в снежной степи. Алеша прав. Он, Доржи, видно, и в самом деле не понял то сочинение Пушкина. Теперь он сам видит бесов; они действительно кривляются, кувыркаются в снежной пурге.
В юрте тоже страшно, когда ветер то завывает, то жалобно плачет, словно малое дитя… Мальчик представляет себе: он сидит в юрте, у темной полукруглой стены, слышит, как ветер стучит, словно запоздалый путник. Вот опять стук. Это уже не ветер, это и в самом деле кто-то стучится. Человек поднимает обледеневший полог и входит. Он в тулупе, долго разматывает длинный-шарф, качаясь от усталости. Незнакомый, чужой человек. Мать усаживает его у очага, ставит перед ним горячий чай. Ни мать, ни Доржи не спрашивают, откуда он, кто такой. Мало ли на свете несчастных, зачем знать его имя… И путник не благодарит, будто по их вине он бродит в буран по степи.
Мать молчит, видно, думает грустную думу об этом русском, бездомном на родной земле… Может быть, это тот беглец с Байкала, о котором хочет написать песню больной учитель?
Доржи читает стихотворение и не узнает своего голоса. Что, если это сам Пушкин обращается сквозь буран к матери Доржи, самой умной, самой доброй женщине в мире?
Веретено в руках матери вертится все медленнее и медленнее, вот-вот оторвется пряжа и упадет. Почему так исхудали ее руки? Они мокры от слез… В груди у Доржи поднялись рыдания… Он не может больше читать. Ему стыдно товарищей. Но и они отвернулись друг от друга — должно быть, каждому вспомнился далекий дом.
Доржи не знал, что еще один человек слушал его.
После разговора с Ершовым Владимир Яковлевич решил зайти в общежитие войсковой школы — попрощаться с мальчиками. Но, подойдя к двери, остановился. Из комнаты доносился голос бурятского мальчика Доржи, взволнованно читающего стихи Пушкина. Чтобы не смущать его, Светлов решил не заходить — попрощается в другой раз. И когда Доржи закончил чтение, учитель медленными шагами спустился с крыльца, пересек двор и. направился к Орловым.
Теперь, мысленно возвращаясь к разговору с Ершовым, он уже не испытывал того отчаяния, в котором находился еще недавно. В ушах звучал голос Доржи, с такой любовью и бережностью передававшего пушкинские слова.
«Эх ты, Володя! Учился-учился — ничему не научился. Голову уже было повесил. А ведь жизнь идет не по указке Ершова и Уфтюжанинова. Ну что же, Светлова, конечно, можно заставить замолчать. А что же вы, господа, сделаете с ними? Их много, Саш, Алеш, Коль, и вот еще бурятские мальчики. Настоящие творения всегда пробьют себе дорогу к открытым сердцам пытливых юношей…»
Сдан последний экзамен. Вечером приехал отец. Доржи кинулся навстречу. Отец тоже, видно, соскучился: два. раза поцеловал сына в лоб.
Доржи помогает распрягать коня, рассказывает школьные новости, без умолку говорит о Владимире Яковлевиче.
— Папа, можно ему заехать к нам в Ичетуй?
Отец равнодушно роняет:
— Пускай заедет.
Доржи, не чуя ног, бежит к Владимиру Яковлевичу на квартиру. Маляр участливо объяснил запыхавшемуся мальчику: «Негу его. Погостить куда-то уехал. Обещался вернуться до конца занятий, попрощаться с учениками. Да, видать, задержался».
Вечером Банзар говорит сыну:
— У меня к тебе дело есть, Доржи, Поговорим… Отец еще никогда так не разговаривал с ним.
Они сели на телегу. Доржи ждет, что скажет отец.
— Тайша выхлопотал, чтобы пятерых бурятских мальчиков приняли на учебу в Казань. Должен был ехать внук Ганижаба. Но Ганижаб не хочет отпускать внука в далекий город… Я упросил тайшу, чтобы вместо него взяли тебя… Все уже решено, ты едешь. Мать огорчится. Ты будь с ней поласковей, пообещай вернуться молодцом… — Отец помолчал, улыбнулся. — В молодости она меня в караул со слезами провожала… Я от тебя золотых гор не ожидаю, но самому тебе ученому легче будет жить. Ну как, хочется тебе ехать?
— Папа, ведь в Казани учился Владимир Яковлевич… Как хорошо, что я туда еду!
— Но помни, сынок. Не к родным едешь, придется, может быть, и горького хлебнуть. Не сдавайся, учись. Мне отпускать тебя не сладко, ведь ты не на месяц, даже не на год уезжаешь. Мы тебя как кусок живого мяса от себя отрываем…
Они долго еще сидели на телеге, взволнованные предстоящей разлукой.
Тягостны были последние минуты расставания с Алешей. Кто знает, встретятся ли когда-нибудь их пути.
На следующий день Доржи получил свидетельство об окончании русско-монгольской войсковой школы и вместе с отцом отправился в магазин Собенникова. Как приятно делать покупки: платок и бархат на безрукавку — матери, ей же железный наперсток, чтобы не портила пальцы в кожаном. Братьям накупил конфет, Затагахану — складной ножик, Эрдэмте-бабаю — табаку. Не забыты бабушка Тобшой и Мунко-бабай. Им Доржи купил китайского чая. Доржи купил и книжку с картинками.
— Эту книгу я Саше подарю.
— Нету твоего Саши.
— Как нету? Где он?
— Всей семьей уехали.
— Куда же, отец?
— Не знаю. Может, в Иркутск или еще куда-нибудь.
Доржи загрустил: он поедет далеко, в Казань, не простившись с Сашей, Степаном Тимофеевичем, с тетей Аленой…
Он спросил:
— А как живет дядя Ухинхэн?
— Живет, как и раньше. Только еще злее стал.
— Как — злее? Он же добрый.
— Добрый… Недавно так с Тыкши Данзановым ругался, чуть не подрались. Тыкши жаловаться хочет.
— Почему они поругались?
— Не знаю, я не спрашивал. Из-за покоса, наверно. Старая песня.
— Из-за какого покоса?
— Да чего там… Еще дед этого Тыкши отобрал покосную землю у деда Ухинхэна. Тогда не то что Тыкши, отца его. на свете не было.
А Доржи думает, что не из-за покоса Ухинхэн рассердился на Тыкши. Отец не знает. Наверно, Ухинхэн из-за Степана Тимофеевича поругался с зайсаном. Ведь Сашин отец и Ухинхэн крепко дружили. Доржи хочет, чтобы именно так было.
Выехали за город, миновали последние дома, таможню. Прощайте, город, школа, учителя, товарищи! Прощай, Алеша!
Доржи снова заговорил с отцом о молодом учителе. Рассказал о разговоре в смотрительской, приукрасил Владимира Яковлевича так же щедро, как в прошлом году в разговоре с ребятами Еши Жамсуева…
— Если поедет мимо, обязательно к нам завернет. Вы уж барана не пожалейте — угостите как следует. Как он обрадуется, когда услышит, что я в Казани!
Отец молчит. Конь неторопливо трусит по дороге. Лениво крутятся отяжелевшие от грязи колеса телеги. О чем думает отец? Может быть, думает про Доржи: «Нет, не умный у меня сын. Если всех хороших людей угощать бараниной, надолго ли хватит наших овец?» А может быть, другое: «Для любимого учителя моего сына ничего не пожалею…»
Отец молчит, и Доржи молчит. Но в душе мальчика встает солнце: все будет хорошо, он еще встретится с дорогим учителем.
Улус уже совсем близко. Доржи хочется петь самые лучшие песни — о родном Ичетуе, о ласковой матери, об отце и братьях, об уставшем коне, везущем его домой…
Глава десятая
ЖАЛМА
Ганижабу не давала покоя мысль, как переманить к себе Балдана.
Он решил спросить совета у Тыкши Данзанова, своего дальнего родственника.
Ганижаб не стал играть в загадки с Данзановым, сразу приступил к делу. Он говорил о Балдане, как знатоки о прославленных скакунах.
— Какие Сильные руки у него! Как легко делает он самую трудную работу! — причмокивал языком Ганижаб. — Понимаете, чего я хочу?
Данзанов пожал плечами:
— Нет.
— Посоветуйте, как мне переманить Балдана.
— Вон что вы задумали, — протянул Данзанов. — Только из этого ничего не выйдет.
— Почему? — И, не дожидаясь ответа, Ганижаб затараторил, бросаясь словами, как горстями звонких монет: — Я на первых порах одену его как следует. Он мне за сына будет. Лучшего коня для него не пожалею. Почувствует мою отцовскую заботу — за пятерых станет работать. Я знаю, ей-богу… Он меня, своего благодетеля, потом всю жизнь благодарить будет, от любой напасти грудью своей защитит…
Данзанов только усмехнулся, а Ганижаб опять заспешил:
— Мархансай жаден. Я ему за Балдана пять коров пошлю.
— Он и десять не возьмет.
— Почему?
— Станет думать: «Раз дают десять коров, значит Балдан стоит двадцать».
— Как же быть?
— Уж и не знаю.
На помощь пришла Янжима. Она насмешливо проговорила:
— Что тут голову ломать да гадать? Вы забыли про дуру Жалму…
— Да, да… Жалма. Как мы раньше не вспомнили? Она под стать Балдану, такая же бессловесная скотина. А как поет! Чисто соловей, — сказал Данзанов.
— Ну уж, придумали! — возмутилась Янжима. — Соловей с нашего болота.
Ганижаб наморщил лоб, закивал:
— Вспомнил. Ее мать у нас батрачила. И умерла у нас.
— Вот и хорошо! — оживился Данзанов. — Скажете, что мать Жалмы вам дальняя родственница. Перед смертью, мол, наказывала позаботиться о дочери. Ну, а Мархансаю пообещайте пять-шесть коров за то, что приютил сироту. Жалма — не Балдан, Мархансай отдаст.
— Да зачем мне Жалма? — непонимающе спросил Ганижаб. — Я же о Балдане речь веду.
— Ха! Чего ж тут непонятного? — рассмеялся Тыкши Данзанов. — Жалма и Балдан любят друг друга. Получите Жалму, Балдан сам к вам прибежит.
Ганижаб радостно хлопнул Данзанова по колену.
— Янжима скажет Мархансаевым, что Жалма и Балдан надумали жениться и новых хозяев искать, — продолжал Тыкши. — Мархансай с ума сойдет. А тут вы приедете… Они сдуру-то да с перепугу куда хочешь Жалму отдадут, лишь бы разлучить с Балданом.
— Верно!
— Вы за словом в чужую пазуху не полезете. Прикиньтесь, что вы, мол, старый, беспомощный, на сына надежда маленькая. Жалма будто вам дочь заменит. Скажите, что ее мать жила у вас как родная.
Данзанов подмигнул Ганижабу и прищелкнул языком.
— Увезете Жалму, а через несколько дней и Балдан явится. Он Мархансаевых терпеть не может, только из-за Жалмы и живет у них.
— А если Балдан женится на Жалме и оба уйдут от меня?
— Пригрозите, что последний халат у него с плеч сдерете, Голым прогоните, если он захочет жениться. А Жалму… Жалму себе возьмите. Днем она вам будет всякую работу делать, а ночью… ночью чай подносить.
Оба засмеялись, захихикала и Янжима.
Посредине тээльника Ухинхэна пылает костер, похожий на невиданный яркий цветок. Над этим цветком, как золотые пчелы, порхают тысячи искр. Вдали от костра — чья-то телега с одним колесом. От костра к телеге и обратно, ряд за рядом, дружно движутся парни и девушки. В вечернем воздухе звучат песни, сменяются мотивы — то быстрые и веселые, то протяжные и грустные. Давно не слышал Доржи этих песен.
Впереди всех длинный ряд — не меньше десяти девушек. В середине — Янжима Тыкшиева. Так и звенят ее украшения: цепочки, ожерелья, брошки. На ней шелковый халат с крупными яркими узорами. Лицо Янжима прячет в белый платок, будто она застенчивая, стыдливая… За этим рядом идут, тесно прижавшись друг к другу, пастухи и пастушки, дочери бедняков, молодые женщины Ичетуя.
Вот в первом ряду пошептались и запели зло, насмешливо!
Еще звучит тягучий мотив этой песни, а парни и девушки уже отвечают на нее, будто наступают на полы нарядных халатов:
Доржи стоит с братьями, слушает. Он различает звонкие голоса Дулсан и Жалмы. В переднем ряду еще шепчутся, еще не успели заквасить новую злую песню, а пастухи и пастушки уже дружно поют::
Дочери богачей начинают новую песню, но их перебивает громкая песня бедняков:
Доржи рад, что пастушки не дают себя в обиду.
Пришел пьяный Гомбо Цоктоев. Халат на «нем длинный и широкий, оторочен красным бархатом — точь-в-точь как у тайши. Кушак потерял где-то… На спине пятно: упал, видно, в коровий навоз. На каждом шагу спотыкается, наступает-на полы.
— Эй, здесь ли Бадмаев?
— Какой? Бадмаевых много.
— Тот, что у живого барана курдюк отрезал.
— Я, — отозвался незнакомый парень. — Только вранье это.
Доржи вспомнил: в улусе говорили, что по наговору Гомбо Цоктоева был избит какой-то Бадмаев… Курдюк у барана оторвал волк, а Цоктоев сказал на парня.
— Бобровский зовет, — заплетающимся языком продолжает Цоктоев. — Подать, подать отдавай!
— А тебе какое дело?
— Узнаешь, когда со спины семь ремней спустят.
— Не грозись. Не боюсь я твоего Бобровского.
— Испугаешься. Еще заплачешь.
— А тебе-то что?
— Как — что? — закричал Гомбо. — Да знаешь ли ты, кто я? С кем говоришь, знаешь?
— Знаем, знаем. Все тебя знаем, — раздается несколько голосов. — Со спины узнавать научились.
У костра смех. Старики греют над огнем руки, курят трубки.
— Нет, вы меня не знаете! Я Цоктоев. Не смейтесь… Кто украл мой кушак? Все вы воры. Все пойдете по дороге Еши Жамсуева. Я честный, у меня ключи от казенного амбара. Придете ко мне с пустыми мешками, а я вам — вот! — Цоктоев показал кукиш. — Узнаете, когда мы с Бобровским спины вам почешем…
— Цоктоев, иди спать, пока тебя не проводили, — советует Мунко-бабай.
— Я вас всех знаю, — не унимается Цоктоев. — Вот ты мне ответь: босиком или в краденых унтах явился?.. Голь. У вас в доме чашки мутной воды не найдешь, курильщики без кисета…
— Ты пьян, Гомбо. К твоей дурости прибавилась дурость араки. Иди спать, а то у многих кулаки чешутся, — говорит Холхой.
— Что? Что ты сказал? Я не забыл, как ты перед Жамсуевым накануне скачек угодничал. Думал, однако, что он тебе лишнюю чашку муки даст из казенного амбара.
Чувствуется, что вот-вот вспыхнет драка. Подходит Янжима с подругами, уговаривает пьяного.
— Не нужно пить, если не умеешь держать язык за зубами, — говорит Мунко-бабай.
— Не учите. Мы с тайшой в Кяхте недавно самые лучшие вина пили. У тайши вот такая куча денег, больше, чем листьев в лесу.
— Ой, какой ты счастливый, Цоктоев! — смеется кто-то. — Каждый день у тайши палочку от шашлыка облизываешь. И язык не наколол!
— Уведи, Янжима, жениха, пока он не споткнулся да в яму не упал.
— И в костер может свалиться.
— Еще и спасать придется. Лишняя забота.
Янжима застыдилась и уходит с подругами, позванивая украшениями. Цоктоева тесно окружают парни. Тот не чувствует опасности, продолжает хвастать.
— Мы с тайшой не пьем коньяк, от него клопами воняет. Мы пьем шампанское. Откроешь бутылку, во как брызжет!
— Как ты — слюной?
— Что?
— Я говорю, ты счастливый, Гомбо. Мы, кроме кислого айрака, ничего не видим.
— Да, да… Это верно. Кроме арен Мархансая да помоев Тыкши, ничего не знаете. А мы дорогое парижское вино пили. Вот в таких бутылочках.
— В каких бутылочках, говоришь?
— Вот в таких.
— А из таких бутылочек не пробовал? — кто-то с размаху ударяет Цоктоева по зубам.
Цоктоев сразу трезвеет. Выплевывает раскрошенные зубы, плачет.
— Кто это его?
— Разве в темноте найдешь… убежал, однако.
— Балдан, Балдан близко был… Его кулак, — плаксиво причитает Цоктоев.
Балдан встает, отряхивает халат.
— Если бы я тебя ударил, — говорит он Гомбо, — никто не сумел бы разыскать, где у тебя лицо. Видно, мальчуган какой-то пошутил со скуки. Взялся, а ударить как следует не сумел.
Парни хохочут, расходятся по двое, поодиночке. Уходит и. Доржи с братьями. Пришли домой, поели хоймока[46] и легли.
Мать постлала сыновьям чистый войлок, положила жесткие подушки. Жарко под теплым овчинным одеялом. Доржи лежит тихо, чтобы не мешать братьям. Он повторяет про себя: «Конями подкованными зачем хвалиться, лучше в справедливости состязаться». А Цоктоеву здорово сегодня попало. Почему это так? Раньше не то что по лицу ударить, в спину боялись сказать слово обидное. А теперь… Видно, тайша от Цоктоева отвернулся, не заступается больше.
Доржи не хочется спать. Он шепотом повторяет песню, которую пела Жалма: «Янжима Тыкшиева гордится, как бы не наступила на свою косу». И эту песню, наверно, всюду теперь будут петь. Только в других улусах вместо «Янжима» другое имя поставят. И никому не докажешь, что эта песня родилась в Ичетуе, у жаркого костра в тээльнике дяди Ухинхэна.
Хорошо поет Жалма. Петь песни — как на быстрых конях скакать! Жалма всех обгоняет, никто за ней угнаться не может…
Доржи зевает, поворачивается с боку на бок и долго еще не спит, думает о песнях, о Жалме, о Балдане и о своей дальней дороге.
Все в улусе знают про любовь Жалмы и Балдана.
Они не встречаются по вечерам в условленном месте, не дают друг другу жарких клятв, не утешают себя несбыточными мечтами о будущем, как другие. И им хочется, конечно, пожить по-человечески — но куда пойдешь, где сыщется место теплее, хозяин ласковее? Воя сколько рассказов ходит в народе о богачах. Все они, видно, одинаковые…
Улусники оберегают любовь Жалмы и Балдана, желают им счастливой жизни. Стоит опечалиться чем-нибудь Жалме, женщины спешат успокоить ее: «Не горюй, дорогая, и для вас с Балданом настанут светлые дни. Все у вас будет — и свой очаг, и достаток. Ни у кого ведь нет таких сильных и умелых рук, как у Балдана».
Жалма не мечтает о богатстве. Лишь бы рядом был Балдан — неуклюжий, заботливый, молчаливый.
Жалма никому не завидует. «Своя юрта», «своя корова», «свой теленок» — эти слова звучат для нее странно, непривычно. Жалма слышит, как соседи говорят друг другу: «наша Пеструха», «наш конь». Понятные, простые слова. Но ни разу в жизни Жалма не смогла сказать их. Эти слова звучат как песня из чужого, неведомого мира.
Каждую осень Жалма вяжет для Балдана варежки и носки из овечьей шерсти. Она собирает шерсть по клочку у добрых соседок, снимает ее летучие хлопья с колючих кустов и в зарослях высокой крапивы. Кусты и колючки — лучшие ее друзья и помощники. Это они зелеными гребешками прочесывают овец, собирают для Жалмы шерсть. Чем больше думает Жалма о Балдане, тем теплее и мягче получаются варежки и носки. Балдан не благодарит Жалму громкими словами. Но она заглядывает ему в глаза и видит в них любовь и нежность. Это для Жалмы дороже весеннего солнца. Только ей, только Жалме дарит Балдан такую щедрую ласку…
А когда делает Жалма тяжелую, непосильную работу, Балдан подойдет и тихо скажет:
— Не поднимай тяжелые кадушки. Надорвешься. — И поднимет сам.
Угрюмо поглядит на уставшую Жалму и проворчит;
— Отдохни. Я за тебя сделаю.
Так жили они до последних дней…
К Мархансаевым зашла Янжима. Она о чем-то долго говорила с хозяйкой. После этого Сумбат и Мархансай стали для Жалмы страшнее волков, злее бешеных собак. «Может, Янжима меня оговорила? — терялась в догадках Жалма. — Она ведь меня за песни не любит».
Как-то Сумбат сказала Жалме:
— Сходи к Янжиме, принеси зеленых ниток для вышивки.
Жалма побежала. Тыкши Данзанова не было дома. Янжима сидела во дворе на большом ярком ковре, напевала песню, чистила золой свои браслеты и броши.
— Сумбат-абагай прислала меня за зелеными нитками, — проговорила Жалма.
— В летнике стоит красный сундучок. Принеси-ка его сюда! — не поднимая головы, распорядилась Янжима.
Жалма принесла.
Янжима открыла сундучок, и Жалма замерла, как когда-то замер от восхищения Эрдэмтэ перед коробкой с красками, которую открыл перед ним Жарбай. Жалма не думала, что может быть такое богатство. В сундучке лежали нитки всех цветов… Там хранились оттенки всех закатов и восходов, которые она видела в своей жизни, цвета всех радуг, которыми она когда-нибудь любовалась. Как Эрдэмтэ мечтал когда-то рисовать, так Жалме захотелось вышивать чудесные узоры этими красивыми нитками. Но вышивать она не умеет. Нет, не потому, что она бестолковая, неспособная. Просто ее учили другому. Ее учили, как сберечь ягненка, рожденного в степи, учили выдаивать молоко до последней капли, обрабатывать шкуры чужих овец и коров…
Жалма принесла нитки хозяйке, а вечером к Мархансаевым прибежала Янжима. Задыхаясь, брызжа слюной, кричала, что Жалма украла у нее коралловые четки с позолоченными украшениями..
Если бы Янжима сказала, что у них исчез кусок хлеба, люди бы не удивились: батраки у Мархансая живут впроголодь. Но зачем Жалме коралловые четки? У нее унтов нет, через рваный халат тело видно… Не нужны ей дорогие украшения. Даже Сумбат пожала плечами:
— Я не замечала за нею такого… Хорошо ли ты искала, Янжима?
— Руки мне отрубите, если я взяла, — растерянно озираясь, прошептала Жалма.
Янжима слышать ничего не хотела.
— Отдай четки, воровка! Ты, ты украла! В юрту тебя пускать нельзя. Из улуса камнями выгнать надо, как чумную собаку. Да недолго осталось паршивой овце стадо портить: скоро Ганижаб увезет тебя, следа не останется, имя твое забудется…
Балдан сидел неподалеку на бревне, обхватив голову большими руками. Слова Янжимы больно ранили его сердце. Когда же Жалма заплакала, Балдан вскочил с места и вдруг страшно, угрожающе закричал. Янжима замолкла и поспешно ушла. Разговоры затихли. Жалма перестала плакать.
Никто не поверил грязной лжи Янжимы. Всем обидно за Жалму. Только Мархансай потребовал:
— Отдай, дура, если взяла. А то плохо будет.
Четки Янжимы нашлись у Гомбо Цоктоева. Несколько дней назад он выиграл их в карты у Тыкши. Четки для Цоктоева — не богатство, а так, баловство. «Пусть Янжима побегает за мной, попросит, чтобы я отдал ей», — ухмылялся про себя Цоктоев.
Узнав, что четки нашлись, улусники еще больше возмутились гнусностью Янжимы. Многие с облегчением вздохнули: с Жалмы снималось тяжкое подозрение.
Но не забыть Жалме незаслуженную обиду. Она ноет в сердце, точно кровоточащая рана.
Скоро к Мархансаевым приехал Ганижаб. С ним — здоровый парень с такими же, как у Гомбо Цоктоева, вороватыми глазами. Жалма сразу насторожилась: ей вспомнилась угроза Янжимы.
Жалма несла в юрту деревянную тарелку с мясом, но услышала скрипучий голос Ганижаба и остановилась.
— Когда ее мать умирала, просила, чтобы я позаботился о Жалме, — говорил Ганижаб.
Его перебила Сумбат:
— Не знаю, не знаю, как мы без нее будем… Сна незаменимая работница. Все делает: скот пасет, сено косит, пищу готовит, одежду шьет. Видели бы, какими узорами унты вышивает — лучшие мастерицы завидуют.
У Жалмы сердце, кажется, остановилось, глаза перестали видеть. «Зачем она меня так расхваливает? — думала девушка. — Наверно, чтобы дороже продать».
— Она у нас добрая, послушная, — снова заговорила Сумбат, но Мархансай грубо оборвал жену:
— Знай свое бабье место, не лезь в мужские разговоры… Не слушайте ее, Ганижаб-бабай. — И, помолчав, укоризненно загнусавил — Что же вы не вспомнили о девчонке, когда она была маленькой? А теперь, когда выросла, стала красавицей, работницей, просите, чтобы мы отдали ее вам… А? Недавно приезжал ашабагадский зайсан, сватал ее за своего сына. Да тот не понравился Жалме. Ну, мы неволить ее не стали… Так и уехал зайсан ни с чем… А вы говорите — отдайте Жалму…
Жалма слушала беззастенчивое вранье Мархансая, и по лицу бежали горячие слезы.
Мархансай неторопливо продолжал:
— Нет, нет… И не думайте, Ганижаб-бабай. Не уступлю. Что я, пять дойных коров не видал, что ли? Восемь дайте.
Ганижаб сказал:
— Пусть будет восемь. Я не жадный.
Мархансай помолчал, а потом со вздохом проговорил:
— Коров за Жалму пригоните осенью, чтобы в улусе не стали болтать, будто мы ее продали.
Сумбат не выдержала, опять заговорила:
— Такая у нас судьба… Все сирые, все голодные и холодные у нас находят приют. Гунгар, Дулсан, Жалма эта… Шантагархан сколько лет околачивался, глухой черт. Как мы о нем заботились!.. Одели, денег дали. Благодарил бедняга, уходить не хотел…
— Ладно, не болтай лишнего, — заворчал на жену Мархансай.
— У вас вроде сиротского приюта, какие в городах бывают, — заскрипел Ганижаб. — И у меня то же самое… Трудно с ними приходится, понимаю. Я готов помочь вам, Мархансай-ахайхан… Могу освободить от лишних ртов, приютить у себя и Балдана… У вас одним сиротой меньше будет.
— Нет уж, спасибо. Мы Жалму отдаем не из-за восьми коров, а чтобы с Балданом ее разлучить. Вскружила ему глупую голову. Того и гляди лишимся из-за нее такого работника.
— Ха-ха! Значит, я спасаю вам Балдана! Не я вам, а вы мне должны за это восемь коров! Ну да ладно. Увезу Жалму, отдам ее замуж, некому будет вашему Балдану голову кружить.
— Зачем отдавать замуж? Девка хоть куда. Сами можете приголубить, года у вас хоть и большие, а кровь-то не остыла, наверно? — пропела Сумбат. — Только…
Жалма уронила тарелку с мясом. Подбежавшая собачонка схватила кусок. Жалма кое-как собрала остатки, не отряхнув от песка. «Вы хуже собак. И после них сожрете».
— Что — только? — спросил Мархансай.
— А ежели она не захочет уходить от нас?
— Не захочет?.. Кто ее спрашивать станет? Прикажу — побежит, — рассердился Мархансай.
— Так уж и побежит, — усомнился Ганижаб и подзадорил Мархансая:, — Люди говорят, что вы не умеете держать в руках своих голодранцев… Они у вас своевольничают: что хотят, то и делают.
— Ну уж, у меня не посвоевольничаешь! — голос Мархансая впервые зазвучал искренне. — Арсы не дам — с голоду подохнут. Среди зимы овчины с плеч сдеру — как клопы, замерзнут. Я их вот так, вот так…
— Ха-ха-ха! — задребезжал Ганижаб.
Жалма догадалась, что хозяин и Ганижаб пьяны.
Снова заговорила Сумбат.
— Жалма у нас молодец. А как она меня любит! Матерью называет… Мы ей шелковый халат собираемся шить.
Жалма услышала эти слова и грустно усмехнулась: «Счастливая я, однако. Красавица, мастерица вышивать унты, зайсаны сватать меня приезжают, Сумбат мне родную мать заменяет. Завидуйте, девушки всех степей и долин!»
— Ну, по рукам! Когда заберете девку?
— Да хоть сейчас.
— Только без шума.
— Ничего. Здесь бы обошлось тихо. А у меня может и пошуметь, не велика беда.
— Иди, Сумбат, посмотри, где она? Что-то долго мясо не несет…
Жалма вошла в юрту. Ноги ее не слушались, из рук ушла вся сила. В глазах мутилось. Она снова уронила тарелку.
Мархансай замахнулся по привычке, но удержался, погладил свою голову.
— Ты что же, милая, не видишь, что ли?
Жалма вздрогнула. За все годы, которые она прожила у Мархансая, хозяин впервые назвал ее «милой». Но и сейчас это слово прозвучало у него как брань, будто он сказал вслух то, что думал: «Ослепла ты, что ли, дура паршивая? Мы тебя продали за восемь коров, но ты и того, видно, не стоишь».
Торопливо заговорила Сумбат:
— Дорогая Жалма, мы хотели кое о чем поговорить с тобой…
— Я знаю… Мне Янжима говорила…
— У них как родная будешь жить, — сказал Мархансай и попытался улыбнуться.
— Ты рада, что поедешь со мной? — вкрадчиво спросил Ганижаб.
— А к чему печалиться? — Жалма не услышала своего голоса. Что она сказала? Кажется, сказала: «Лучше на костре сгорю, чем расстанусь с другом». Или что другое сказала? Хорошо хоть, что не налетели с палками, не стали бить.
— И Твоя мать жила у нас, — продолжал Ганижаб. — И она была как родная.
— Я знаю. Я все знаю. И как она жила у вас, и ее предсмертные слова знаю…
Ганижаб кашлянул, чтобы перебить Жалму. А то скажет еще: «Мать прокляла вас перед смертью… Весь ваш род прокляла за жестокость и муки, которые всю жизнь терпела от вас». Но Жалма молчала, и Ганижаб успокоился.
Только те, кто был в юрте, знают, что произошло там вслед за этим… Золоченые улыбающиеся боги в дорогих божницах видели и слышали… Почему же вы молчали, добрые боги и богини? Как же допустили вы, бурхан-багша, и вы, Саган Дара-эхэ и Ногон Дара-эхэ, матери всех богов, чтобы так мучили несчастную Жалму? Вы же слышали, добрые боги и богини, как она звала вас на помощь, слышали и улыбались величаво и равнодушно.
Молчат золоченые боги, у них так же поджаты губы, как у злобной Сумбат. Нет им дела до бедной девушки-сироты. Они одобряют, видно, все, что делают Мархансай и Сумбат: «Так ее, так… рвите ей уши — все равно не носить дорогие серьги… Ломайте пальцы — не надевать ей золотые перстни… Только глаза не повредите, чтобы могла караулить стада хозяина, да ноги ей сохраните, чтобы не отставала в степи от скота».
Вот натянули на нее старый халат Сумбат; на ноги надели унты Мархансая. На брови надвинули черную шапку, на шею навесили старые четки, медные побрякушки. Жалма кричала, звала на помощь отца и мать, соседей, Гунгара, Дулсан и Балдана. Но те не слышали и не пришли. Кости родителей тлеют в сырой земле, соседи заняты своими делами, нет Гунгара, Дулсан и Балдана. Зашел лишь Шагдыр, хозяйский сын, и послушно стал помогать отцу и матери. У старого халата Сумбат не оказалось пуговиц. Шагдыр разыскал иголку… Сумбат торопливо, крупными стежками пришивала одну полу халата к другой, будто Жалме никогда не придется снимать его. Будто покойницу обряжают…
А Балдан?
Балдан далеко, он второй день рубит в лесу жерди… Да и смог ли бы он защитить Жалму, спасти ее от продажи, от цепких рук хозяина? Разве может он оградить ее от оскорблений, сказать всему свету: «Она моя жена»?
— Дура, дура! — визгливо кричала Сумбат, пригибала ее к сундуку и била, била. — Тебе хорошего хотят, дура!
Жалма обессилела. Она потеряла, кажется, ясность ума…
Все кончено, ей не снять больше зашитого на ней савана, не найти заступников.
Заарканьте дикого, необъезженного коня. Он будет метаться, скакать из стороны в сторону, подниматься на дыбы, пытаться сбросить всадника. А посмотрите на него к концу дня: пыл угас, силы иссякли, бока потемнели от пота, и весь он — тихий, смирный…
С виду так было и с Жалмой… На спокойном ее лице не видно страшных потрясений. Только щеки пылают, — будто весь вечер просидела она у жаркого огня.
— Ну, ты, кажется, согласна? — осторожно спросил Ганижаб.
— Что ж сделаешь, раз такова воля покойной матери.
— Давно бы так, — с облегчением вздохнул Мархансай.
Жалма тихим шагом направилась к выходу.
— Куда ж ты? — забеспокоилась Сумбат.
— Умоюсь… Нельзя же приехать в чужое место, неряхой.
Жалма вышла, села на помятую траву.
Над юртами — ближними и дальними — поднимаются дымки, бесцветные, почти невидимые. Далеко-далеко синеют горы, до которых Жалма так ни разу и не дошла. Идут по степи чьи-то отары, по пыльной дороге скачет какой-то парнишка. Да это же ученый мальчик Доржи, младший сын Банзара. Счастливый он. Хорошо иметь такую мать, как Цоли.
Жалма снова задумалась о Балдане. «Люди удивляются его силе, а он — слабый, беспомощный. Его самого нужно оберегать и защищать… Как нам избавиться от страданий, найти счастье?»
Счастье! Прекрасное это слово. Живет оно в песнях и сказках, вселяет в людей надежды. Вот и Жалма чуть в него не поверила. Счастье ходит, видно, вокруг и не замечает Жалмы. А может, и нет на свете настоящего счастья? Так, слово одно…
Жалма сорвала чахлый цветок. Он не успел расцвести, а уже увядает, раздавленный чьими-то ногами. Неужели это последний цветок, который она трогает? Жалма подносит его к губам, нюхает. Цветок не пахнет — трава и трава. Спрятать бы сейчас лицо в охапке пышных цветов — ярких, тяжелых. Вдохнуть бы их опьяняющий запах, умыться бы их серебристой холодной росой. Но, видно, отцвели, навсегда отцвели для Жалмы и подснежники голубоглазые, и багульники, и черемуха.
Мимо пролетели ласточки. Последние, которых она видит… Ласточки тоже несчастны, наверно… В гнезде их встречает писк вечно голодных птенцов.
Неподалеку хрипло залаяла собака. Неужели Жалма уйдет из жизни, провожаемая лаем собаки, как ночной вор? Как хорошо было бы, если бы сейчас звонко пели жаворонки!.. Но они молчат. Или их истребили острокрылые ястребы да зоркие коршуны?
Жалма окинула Ичетуй грустным прощальным взглядом. Вся долина залита щедрыми лучами солнца. Девушка ощущает незримые струи воздуха, они ласкают ее разгоряченное лицо. Плывут по небу спокойные, медлительные облака, сизый прозрачный дымок окутывает дальние горы…
Жалма встала. Перешагнула высокий порог летника. За ней со стоном и плачем закрылась скрипучая дверь.
На полу в углу стояла посудина, выдолбленная из горбатого сучковатого пня. В посудине жидкие помои, а в них — от одного края до другого — плавала мышь, маленькая, черная. Плавала и никак не могла выкарабкаться. Вот-вот утонет. Скользкие стенки для мышонка то же, что высокие скалы для Жалмы… Девушка толкнула ногой посудину, опрокинула. Мокрый мышонок мигом исчез в норке, под деревянным настилом пола. «Мы из этой посудины, арсу едим, — подумала Жалма, — а мышонок чуть могилу в ней не нашел».
Девушка зачерпнула молочной сыворотки, припала к ковшу губами. Какая она горькая! Ей подумалось, что это не сыворотка, а накопленные по капле слезы всех обездоленных и несчастных.
Жалма стала отвязывать от узды повод — грубый, жесткий, со многими узлами. Повод долго не отвязывался, словно сопротивлялся, хотел, чтобы она и дальше тащила непосильную ношу.
Девушка будто впервые увидела свои руки. Они покрыты кровавыми ссадинами, мозолями, пальцы изуродованы. Ладонь пересекает рубец от серпа… Им тоже пора отдохнуть — натруженным, обмороженным и обожженным, искусанным не только всеми комарами Намактуя, но и острыми зубами озорника Шагдыра…
Руки Жалмы пряли чужую шерсть, мяли чужие шкуры и кожи, крутили тяжелые жернова, стригли чужих овец, доили чужих коров. Пора им отдохнуть.
Пальцы не гнутся. Жалма подумала с глубокой тоской:
«Дни и ночи работала, не жалела ни сил, ни крови своей… И вот даже собственного ремня нет, чтобы повеситься.
Мать в юрте Ганижаба всю жизнь терпела горе и унижение. А я у Мархансая… Пусть люди узнают, сердцем-почувствуют, что здесь с беззащитными делают. Может, Мархансай и Сумбат поймут, что нельзя быть такими жестокими. Может быть, после меня они станут хоть немного добрее к Гунгару, Дулсан и Балдану…»
Она улыбнулась криво и горько. Но думы эти точно придали ей силы, прогнали колебания. Торопливо закапали слезы. Одна, другая, третья… А четвертая застряла в черных густых ресницах. «Даже слез нет в смертный час, — подумала Жалма. — Видать, все они раньше выплаканы».
Жалмы уже не было на свете, а Мархансай все раздумывал — не мало ли взял за нее, тревожился, чтобы Ганижаб не прислал хилых коров. Сумбат все еще расхваливала ее добродетели, которых сама никогда раньше не замечала.
Дулсан, лучшая подруга Жалмы, идя за отарою Мархансая, думала: «Пойдем с Жалмою по чернику, она как раз поспела. Не станем собирать для Сумбат, будем есть сами. Почерневшие от ягод зубы вымоем холодной ключевой водой. Скажем, что нет в лесу ягоды, не нашли, мол. И покажем пустые туески. Глупые были, что раньше так не делали».
Жалмы уже не было на свете, а Балдан, усталый и хмурый, думал, как облегчить ее участь, как устроить ее и свою жизнь. Он упрекал себя, что не пришиб тогда паршивую Янжиму. «Никому не позволю обижать ее — ни Мархансаю, ни Сумбат, ни Шагдыру, никому! Попробует кто-нибудь задеть ее — ноги тому оторву, как у мухи. Попробует ударить — руки до локтя обломаю. Слово обидное скажут ей — языки вырву вместе с печенками».
Доржи стреножил лошадь и направился домой. Он шел, напевая песню. Увидел, что люди отовсюду спешат к Мархансаевым, побежал туда же.
У летника Мархансая молчаливый круг людей. У многих на глазах были слезы, на лицах растерянность. Здесь же Мархансай, Сумбат, Ганижаб. В середине круга лежала бездыханная Жалма. Возле нее — узкий ременный повод. Женщины тормошили ее: «Жалма, Жалма!» Будто Старались разбудить спящую. Мархансай смотрел на покойницу так, точно вот-вот заругается, пнет в грудь ногою. В глазах у Сумбат была молчаливая ненависть. Так и кинулась бы на Жалму, вцепилась бы ей в косы, царапала бы лицо ногтями…
Расталкивая людей, подошел Балдан. Увидел распростертую на траве Жалму, схватился за голову и закричал. Он закричал, как кричит глухонемой, который в одном вопле хочет выразить все свои чувства, всю горечь изболевшегося сердца. Большие, тяжелые руки его бессильно повисли вдоль тела.
Балдан обвел вокруг себя глазами, увидел Мархансая… И тут Балдану показалось, что вокруг стоят десятки Мархансаев, больших и миленьких, злых ненавистников его и Жалмы. Один Мархансай вздрогнул и отступил. Балдан шагнул к нему. Между ними встала Сумбат, но Балдан оттолкнул ее и схватил Мархансая за жирную, свисающую грудь. Тот рванулся. В руке Балдана остались клочья его халата. Он разжал ладонь и непонимающим взглядом посмотрел на эти лоскутья, отшвырнул их, снова схватил Мархансая. Руки у него цепкие, как волчьи капканы…
Мархансай захрипел, выкатил глаза, будто Балдан схватил его за горло.
Балдан замахнулся, чтобы размозжить ненавистное лицо, но Мархансай упал. Балдан замахнулся вновь. И тут на руках у него повисли Ганижаб, Данзанов, Цоктоев и еще кто-то. Балдан нетерпеливо повел плечами, и они отлетели прочь. Мархансай вскочил. Между ним и Балданом встала Балма.
— Балдан, не тронь Мархансай-бабая. В беду попадешь… Потом тебе никто не поможет. От смерти, говорят, и тысяча Будд не вызволит. Ни на земле, ни на небе места не найдешь. А у бедной Жалмы, видно, судьба такая…
Балдан всегда слушался старую Балму. На этот раз он отстранил старуху.
Тогда к Балдану подошла Димит. Она прошептала ему сухими, запекшимися губами:
— Неужели ты совершишь черный грех в день, когда Жалма отдала богам душу?
Балдан выпустил Мархансая, сжался, неловко склонился над Жалмой и стал гладить ее черные волосы, осторожно трогать щеки и лоб, будто боялся сделать ей больно. Он шептал ей, вернее бормотал, что-то тихое, глухое. Все понимали, что в этом боль и нежность Балдана, такая теплая ласка, какую не мог бы выразить даже улигершин Борхонок. В этот миг Балдан был страшнее, чем в самом буйном гневе.
Люди впервые видели, как плачет Балдан. Скупые, редкие слезы падали на свежие еще щеки Жалмы. Упади они на камень — прожгли бы его насквозь.
Жалма, казалось, слушала прерывистый шепот припавшего к ней Балдана, простые и задушевные слова, которые он носил в своем сердце и не сумел сказать ей при жизни.
Балдан бережно поднял Жалму, но легкое ее тело стало вдруг для него непосильной ношей. Проще было передвинуть Каменное седло, чем нести ее неживую… Балдан согнулся, стал на колени, увидел измятую, скудную траву, крошки навоза, клочья собачьей шерсти. Кто-то разостлал перед ним белый войлок — один из войлоков Мархансая, что сушились неподалеку. Балдан отшвырнул его ногой. Он бережно опустил тело Жалмы, снял свою узкую ременную опояску, стащил с плеч халат. Люди поняли его и разостлали халат, старый, много раз залатанный, пропахший потом. Балдан положил на него Жалму.
— Как мы допустили это? — нарушил общее безмолвие Холхой. Он спросил тихо и виновато.
Мархансай, Сумбат и Ганижаб молчали.
— Видно, нельзя было ей иначе… Некуда было идти, даже ступить некуда… — так же тихо произнес Холхой.
Он с ненавистью взглянул на Мархансая, и голос его стал тверже:
— Как же так? Мне нельзя шлепнуть за шалость непутевого сына Мархансая. Ты, Мархансай, всегда найдешь закон и защиту. А сам мучаешь нас годами… Ты выжал из нас соки, согнул нас. Ее вот, — Холхой показал на Жалму, — ее загнал в могилу… Нет нам от тебя защиты, нет на тебя управы. Как же это так, соседи?
Холхою ответил Бужагар — самый тихий и робкий человек в улусе:
— Видать, так было и так будет.
Опять все притихли… Осторожно заговорил Ганижаб:
— Какое несчастье… Она была нашей родственницей. Ее мать много лет жила у нас, была своя.
— Ты бы помалкивал или молитвы читал… Мы видим и знаем, кто кому какой родственник…
…Тело Жалмы зарыли после полудня. На похоронах не были ни шаман, ни лама. Старики прочитали молитвы. Положили Жалму рядом с Аюухан…
Жалма!
Вечно будет над тобою небо родной Джиды, расшитое узорами звезд. Вечной постелью стала тебе зеленая трава степи. Песни жаворонков, которые ты так любила, будут баюкать тебя, Жалма.
Ты не допела свою песню, девушка. Вот и жалеют, печалятся все, кто знал тебя. Оплакивают тебя или кусают губы с молчаливой болью, с ненавистью к тем, кто погубил тебя.
Всю ночь Мархансай тревожился: вставал, проверял запоры. Еще с вечера он прибрал вокруг летника колья и жерди, припрятал топоры и лопаты: «Мало ли что может взбрести Балдану в дурную голову».
Мархансай слышал, что Балдан сразу после похорон Жалмы собрался в дорогу, но вернулся. Кто-то из соседей растолковал ему, наверно, что незачем уходить как бродяге. В стадах Мархансая есть, мол, и твоя корова, Балдан. В его табунах и твой скакун ходит. Все это трижды тобой заработано.
И Балдан вернулся. Он взял лучшую узду Мархансая, поймал лучшую кобылу хозяина. На глазах у всех привел ее во двор, оседлал лучшим седлом.
Подошли соседи, спросили, куда собрался. Балдан не ответил, даже кивком головы не показал, куда думает держать путь. Вот ведь какой… Не все же в улусе виноваты в его горе. Видать, оно оказалось тяжелее Каменного седла, раз так согнуло ему плечи, отняло и те скудные слова, которые слышали от него раньше улусники.
Мархансай впервые в своей жизни смотрел на вольности батрака и молчал. Он мысленно проклинал Балдана, Жалму, весь улус, но молчал. Он понимал, что могло кончиться и хуже. Одно неосторожное слово могло стоить ему жизни.
Балдан привязал коня, поставил в мешок полный туесок масла, туда же сунул пудовку муки. Положил мешок поперек седла, приторочил. Когда уселся на коня, подошла с Холхоем старая Балма, подала Балдану теплые носки.
— На, носи… Вижу, уезжаешь. Душа твоя горем спалена… Уезжай, в огне прохладу не найти, мы понимаем. Ты хороший, тихий человек. Одна беда — бедность. Не ты один, все мы бедные… Говорят, если не можешь принести в дацан много масла на светильники, бог не покарает..? — Балма вздохнула и сказала громче, чтобы услышал Мархансай, стоявший поодаль:
— Доброе имя, говорят, худой человек искать будет, не найдет. Дурную славу со своего имени скоблить будет, не ототрет.
— Навещай нас, Балдан, — дрогнувшим голосом проговорил Холхой. — Ты плохого не сделал.
Балдан тронул коня.
Молва о горькой судьбе Жалмы, о страданиях Балдана катилась по широкой степи… Дошла она до старого Борхонока, и он сложил печальный улигер о двух любящих сердцах и их страшной судьбе.
У изгороди, которой обнесены летники и юрты Мархансая, стоит старый сарай. Около него пристроены кадушки с арсой. Земля вокруг мокрая, пропитана кислой сывороткой, под ногами кйшат черви.
В сарае спят батраки Мархансая: на низких чурках положены доски, на них брошены старые войлоки, и стертые шкуры, тряпье. Здесь, под овчинными одеялами, спали, обнявшись, подружки — Жалма и Дулсан. В другом конце спали Гунгар и Балдан. Теперь Жалмы и Балдана нет.
Дулсан холодно и страшно. Вспоминается Жалма — ясно, как живая: морщинки на лбу, румянец на щеках, когда разговор заходил о Балдане. Вспоминаются нехитрые тайны, которые она поверяла ей. Плакали, бывало, вместе, утешали друг друга. Во рту еще вкус ар-сы, которую они делили друг с другом.
«Жалма, бедная Жалма. Никогда я тебя не увижу… На звезды буду смотреть, вспомню, как мы с тобой по ночам искали отбившихся от стада коров Мархансая… На быструю Джиду буду смотреть, вспомню, как мы в степи томились, как потом хорошо было нам воду из реки пить… Рядом березки, ветки в воду опущены. Тоже, наверно, издалека к речке, напиться прибежали. На степь буду смотреть, тебя вспомню; нет в этой степи клочка земли, куда бы мы с тобой не ступали… На крапиву взгляну, вспомню, как Шагдыр тогда отхлестал тебя крапивой по голым ногам. Ты их до крови начесала, а хозяйскому сыну слова сказать не посмела… Запоет кто-нибудь, вспомню тебя, бедная подруга моя. И все твои песни поднимутся у меня в душе…»
Дулсан слышит настойчивый голос сердца: «Надо уйти отсюда. Надо уйти, пока Мархансай и тебя не загнал в могилу… Нигде не будет хуже, чем здесь, нигде не будет страшнее».
Дулсан решила уйти. Ведь ушел же Балдан…
Она встала, прошла по холодному земляному полу к постели Гунгара. Он тоже не спал: и его тревожили невеселые думы.
— Гунгар, уйдем… Никому не скажем и уйдем…, — горячо зашептала Дулсан.
— Куда же? — со страхом спросил Гунгар.
— Все равно куда… Мало ли улусов? Добрые люди пожалеют, накормят. Может, найдем хозяина лучше Мархансай-бабая.
Она присела рядом с Гунгаром. Оба задумались. Мысли у Гунгара боязливые: «Куда мы уйдем? Кто нас приютит? Не пришлось бы вернуться…» Дулсан все представляется проще: «Уйдем, непременно уйдем… В самый канун сенокоса. Скажем, что пошли косить, наберем с собой еды, а там косы в землю, и пускай Мархансай хоть лопнет от злости. Будут искать — не найдут… Будут до хрипоты кричать — не дозовутся».
Не спит в своей юрте и Доржи. Его детское сердце тяжело ранено гибелью Жалмы. Доржи помнит, как она и Дулсан пели в их юрте веселую и злую песню про Мархансай-бабая. Тогда он был совсем маленький и не представлял родного улуса без этих людей, без их разговоров, шуток, песен. Но все оказалось иначе… Прошло так мало времени, а уже нет Еши Жамсуева, Аюухан, Жалмы… Что его ожидает дальше? Кем станет он, Доржи? Кем станут его сверстники и друзья? Кто знает, может быть, через много лет они станут такими же прославленными улигершинами, как Борхонок, или такими умелыми кузнецами, как Степан Тимофеевич и Холхой… А может, будут пахать землю и пасти скот, как Сундай и Дагдай…
СТАРЫЙ ЗНАКОМЕЦ
К юрте Башаровых подъехала телега. С нее слезли парень лет пятнадцати и темнолицый седой старик.
— Пустите переночевать, — попросил старик, опираясь на палку. — Мы едем на молебствие в дацан.
Доржи подумал: «Хорошо бы и мне поехать. Интересно, наверное».
— Ночуйте, ночуйте… Разве можно отказать путнику в ночлеге? — приветливо сказала Цоли.
Доржи присмотрелся к мальчику и бросился к нему, обнял: это был Гытыл Бадаев.
Гытыл изменился — стал выше ростом, шире в плечах, красивее. На нем синий летний халат, отороченный красным бархатом, черные унты. Островерхая шапка с кистью надвинута до бровей.
— А я знал, что встретимся с тобой, Доржи. — Гытыл улыбнулся, блеснули белые зубы. — Ведь ты в Казань едешь?
Харагшан и Доржи распрягли коня. Бадма помог старику снять с телеги сундучок, постель и мешок. Разгоряченный конь лег на землю и долго валялся, радостно всхрапывая. Все вошли в юрту.
Доржи и Гытыл уселись на телегу.
— Знаешь, Доржи, я теперь совсем другой стал.
Доржи вспомнил школьные проделки Гытыла и улыбнулся.
— А ты не смейся, — обиделся Гытыл. — Я у брата в Петровском Заводе жил. Там ребят сам Николай Бестужев учит, и я у него учился. Он меня хвалил. «Смышленый, говорит, все можешь». Ну, я и старался. Он по-другому учит, не то, что в войсковой школе было. Так интересно. Слушаешь — и уходить не хочется… Теперь в Казань поеду дальше учиться. Будем теперь опять вместе.
— Бестужев был в вашей школе смотрителем, да? — с завистью спросил Доржи.
Гытыл рассмеялся:
— Какая школа! Ему начальство не разрешило. Он тогда придумал: «Я, говорит, со своим братом буду детей церковному пению обучать». Брат у него Михаил, вместе они на каторге. А мы, буряты, ходили к ним смотреть, как они телеги делают. Вот как обманули нойонов.
— Где он сейчас, твой учитель?
— Да все там же, в Петровском Заводе.
— Вот бы повидать его… — мечтательно произнес Доржи.
Гытыл вдруг оживился:
— Поедем с нами в дацан. Там и его увидим.
— Кого его?
— Да Бестужева. Он собирался посмотреть цам[47].
Гытыл быстро проговорил, будто боялся, что Доржи не поверит, перебьет — Ему все интересно… Я сам слышал, он сказал: «Скоро поеду в Кяхту, в дацан съезжу, праздник цам посмотрю».
— Врешь, — не поверил Доржи.
— Ну да, стану я врать, — Гытыл сделал вид, что обиделся, — не веришь, не надо… — Про себя же подумал: «Без доброго аркана в степи и плохого коня не поймаешь».
— Ты чего улыбаешься? — удивился Доржи. У него сердце готово было, кажется, выскочить из груди: в дацане будет Бестужев! Еще сильнее захотелось поехать.
— Мама, мама! — закричал он, вбегая в юрту. — Я поеду с гостями в дацан!
— Что ты, Доржи! Там будет много народу, тебя еще задавят. Не отпущу — Матери хочется, чтобы последние дни Доржи провел дома.
Но мальчик не унимался.
— Мамочка… Перед отъездом я должен побывать в дацане, помолиться богам, — схитрил Доржи. — Отпусти, если желаешь мне счастья.
— Ваш сын говорит разумные слова, — поддержал отец Гытыла. — Пусть едет с нами.
Мать собрала Доржи: пришила серебряные пуговицы к новому халату, положила в мешок новые рукавицы из курчавых ягнячьих шкурок и унты, самые лучшие унты, вышитые цветными нитками, дала Доржи много медных монет — столько, сколько нашлось в сундуке, — и сказала:
— Отдашь все это ламам. Попроси, чтобы они благословили на счастливый путь и удачу.
Мальчишки легли рядом, долго не спали, шушукались. Утром вскочили рано, как две крылатые птицы. Есть не стали, поклевали по-птичьи.
Отец Гытыла не успел еще напиться чаю, мальчики заторопились:
— Пора коня запрягать.
— Дорога дальняя…
Загремели уздечками — пошли за конем. Поймали его, сытого, отдохнувшего, повели на водопой.
— Гытыл! — улыбнулся Доржи.
— Ну?
— В Казани ты, наверно, тоже вздумаешь ребятам «клопа пускать»? Или окропишь кого-нибудь святым аршаном, как Николая Степановича?
Гытыл ничего не ответил. Доржи стало стыдно: зря вспомнил старое. Гытыл совсем не похож на прежнего. Вот он опять заговорил о Бестужеве; вспомнил его рассказы о Петербурге, Москве, Волге.
— Знаешь, какой он, Николай Александрович?
— Какой?
— Никого не боится. Даже белого царя.
— Как — не боится?
— Не боится — и все. Царь сказал: «Я тебя даже простить могу». А Николай Александрович ему, белому царю, и ответил: «Вот это и плохо, что вы можете простить, можете погубить. Плохо, что вы выше закона». Так и сказал.
— Он, наверно, совсем особенный, — задумчиво произнес Доржи.
— Наоборот, совсем обыкновенный, простой. А какие хорошие вещи делает!
Сердце Доржи широко открыто навстречу словам друга. «Скорей бы увидеть этого удивительного человека».
— Нашему Николаю Александровичу и его друзьям из Петербурга письмо было, — прервал молчание Гытыл. — От Пушкина. Все в стихах, от начала до конца.
— От самого Пушкина? Бестужев показывал?
— Нет, мы его спросили, он улыбнулся и все. «Я, говорит, не читал, не знаю». Просто не захотел нам сказать.
— А письмо, наверно, большое, правда?
— Большое… Целая тетрадь, и вся исписана. Я видел. Пушкин там все рассказал… Как кандалы распилить, какие есть потайные ходы. И все в стихах. Вот они и спрятали письмо от стражников. Комендант, который следил за ними, сразу же учуял про письмо. Нюхал, нюхал, да так ничего и не вынюхал.
— Почему же они не убежали? Сразу надо было — как получили письмо, так и бежать! — горячится Доржи.
— Их же много. Кто и мог убежать, да не хотел один, — неуверенно ответил Гытыл.
Доржи не стал больше расспрашивать. Он думает о Пушкине, который пишет много-много разных сочинений. Некоторые в книгах печатает, другие он никому не отдает, только его друзья знают, переписывают. Один перепишет, другому покажет, а тот передает дальше. Вот письмо Пушкин написал Николаю Александровичу и всем его друзьям. Хорошо им, видно, было, когда письмо получили.
Гытыл поднял красноватый камень, спрятал за пазуху.
— Это для Николая Александровича… Он собирает камни. Говорит, что в наших местах есть полезные руды» Надо разыскать их, чтобы они приносили пользу людям.
— Верно, — сказал Доржи, — Иван Сергеевич и Владимир Яковлевич то же самое говорили.
— Кто такой Владимир Яковлевич?
— Новый учитель. Только он уехал.
— Хороший?
— Хороший. Он и о Бестужеве и о его друзьях нам рассказывал, когда мы у него дома были.
ЗА ОГРАДОЙ ДАЦАНА
Все дома вокруг дацана были полны народу. Тысячи людей приехали на священный праздник — цам.
Мархансай с женой остановился у ламы Попхоя. Он спал на воздухе, не захотел ночевать в доме — в тесноте и духоте. Проснулся давно, но не встает — лежит на спине, жует табак. Думает о том, что у Попхоя всегда останавливаются почтенные, состоятельные люди, «Попхой — важный лама. Он к себе голодранцев не пустит. Знает, с кем дружбу вести. У него можно спать спокойно — ничего не пропадет…» Мархансай помнил, что в прошлом году во время какого-то молебствия у него утащили почти новый хомут. Оставили взамен старый, десять раз залатанный. А все почему? Да потому, что ночевал у ненадежного хозяина.
Мархансай лежит, потягивается. Плохой сон он видел. Будто лежит на телеге в желтом халате. А вокруг голосят бабы. Это не к добру. Кто знает, смерть может и о нем вспомнить. Смерть — не урядник и не тайша. С ней по-свойски не столкуешься… «Да… — думает Мархансай, — пора позаботиться о душе. В дацан, что ли, пожертвовать что-нибудь? Отец, когда совсем старый стал, десять коров в дацан отдал. Грехи замаливал… Десять коров!.. А я возьму да пожертвую не десять, даже не пятнадцать, а двадцать пять!» Мархансай сам умилился своей щедрости. «Люди будут говорить, что нет щедрее меня на доброе дело… Даже голодранцы, пожалуй, станут уважать».
Мархансай теперь перебирал в уме коров, которых пожертвует в дацан. С этими мыслями он поднялся и направился к колодцу — умываться. У Попхоя хороший колодец. «Этот колодец был бы в самый раз возле моего летника», — мелькает в голове Мархансая. Умывшись, он старается вспомнить, о чем думал накануне, и не может. «Черная собака, что ли, сожрала то, что варилось в моей голове? Ах, да, вспомнил… Да, — думает он. — Двадцать пять коров пожертвую… Не сразу, конечно… Зачем же сразу? Сначала десять. А в будущем году, после отела, еще пятнадцать… Телята мне останутся… Спешить некуда. Еще отец учил: торопись, когда к тебе в хлев волки забрались да когда на очаге молоко кипит, через край льется».
Когда Мархансай выпил чашку чая, в голове у него все встало на свое место. «Десять коров для начала — слишком. Ведь если к этим десяти прибавить немного, получится сто. А сто коров — это что-нибудь значит. Дацан и так не бедный. Боги на народ не в обиде, однако».
Сумбат несмело проговорила:
— Ахайхан, люди скотину в дацан жертвуют… Нам бы тоже надо: ведь сколько лет одно масло да медную мелочь приносим…
— Не твое дело. Не лезь куда не спрашивают, сам знаю. Плохой сон видел, помру скоро, однако. Тогда и разоряйте мое хозяйство.
— Если плохой сон видели, тем более надо жертвовать.
— Я же сказал: не твое дело. Приготовь туесок сметаны. Хватит с нас и этой жертвы. С каждого по чашке — и то сколько наберется. Да и цам не последний… Неважно, что ты в храм несешь, важно, какую при этом молитву творишь. Можно состряпать из теста маленькую фигурку коня и молитвой вдохнуть в нее душу резвого скакуна. Поняла?
Сумбат сидит с поджатыми губами, она недовольна мужем. Боится не обделенных богов, а злых языков улус-ников. Скажут, что Мархансаевы опять сухую молитву сотворили…
— Ты мой нарядный халат вытащила из сундука? Просушила на солнце? Проветрила? У тебя дырявые уши, надо десять раз напоминать. Не стал бы наряжаться, но там большие нойоны будут, начальство.
Мархансай прохаживается по двору, осматривает амбары, сараи. «Богато живет. А не сделать ли Шагдыра ламой? Потом подумаю». Мархансай тут же вспоминает, что Ухинхэн до сих пор не отдал Попхою овцу за лекарство… Мархансай не один раз напоминал Ухинхэну, но тот и слышать не хочет. «Лекарство дал Попхой, с ним и разговаривать буду», — вот и весь ответ Ухинхэна.
Овца, которую Ухинхэн должен ламе за лекарство, все больше и больше интересует Мархансая: «Ухинхэн отдаст Попхою жирную овцу… А уж я сумею сделать, чтобы та овца погуляла в моей отаре. В большой отаре жирной овце будет веселее».
Когда Полхой проснулся, Мархансай привел к нему Ухинхэна. Уселись пить чай. Вокруг расположились гости Попхоя. Среди них пристроились Доржи и Гытыл.
Эту ночь мальчики спали плохо. Приехали в дацан уже в сумерки. Улеглись на телеге. Только заснули — разбудил шум. Кричали пьяные, стоял такой лай, будто все собаки сбежались из окрестных улусов. Через изгородь перелетело полено, упало рядом с телегой. Доржи совсем испугался, со сна у него мелькнула мысль: «Не злые ли ханы напали на дацан?» Гытыл тоже уже сидел на телеге. Мальчики тюкали к дому. Там они узнали, что молодые ламы убили из-за девушки богомольца, а друзья убитого зарезали ламу. Тела лежали под сараем, у них были изуродованы лица, и они, казалось, с ненавистью смотрели друг на друга мертвыми бесцветными глазами…
Мархансай сделал несколько глотков и повернулся к Попхою:
— Ламбгай, вы не забыли, что Ухинхэн должен вам овцу?
— Как же, как же… Отлично помню. Почему ты не отдаешь? Лекарство ведь получил.
Ухинхэн не ответил.
— У людей не стало ни стыда, ни совести, — загнусавил Мархансай. — Сколько времени прошло… Та овца успела два раза ягниться… Первый ягненок тоже приплод принес. Выходит, что Ухинхэн теперь должен не одну овцу, а, четыре… А сколько шерсти, молока…
— У меня сейчас нет ни жирной овцы, ни тощей.
— А мне какое дело? Лекарство твоя жена брала?
— Приносила какие-то порошки. Выпила один — еще больше разболелась. Если бы не русский доктор Мария, она бы ноги протянула. А вы овцу требуете… За порошки — овцу… Марии бы я отдал, ей не жалко. Но она не берет, даром лечит.
— Но ты же. обещал мне овцу?
— Я не обещал и лекарства не брал.
— Не ты, так твоя жена.
— Жена… Мархансай-ахайхан говорит же, что «бабы глупее овцы». Вот она по бабьей глупости и сболтнула.
— Ну, Ухинхэн, этого я от тебя не ожидал, — развел руками Попхой.
— А мне все равно, — спокойно ответил Ухинхэн. — У вас ведь так: есть овца — получай лекарство, нет овцы — помирай. Вам бы только нажиться на чужой беде.
— Как ты смеешь!.. Безбожник, богохульник… — Попхой затрясся от негодования.
— У меня грехов меньше, чем у иного ламы.
— Что-о?
— Ну да. На себя взгляните. Вспомните, что вы в прошлом году в Дырестуе натворили…
— Хватит! — закричал Попхой. — Да я тебя, да я… — больше он не мог ничего выговорить.
— А как же насчет овцы? — забеспокоился Мархансай.
— Сгорите вы со своими овцами на адском огне! — выкрикнул Попхой и торопливо ушел.
Доржи шепнул Гытылу:
— Видал, какой у нас Ухинхэн! Даже ламы не боится.
…Повсюду полно телег и коней. Снуют богомольцы. Они только что пришли — ночевали недалеко от дацана. Старики идут с палками, с костылями; их покрыла серая дорожная пыль. Богомольцы снимают тяжелые ноши и отдыхают в тени домов, заборов.
Мальчики пошли искать Николая Александровича. Но где найдешь его? Здесь несколько сот ламских домов. Широкие резные ворота дацана с ярко раскрашенными арками открыты настежь. Люди идут толпой, заходят в желтый храм. Доржи и Гытыл за ними. В храме их встречают боги — большие, вызолоченные, они упираются головами в высокий потолок.
У большой картины стоит лама с красным широким полотнищем через голое плечо. Вокруг него — много людей.
— Это барабан Сансары[48], — говорит лама. — Тут представлен весь наш мир. Вот здесь земля. Вот эти люди совершают грехи: этот убил чужого барана, этот украл шубу и удирает. Вот завистливый человек — он с жадностью смотрит через забор на чужое добро.
А здесь, — лама указывает палочкой на другую часть картины, — здесь люди делают доброе дело. Вот тот человек, который убил чужого барана. Видите, он дарит ламе красный шелк на халат. Смотрите выше — это эрлики. Они после смерти уносят души грешников в ад. Вот весы, на которых будут взвешивать добрые дела и грехи, совершенные людьми при жизни. Если перетянут грехи, душа попадет в ад. Вот он — ад. Это ад огня, ад остроконечных кольев, ад медленных мук и страданий… Вот ад ледяного холода, ад ям… Если у человека было больше добродетелей, чем грехов, его душа попадает в рай… Вот рай — страна Сохо Бадия, страна Уржэн Ханды, страна бурхана Субдия… Здесь люди рождаются из цветка… Они питаются сочными плодами райских деревьев. А помните того человека, который убил чужого барана, потом подарил ламе красный шелк? Его у дверей ада настигает краснокрылая птица и отбирает из рук эрлика. Он прощен потому, что подарил ламе красный шелк, и этот шелк обратился в краснокрылую птицу, которая спасла его душу.
Старики и старухи поднимают над головой сложенные ладони. У многих от страха и удивления выступили на глазах слезы.
— Кто хочет в рай, кто хочет совершить доброе дело, жертвуйте! — обращается к ним лама, вытирая пот с гладко выбритой головы.
На большую медную тарелку посыпались кольца, браслеты, чеканные серебряные ножи, бумажные деньги, медные гроши, конфеты.
— Если жертва спасает душу от мук ада, можно не пожалеть золота и серебра, — говорит седая старуха, толстая, как Тобшой.
Рядом — медный котел. Трое здоровых мужчин не сдвинут его с места. Богомольцы сливают туда топленое масло для поддержания вечного огня — Мунхэзулу. По бокам котла изображены страшные драконы, невиданные птицы и звери. Они, кажется, охраняют приношения богомольцев. Чуть дальше — сундуки. В них складывают одежду, шелка, хадаки[49], китайский ладан…
Одна группа богомольцев уходит, собирается новая. Ее встречает та же медная глубокая тарелка…
Гытыл и Доржи, взявшись за руки, вышли во двор. Там большие сараи и несколько амбаров. Это жаган — место, где варятся обеды для лам. Здесь много людей, желающих сделать доброе дело. Это родные умерших, больных; те, кто видел плохие сны, кто провинился перед нойонами и зайсанами и должен на столько-то рублей сделать приношения.
Чад и копоть стоят над жаганом.
Мальчики пробираются дальше. У дверей амбара, где принимают продукты, толпятся нищие. Все они в рваной одежде. Большинство — босые. Они протягивают высохшие руки, стучат костылями, показывают изувеченные руки и ноги. Дерутся из-за каждой кости. Ламы и послушники натравливают их друг на друга и любуются драками. Из-за костей, которые уже обгрызли нищие, дерутся собаки.
Мимо Доржи пробежал хорошо одетый парень, вслед ему крик:
— Держите паршивца!
Кто-то поворачивается к кричащему и говорит:
— Знаешь ли, кого ты обозвал паршивцем? Это сын зайсана… Его отец с тебя теперь шкуру спустит.
— Это бы еще пустяк, — подхватывает другой богомолец, — корову с теленком отберет за оскорбление. Законы, брат…
Вот стоит высокий нищий с шишковатым, уродливым лицом. На его голой груди — крупные деревянные четки. Несмотря на жару, он обут в овчинные унты. На правой ноге унт разорван, и пальцы выглядывают из него, как пять птенцов из лохматого гнездышка. Он глух на оба уха.
— Шантагархан, расскажи: как женился? — спрашивает молодой лама.
— С Гусиного озера пришел! — кричит тот так громко, будто все вокруг глухие.
— Расскажи, как женился, а не откуда пришел, — смеется другой лама.
— Да, да! Есть хочу! — еще громче кричит глухой.
Его дразнят и дразнят. Это доставляет удовольствие ламам и послушникам. Рядом стоит слепая однорукая старуха. Ламы дают ей мясо, вывалянное в перце, суют хлеб с осколками стекла и хохочут, довольные, что так ловко обманули ее.
А вот почти голый мальчик. Ему лет десять-одиннадцать. Весь рот у него в свежих язвах. Говорят, что вчера какой-то послушник забавлялся: за кусок мяса заставил взять в рот горячие угли.
Доржи жалко мальчика. Ведь если бы и у него не было отца с матерью, над ним так же издевались бы ламы и послушники.
Ламы пресытились, ищут новых развлечений. Они начинают стравливать собак. Много ли для этого нужно? Одной бросили большую кость — и началось: черные, рыжие, большие и маленькие сплелись в клубок, катаются по двору. Собаки обливаются кровью, визжат и хрипят, уползают, волоча изгрызенные лапы…
Доржи начинает казаться, что он все это где-то уже видел. В дацане висит картина, изображающая ад. Если есть ад голода, то разве этот ад не здесь, во дворе дацана? Доржи вспомнил, как в прошлом году, в дни зуда, чуть не замерз Эрдэмтэ-бабай. Разве это не ад ледяного холода? Он вспомнил Аюухан, погибшую от чахотки. Жалму, нищету своего улуса, горькую судьбу многих соседей… Разве это не ад медленных мук и страданий?..
Подходит Мархансай. В руках у него маленький туесок. На Мархансае все тот же засаленный зеленый халат. Никто, пожалуй, не скажет, что он самый богатый человек Ичетуя. Мархансай протягивает послушнику туесок и несмело говорит:
— Это сметана.
Рядом кто-то жалеет нищих:
— Какие они оборванные… С каждым годом их все больше и больше.
Мархансай оборачивается.
— Они притворяются. И в лохмотья вырядились нарочно. Они, может, всех нас богаче… Туесочек-то мой опростали? — беспокоится он.
Послушник выносит ему из амбара старый, помятый туесок без крышки.
— Что вы… Это не мой… — пугается Мархансай.
Послушник выносит другой — большой, новый, расписанный красивыми узорами.
— Это ваш?
Мархансай молча схватывает туесок и торопится прочь. Вслед ему слышится крик:
— Эй, остановитесь!
Мархансай подумал, что нашелся хозяин туеска, недовольно оборачивается. Перед ним стоит Шантагархан.
— Молиться пришли? — кричит он во весь голос. — Грехи замаливать? А про меня забыли? Шесть лет ваш скот пас, голым выпроводили…
— Не ори… глухой черт. — Мархансай скрывается в толпе. Шантагархан долго еще ищет его глазами.
Золотые шпили дацана блестят на солнце. Над изогнутыми крышами — красными, желтыми, синими — летают сытые и ленивые голуби. Дацан напоминает богато одетого ламу. Он доволен, рад, что собралось много народу, — он получит много добра. Сколько дней и ночей сидела мать над унтами, которые лежат у Доржи в мешке… Сколько раз исправляла узоры, чтобы они получились красивее. Она подбирала нитку к нитке, стежок к стежку. А теперь она велит отдать их ламам, потому что боится за него, Доржи, боится, чтобы боги на него не разгневались.
Гытыл и Доржи молча идут по двору дацана. Они видят бедно одетых молельщиков. Среди них, может быть, шагает и Будамшу, который трижды обманул Богдо-ламу и трижды выиграл спор у нойонов… Вот большие, как юрты, тяжелые молитвенные барабаны. Они крутятся нехотя, со скрипом…
По двору проходят троицкосавские, верхнеудинские, селенгинские чиновники. Следом за ними — бурятские богачи, нойоны. Впереди — тайша Ломбоцыренов, чуть дальше — незнакомые толстяки в, длинных халатах. Им жарко, они еле передвигаются на кривых ногах. Среди них Мархансай: в расшитом шелковом халате, отороченном бархатом. Его многие не узнают: один раз в год так наряжается. Мархансай в дорогом наряде то же, что тайша Ломбоцыренов в лохмотьях…
— Где же мы найдем твоего учителя? — уже который раз спрашивает Гытыла Доржи.
— Выйдем за ворота. Может, там встретим.
Они проходят через большие красивые ворота. Над ними — золотое колесо, по обеим сторонам колеса — золотые лоси.
— Подожди здесь, Доржи. Я сейчас вернусь, схожу к отцу.
— Постой! Я же его не узнаю! — кричит Доржи.
— Как увидишь, сразу узнаешь! — весело откликается Гытыл и исчезает в толпе.
ВСТРЕЧИ
Доржи заметил неподалеку невысокого русского человека. Рядом с ним молодая красивая женщина в светлом платье с кружевами. За руки они ведут кудрявую белоголовую девочку. Лицо мужчины показалось знакомым. «Где я видел его?» Мужчина взял у женщины маленькую фарфоровую фляжку, проговорил:
— Ты посиди с дочкой в тени, я принесу какого-нибудь питья.
Доржи решает, что это он, Бестужев. Если побежать за Гытылом, можно упустить Николая Александровича, «Нет уж, пусть Гытыл нас ищет!» Мальчик несмело идет за русским. Как подойти, с чего начать разговор?
На поляне, где утром была лишь трава, теперь возник маленький городок — белеют палатки, торгуют китайцы. Те, у кого нет палаток, устроили парусиновые навесы.
Русский, с которого Доржи не спускает глаз, останавливается у палатки, покупает квасу, потом просит свесить еще фунт пряников.
«Где я мог его видеть?» — силится вспомнить мальчик.
На одной тарелке весов лежит гиря, на другой кучка пряников. Китаец ломает пряник, а тарелки весов качаются, не могут остановиться… Ну да! Это было в первый день, когда он отправился посмотреть Кяхту. Грузчики подшутили над ним, подсадили на тарелку базарных весов и раскачивали, как ребенка в люльке. Тогда пришел этот человек и выручил Доржи из беды. Неужели это был Бестужев?
Мальчик набирается смелости и решает подойти, но не успевает и шагнуть, как к тому подходит какой-то мужчина, с силой трясет ему руку. Доржи слышит радостные возгласы:
— Николай!
— Сережа! Когда?
— Вчера. Заходил к бабушке, а вас нет. Оказывается, в дацан поехали. Ну и я за вами. Как живете?
— Видишь: живем, пряники жуем.
Они смеются.
— Ну, Сережа, милый, расскажи, что нового в Петербурге. Чем он живет и дышит?
— Молодой критик Белинский! Все говорят о нем, о его «Литературных мечтаниях», что печатались в «Молве».
— Постой, постой… В «Молве»? Когда же?
— Во многих номерах — с сентября, почитай, до конца года.
— Тогда-то мне и не приносили «Молву». Уж я бранил почту… А после узнал, что и другие подписчики не получили.
— В этом, наверно, не почта, а другое ведомство виновато. После об этом. Как он о Пушкине сказал! Ни один поэт на Руси не пользовался такою народностью, такою славою при жизни, и ни один не был так жестоко оскорбляем. А Фаддею Булгарину как досталось и всей его братии! Впрочем, почитаешь сам, я привез полный комплект «Молвы» за прошлый год.
— Чудесно! Спасибо, дорогой, почитаем.
— Конечно! Я всем дам читать. Наш-то с ума сойдет, закричит: «Да это же крамола!» А мы и в Кяхту пошлем, пусть Орловы своему Уфтюжанинову покажут. Тот сразу министру жалобу настрочит!
— Еще какие новости?
— Потом, потом все расскажу. Пока пойдем смотреть нам.
Доржи оглянулся: нет Гытыла. Сердце у Доржи стучало так, что, кажется, окружающие слышат, — вот он, Бестужев! Гытыл говорил, что он в кандалах, с ним солдат ходит… А этот как все другие — ни кандалов, ни солдата. Теперь кандалы с него сняли, наверно… Он добрый, начальники и отпустили его на время. В его честность поверили, в доброту. Мальчик подошел красный от смущения.
— Мы с Гытылом искали вас, хотели поговорить… Мы едем учиться в Казань. Вернемся писарями или переводчиками… Вы — Николай Александрович?
Оба с интересом посмотрели на краснощекого мальчика-бурята, чисто говорящего по-русски.
— Да, я Николай Александрович. А как тебя зовут?
— Я Доржи… Банзаров. Доржи, сын Банзара.
— О чем же ты хотел поговорить, Доржи?
— Я сам… нет… я хотел сказать, что знаю вас, Николай Александрович. Вы меня из беды выручили… В Кяхте, на рынке. С весов спустили, когда грузчики надо мной подсмеялись. Я тогда убежал…
Николай Александрович улыбнулся.
— Что-то вспоминаю. Ты там, кажется, под крышей ревел? Так, говоришь, в Казань собираешься?
— Я не один, нас пятеро.
— Казань — это моя родина… Счастливо лететь вам, первые ласточки. Вашему народу очень нужны ученые, грамотные, сильные люди. Нужно бы послать не пять мальчиков, а по меньшей мере пятьдесят. Для всех нашлось бы потом дело. Среди русских есть ученые, а у вас их, можно сказать, совсем нет.
Николай Александрович задумался, и не поймешь, к кому он обращает свои слова — к Доржи ли, к другу ли, приехавшему из Петербурга… или, может быть, размышляет вслух?
— И у русских учатся далеко не все. Дети богатых и знатных… А какой из них толк? Паркетные шаркуны или солдафоны… Есть, правда, и другие… Они стремятся нести просвещение в народ, не за страх, а за совесть служат отечеству. Но таких еще очень мало, и трудно им…
Доржи вспомнил Владимира Яковлевича: «Он тоже не за страх, а за совесть служит отечеству».
— Народ помянет их добрым словом, — негромко продолжал Николай Александрович. Он помолчал, улыбнулся и с большой убежденностью произнес: — Я верю, придет когда-нибудь более счастливое время. Взойдет солнце и для народа… — Потом взглянул на Доржи, положил ему на плечо руку. — Согреет и твой многострадальный бурятский народ…
Николай Александрович повернулся к своему другу.
— Всякий раз, когда я думаю об этом, Сергей. Мои мысли невольно устремляются к Александру Пушкину…
Он не договорил: рядом остановились два мальчика в нарядных халатах. На груди у одного поблескивала большая старинная монета: будто он уже важный нойон и пожалован царской наградой. Второй держал в руке железную клеточку — мышеловку. В ней билась испуганная пеночка.
— Где вы ее поймали? — спросил Николай Александрович.
Мальчики переглянулись — видать, по-русски не понимают. Доржи перевел им вопрос.
— Утром поймали, она в амбар залетела… Ничего не ест… Даже конфет не хочет.
— Скажи им, что она не привыкла жить в клетке, в плену. Пусть продадут ее мне.
— Они спрашивают, сколько монет вы им дадите, — перевел Доржи.
Николай Александрович отдал всю медную мелочь, какая нашлась в кармане. Взял мышеловку и открыл дверцу. Пеночка сначала прижалась в угол, потом легко подпрыгнула, пропела удивленным тоненьким голоском «тень-тень-тень-тень» и выпорхнула из клетки. Она полетела не прямо, а зигзагами, как бы прыгая по воздуху от охватившей ее радости. Все громче и радостнее звучала ее песенка: «тень-тень-тень».
Когда птичка поднялась высоко, превратилась в едва заметную золотую звездочку. Николай Александрович обернулся к приятелю:
Сергей улыбнулся и сказал Николаю Александровичу:
— Стихотворение прекрасное, а вот утешение… Утешение маленькое. О большем же мы пока можем только мечтать…
Так же вот, вспомнил Доржи, и Алеша Аносов выпускал на волю птиц. И стихи эти же самые говорил. Он ведь любит ловить птиц. Поймает, погладит, потомит немного в неволе и откроет клетку. Птица выпорхнет, зальется звонко от буйной радости и полетит в степь сзывать своих подружек. Алеша смотрит ей вслед и тоже радуется.
Подошло несколько бурят и русских, знакомых Николая Александровича. В это время раздались унылые звуки ухэр бурэ и бишхура, загремели сан и хэнгэрэг[50]. Но Доржи не слышал дацанской музыки: в его ушах звучало имя Белинского, о котором столько толков в Петербурге. Почему он не слышал о нем раньше? Если бы в школе остался Владимир Яковлевич, он рассказал бы, конечно… Тогда Доржи понял бы все, что говорил о Белинском друг Николая Александровича, и вообще весь их разговор. Когда Доржи станет писарем, он прочтет каждую строчку, которую напишет далекий Белинский…
Николай Александрович взглянул на взволнованное лицо мальчика и сказал приветливо:
— Закончишь в Казани гимназию — постарайся, Доржи, обязательно постарайся поступить в университет. Ректором там Николай Иванович Лобачевский — большой ученый, хороший человек. В Казани много мыслящих людей.
— Николай Александрович, приезжайте к нам на Гусиное озеро, ведь вы у нас еще не были, — пригласил один из подошедших бурят.
— Нет, лучше к нам в Ехэ Хункере… у меня брат женится, бурятскую свадьбу увидите…
— К нам в Боргой обещались…
— Приеду, ко всем приеду. Спасибо…
Жарко пекло солнце. От земли поднимались влажные волны испарений. Доржи смотрел на Николая Александровича счастливыми глазами.
— Я всем в улусе расскажу, что виделся с вами. У нас знают и любят вас. Ухинхэн часто вспоминает вас. Мне будут завидовать. Наверно, даже не поверят, что я разговаривал с Бестужевым.
— С Бестужевым? — он Добродушно улыбнулся и потом уже серьезно сказал: — Какой же я Бестужев! Я Андреев! Разве разрешили бы Бестужеву приехать сюда? Он ведь не на воле живет.
Доржи, оказывается, обманулся: имена, отчества одинаковые, видом вроде похожи… Доржи подвело воображение. Но ничего, он увидит когда-нибудь и другого Николая Александровича! И с Владимиром Яковлевичем встретится, и со. Степаном Тимофеевичем. И Сашу, и тетю Алену, и Марию Николаевну увидит, все они тоже очень хорошие, настоящие друзья бурятам. Оказывается, много русских людей думают одинаково с Николаем Бестужевым. У них разные имена, но одно большое, доброе сердце.
Николай Александрович начал прощаться:
— Давайте расходиться, как бы в полицию не заявили, что мы здесь сходки устраиваем. Да и мои богомольцы ищут меня, наверно.
Только успел он проговорить это, как откуда-то появились два урядника. Оба низкие, пузатые, румяные, с черными усами. Остановились. Руки за спиной, подозрительно поглядывают…
— Позвольте узнать: о чем вы тут речи произносите? — спросил один из них.
— Стихи читаем.
— Поди, запрещенные?
— Нет, что вы! Мы ведь учителя, сами понимаем.
— Понимаете вы… А ну, что за стихи, повторите. Сергей насмешливо взглянул на урядника.
— Что ж, можно повторить.
Николай Александрович громко подхватил:
Урядники переглянулись:
— Такие стихи нельзя.
— Почему же нельзя?
— Сказано — нельзя, и все.
Оба побагровели, выкатили глаза, топнули ногой и прохрипели:
— А ну, рразойдись!
Николай Александрович со своим другом и Доржи пошли к дацану. У ограды стоял Гытыл. Доржи с робкой надеждой спросил Гытыла шепотом:
— Этот дядя — Бестужев?
— Что ты, конечно нет!
Гытылу пришлось признаться: он выдумал историю с приездом Бестужева, чтобы Доржи поехал с ним в дацан… Не видал он и письма Пушкина, но хорошо знает, что письмо было. Гытыл думал, что Доржи рассердится на него, а он ничего, — ведь Гытыл мог и не это выдумать. От него всего можно ждать.
Доржи пожалел, что не спросил этого русского учителя о письме Пушкина. Он-то, конечно, знает! Что же было в этом письме? Наверно, Пушкин написал, чтобы Бестужев и его друзья скорей возвращались домой, в Петербург, что все их ждут.
Через ворота дацана уже не пробиться. Доржи и Гытыл отправились к большому амбару, крышу которого облепили ребятишки и взрослые. Отсюда видно все, что происходит во дворе дацана.
Перед зданием храма — зеленая площадка. Здесь главная часть праздника — пляска масок. Вот неторопливо движется в танце под ритмичную музыку Сагаан убгэн — Белый старик. Он изображает долголетие. Одет во все белое, волосы на большой голове, борода, усы — седые, в руках красная палка. Сагаан убгэна поддерживают два послушника… Белый старик кончил свой танец. На площадку выходят две зеленые маски — асари. Это духи, способные видеть грехи и добродетели, совершенные людьми. Страшные, все трепещут перед ними… Даже Белый старик замер в немом страхе.
Звенят медные тарелки, раздается гулкая дробь больших зеленых барабанов, укрепленных на особых тележках. Длинные трубы мычат, как озлобленные быки Мархансай-бабая.
Послушники, одетые в коричневое и красное, выносят мешки с айрсой, с накрошенными сухарями, орехами, жареными пшеничными зернами. Они бросают полные горсти в толпу. Богомольцы протягивают к ним руки, подставляют головы. Они верят, что если человеку достанется хоть зернышко, хоть крошка сухаря, его ждет сытость и богатство.
Послушники проносят перед молельщиками большие сосуды с аршаном — святой водой. Люди тянутся к этим сосудам, кричат, толкаются. Всем хочется помочить и облизать палец, обрызгать святыми каплями грудь, шею, голову.
Гытылу и Доржи скоро наскучил цам, они слезли с крыши.
— Пойдем Мило-богдо посмотрим. Там прохладно. — Гытыл вытер рукавом халата потное лицо.
— А кто это?
— Бурхан.
В конце дацанского двора, вдали от всех часовен, было сложено из камней нечто вроде шалаша. В углублении, поджав под себя ноги, сидел глиняный Мило-богдо, не похожий на всех богов, которых раньше видел Доржи. Камни вокруг него заросли мохом. Сам голый, тело синее, ребра торчат… Перед ним горшок с колючими ветками шиповника.
Лама стал объяснять:
— Мило-богдо отказался от всех соблазнов земных, чтобы на том свете узнать все блаженства небесные. Посинел с голоду, кроме шиповника и крапивных листьев ничего не ел. Он нас учит воздержанию и смирению.
Доржи взглянул на толстого ламу, на бурхана и чуть было не рассмеялся. А что, если ночью утащить куда-нибудь этого тонкошеего да сесть на его место? Вымазаться в синей краске… А когда подойдут люди, вскочить и закричать: «Не хочу больше голодать! Не надо мне на том свете орехов из божьего сада. На этом свете хочу кислой арсы, да побольше».
Все перепугаются, принесут всякой еды: «Сам Мило-богдо не вытерпел, есть запросил». Весело было бы!
Праздник кончился. Отец Гытыла решил дождаться вечера: ехать спокойнее, не будет мух, оводов. Заночевать можно будет в поле, где-нибудь у родника, среди густой высокой травы.
Доржи вспомнил про вещи, которые ему дала мать для лам. Он отправился с Гытылом к храму. Навстречу попался лама.
— Ламбгай, мы хотим сделать приношение — вот унты, рукавицы…
— Хорошо, хорошо, вы умные мальчики… Все достанется бедным и сирым, а также ламам, верным слугам богов…
Лицо у ламы такое, будто кто-то его тупым топором из дерева вырубил — бугристое, нос как сучок. Глазки шевелятся вроде черных жуков. Таких жуков дятлы любят. Только, голова гладкая, блестит, пот на ней как капли смолы. Мастер, видно, принялся ламу обтачивать с головы, до лица не успел добраться — начался цам… Лама вырвался и убежал…
Доржи захотелось созорничать, как тогда у Мило-богдо.
— Бедным и сирым? — невинным голосом переспросил он ламу. — Значит, все, кто у амбаров стоят голые и босые, после цама будут ходить в шелковых халатах и в новых унтах?
— Может, тогда им сразу и отдать, — подхватил Гытыл.
Лама проскрипел, как сухое дерево:
— Вы из какого улуса, мальчики? Чьи сыновья?
— Мы сыновья умелого кузнеца, внуки Будамшу-хитреца, — бойко произнес Доржи.
Лама не успел опомниться, как ребят и след простыл… Они крадучись прошли к амбарам, где сиротливо топтались нищие.
И вот одну рукавицу они отдали однорукому мальчику, вторую — однорукой старухе. Унты подарили глухому Шантагархану и, довольные, направились в храм. Две монеты положили на тарелку, полную денег. Стоят, с опаской поглядывают на многоголового, многорукого голого бога. А тот, пузатый, сидит на косматых львах и с презрением смотрит на людей. До чего же он страшный: на Шее четки из белых человеческих черепов… Ребятам жутко — а вдруг вызовет эрликов и скомандует: «Отправьте этих мальчиков в ад!» Тогда — прощайте отец и мать, Казань, гимназия… Успокоились только за оградой дацана. На оставшиеся деньги купили сластей.
Доржи тревожно — он обманул мать. Что делать — может, признаться? Он ведь уезжает. Вдруг озлобленные «боги пошлют вслед ему горе и смерть?.. Правда, он же — сделал доброе дело, отдал вещи бедным. Но тревога не уходит, и он решает во всем повиниться.
«Пусть мать поругает, зато на душе станет легко».
Он начал с того, что рассказал про нищих, которых видел в дацане. Когда заговорил о мальчике с обожженным ртом, о слепой старухе, у матери навернулись слезы. А Доржи продолжал:
— Она повернулась к нам, жалуется: «У меня одна рука и та мерзнет зимою — нет теплой рукавицы. Помогите мне, мальчики…»
Доржи сам уже верит, что так все и было.
Мать совсем не ругалась. Но потом Доржи рассказал, что они не все деньги отдали в дацан, а купили себе сластей. Тут уже мать рассердилась.
— Ну, мама, праздники в дацане бывают часто, можно в другой раз пожертвовать, — успокаивал Доржи мать и себя.
— Что с тобой поделаешь! — вздохнула Цоли.
Но боги и не думают, видно, наказывать Доржи. К вечеру вернулся с монгольской границы отец — веселый, добрый. А на следующее утро приехала с детьми Мария Николаевна — погостить у бабушки Тобшой. Привезла подарки: бабушке Тобшой — синий бурятский халат, теплую шапку, унты, несколько коробочек чаю, деньги, Затагархану — точильный станок, какой был у Степана Тимофеевича, халат и сапоги.
Как весенняя птица, пролетела по улусу весть: «Мария приехала». Люди заторопились — поздороваться с ней, взглянуть на Сэсэгхэн. Доржи сразу же рассказал Марии Николаевне, что едет в Казань, будет учиться в гимназии, станет писарем.
Мария Николаевна улыбнулась.
— В Казань? Очень хорошо. У меня там сестра с мужем живет. Я тебе письмо дам. Зайдешь к ним, они тебе помогут. Расскажешь о нас, о Кяхте. Сколько лет мы с сестрой не виделись! — Голос у Марии Николаевны дрогнул.
Она все такая же — добрая и приветливая. Одета проще, чем в прошлый раз. На ней длинное темно-синее платье. В нем она еще стройнее и выше. Девочки же — Сэсэгхэн и Стэма — в светлых легких платьицах.
Доржи то с гордой небрежностью, то с детским старанием переводил тете Марии слова бабушки Тобшой, вопросы соседок. Ему очень приятно, что из всех улусных мальчишек он один так хорошо говорит по-русски и что это приносит пользу людям. Еще тогда, в дни зуда, у магазейного амбара, ему думалось, что он самый зоркий и сильный среди незрячих и беспомощных. Мальчику казалось тогда, что все, кто был поблизости, никак не могли вдеть шелковую нить в золотую иглу. Пришел Доржи, вдел ту нитку в иголку — и сразу пошло бойкое шитье. А теперь Доржи представилось, будто он стоит над рекою незнания и соединяет руки людей, стоящих на ее светлых, зеленых берегах. Люди знакомятся, говорят умные, теплые слова, Доржи помогает им понять друг друга, и эти люди становятся самыми близкими, самыми добрыми друзьями. Сердце мальчика билось сильнее и сильнее. Вот так же билось оно, когда Доржи увидел Борхонока и когда обогнал на Рыжухе всех прославленных скакунов. Так же радостно билось сердце Доржи, когда он перешагнул порог дома, где жил Владимир Яковлевич, когда впервые рассказал по памяти стихотворение «Буря мглою небо кроет».
Почему вдруг улыбнулась тетя Мария? Не угадала ли она думы Доржи? Почему бабушка Тобшой дала ему больше конфет, чем другим мальчикам? Может, и она поняла его радость?
Доржи сам не заметил, как прижал свои руки к сердцу. Он застыдился, сделал вид, будто шарит за пазухой конфеты — все ли они на месте.
Вот тетя Мария опять в улусе… Доржи вспомнил ее домик с белыми ставнями, светлые солнечные комнаты. Наверно, ей странно сидеть в доме, где нет ни одного окна, двери из войлока, вместо печи — огонь горит прямо на земляном полу посередине юрты. Здесь все не так, как у нее… Вон кадушка с торчащими ребрами, некрасивые деревянные корытца, заменяющие тарелки, рассохшиеся туески. На столике — медный котелок, в котором, может быть, многие годы не варят вкусной и сытной еды.
В некрашеной низенькой божнице сидит темный и тощий божок. Он будто стыдится Марии Николаевны: ведь старая Тобшой ему молится, а он ничего не может сделать — ни от нужды, ни от горя спасти не может…
Почему так сумрачно в юрте? Может быть, это для того, чтобы приезжие люди не разглядели в полутьме нищету улуса, чтобы не стали говорить длинные и нудные слова жалости…
Доржи взглянул на тетю Марию. У нее глаза слезятся от едкого дыма. Почему хотя бы сегодня дым не уходит в дымоход? Наверно, это святой огонь в очаге, которому все поклоняются, гонит дым и чад навстречу людям, чтобы они никогда не переставали плакать, чтобы у них никогда не высыхали щеки от слез.
«Хорошо бы, — подумал Доржи, — поставить в улусе хоть одну большую чистую юрту, обтянуть ее внутри узорчатым шелком, устлать коврами, украсить цветами. И приглашать бы туда дорогих гостей… А еще лучше было бы построить в улусе деревянный высокий русский дом с резными ставнями, с красным петушком на крыше». Доржи когда-то построил в своих мечтах такую юрту и такой дом, созвал туда самых достойных людей. Но какая от этого польза? Не будет пользы, если и сотню домов построишь умом и ни одного — топором.
Сэсэгхэн и Стэма выбежали на воздух — им все ново, все интересно. Слышно было, как они весело кричат, звонко смеются.
В юрте становилось все больше людей. Бабушка Тобшой сидела на низкой скамеечке. Она то и дело открывала коробочку с чаем, развязывала мешочек с конфетами. Чаем делилась со стариками, конфетами угощала ребятишек. Еще сама не попробовала, а скольких уже одарила!.. Дети входили запыхавшиеся, босые, лохматые, с умными и озорными глазенками. Затагархан то и дело шептал бабушке: «Даржай пришел», «Гангар пришел». Старуха снова и снова лезла рукой в мешочек за желанным подарком.
За пологом юрты послышались тихие голоса и сопение. Все оглянулись. В юрту один за другим вошли сыновья Эрдэмтэ: первым — Найдан, за ним — Аламжи, Эрдени, Дугар, а Бато еще застрял где-то за низким порогом.
Затагархан хотел сказать о них бабушке, но Доржи опередил его:
— Бабушка Тобшой, пять пальцев одной руки пришли!
Тобшой улыбнулась.
— А я слышала, что сыновья Эрдэмтэ не едят конфет, только сушеную айрсу любят. Чуть сама все конфеты не съела.
Братья встали за очагом полукругом. Тобшой еще ласковее проговорила:
— Ну, Бато, подойди ближе. У тебя зубы есть? Хочешь конфетку?
— Зубы есть, конфетку хочу.
В юрте все засмеялись, посмотрели на мальчиков. Да ведь все они в одинаковых новых штанах из крепкой синей далембы!
Когда братья получили свою долю конфет, Сундай серьезно сказал:
— Какие вы сегодня нарядные… Я сначала даже не узнал, подумал, что сыновья какого-то важного нойона пришли.
Мальчики посмотрели друг на друга и улыбнулись.
— Давай, Дугар, меняться штанами, — предложил Холхой.
— И правда… поменяйся, Дугар, — шутливо подхватил Муйко-бабай. — Из твоих штанов он только рукавицы себе сошьет, а из его штанов тебе и рубаха, и штаны и шапка получатся.
Дугар покраснел, взглянул на Холхоя, на Мунко-бабая, потом на старшего брата. Торопливо сунул в рот конфету и обеими руками стал крепко держать штаны. А то еще и в самом деле заставят меняться…
Засмеялся Мунко-бабай, засмеялся Холхой и все, кто был в юрте.
— Это Дарима Ухинхэнова им сшила, — сказал Дагдай. — Хотела одному Найдану халат сшить, а потом подумала: лучше всем по штанам, чтобы никому не было обидно.
— Почему все смеются? — спросила Мария Николаевна у Доржи.
Мальчик передал ей весь разговор. Она тоже весело рассмеялась.
Пузатый мешочек таял и таял.
Порадовать ребят, угостить их конфетами — это хорошо. А вот другое Мария Николаевна понять не могла… В юрту стали заходить незнакомые ей улусники. Одни, помолчав, негромко и робко о чем-то просили бабушку Тобшой, другие вели себя смелее, говорили настойчивее. Вабушка Тобшой после недолгого раздумья доставала из-за пазухи узелок с деньгами, которые ей привезла в подарок Мария Николаевна. Слепая вынимала монетку, показывала Доржи, мальчик говорил ей, сколько это копеек. Тобшой будто не доверяла: долго вертела монету в пальцах, пробовала на зуб. А потом отдавала пришедшему. Деньги она раздавала не поровну: иным только медные, а другим серебряные, некоторым даже по две монетки давала.
— Доржи, они за своими долгами приходят?
— Нет. Это бабушка им помогает. Скоро подать и недоимки платить придется, а у них денег нет.
«Бабушка Тобшой знает, — подумал Доржи, — кому сколько дать. Тем, кто может еще где-нибудь достать, перебиться, дает медные. А тем, у кого нет уже, никакой надежды, серебряных не жалеет. Почему тетя Мария такая грустная сидит? Наверно, жалеет, что мало привезла денег, беспокоится, что не всем хватит».
Уверенные и озабоченные лица улусников, сочувствие, с. каким слушала своих соседей слепая старуха, благодарность, звучавшая в их скупых словах, — все это словно вбирала в себя Мария Николаевна капля за каплей. И теперь она уже понимала: так и должно было случиться. «Такая она, видно, и есть, ничего не может сберечь для себя».
В юрту вошли Ухинхэн с женой… Мария Николаевна сразу оживилась, будто встретила старых-старых знакомых, с которыми долго жила вместе. Ухинхэн сел рядом.
— Все вас ждали, Мария. Старуха о внучке истосковалась.
— Я давно собиралась, да только теперь смогла.
— Хорошо хоть сейчас приехали. — Ухинхэн помолчал. — В улусе вашим подаркам рады. Сильно рады.
— Сильно рады, — повторила за мужем Дарима.
— Каким подаркам? — не поняла Мария.
— Да тем, что вы привезли.
— Я ведь только Тобшой привезла.
— Ничего… Все равно хорошо. Был бы подарок.
— Как так?
— Да так… Мерзнущий обогреется — всем теплее станет, голодный насытится — и все словно наелись.
Мария Николаевна взглянула на Ухинхэна с радостным удивлением:
— Хорошо вы сказали, Ухинхэн. Это у бурят поговорка такая, да?
Ухинхэн улыбнулся:
— Если не было, так пускай будет. Поговорки не с неба падают. Жизнь учит, когда какими поговорками говорить.
«Неужели правда — голодный поест, а ты словно сытым станешь? Обязательно проверю, — решил Доржи. — Надо целый день ничего не есть, а Гунгара накормить мясом и саламатом». А может, он не гак понял поговорку? Может быть, дядя Ухинхэн хотел сказать, что хоть в желудке будет и голодно, зато на душе станет хорошо?
Доржи вдруг подумал, что дядя Ухинхэн очень похож на тех людей, к которым все тянутся, о которых всюду говорят много-много хорошего. Надо будет и его позвать в ту белую юрту, которую Доржи когда-то построил в своем воображении.
Интересно жить на свете. Каждый день что-нибудь узнаешь. Иногда и не стараешься, даже подумать бывает лень, а новое так и лезет тебе в голову. Что те загадки, которые мальчишки друг другу загадывают! Бывают и очень хитрые. Но самые хитрые, самые мудрые загадки живут, наверно, в очень простых словах, вроде тех, которые сейчас сказал дядя Ухинхэн.
Может быть, дядя Ухинхэн и раньше говорил такие слова, а Доржи не понимал? Чтобы понять, может быть, нужно было дожить до сегодняшнего дня, до этого радостного утра? И может быть, теперь Доржи будет с одного разу понимать все хорошие и мудрые слова и станет таким человеком, что все люди будут радоваться за него? Вместе с дядей Ухинхэном он будет думать, как накормить голодающих, обогреть мерзнущих.
На полу играл без штанишек маленький Гулгэн, внук старой Балмы. За юртой чирикали птицы, через откинутый полог был виден у коновязи чей-то каурый конек, покачивали головками одинокие цветы.
Стало тихо-тихо, словно все прислушивались к радостному биению сердца Доржи. Но вот у коновязи заржал конек, счастливо засмеялся Гулгэн, затрепетали от легкого ветерка ромашки, где-то совсем близко защебетали воробьи, над круглым отверстием дымохода по синему небу поплыли ослепительно белые облака.
Доржи захотелось петь, скакать по степи на этом кауром, приласкать черноголового Гулгэна, вдыхать хмельной запах ромашки, щедро угостить всех воробьев Ичетуя… Ему захотелось подняться на ослепительно белые облака, проплыть на них по яркому летнему небу.
Хорошо было на душе и у Марии Николаевны — ей казалось, что она теперь, и видит дальше, и дышит глубже. Ей захотелось остаться одной, уйти куда-нибудь далеко, в степь, побыть наедине со своими мыслями. Но разве можно было уйти от этих сердечных, простых людей?.. Она посмотрела на Ухинхэна, на Тобшой. Может быть, этот неприметный, спокойный бурят, который впервые привез ее сюда на соседской телеге, и эта слепая старуха, которую ничто не смогло согнуть, сговорились, чтобы заставить задуматься ее, городскую фельдшерицу? Мария Николаевна никогда не забудет эту поговорку. Так же, как Доржи, она повторяла ее про себя, чтобы запомнить каждое слово: «Мерзнущий обогреется — всем теплее станет, голодный насытится — и все словно наелись».
Мария Николаевна вспомнила убогие избы русских крестьян и впервые так глубоко почувствовала, что оба народа — русский и бурятский, — и не только они, наверно, а все народы, живущие в огромной империи, одинаково страдают. И всех их роднит одна нужда, одна надежда и одна общая душа — щедрая, открытая. Слова, которые сейчас произнес Ухинхэн, она могла бы услышать и в курной русской избе любой губернии, и в глиняной сакле горцев.
Высокая старуха рассматривала и хвалила новый халат Тобшой. Ее зовут Балма. Она тоже обрадовалась подарку. Но Марии Николаевне слышится теперь в ее словах невысказанный упрек: как бы ни были широки полы одного халата, ими все равно не укрыть всех бедняков улуса.
В прошлый раз Мария Николаевна видела здесь нужду, но тогда разглядела не все, не до конца. Смерть Аюухан, горе сирот оглушили ее. За несчастьем одной семьи она не увидела страданий всего улуса, всей степи. В общем глухом гуле жалоб и стонов она различила тогда только плач двоих — Тобшой и Затагархана. Все это время она думала только о них, к ним одним стремилась, им готовила подарки и добрые, ласковые слова. Кто же подумает, позаботится об остальных, обо всем народе? Ведь люди ждут не только халатов, монет, не только теплого сочувствия. Они ждут облегчения всей своей тяжкой жизни. Как облегчить им жизнь? «Все мы обязаны думать об этом — я, муж, все наши друзья».
Ухинхэн говорил спокойно, хитровато улыбался. У прищуренных глаз собрались мелкие морщинки.
— Мы с девочкой осенью опять приедем, — сказала задумчиво Мария Николаевна.
— Приезжайте, приезжайте, будем рады, — сказал Ухинхэн. — А сейчас пойдемте к нам чай пить.
— Пойдемте, — повторила Дарима.
— Ну что ж. От приглашения и от угощения не отказываются.
— Идите, идите, — кивнула Тобшой. — Только Сэсэгхэн оставьте. Пусть со мною побудет.
«Надо, чтобы тетя Мария и к нам в гости пришла», — подумал Доржи и побежал домой.
Сэсэгхэн хотелось побегать, поиграть, но бабушка не отпускала ее от себя. Тобшой не верилось, что внучка такая стала. Ничто не ускользало от ее всевидящих пальцев: головка у Сэсэгхэн гладкая, причесанная, в косичках ленты. Старушка потрогала, из какого материала сшито платьице… Она провела руками по плечам, по спине внучки: хорошо сшито. Теперь она знала даже, сколько на нем пуговиц, какие на ногах у Сэсэгхэн русские унтики. Но прочные ли они? Пощупала как следует, решила, что легкие и прочные. Сверху на них дырочки, чтобы ножкам летом не жарко было. Видать, все у русских с умом делается.
Тобшой ощупывала внучку — не худенькая ли, вспоминала, как тогда ее рубашонки с каждым днем становились все просторнее.
Она взяла девочку на руки.
— У, какая тяжелая стала! Скоро я тебя не смогу поднять.
Тобшой прислушивалась, что говорят соседи о ее внучке. А те хвалили девочку: «Красивая стала Сэсэгхэн, щечки румяные. Увидела бы Аюухан, порадовалась бы».
Значит, напрасно Тобшой не спала ночей, беспокоилась о внучке.
Утром Доржи и Бадма встали пораньше, принялись молоть муку для саламата. Мать мокрым веником вымела земляной пол, до блеска начистила посуду, постлала чистые войлоки.
Отец наточил ножи, чтобы крошить мясо для боз. Ребята побежали собирать по склонам гор дикий лук. «Жил бы в улусе Степан Тимофеевич, тетя Алена нарвала бы луку в своем огороде», — подумал Доржи.
Когда все было готово, отец пошел за Марией Николаевной.
«Почему их так долго нет? — Доржи забеспокоился. — А вдруг она не придет? Мальчики ведь говорили, что она не войдет в юрту пятидесятника». На смену этим мыслям приходят другие: Тетя Мария всегда его хорошо встречает… Письмо обещала. Нет, она обязательно придет!
Вот идут, идут! Где же Аламжи, Эрдэни и Даржай? Когда нужно, их нет. Доржи сказал бы им: «Смотрите, тетя Мария в гостях у нас! Прикусите свои болтливые языки!»
Мария Николаевна вошла в юрту, подала руку Цоли, Бадме и Харагшану. Доржи потихоньку вызвал во двор Бадму и чуть не плача попросил:
— Разыщи Аламжи, Эрдэни и Даржая… Очень нужно…
Мать поставила перед дорогой гостьей самое лакомое угощение: белые пузатые бозы, горячие и сочные лепешки с маслом, сметану, саламат… В юрту, зашел Мунко-бабай с внуком Гулгэиом. Гулгэн еще плохо ходит, не говорит. Цоли налила всем по чашке араки.
— Очень вкусно, — похвалила Мария бозы.
— Я рад, что в Казани живет ваша сестра. Моему сыну повезло. А то город незнакомый, далеко от нас… — проговорил Банзар.
— Все будет хорошо, — успокаивающе сказала Мария Николаевна. — Доржи вернется ученым…
Они долго говорила о сестре, рассказывала о городе, о театре, гимназии, университете, о Волге.
Волга уже видится Доржи — широкая-широкая. До другого берега глаз не хватает, из пушки пали, на том берегу не услышат. Так и ходят по реке волны, словно кто-то трясет серебристый шелк. А по волнам медленно плывет много тяжелых, связанных вместе бревен. На них стоит с длинной палкой в руках Степан Тимофеевич в засученных до колен штанах, лицо у него мокрое от пота. Рядом сидит Саша с удочкой. Он такой же желтоголовый, веснушчатый. Не знают они, что Доржи на их родину едет…
Мария Николаевна собралась уходить, когда Бадма привел мальчиков.
— Видали? — с гордостью спросил их. Доржи.
Мальчики виновато молчали.
Вот уже новая заря, новый день. Красиво ранним утром в улусе. Над юртами вьются дымки. И над кузницей Холхоя, что рядом с юртой Мунко-бабая — светло-сизый бойкий дымок. Слышится звонкий стук молота.
Под кузню Холхой приспособил просторный летник. Вместо окон вверху стен — продолговатые отверстия. Дверь открыта. От дыма или от синей железной пыли воздух в кузнице голубоватый. На земляном полу — золотистые ленты солнечных лучей.
Самый тяжелый молот, которым работал Степан Тимофеевич, лежит сиротливо в углу.
Холхой поворачивал на углях острый кусок железа, будто мясо жарил. Другой рукой легко и быстро давил на ручку меха. Мех, как свирепый дракон с длинным журавлиным клювом, дул и дул на красные угли. Чем жарче пылал горн, тем злее становился мех — хрипел, задыхался. Холхой отпустил ручку. Мех стал дышать все слабее и реже… Вот и последний вздох умирающего дракона…
Холхой торопливо бил по раскаленному куску железа. Белые искры летели во. все стороны. Они казались длинными огненными стрелами.
Железо было совсем белым, потом стало краснеть, будто стыдилось, что человек может его согнуть, как захочет. Холхой снова накалил его. Доржи догадался: Холхой делает сошник. Вскоре готовый сошник зашипел в корыте с водой. Над корытом поднялись белые клубы пара. Холхой вытер пот и обернулся.
— А, это ты, Доржи… а я думал — Затагархан пришел. Он часто бывает у меня — смотрит, помогает… Не только плотником, кузнецом станет. Молодец парень.
Лицо у Холхоя темное. Будто даже немного злое. Может, это от огня? Зубы так крепко, так тесно сидят, что между ними никакая неправда не просочится. Как смеялся Холхой, когда у Доржи выпали передние зубы! «Э, Доржи, ты теперь вовсе старичок. Покупай у меня — каждый зуб жирного барана стоит. Если другие не вырастут, я тебе из железа вот такие большие зубы сделаю». Доржи очень боялся, что не вырастут и Холхой в самом деле откует ему железные.
— Это вы для себя сделали? — Доржи показал на сошник.
— Нет, для Эрдэмтэ. Он давно просил: пуд овса из русской деревни привез, хочет посеять. Поздно уже, но зеленка будет… Сам-то он никогда не ковырялся в земле. Дагдай обещал показать ему.
Доржи подумал: «Как интересно! Степан Тимофеевич учил Дагдая, а теперь сам Дагдай учит».
Холхой вытащил из корыта остывший сошник, осмотрел его и отнес в угол.
— Значит, скоро уезжаешь?
— Да, скоро.
— Ну что ж, счастливо съезди и вернись. Дело хорошее. Мы все за тебя радуемся. Нам не пришлось учиться… Я вот даже свое имя по-русски написать не умею. Если бы понимал, как оно пишется, из толстого железа скрутил бы буквы.
Холхой закурил трубку, сказал задумчиво:
— Я думал, может, ты мне покажешь…
— Конечно, покажу. Это не трудно.
— Ты же скоро уедешь.
— Весь букварь изучать долго, конечно. А научиться имя написать можно быстро. Всего шесть букв.
Доржи присел и нацарапал гвоздем на твердом земляном полу первую букву имени соседа. Ученик с седеющими висками и маленький учитель — черноглазый, краснощекий, — склонились, будто зернышко на полу ищут.
Холхой был удивлен. Оказывается, его имя и в самом деле всего из шести букв. Да и буквы-то легкие. Вот косой крестик — это буква «Х». С нее и начинается имя. Просто, и запоминается легко. Следующая буква тоже нехитрая — кружочек. Такие кружочки Холхой не только гвоздем чертить, но и из железа гнуть может… Потом идет клинышек острием вверх — «л». Вот уже набралось три буквы: «Хол»… Дальше опять косой крестик, опять кружочек…
Холхой радовался, что это так просто… А Доржи, как настоящий учитель, требовал, чтобы буквы были ровные, красивые.
— Не забудете, как пишется ваше имя?
Холхой неуверенно ответил:
— Кто его знает… Может случиться.
— Были бы у вас бумага да чернила, я написал бы вам.
— Зачем бумага, зачем чернила…
Холхой поднялся, нажал ручку меха, накалил острый железный стержень, потом взглянул на буквы своего имени и на толстом бревне стены глубоко выжег пылающим острием косой крест, кружочек….
Доржи тоже надел кожаную рукавицу, взял раскаленный стержень. Громко повторяя каждую букву, он выжег рядом с именем кузнеца его фамилию, год, месяц, число. Этот день им обоим останется навсегда памятным: кузнец Холхой впервые вывел по-русски свое доброе имя, а Доржи впервые в своей жизни показал взрослому соседу русские буквы.
Только на улице Доржи почувствовал, как жарко в кузнице. Из юрты Мунко-бабая вышла жена Сундая, Ади.
— Доржи, не видел Гулгэна?
За Доржи ответил Холхой. Он стоял в дверях кузницы.
— Шагдыр и Даржай его с собой увели… Посмотри-ка, Ади, какой дорогой гость к вам идет. Связались вы с его коровой… Все наперед знал Степан, будто сам у этого толстоногого когда-то корову брал.
Мархансай еще издали прогнусавил:
— Сундай дома? Пусть выйдет. Ну как, Ади, Буренка доится?
— Да так… лучше, чем совсем без коровы…
— Ничего, ничего. Не горюй. Она потом станет больше молока давать.
Мархансай обернулся к подошедшему Сундаю:
— Я хочу огородить новые покосы и тээлъники. Нужны хорошие жерди — длинные, ровные, чистые… Чтобы я свою жердь за версту мог признать, если кто украсть вздумает. На твою долю вышло заготовить триста штук.
Сундай почесал затылок и робко проговорил:
— Мархансай-бабай, может, пока двести, а сто осенью?
— Вот какой ты… Когда коровенка понадобилась, к кому пришел?
Сундай молчал.
Мархансай по/вернулся к нему спиной.
— Чтобы к началу сенокоса сделал триста жердей!
Когда Мархансай был уже далеко, Холхой угрюмо проговорил:
— Теперь к Эрдэмтэ пошел. Пока не обойдет всех, кто коров у него взял, домой не вернется.
Доржи представил себе: Мархансай заходит в юрту Эрдэмтэ, спрашивает маленького Бато: «Ну, Бато, мама молочка дает?» — «Дает немного», — сквозь слезы проговорит мальчик. «Ну и хорошо, что дает. Слава богу».
Потом Мархансай обратится к Эрдэмтэ-бабаю: «Ты мне жердей нарубишь. Пока штук триста. Тээльники загородить нужно».
Так приблизительно и было, Доржи угадал.
У ЮРТЫ МАРХАНСАЯ
Как гром разразилась над улусом весть: завтра должны быть уплачены все подати и недоимки. Люди волнуются, ищут деньги: предлагают друг другу кто барана, кто теленка, унты, серьги.
Бобровский потребовал, чтобы должники явились к юрте Мархансая. А должники — весь улус… Люди стоят понурые, просят обождать, уменьшить подати. Жалуются на бедность, на болезни, на зуд, на засуху. Женщины плачут. Но Бобровский твердит одно и тоже.
— Подать царская. Царю нужны деньги. Умри, да найди…
— Где взять, если нет денег?
— Мы стали еще беднее… Зуд вконец разорил — сколько коров погибло… Ни масла, ни молока…
— На коров все надежды были. Больше, чем на бога… А теперь и костей ихних не найдешь. Тут еще подати…
— Продать нечего — ни теленка, ни масла… Небесных птиц доить, что ли?
— Это царя не касается. И мне дела нет. Я знаю, что в улусе много недоимщиков. Дагдай еще за прошлый год рубль недоплатил. Заплати, Дагдай, немедленно, а то плохо будет.
— Нету денег. Корова одна, детей куча… Разрешите позже заплатить.
— Позже? Ты что, над царем насмехаешься? Он ждать не будет, да и я нянчиться не стану. Проучу, будете помнить.
— Не грозите, Бобровский, сами знаем.
— Что ты знаешь? — рассвирепел Бобровский. — Ты нарочно не платишь подати. Другим пример подаешь… Всыплем ему двадцать пять горячих, — обратился он к урядникам, — тогда узнает, как надо царский закон исполнять.
Дагдай посмотрел на Бобровского исподлобья. Сам снял кушак и халат.
— Ложись!
В наступившей тишине раздался вопль. Это закричала жена Дагдая, вслед за нею заплакали дети. Дагдай вздрогнул, резко повернулся к ним:
— Вы зачем здесь? Уходите домой!
— Пускай ревут, раз горла не жалко. Пускай с малых лет учатся о податях думать. Пускай видят, как белый царь расправляется с теми, кто не платит, — злобно сказал Бобровский.
Дагдая повалили, на ноги ему уселся урядник, левую руку держит второй урядник, правую — Цоктоев. Бобровский взял пучок длинных розог, подровнял их.
Одни отвернулись, другие руками закрыли глаза, третьи замерли с открытыми ртами… Доржи вспомнил, как в прошлом году тайша бил одного парня тоже за недоимки. Тот плакал, кусал руки, поминал богов, кричал. А Дагдай сам снял халат. Бобровский размахнулся и ударил. Дагдай дернулся. Цоктоев едва не перевернулся. На спине Дагдая появились красные рубцы. Видно, все труднее и труднее было удерживать его. Он не стонал, не кричал, но все тело, каждая жилка сопротивлялась насилию.
Доржи заплакал. Как смеет Бобровский бить человека?.. Какую силу нужно иметь, чтобы не закричать, не застонать!
Бобровский отсчитал двадцать пять ударов и распорядился:
— Отпустите.
Посмотрел на Дагдая:
— Иди. Если завтра не принесешь три рубля, получишь еще пятнадцать розог. Понял?
Дагдай стал, кажется, меньше ростом, сгорбился. Холхой и Ухинхэн взяли его под руки, он оттолкнул их и нетвердо зашагал прочь.
Бобровский зашел в юрту, за ним Мархансай. Урядник подобрал разбросанные розги.
— Пригодятся еще.
Держась, как слепой, за юрту, Дагдай стал пробираться в тень. Кровь на спине запеклась. Сзади шла жена, веткой отгоняла мух.
Ухинхэн с Холхоем разостлали в тени халат. Дагдай не может ни сидеть, ни стоять. Он бормочет что-то невнятное, закрывает глаза от солнца. А может быть, прячет их от стыда: ведь его перед всем улусом почти догола раздели…
— Воды! — попросил он и поднял лицо, вымазанное кровью, землей, слезами.
Харагшан и Доржи принесли воды. Дагдай глотнул, остальное вылил себе на голову. В дверях юрты показался Бобровский. Он что-то' жует, потный и усталый. Погрозил улусникам засаленным пальцем:
— Завтра принесите деньги, а то всем то же самое будет. Если понадобится, еще урядников и казаков вызову. Вы у меня наплачетесь!
Бобровский ушел в юрту. Ухинхэн вслед ему прошептал:
— Рыжая собака без хвоста.
— Бобровский — царская рука, жандармская душа. Этот пес не зря казенный хлеб жует… Он у нас сам вроде маленького белого царя, — сказал Мунко-бабай.
Эти слова скоро узнал весь улус.
После отъезда Бобровского и урядников все в улусе замерло, люди сидели по своим юртам, разговаривали шепотом, ждали новой беды. В этой тишине особенно громко прозвенел колокольчик: «Харгы гарга, харгы гарга»[51]. Одни прильнули к щелям юрт, другие вышли, смотрят из-под ладони — не нойоны ли опять едут, не урядники ли? Страх сменился удивлением — в казенной телеге сидел родственник Банзаровых Хэшэгтэ. Как же так? Ведь Тыкши Данзанов прошлый раз кричал, чтобы и ноги его в улусе не было. А Хэшэгтэ на подводе степной думы… Уж не померещилось ли это?
Оказалось, что Хэшэгтэ будет сопровождать мальчиков в Казань, жить с ними, пока те будут учиться.
— Как же это случилось? — обрадованно спросил Банзар.
Хэшэгтэ ответил шутливо:
— Если на скачках повернуть коней вспять, первым окажется старый мерин.
Хэшэгтэ не думал ехать в Казань, да его и не приглашали. Тайша собрал грамотеев из многих улусов. Но подходящего человека, чтобы сопровождать мальчиков, не нашлось. У одного — семья большая, второй — по-монгольски пишет, а по-русски даже поздороваться не умеет, у третьего еще что-нибудь… Кто-то сказал тайше: «Хэшэгтэ самый подходящий будет. Уедет, и мы от него избавимся». Тайша не соглашался сначала, потом приказал Хэшэгтэ подписать в думе бумагу, что за детьми будет строго следить.
— Одним словом, я теперь ихний пастух… Мне идет шестой десяток, но я не мог отказаться, когда улусные дети едут учиться!
Доржи не верит себе: как в сказке! С ним едет Хэшэгтэ-нагса!
Будто кто-то спросил Доржи: «Кого из взрослых отправить с вами в Казань?» А он ответил: «Никого, кроме дяди Хэшэгтэ». И тот, добрый, решил: «Правильно он сказал. Пусть едет Хэшэгтэ».
Конечно, никто не спрашивал Доржи, но похоже, что это случилось по его желанию. А что, если бы в самом деле спросили: «Доржи, с кем из мальчиков ты хочешь поехать в Казань?» Он, не задумываясь, ответил бы: «Пусть с нами едет Алеша Аносов».
Алеша сказал, когда прощались: «Хоть пешком, да доберусь туда, где настоящая школа есть». Может быть, они в Казани встретятся?
Люди часто говорят слово «друг». Но ведь друзья бывают разные — одного уже на следующий день забудешь, а с другим ты всегда вместе. Он в твоей душе, будто все время рядом с тобой живет, будто и голос его и смех слышишь. Такой друг Алеша. И Саша такой же друг, в Кяхте все время перед глазами стоял. Большой, высокий, наверно, стал, помогает Степану Тимофеевичу в работе.
Как хорошо, что дядя Хэшэгтэ едет в Казань!
Доржи щедрый мальчик. Разве может он не поделиться своей радостью со всем улусом?
— Дядя Ухинхэн! Дядя Ухинхэн! Хэшэгтэ-нагса приехал, он с нами в Казань едет! — еще издали крикнул Доржи.
Ухинхэн сидел на траве возле юрты, починял седло.
— Куда едет?
— В Казань.
— В Казань… Ему что… Горя мало. Подпоясался — и все.
Доржи с удивлением посмотрел на Ухинхэна. Почему он так говорит о дяде? Тогда угощал его, а сейчас…
— Ты, наверно, задумал нойоном стать, когда школу окончишь? — насмешливо спросил Ухинхэн.
— Зачем нойоном? Писарем буду, — с обидой сказал мальчик…
— Это все одно.
Ухинхэн взглянул на Доржи и сказал уже мягче:
— Ты не обижайся. Хочется же, чтобы нашлись наконец люди, не слепые к народному горю… Смотри, хорошо учись. За всех нас… Вон Балдан сколько за раз мог поднять. И ты будь таким в науках.
— Я буду стараться. — Доржи очень хочет, чтобы Ухинхэн поверил ему. «Да, я буду стараться, изо всех сил стараться», — добавил он про себя.
— И я бы своего Даржая в школу послал… Да мы не казачьи нойоны. Люди советуют в дацан его отдать, память, говорят, у него крепкая, молитвы быстро заучит. А что хорошего? Попхоем стал бы.
— Дядя Ухинхэн, у меня старые книжки, буквари есть, я отдам Даржаю, он и без школы научится, — старался утешить Ухинхэна Доржи.
— Нет, без школы учиться — что на коне скакать. без узды. Куда повернет, куда понесет, конь, сам не знаешь.
Ухинхэн согнул бронзовую пластинку, наложил на луку седла, прибил гвоздями.
— Крепкое седло будет, — сказал Доржи и таким же тоном, как Холхой, добавил: — Хорошая работа.
— Седло-то крепкое, — проворчал Ухинхэн. — Но бедному коню каково! Вот подумай: я сейчас положу это седло на спину своей хромой клячи, двумя ремнями затяну через брюхо, чтобы прочно держалось. Мне удобно на седле сидеть, а у нее на спине кровавые ссадины будут. Больно, а пожаловаться не может…
Доржи подумал: «Как странно он говорит: сам делает — и недоволен».
— Иные и на людей седло накинули, — раздраженно продолжал Ухинхэн, — чтобы сидеть и скакать на них удобнее было.
— Я не понимаю: как на людей можно седло накинуть? Кто это даст?
— Ты в школе учился, должен понимать. Даже голодный не станет из чужого рта жеваное есть… Если не понял, потом поймешь, в Казани…
Доржи было обидно: дядя Ухинхэн говорит загадками, а объяснить не хочет. Напрасно Доржи радовался тогда, у бабушки Тобшой, что все начинает понимать с одного раза.
Выходит, что и эти слова Ухинхэна труднее разгадать, чем самую трудную загадку его сына Даржая.
Мимо пробежали Даржай и Шагдыр. За ними с прутом Дарима. За руку, она вела заплаканного Гулгэна.
— Только посмейте еще так сделать! — пригрозила она мальчикам прутом.
— Что они натворили? — спросил Ухинхэн.
— Играть не могут как дети. Посадили Гулгэна в ямку, где я молоко храню. Досками закрыли. Он перепугался. А им что? Рады…
Ухинхэн усмехнулся:
— Им же интересно мальчика попугать.
Ухинхэн прикрепил к седлу подушечку, привязал кожаными шнурками.
— В яму посадили… это не беда. Кто-нибудь вытащит. А вот мы все в такой яме сидим, что из нее не выберешься. Понял, Доржи? — Ухинхэн взглянул с усмешкой.
Доржи уже сквозь слезы сказал:
— Плохо понял.
— Опять хочешь, чтобы разжевали тебе? Не знаю, зачем отец тебя в школу возил.
— Что вы ребенка мучаете, расскажите ему про эту вашу яму, — заступилась Дарима.
— Да ты и сама не на горе стоишь. Все мы в глубокой яме сидим. Яма сверху доской прикрыта. Темно в яме, холодно. Тесно там, рогатые быки людей бодают, кого до смерти затопчут. Ори, никто не услышит наверху, а если услышат, им горя мало. Все стараются из этой ямы выбраться. Но одни и соседа хотят вытащить, а другие, как Цоктоев, на головы людям лезут, чтобы наверх выкарабкаться. Но ничего у них не получается. Цоктоеву, может, кажется, что он уже вышел на широкую дорогу, а мы-то видим, что он на самое дно ямы скатился, в болоте барахтается.
Доржи вспомнил, как в тээльнике Ухинхэна парень ударил Цоктоева по зубам. Теперь Доржи понимает: не потому тот парень ударил Цоктоева, что за него тайша больше не заступается.
Ухинхэн замолк. Доржи тоже молчал. Он и это не особенно хорошо понял, но не будешь же опять переспрашивать… А то еще дядя Ухинхэн скажет отцу: «Вашего сына не в Казань надо отправлять, а в степь, овец пасти». Почему другие считают его понятливым мальчиком?
— Да, это так, дядя Ухинхэн.
А Ухинхэна не проведешь, он видит: скажи сейчас этому Доржи, что небо не синее, а желтое, он все равно скажет — верно, желтое.
— Однако, ты не понял, Доржи. Слушай. У людей в степи такая же жизнь, как у зверей в лесу. Есть и свои лисы, хитрые и прожорливые, есть и соловьи, которым, хоть и голодно — песни поют. Но куда соловей ни лети, как высоко ни поднимайся, хитрая лиса до его гнезда доберется. Так и среди людей.
— Я, кажется, понимаю, дядя Ухинхэн.
— Вот, у нас Еши Жамсуев был как соловей… Хороший был человек. Честный. Зря некоторые тогда сомневались насчет магазейной муки.
— А кто же лиса, дядя Ухинхэн?
— Откуда мне об этом знать… Ты для чего едешь в такую даль? Вернешься ученым да умным, сам людям покажешь, кто какой зверь.
Доржи задумался. В словах дяди Ухинхэна что-то ему знакомо. Но что — сразу и не вспомнишь. Соловей, лиса… Да ведь дядя Ухинхэн баснями говорит! Доржи чуть не подпрыгнул от удивления — наверно, ему кто-нибудь книгу Крылова прочитал!
— А кто такой Крылов? — в ответ спросил Ухинхэн. — Учитель ваш?
— Нет, он в Петербурге живет. Он тоже, как и вы, думает о людях, а говорит о зверях. У него и соловьи, и лисы, и медведи разговаривают. А царь у него — лев.
Ухинхэн улыбнулся:
— Так и надо, чтобы немного непонятно было.
— У Крылова есть басня. Ой, какая хорошая! — одним духом выпалил Доржи.
— О чем это?
— Лебедь, рак и щука решили воз с места сдвинуть. Впряглись, и ничего у них не выходит. Лебедь к небу тянет, рак назад пятится…
— А щука — в реку? — рассмеялся Ухинхэн.
— Ну да.
— И через сто лет воз там же будет, если так тянуть будут. Это же о людях. Умная сказка. У нас в улусе так было, когда Мархансай с Данзановым стали выгонять Степана Тимофеевича. Я тогда говорил соседям: заступиться за него надо. А они как те лебедь со щукой — кто куда: кто в затылке чешет, кто молчит, кто и соглашается будто, а увидит нойона — и в юрту. А кого дорога притягивает, как твоего дядю Хэшэгтэ… Что мы втроем — с Холхоем и Дагдаем — могли сделать?
Ухинхэн бросил под телегу седло, чтобы не рассохлось от солнца, собрал шкурки, гвозди, молоток и шило и вошел в юрту. За ним вошел и Доржи.
Когда сели пить чай, Ухинхэн спросил:
— У этого твоего Боброва много таких сказок?
— Не у Боброва, а у Крылова, — поправил Доржи, — Много, целая книга. Там все звери есть. Если волк — злой начальник…
— Крылов хорошо, видно, жизнь знает. И народ так же говорит.
Дарима протянула Доржи маленький туесок масла и носки.
— Это чтобы в жизни у тебя всегда была сытная еда и теплая одежда.
— Спасибо, тетя Дарима. Спасибо, дядя Ухинхэн.
— Ну, уезжай да учись за всех. Чтобы после твоего возвращения и мы умнее стали.
Доржи шел-домой быстрым шагом. Ему хотелось поскорее рассказать родителям, с какими хорошими словами Ухинхэновы дали ему туесок масла и носки. Из-за поворота показалась телега. Кони мчались во весь опор. «Станичный атаман!» — догадался Доржи, увидев на проезжем мундир, золотые погоны, ремни.
Кони станичного атамана Николая Усачева остановились у коновязи Банзаровых. Атаман не в гости приехал, завернул проездом — дать отдых коням да чашку чая выпить. Доржи не обрадовался — лучше бы атаман заехал к кому-нибудь другому. А то, пожалуй, Даржай и Аламжи опять станут дразнить, что отец от усердия о порог спотыкался.
Хэшэгтэ-нагса тоже встревожен: как бы чего недоброго не случилось. От начальства хорошего ждать не приходится… А с другой стороны — интересно посмотреть, что за человек Усачев.
Доржи вспомнил, как к ним приезжал сотник Колотилин. Давно, кажется, это было. Доржи тогда ни одного русского слова не знал. Запомнился ему мундир с блестящими пуговицами, усы — длинные, толстые, да еще конфета в красивой бумажке, которую сотник ему дал.
Усачев не Такой. Высокий, выше отца. Молодой. Мундир у него красивее, чем у Колотилина… Сапоги маленькие, блестящие, со шпорами. Как они не запылились в дороге? Наверно, атаман заставляет своего кучера чистить их перед каждым улусом.
Казак-кучер остался у телеги. Его пригласили в юрту — не пошел: видно, не полагается…
— Ну, здравствуй, Банзар, — проговорил атаман.
— Здравия желаю, ваш… родие! — гаркнул Банзар и козырнул.
Доржи это не понравилось.
Усачев протянул отцу руку. У Доржи немного отлегло от сердца.
— Давно дома, Банзар?
— Нет, недавно, — спокойнее ответил отец. Но Доржи уловил в его голосе что-то общее с Цоктоевым, когда тот говорил с тайшой. — Младшего сына провожаю…
— Далеко ли?
— В Казань, на учебу… Вот этого.
Атаман посмотрел на Доржи сверху вниз и проговорил то ли одобрительно, то ли насмешливо:
— Учись… учись… Вернешься, может, атаманом станешь.
— Я буду не атаманом, а писарем.
— Ишь ты… И сейчас в переводчики годишься… Даже в писаря… К этому, как его, к рыжему…
— К Бобровскому, — подсказал Банзар.
— Вот, вот… Значит, собираешься Бобровского лишить куска хлеба? — пошутил Усачев.
— Зачем же… Если вернется ученым, ему место найдется повыше, — отозвался Банзар.
Доржи понравилось, как ответил отец.
Мать вела себя спокойно и просто: протерла столик на высоких ножках, чисто вымыла чашку. Сварила чай. И, к удивлению Доржи, налила сначала не гостю, а в бронзовую чашечку — бурханам. В обычные дни она так не делала.
Понял ли Усачев, что для матери он просто гость, а не большой начальник?
Усачев пьет зеленый бурятский чай с жирной пенкой, жадно ест горячую лепешку, только что снятую с золы. На лепешке тает и без того жидкое масло, оно стекает ему на мундир. На зубах атамана хрустят молочные сухари, будто зерно на жерновах. Он мажет хлеб сметаной, маслом и урмой. Даже не верится, что его боятся казаки.
Хорошо бы разгадать, что за человек Усачев, какие мысли у него.
Отец спросил:
— Вы по службе пожаловали в наши края?
— Если бы не служба, сидели бы мы дома да пироги жевали…
Когда Усачев уехал, отец сказал:
— Вот видели, Хэшэгтэ-нагса, какой у нас атаман? Простой человек, не гордый.
Хэшэгтэ усмехнулся:
— Да… Так многие из вас думают… Он не орет, не замахивается нагайкой, не брызжет слюной… Может, иногда даже заступается за простого казака, если того какой пятидесятник обидит… Знает, что казак начнет трубить да расхваливать: «Усачев — спаситель…» А Усачев тем временем приказывает тому же пятидесятнику крепче держать подчиненных, не щадить никого… Он, говорят, любит заводить с казаками дружбу, чтобы выведать, выпытать, кто чем дышит, что у кого на уме. А потом и начинается: аресты, порки, следствия… У него в руках многие купцы, чиновники. Вот карманы и пухнут от денег.
— Откуда вы все это знаете, Хэшэгтэ-нагса? — спросил Банзар с недоверием.
— Знаю, раз говорю, — не зря Хэшэгтэ свои уши по белому свету таскает.
— Я не люблю судить человека с чужих слов, — сдержанно ответил Банзар, — и наспех боюсь судить…
— Надо было все же получше угостить его, — забеспокоилась Цоли, — а то еще на службе начнет притеснять. Я ведь не знала, что он такой вредный.
— Ладно, ему и без вас хватает угощений, — махнул рукой Хэшэгтэ. — Пусть кто побогаче от него, откупаются.
Доржи услышал голоса мальчиков. Но ему не хотелось сейчас с ними встречаться: будут дразниться Усачевым.
Через откинутый полог юрты Доржи увидел, что к ним идет Мархансай. «Что-то ноги у него бойкие стали, который день по улусу ходит. Зачем он к нам? Корову отец не брал, жердей рубить не должен…»
Мархансай вошел в юрту и с сожалением проговорил:
— Атаман Усачев уже уехал? А у меня дело к нему.
— Проходите, Мархансай-ахайхан, чашку чая выпейте, — пригласил Банзар.
Мархансай уселся за очагом. Цоли налила ему чаю, подвинула поближе масло, лепешки. Мархансай отхлебнул чаю, заговорил:
— Куда сына вздумал отправлять, Банзар? Что за глупая выдумка — посылать мальчишек в русский город? Да знаешь ли, кем они вернутся?
— Кем вернутся, об этом надо у тайши спрашивать. Это его затея.
— А, тайша?.. Ну, ну… Тайша знает, конечно. Тогда пусть едут… Когда в путь?
Успокоился Мархансай, но ненадолго. Вот он снова завел разговор — нудный и скучный, будто просеивал мелкие семена полыни и крапивы.
— Бурятам незачем делать то, что русские делают. Русские богов не боятся, железным сошником ранят землю… Огонь и воду вместе в желтый котел кладут и чай варят… А вы пьете этот чай да хвалите. Еще называетесь буддистами. Готовы бурхана-багшу забыть, ихнему Христосу поклоняться. В русских превращаетесь, хлеб сеете, детей в русские города посылаете…
С ним никто не спорил, но никто и не одобрял его слова. Бубнит, будто сам с собою разговаривает. Доржи вспомнил: он уже где-то слышал эти речи… Ну да, то же самое говорил старик, у» которого Доржи с отцом ночевали по пути в Кяхту…
Мархансай повернулся к Доржи:
— А ты и рад уехать? Да? Бурятский язык забудешь, по-русски болтать станешь, русские молитвы перед своими бурханами читать будешь.
Доржи рассердился: почему все молчат, будто онемели? Ему захотелось позлить Мархансая.
— В будущем году и ваш Шагдыр поедет в русскую школу.
— Замолчи! Мой Шагдыр в будущем году в дацан пойдет. Ламой будет. А все мальчики, которые в русский город уедут…
У Цоли сжалось сердце. Может, вправду, сын вернется совсем чужим? Чтобы отогнать тревогу, она заговорила о другом.
— Сэсэгхэн, дочка Аюухан, хорошей девочкой стала. Посмотрели бы вы ее. Осенью приедет.
— Что я, девчонок не видел, что ли?
В это время вошел Хэшэгтэ. Он сидел в тени за юртой, делал для кого-то серебряные колечки с цепочкой. Мархансай взглянул на него исподлобья, не ответил на приветствие.
— И ты, Хэшэгтэ, заявился? Опять на меня лаять станешь? Знаю я тебя: у тебя душа русская, недаром ты их всегда хвалишь.
— Правильно, Мархансай. Русская у меня душа, и в русский город Казань собираюсь.
— Слышал, слышал. Гомбо Цоктоев говорил. Поезжай. Давно пора. Здесь делать тебе нечего.
— Здесь нечего, так в Казани найдется.
— Что ты умеешь? Побрякушки?
— Почему побрякушки? Слышал, что ты своему сыну хочешь нож подарить — в серебре, с золотой насечкой. Давай сделаю. Для тебя хорошо сделаю. И недорого. Двухлетку-жеребца отдашь?
— Я тебе и хвоста лошадиного не дам.
— Ну и что ж, проживу… Многие всю жизнь, кроме лошадиных хвостов, ничего не видят.
— Ты это от зависти говоришь, Хэшэгтэ. Ходишь, высматриваешь, кто побогаче живет, кто пожирнее кушает. Все нынче такие. Ухинхэновы тоже — он и жена одинаковы. Когда мой скот выходит на пастбище, эта баба у юрты стоит. Я-то знаю зачем… Она каждое утро считает, сколько у Мархансая коров. Ну, я пойду, пожалуй.
Мархансай, кряхтя, поднялся, никто его не стал задерживать.
Сколько людей сегодня заходило к ним в юрту! И всех угостить надо было. Мать много раз чай варила. Ой, как жарко и душно в юрте! Даже голова звенит… Хорошо бы выйти на улицу, на ветер. Но пока не стемнеет, из юрты выходить нельзя — эти мальчики так, видно, и ходят вокруг, караулят Доржи. Выйдет он — и сразу начнут горланить, как весенние галки: «Атаман, атаман, выворачивай карман, а в кармане шишки, шишки для Доржишки!»
Вечером, когда он шел к загородке помочь матери, его все-таки настигли Аламжи и Даржай.
— К вам станичный атаман заезжал?
— Заезжал… — Доржи отвечал спокойно, как и подобает будущему ученику казанской гимназии. — Мало ли проезжих… Попил, чаю и уехал… Отцу не до Усачева: меня в дорогу собирает.
Ребята не стали больше расспрашивать, задирать. Ведь Доржи уезжает. Разве можно перед разлукой обижать друга? Конечно, нет… К тому же им не терпелось рассказать Доржи смешную историю, как шаман Сандан подрался с ламой. А было это так.
В соседнем улусе долго болел ребенок. Отец мальчика позвал ламу, а мать не знала об этом и привела шамана Сандана. В юрте встретились заклятые враги. Шаман твердил, что ребенка спасет его камлание, а лама — что помогут его молитва и дацанская музыка.
Рассказывают, что они спорили, спорили, потом шаман кинулся на ламу, разорвал на нем одежду и облил гнилой печенкой, припасенной в юрте для обработки шкур. А лама откусил шаману ухо и выдрал добрый клок волос.
Так, видно, и было. Ламы, как стая желтой саранчи, наступают на шаманов. Шаманов меньше числом, они недружны между собою и вынуждены отступать. Но чем больше их теснят ламы, тем они становятся злее. И те и другие сбивают с толку улусников. Ламы говорят: «Ничего шаманы не понимают». А шаманы твердят: «Берегитесь мерзавцев в желтых одеждах».
Улусники не знают, кому верить, как быть. Одни выгоняют шаманов, другие не пускают в юрту лам. А есть и такие, как покойная Аюухан, — зовут то тех, то других.
Доржи раньше не задумывался над тем, что ламы и шаманы один воз тянут в разные стороны. Он привык к ним, как к тому, что у коня есть хвост, а у кадушки дно. И рассказ о драке ламы с шаманом не удержался бы в памяти, если бы у Доржи не было разговора с Эрдэмтэ-бабаем на следующее утро.
— Некоторые говорят, что настоящие боги у дацанских лам… Другие говорят, что у нас всегда были шаманы. Им будто мы и должны верить. А Ухинхэн толкует, что и ламы и шаманы вроде как бы совсем не нужны… Что про это в твоих книгах написано, Доржи?
— Не знаю… В книгах ничего не написано, — смутился Доржи, будто он виноват, что в книгах нет ответа на вопрос Эрдэмтэ.
— А что учителя говорят?
— И они ничего не говорят, Эрдэмтэ-бабай.
Эрдэмтэ покачал головой.
Доржи, оставшись один, долго думал: как надо было ответить Эрдэмтэ-бабаю?.. Все, что видел и слышал о шаманах и ламах — все смешные и горькие истории, все народные пословицы и поговорки о них, — все вспомнилось Доржи. Но кто из улусников прав, мальчик не знает.
Вот лама Попхой… Говорят, что он божий слуга, исцеляет людей. А коня запрячь не умеет. Рассказывают, поехал из одного улуса в другой. Правил лошадьми мальчик лет семи. Упала у них дуга… Так Попхой полдня просидел на дороге — ждал, когда кто-нибудь подъедет да наладит дугу. Умеет ли он косить, пахать, пасти скот? Конечно, нет!
А Сандан-шаман мыло принял за лакомство. По-русски слова сказать не может, верхом ездить не умеет, пчел и ос боится. Что же в нем божественного?
Все это нужно самому еще понять. Вот вернется Доржи из Казани ученым человеком. Придут к нему улусники — старые и малые. Доржи скажет тогда: «Спрашивайте обо всем. Я отвечу вам на каждый вопрос».
…Доржи, Доржи! Много, много еще надо учиться тебе, прежде чем учить других. Много, очень много предстоит сделать, прежде чем народ скажет тебе спасибо и назовет тебя своим лучшим сыном…
…Завтра Доржи уезжает. В юрте темно, все спят. Посредине блестит лунный блик, светлый, как чисто вымытая овечья шкурка.
Доржи приподнялся на локте, видит: мать шьет что-то. В медной тарелке перед нею едва светится огонек коптилки, трещит и покачивается, как полевой светлячок. А лоскуток в ласковых руках матери точно белый голубь.
Разве его мать не лучше всех на свете? Она вкуснее всех саламат готовит, красиво вышивает. Сама соседок в юрту зазывает, чтобы они свои тяжелые думы веселыми песнями разогнали. Для всех у матери ласковое слово есть. Все ее в улусе любят. А отец не такой. Доржи помнит, как о нем сказал дядя Хэшэгтэ: «Простых казаков не обижает, но и перед начальством особенно за них не заступается». Отец и на хуре играть не умеет, а когда говорит — хоть неделю слушай, ни одной пословицы не дождешься. Но тут Доржи вспомнил, как отец орла убил. Так, пожалуй, никто в улусе стрелять не умеет, и верхом он лучше всех ездит. Нет, отец тоже хороший. Он сильный и храбрый. Но мать Доржи теперь любит больше. Не над® только, чтобы отец узнал об этом…
Доржи снова пытается уснуть, но мысли словно нарочно тормошат его. Ему вспомнился разговор с Ухинхэном: «Нойоном будешь?» Может быть, и мать думает, что Доржи станет недобрым человеком, и только молчит, чтобы не обидеть сына перед дальней дорогой. Мальчику захотелось подойти к матери, шепнуть ей на ухо: «Мама, напрасно дядя Ухинхэн говорит, что я нойоном хочу стать. Не будут меня люди цепной собакой ругать, как дядю Цоктоева. Никогда не стану таким, как он. Я вместе с дядей Ухинхэном всем буду помогать выбираться из темной ямы».
Доржи вспоминает раннее детство. Ему три или четыре года. Он перекидывает с ладошки на ладошку горячую баранью почку, впивается в нее зубами… Вот он на коленях у матери. Хочется спать, но хочется слушать песни молодых соседок. Он поднимает глаза на мать, в ее маленьком ухе блестит золотая сережка. Вторая серьга — большая и яркая — висит почему-то поодаль. Он протягивает руки, чтобы взять эту серьгу, и не может дотянуться. Потом, когда стал постарше, понял, что это был, наверно, завиток молодой луны.
Пройдут годы… И вот он возвратится из далекой Казани, перешагнет порог отцовской юрты. «Мама, мама… как поседела твоя голова». — «Оттого, Доржи, — ответит мать, — что дни и ночи горевала я о тебе…» Нет, совсем не так встретит мать: «Как хорошо, что ты вернулся таким сильным и умным, родной мой Доржи! Каким большим ты стал, милый мальчик. Нагнись, я поцелую тебя».
Потом Доржи пойдет в степную думу. Перед зданием думы лежит в грязи молодой парень. Над ним склонился Бобровский, такой же здоровый и рыжебородый, как сейчас. В волосатых руках у него розги. Доржи подойдет, и кости Бобровского хрустнут в его сильных руках. Розги упадут на землю. «Ты кто такой? Я тебя не знаю», — снизу вверх посмотрит Бобровский. «Зато я тебя хорошо знаю, царская рука, жандармская душа», — ответит Доржи. «Вставай и надевай рубаху», — скажет он парню. Тот поднимется, вытрет с лица кровь, слезы и грязь… Да ведь это же Затагархан!
На шею Доржи бросится молодая красивая девушка.
«Это ты, Сэсэгхэн?» Откуда-то послышится голос тайши: «Вот каким волчонком ты вернулся, Доржи!»
Быстрые ручейки весны не всегда добегают до моря. Бывает, споткнутся о преграду и растекутся озерком. Встретят преграды на своем пути и мысли Доржи: будут биться в крепкие двери многих загадок, не легко отворить те двери… Станет Доржи ученым и умным, постигнет многие загадки и тайны. Перед ним засияет огромное, то светлое и ласковое, то суровое и бурное, море жизни…
ОТЪЕЗД
К Банзаровым пришла старая Балма, со слезами рассказывает, что Бобровский в степной думе выпорол Сундая. С ним был Холхой. Он попробовал заступиться, его схватили и посадили.
Почему все это должно случиться сейчас, перед самым отъездом? Как было бы хорошо никогда не слышать страшного слова «подати», не видеть лиц, вымазанных слезами и кровью… Каким чудесным было бы тогда последнее утро в родном Ичетуе, у подножия зубчатой Сарабды!
Небо в красных полосах, в облаках, похожих на опухоли после розог. Днем съехались мальчики, уезжающие в Казань. Цокто Чимитов и Гытыл веселые, шумные. А у Доржи Бухатуева глаза заплаканные, опухшие. Русский кафтан на нем как мешок — всюду торчат горбы. Лучше бы уж надел бурятский халат, в Казани, наверно, никто не стал бы смеяться.
У Банзаровых много людей. Все стараются сказать мальчикам теплое слово. Одни говорят: «Мужчины должны побывать всюду. Есть такие, кто отправляется в далекий путь в погоне за деньгами, а вы едете за русской наукой, за светом ума». Другие ничего не могут придумать, кроме слезливых причитаний: «Бедные мальчики… что с вами будет? Кто приголубит вас в дальних краях?» От этих жалобных слов ребятам хочется плакать. Но взрослые говорят уже о подати, недоимках, о нужде. Их прерывает чей-то взволнованный, громкий голос:
— Теплую одежду не забудьте положить ребятам!
— Разве в Казани зима бывает?
— Где эта Казань? Говорят, далеко, за тремя морями.
— С людьми дружно живите.
— Отцовские обычаи, родной язык не забывайте.
Все видят: Цоли повесила сыну на шею кожаные амулеты. В одном были зашиты листочки с молитвами, а в другой она положила щепотку земли.
На легкой телеге подкатил тайша. Он в светлом халате, в черной бархатной шапке, красных сапожках. Между бровями залегли складки. Соскочил с телеги, строго говорит Хэшэгтэ:
— В Казани немало бунтарей, которых белый царь не успел еще сослать в Сибирь. Оберегай от них детей, Хэшэгтэ. Ты за это головой отвечаешь. Выучатся дети, большими нойонами станут, дом на каменном фундаменте тебе построят. Плох будешь с ними, на себя пеняй.
— Я не за каменным домом еду… Я детей для доброго дела везу.
— Я тебя знаю, Хэшэгтэ, поэтому и беспокоюсь за детей, — продолжал тайша. — Помни, что, кроме русского, монгольского, китайского языков, кроме законов белого царя и чистописания, им ничего знать не следует. Смотри мне… Ну, езжайте.
Тайша садится на свою телегу, возница хлещет коня.
Из-за ближней юрты вышел Тыкши Данзанов. Рядом с ним толстый урядник, который Дагдая порол. Чью это лошадь он ведет в поводу? Да ведь это же кобыла Мархансая, на которой Балдан из улуса уехал! Видно, поймали его, связали, а может, и в кандалы заковали. А кобылу хозяину привели.
Цоли утирает слезы, — уезжает самый любимый сын. Она целует сначала сына, потом его друзей — присмиревших, заплаканных.
Доржи с плачем подходит к отцу. Отец не целует на прощанье, а сурово говорит:
— Не реви зря. За хорошим делом едешь! — Широко размахивается и легонько шлепает по щеке. Так велит обычай: в дальних краях сын меньше тосковать будет….
Возле телеги стоят Даржай, Шагдыр, Затагархан и все пять сыновей Эрдэмтэ-бабая — пять пальцев одной руки. Больше не будет Доржи с ними бегать, купаться, ходить за отарою, отгадывать загадки, рассказывать сказки, не будет скакать с ними на конях, есть заваруху из одного чугуна… Доржи везет с собой в Казань деревянную ложку, — которую ему сделал Затагархан. Молодец, что сделал ее такой большой и глубокой: съешь три таких ложки лапши — и уже сыт.
Все готово к отъезду, к телеге подходит Мунко-бабай. Доржи сквозь слезы смотрит на старика. Он и в Казани будет помнить его морщинистое темное лицо, редкую седую бородку, совсем белую голову. Доржи заметил на его сермяжном халате новые заплаты, их вчера не было. Он подпоясан синим кушаком Сундая. Шапка у него одна, и зимою и летом — старая, на черной козьей шкуре.
— Цоли, ты дала сыну, как я велел, две драгоценности? — спрашивает Мунко-бабай.
— На шею ему повесила.
— Вот и хорошо. — Мунко обращается к отъезжающим мальчикам: — Я, дети мои, не впервые провожаю на запад селенгинцев и хоринцев. После большой засухи отправляли мы туда своих челобитчиков, они наше прошение и подарки царю везли. У женщин кольца и серьги тогда отбирали, чтобы серебряный поднос царю отковать. Большой поднос получился, с овечью шкуру. На золотых рюмках сам Бадла-чеканщик узоры вывел. Одних только белых коров доили, чтобы араки приготовить, царю поднести в тех рюмках. Царь наших челобитчиков не принял. Кто-то другой подарки забрал, обещал прошение царю передать. Др сих пор нет нам ни царской бумаги, ни облегчения. Только нойонам медали из Петербурга прислали. И отец тайши Юмдылыка Медаль тогда получил… Говорят, и к белому царю Большому Петру ходили наши буряты. Я-то не помню… Или меня на свете не было, или мальчиком бегал. Богатые и так ездили — деньги растрясти да на чудеса разные поглазеть. А за русской грамотой вы первые едете. Пусть вас хранят там боги, отцовское и материнское благословение… И мое благословение, внуки мои…
Лошади трогаются.
Провожающие стоят во дворе. Цоли закрывает руками глаза.
Вдруг все видят: кто-то скачет верхом, машет шапкой, кричит, чтобы остановили. Когда всадник приблизился, улусники узнали Бобровского и опечалились: не с доброй вестью, наверно, прискакал.
Бобровский — злой, красный — кричит:
— Ты далеко ли собрался, Хэшэгтэ?
— В Казань.
— Тебя не в Казань, на рудники отправить надо. Слезай, мальчиков будет сопровождать Бимбажапов. Он ждет в Иркутске. Получено предписание директора училищ…
Когда Хэшэгтэ снял с телеги свои пожитки, Доржи закрыл лицо рукавом. Плечи у него вздрагивают, — тайша и Бобровский существуют, видно, для того, чтобы омрачать каждый светлый проблеск в жизни людей…
Доржи уезжает из родного, милого сердцу Ичетуя… Полно, можно ли назвать его милым и родным? Что видел здесь Доржи? Перед ним — слепой старик, говоривший на сходке в дни зуда; желтое, болезненное лицо Аюухан; Эрдэмтэ-бабай с обмороженными ногами; Еши Жамсуев — соловей-человек, которого одни жалеют, другие бранят… Мертвая Жалма на руках у Балдана. В ушах свистят розги Бобровского, перед глазами злобное лицо тайши. Можно ли назвать Ичетуй родным и милым?
Не отъехали и версты, а у Доржи развеиваются черные думы. Какой бы убогой ни была здесь жизнь, это его родное место. Здесь его мать, отец, братья, соседи… Здесь он впервые услышал степные душевные песни, улигеры о храбрых баторах, мудрые пословицы. Эрдэмтэ-бабай научил его по-новому видеть степь, горы, небо. Здесь услышал от золотоголового Саши, от тети Алены и Степана Тимофеевича первые русские слова. Здесь впервые увидел и написал кривое, зубчатое монгольское «А».
Впереди — далекая дорога, незнакомый город, русская река Волга, новые друзья… Что там ожидает мальчиков? Что перетянет на весах судьбы — огорчения или радости? Что бы ни ожидало впереди, теперь уже не вернуться…
«Счастливо лететь вам, первые ласточки!» — сказал Николай Александрович Андреев. И Бестужев сказал бы так же, и Владимир Яковлевич… Наверно, он пожелал бы: «Пусть удача и счастье всегда сопутствуют вам. Нет в мире пути благороднее, чем тот, на который вы вступили, — путь к науке, к знаниям».
Перед глазами Доржи бледное лицо Дмитрия Павловича Давыдова, в ушах звучат его слова о смелом беглеце на Байкале…
По Джидинскому тракту навстречу трусит белый конь, запряженный в телегу. На телеге — седой старик и мальчик. Доржи узнал старика, обрадовался: это же Борхонок! На его коленях тот же хур с облупившейся краской.
Встретились, остановились.
— Уезжаете? Слышал, знаю… Рад за вас, дети мои. Будьте счастливыми. Учитесь, набирайтесь разума.
Улигершин Борхонок благословил мальчиков теми же словами, которыми могли напутствовать и Владимир Яковлевич и Дмитрий Павлович.
Доржи вспомнил давно минувшее утро. Ему видится, что и сейчас какой-то мальчуган мастерит лук, руки у него в мозолях… Но вот послышался звонкий смех, в юрту вбежали ребятишки: «Борхонок, Борхонок приехал!»
У юрты дяди Ухинхэна людей соберется, наверно, еще больше, чем в то утро. Борхонок начинает улигер…
Ну что же, сегодня его будут слушать без Доржи… А интересно бы. Старик вон улыбается, шепчет что-то про себя, слагает, наверно, новый улигер — самый лучший, самый чудесный свой улигер: о мальчиках, уезжающих далеко-далеко, учиться наукам…
INFO
Библиотека сибирского романа
Том XVI
Цыдендамбаев Чимит Цыдендамбаевич
ДОРЖИ, СЫН БАНЗАРА
Редактор Е. Р. Расстегняева.
Художник В. И. Кондрашкин.
Художественный редактор В. П. Минко.
Технический редактор Л. И. Воротилина.
Корректор И. М. Савинская.
Сдано в набор 9 июня 1961 г. Подписано к печати 20 октября 1961 г. Формат 84x108/64= 6.68 бум. л. 21,93 печ. л., 27,35 изд. л. Тираж 75000. МН 09030.
Новосибирское книжное издательство, Красный проспект, 18. Заказ № 129. Типография № 1 Полиграфиздата, Новосибирск, Красный проспект, 20.
Цена 1 руб, 20 коп
…………………..Scan Kreyder — 20.05.2017 STERLITAMAK
FB2 — mefysto, 2022