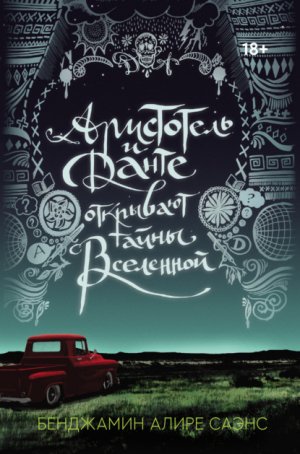
Данная книга предназначена только для предварительного ознакомления! Просим Вас удалить этот файл с жесткого диска после прочтения. Спасибо.
Бенджамин Алир Саэнс
Аристотель и Данте открывают тайны вселенной
Аристотель и Данте — 1
Оригинальное название: Benjamin Alire Sáenz «Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe» 2012
Бенджамин Алир Саэнс «Аристотель и Данте открывают тайны вселенной» 2018
Перевод: Диана Третьякова
За обложку спасибо: https://vk.com/sixfearscovers
Переведено специально для группы: https://vk.com/e_books_vk
Любое копирование без ссылки на переводчиков и группу ЗАПРЕЩЕНО!
Пожалуйста, уважайте чужой труд!
Всем мальчикам, которым когда-либо приходилось учиться играть по другим правилам.
Почему мы улыбаемся? Почему мы смеемся? Почему чувствуем себя одиноко? Почему нам бывает грустно, и мы чувствуем себя сбитыми с толку? Почему мы любим поэзию? Почему мы плачем, любуясь живописью? Почему любовь заставляет наше сердце чаще биться? Почему нам бывает стыдно? Что это за чувство, возникающее где-то в самой глубине нас и называемое желанием?
Часть І: ДРУГИЕ ПРАВИЛА ЛЕТА
Проблема моей жизни заключается в том, что она была придумана кем-то другим.
ОДИН
Однажды летней ночью я уснул с надеждой, что, когда я проснусь, мир изменится. Наутро, когда я открыл глаза, мир остался все тем же. Я сбросил с себя одеяло и лежал так, пока тепло из открытого окна разливалось по комнате.
Я рукой дотянулся до радио. Играла песня «Alone». Черт, песня «Alone» группы Heart. Не самая моя любимая песня. И даже не самая моя любимая группа. Тем более не самая любимая тема. «Ты не знаешь, как долго…»
Мне было пятнадцать.
Мне было скучно.
Я был жалок.
Насколько я был уверен, солнце могло бы растопить всю синеву неба. Тогда оно стало бы таким же жалким, как и я.
Ди-джей говорил очевидные вещи, вроде «Сейчас лето! На улице жарко!». Потом он поставил мелодию из «Одинокого Рейнджера», которую он любил включать каждое утро, считая, что это классный способ разбудить весь мир. «Привет, йоу, Сильвер!» Кто взял на работу этого парня? Он меня убивает. Я думаю, что если мы слушаем увертюру к опере «Вильгельм Телль», то должны представлять себе Одинокого Рейнджера и Тонто, скачущими на лошадях по пустыне. Возможно, кто-то должен сказать этому парню, что его слушателям уже давно не десять лет. «Привет, йоу, Сильвер!» Черт. Голос ди-джея снова зазвучал в эфире: «Просыпайся, Эль Пасо! Сегодня понедельник, 15 июня, 1987! 1987! Вы можете в это поверить? И наши поздравления с Днем Рождения отправляются Вайлону Дженнингсу, которому сегодня исполняется 50 лет!» Вайлон Дженнингс? Это же рок-станция, черт возьми! Но потом он сказал кое-что, что натолкнуло меня на мысль, что у этого парня еще есть мозги. Он рассказал историю о том, как в 1959 Вайлон Дженнингс выжил в авиакатастрофе, которая унесла жизни Бадди Холли и Ричи Валенса. Закончив, он включил ремикс песни «LaBamba».
«LaBamba». Это я еще смогу вынести.
Я опустил босые ноги на пол. Кивая головой в такт, я начал представлять, какие мысли были в голове у Ричи Валенса до того, как самолет ударился о землю. Эй, приятель! Музыка закончилась.
То, что музыка закончилась так быстро. То, что музыка закончилась, так и не начавшись. Вот это действительно печально.
ДВА
Я вошел в кухню. Моя мама готовила обед для встречи с подружками по католической церкви. Я налил себе стакан апельсинового сока.
Мама улыбнулась:
— Ты собираешься пожелать мне доброго утра?
— Я как раз думал над этим, — сказал я.
— Ну, по крайней мере, ты вытащил себя из кровати.
— Мне пришлось немного подумать над этим.
— Почему мальчики так любят спать?
— У нас это хорошо получается.
Это её насмешило.
— В любом случае, я не спал. Я слушал «LaBamba».
— Ричи Валенс, — сказала она почти шепотом. — Как грустно.
— Так же, как и твоя Петси Клайн.
Она кивнула. Однажды я застал её напевающей песню «Crazy». Я улыбнулся. Она улыбнулась мне в ответ. Это было так, словно у нас с ней есть маленький секрет. У моей мамы прекрасный голос.
— Самолет разбился, — прошептала она. Мне показалось, что она это сказала это больше себе, чем мне.
— Может Ричи Валенс и умер молодым, но он все же оставил после себя след. Я имею в виду, что он действительно сделал что-то стоящее. А я? Что сделал я?
— У тебе еще есть время — сказала она. — Много времени.
Неисправимая оптимистка.
— Для начала мне надо стать личностью, — ответил я.
Она посмотрела на меня забавным взглядом.
— Мне пятнадцать.
— Я знаю, сколько тебе лет.
— Пятнадцатилетних не считают за людей.
Мама рассмеялась. Она была учителем старших классов. И я знал, что в этом она со мной согласна.
— И по какому поводу ваша большая встреча?
— Мы хотим организовать благотворительный продовольственный фонд.
— Продовольственный фонд?
— Всем нужна еда.
Моя мама знает, что такое бедность. Она это испытала. Она знает о голоде то, что никогда не узнаю я.
— Да, — сказал я, — Думаю, ты права.
— Может, ты поможешь нам с этим?
— Конечно, — ответил я. Ненавижу быть добровольцем. Проблема моей жизни заключается в том, что она была придумана кем-то другим.
— Чем ты собираешься заниматься сегодня?
Это звучало как вызов.
— Я собираюсь вступить в банду.
— Это не смешно.
— Я же мексиканец. Разве мы не этим занимаемся?
— Не смешно.
— Да, не смешно, — согласился я. Не смешно, так не смешно.
Мне захотелось побыстрее уйти из дома. Не то, чтобы мне было куда пойти.
Когда к маме приходят ее подруги из католической церкви, мне становится не по себе. И не потому, что всем ее друзьям было за 50. Дело не в этом. И это было не из-за их комментариев, что я превращаюсь в настоящего мужчину прямо у них на глазах. Хотя я знаю, что все это чушь. Я даже мог бы вынести то, что они хватают меня за плечи и говорят: «Дай-ка посмотреть на тебя. Посмотри, какой ты красавец. Так похож на своего отца». Там и смотреть то особо не на что. Это просто я. И да, я очень похож на отца. Но я не думаю, что в этом есть что-то особенное.
Но больше всего меня бесило то, что у моей мамы больше друзей, чем у меня. Разве это не печально?
Я решил пойти поплавать в бассейне в парке. Это была не самая грандиозная идея. Но, по крайней мере, она была моя.
Когда я шел к двери, мама забрала у меня старое полотенце, которое я повесил через плечо, и заменила его новым. У моей мамы были определенные правила касательно полотенец, которые я никогда не понимал. Но только полотенцами это не ограничивалось.
Она посмотрела на мою футболку.
Я узнал этот взгляд неодобрения. Я его хорошо знал. Прежде, чем она заставила меня переодеться, я посмотрел на нее.
— Это моя любимая футболка, — сказал я.
— Разве ты вчера не в ней был?
— Да, — сказал я. — Это Карлос Сантана.
— Я знаю, кто это, — ответила она.
— Папа подарил мне ее на день рождения.
— Насколько я помню, ты был не в восторге, когда открыл его подарок.
— Я надеялся получить что-то другое.
— Что-то другое?
— Я не знаю. Что-то другое. Футболка в подарок на день рождения. — Я посмотрел на маму. — Я думаю, что я просто не понимаю его.
— Он не настолько сложный человек, Ари.
— Он не разговорчивый.
— Иногда, когда люди говорят, это не всегда является правдой.
— Я думаю, ты права. Но как бы то ни было, сейчас мне нравится эта футболка.
— Я вижу, — с улыбкой сказала мама.
Я тоже улыбнулся.
— Отец получил её на своем первом концерте.
— Я помню. Я была там. Это было так давно.
— Я сентиментален.
— Так и есть.
— Мам, сейчас лето.
— Да, лето.
— Другие правила, — сказал я.
— Другие правила, — повторила она.
Я люблю другие правила лета. И моя мама их принимает.
Она подошла и провела рукой по моим волосам.
— Обещай мне, что завтра ты её не наденешь.
— Хорошо, — ответил я. — Обещаю. Но только если ты пообещаешь, что не положишь ее в сушилку.
— Может быть, я даже разрешу тебе самому её постирать, — она улыбнулась. — Не утони.
Я улыбнулся ей в ответ.
— Если я утону, то не отдавай мою собаку.
Про собаку это была шутка. У нас её никогда и не было.
У моей мамы есть чувство юмора. Я унаследовал это от неё. В этом плане у нас было все хорошо. Но она была загадкой. Я прекрасно понимаю, почему мой отец в неё влюбился. Но почему она полюбила моего отца — это до сих пор не укладывается у меня в голове. Однажды, когда мне было 6 или 7 лет, я очень разозлился на отца, потому что я очень хотел поиграть с ним, а он не обращал на меня внимание. Будто меня вовсе не было рядом. Тогда я со злостью спросил у мамы:
— Как ты могла выйти замуж за этого парня?
Она улыбнулась и взлохматила мне волосы. Она часто так делает. Потом она посмотрела прямо мне в глаза и спокойно сказала:
— Твой отец был очень красивый.
Она даже не колебалась.
Мне захотелось спросить её, куда же делась вся эта красота.
ТРИ
Когда я вышел на улицу, был самый разгар дня. Даже ящерицы попрятались, а птицы летали совсем низко. В расщелинах асфальта виднелись растаявшие пятна гудрона. Голубизна неба совсем поблекла, и мне показалось, что от этой жары, все люди сбежали из города. Или, возможно, все погибли, как в одном из этих фантастических фильмов, и я остался единственным человеком на планете. Но как только эта мысль промелькнула в моей голове, мимо меня пронеслась шайка соседских ребят на велосипедах, заставив меня захотеть, чтобы я был последним человеком на земле. Они смеялись и дурачились. Казалось, что они хорошо проводят время. Один из них крикнул мне:
— Эй, Мендоза! Тусуешься со своими друзьями?
Я помахал ему, притворившись, что это хорошая шутка, ха хаха. А потом я показал им средний палец.
Один из парней остановился, развернулся и, подъехав ко мне, начал кружить вокруг меня.
— Хочешь сделать это снова? — спросил он.
Я снова показал ему фак.
Он остановился прямо передо мной и пристально посмотрел на меня.
Это не сработало. Я знал, кто он. Его брат, Хавьер, как-то пытался задеть меня. Я побил его. Теперь мы враги на всю жизнь. Я даже не извинился. Да, у меня есть характер. Я признаю это.
Он повысил на меня свой противный голос. Словно хотел меня этим напугать.
— Не шути со мной, Мендоза.
Я еще раз показал средний палец и на этот раз прямо ему в лицо, словно это был пистолет. Он тут же слез со своего велосипеда. Я много чего боялся в этой жизни, но не таких парней как он.
Большинство парней просто не связываются со мной. Даже те, кто обычно ходят шайками. Они просто проезжали мимо меня, выкрикивая всякую чушь. Им всем было тринадцать — четырнадцать лет, и зацепить такого парня как я для них была просто забава. Когда их голоса стихли, я почувствовал жалость к себе.
Жалость к себе была что-то вроде искусства. Я думаю, что какой-то моей части это даже нравилось. Возможно, это как-то связано с моим рождением. Я думаю, отчасти дело в этом. Мне не нравиться тот факт, что я являюсь псевдо-единственным ребенком в семье. Я не знаю, что и думать. Я был единственным ребенком в семье, но при этом не являясь им. И это отстой.
Мои сестры-близнецы были на двенадцать лет старше. Двенадцать лет-это целая жизнь. Клянусь, это было так. Они постоянно обращались со мной как с игрушкой или домашним питомцем. Иногда у меня возникало чувство, что я никто иной, как домашний маскот. Это испанское слово, обозначающее собаку, домашнее животное. Маскот. Отлично. Ари, семейный маскот.
А мой брат старше меня на одиннадцать лет. С ним мы общались еще меньше, чем с моими сестрами. Я даже не мог бы вспомнить его имя. Кто же будет говорить о старшем брате, который сидит в тюрьме? Определенно не мои мама и папа. А также не мои сестры. Может быть, это молчание по поводу моего брата и повлияло на меня. Я думаю, что так и есть. Молчание делает человека одиноким.
Когда родились мои сестры и брат, мои родители были молоды и неблагополучны, еле сводили концы с концами. «Неблагополучные» — это любимое слово моих родителей. После рождения трех детей и попытки закончить колледж, мой отец пошел служить на флот. Потом его отправили на войну.
Война изменила его.
Я родился, когда он вернулся домой.
Иногда мне кажется, что у отца до сих пор сохранились все эти шрамы. На сердце. В голове. Везде. Не так уж и просто быть сыном человека, который был на войне. Когда мне было восемь лет, я подслушал мамин телефонный разговор с тетей Офелией.
— Я думаю, что война для него никогда не закончится.
Потом я спросил у тети Офелии, было ли это действительно так.
— Да, — ответила она. — Это так.
— Но почему война не может оставить папу в покое?
— Потому что у твоего папы есть совесть, — ответила она.
— А что случилось с ним на войне?
— Никто не знает.
— А почему он не расскажет?
— Потому что он не может.
Так вот оно и было. В восемь лет я ничего не знал о войне. Я даже не знал, что такое совесть. Все что я знал, это то, что иногда мой отец грустит. Я ненавидел то, что он грустил. Его печаль передавалась и мне. А мне не нравилось грустить.
Я был сыном человека, внутри которого еще продолжалась Вьетнамская война. Итак, у меня были все основания испытывать жалость к самому себе. Быть пятнадцатилетним совсем не помогало. Иногда я думал, что быть пятнадцатилетним, было самой большой трагедией из всех.
ЧЕТЫРЕ
Когда я пришел в бассейн, мне пришлось принять душ. Это было одним из правил. Я ненавидел принимать душ с кучей других парней. Не знаю почему, но мне это не нравилось. Знаете, некоторые парни любят много болтать, как будто это нормально, быть в душе с кучей парней и обсуждать учителей или последние новинки кино или девчонок, которые им нравятся. Не для меня, мне нечего рассказать. Парни в душе. Это не мое.
Я зашел в бассейн, сел у мелководья и опустил ноги в воду.
Что можно делать в бассейне, если ты даже плавать не умеешь? Научится. Я думаю, это и есть ответ. Мне как-то удалось научиться держаться на поверхности воды. Каким-то образом, я просто вспомнил некоторые законы физики. Но самое приятное было то, что я сделал это сам.
Самостоятельно. Я был влюблен в эту фразу. Я не любил просить кого-то о помощи. Эту дурную привычку я унаследовал от отца. К тому же, инструкторы по плаванию, которые называют себя спасателями, отвратительны. Они бы не взялись учить пятнадцатилетнего сопляка плаванию. Им больше интересны девочки, у которых уже начинает появляться грудь. Они помешены на груди. И это правда. Я слышал, как один спасатель говорил другому, когда они должны были следить за маленькими детьми:
— Девочка — это дерево, покрытое листвой. Хочется залезть на него и сорвать все листья.
Другой парень рассмеялся, и сказал:
— Да ты придурок.
— Нет, я поэт. Поэт человеческого тела.
И затем они оба расхохотались.
Да, конечно, это двое были подающими надежду Уолтами Уитманами. Вот именно поэтому я и не люблю находиться в компании парней. Мне с ними действительно не комфортно. Не знаю почему. Я просто, я не знаю, я просто не вписываюсь в их компанию. Я думаю, что быть парнем для меня чертовски унизительно. Но больше всего меня раздражает то, что повзрослев, я стану одним из этих придурков. Девушка — это дерево? Да, а парни не умнее пня с термитами. Моя мама сказала бы, что у них переходный период и совсем скоро они остепенятся.
Возможно, жизнь — это череда периодов, следующих друг за другом. И уже через пару лет я войду в тот же переходный период, что и эти восемнадцатилетние спасатели. Не то чтобы я особо верил в мамину теорию о периодах. Это скорее не объяснение, а оправдание. Я не думаю, что моя мама все знает о парнях. Я тоже далеко не все знаю о парнях. А ведь я парень.
У меня было такое чувство, что со мной что-то не так. Я думаю, я был загадкой для самого себя. Это отстой. У меня серьезные проблемы.
В одном я был совершенно уверен: я ни за что не буду просить этих идиотов учить меня плавать. Лучше быть одиноким и жалким. Лучше утонуть.
Так что, я просто стал самостоятельно барахтаться. Было не очень весело.
Вдруг я услышал чей-то писклявый голос:
— Я могу научить тебя плавать.
Я подошел к бортику бассейна и встал в воду, щурясь от солнечного света. Он сел на край бассейна. Я недоверчиво посмотрел на него. Если парень предлагает научить меня плавать, то наверняка у него нет жизни. Два парня без жизни? Насколько это должно быть весело?
Но у меня правило, лучше скучать одному, чем с кем-то еще. Я буквально жил по этому правилу. Возможно, поэтому у меня нет друзей.
Он смотрел на меня. Ожидая. А потом снова повторил:
— Если хочешь, я могу научить тебя плавать.
Мне понравился его голос. Он говорил так, словно простудился, и вот-вот потеряет голос.
— Ты забавно разговариваешь, — сказал ему я.
— Аллергия, — ответил он.
— На что у тебя аллергия?
— На воздух.
Это заставило меня рассмеяться.
— Меня зовут Данте, — сказал он.
Это насмешило меня ещё больше.
— Извини, — сказал я.
— Все в порядке. Люди часто смеются над моим именем.
— Нет, нет. Просто меня зовут Аристотель.
Его глаза загорелись. Этот парень был готов ловить на лету каждое моё слово.
— Аристотель, — повторил я, и мы оба рассмеялись как сумасшедшие.
— Мой отец преподаватель английского, — сказал он.
— У тебя хотя бы есть оправдание. А мой отец почтальон. Аристотель — это английская версия имени моего дедушки.
И я произнес имя своего дедушки с настоящим мексиканским акцентом:
— Аристотелес. А моё настоящее имя Ангел.
А затем я повторил его на испанском.
— Ангел.
— Тебя зовут Ангел Аристотель?
— Да, это мое настоящее имя.
Мы снова рассмеялись. Мы не могли остановиться. Интересно, над чем мы смеялись? Просто над нашими именами? Или потому что мы были счастливы? Смех — это ещё одна загадка жизни.
— Раньше я говорил, что меня зовут Дан. Ну, ты понял. Я просто отбросил две последние буквы. Но теперь я так не делаю. Это было неправильно. Правда все равно выясняется, а я чувствую себя вруном и идиотом. Мне было стыдно за то, что мне стыдно. Я не любил это чувство.
— Все зовут меня Ари, — сказал я.
— Приятно познакомиться, Ари.
Мне понравилось, как он это сказал. Будто он это и имел в виду.
— Окей, — сказал я, — теперь научи меня плавать.
Мне показалось, что я сказал это таким тоном, будто делаю ему одолжение. Но он то ли не заметил, то ли не придал этому значение.
Данте был отличным учителем. Он хорошо плавал, и знал все о дыхании, движении рук и ног, понимал, как функционирует тело в воде. Он очень любил и уважал воду. Он понимал её красоту и опасность. Он говорил о плавании как об образе жизни. Ему было пятнадцать лет. Кем был этот парень? Он казался хрупким, но вовсе не был таким. Он был дисциплинированным, требовательным и образованным. Он не притворялся глупым и обычным.
Он был веселый, целеустремленный и энергичный. Он мог быть бесстрашным. И не было в нем никакой подлости. Я не понимаю, как можно жить в таком подлом мире и не поддаться его влиянию. Как может парень жить без подлости?
Данте стал для меня очередной загадкой во вселенной полной загадок.
Все лето мы плавали, читали комиксы и книги, а потом спорили о них. У Данте были старые комиксы его отца про Супермена. Он их очень любил. Ему также нравились комиксы про Арчи и Веронику. А я ненавидел эту фигню.
— Это не фигня, — говорил он.
Я обожал Бэтмена, Человека Паука и Невероятного Халка.
— Слишком мрачно, — сказал Данте.
— И это говорит парень, который любит «Сердце тьмы» Конрада.
— Это совсем другое, — сказал он. — Конрад занимался литературой.
Мы всегда спорили с ним по поводу того, можно ли считать комиксы литературой. Но литература была серьезным делом для такого парня как Данте. И я не помню случая, когда бы я выигрывал спор. Он умел убеждать. Он также был отличным читателем. Книгу Конрада я прочитал только ради него. Когда я её прочел, я сказал ему, что мне она не понравилась.
— Единственное в чем прав Конрад, — сказал я, — это в том, что мир действительно мрачное место.
— Возможно твой мир, Ари, но не мой.
— Да, да, — сказал я.
— Да, да, — сказал он.
Но правда была в том, что я ему соврал. Книга мне понравилась. Это было лучшее, что я когда-либо читал. Когда мой отец увидел, что я читаю, он сказал, что это одна из его любимых книг. Я хотел спросить его, он прочел её до Вьетнама или уже после возвращения. Но задавать вопросы моему отцу было бесполезно. Он никогда на них не отвечает.
Я понял, что Данте читает, потому что ему нравиться читать. А я читал, потому что мне больше нечем было заняться. Он анализирует прочитанное. А я просто читаю. Мне кажется, что мне пришлось чаще заглядывать в словарь, чем ему.
Я был темнее его. И я говорю не только о цвете кожи. Он сказал, что у меня трагическое видение жизни.
— Вот почему тебе нравиться Человек Паук.
— Я просто на половину мексиканец, — ответил я, — а мексиканцы все пессимисты.
— Может быть и так, — сказал он.
— А ты оптимистичный американец.
— Это оскорбление?
— Возможно, — сказал я.
Мы рассмеялись. Мы постоянно смеялись.
Мы были совсем разные. Я и Данте. Но у нас было и кое-что общее. Наши родители не разрешали нам смотреть телевизор. Они считали, что он оказывает на нас плохое влияние. Мы оба выросли, выслушивая лекции типа: Ты же мальчик! Иди, развейся! Перед тобой лежит целый мир…
Данте и я были последними парнями в Америке, которые выросли без телевизора. Однажды он спросил меня:
— Ты думаешь, наши родители правы, говоря, что перед нами открыт весь мир?
— Я сомневаюсь, — ответил я.
Он рассмеялся.
Вдруг мне пришла в голову мысль.
— Давай прокатимся на автобусе и все увидим.
Данте улыбнулся. Нам обоим нравилось ездить на автобусе. Иногда мы часами катались по кругу.
— Богатые люди не ездят на автобусе, — сказал я Данте.
— Вот поэтому нам так нравиться.
— Может быть, — сказал я. — А мы бедные?
— Нет. Если бы мы сбежали из дома, то мы бы стали бедными.
Меня удивили его слова.
— А ты бы сбежал? — спросил я.
— Нет.
— А почему нет?
— Ты хочешь, чтобы я рассказал тебе свой секрет?
— Конечно.
— Я безумно люблю своих родителей.
Это заставило меня улыбнуться. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь говорил что-то подобное про своих родителей. Кроме Данте.
А потом он шепнул мне на ухо:
— Я думаю, что у той дамы, что сидит напротив нас, любовная интрижка.
— Откуда ты узнал? — прошептал я.
— Зайдя в автобус, она сняла свое обручальное кольцо.
Я кивнул и улыбнулся.
Мы сочиняли истории и про других пассажиров.
Мы знали, что они тоже придумывали истории про нас.
Я очень редко сближаюсь с людьми. Я предпочитаю оставаться одиночкой. Я играю в баскетбол, в бейсбол и даже состою в клубе Бойскаутов, но я почти не общаюсь с другими парнями. Я никогда не чувствовал себя частью их мира.
Парни. Я наблюдал за ними. Изучал их.
В конечном итоге я не нашел в них для себя ничего интересного. На самом деле, я только еще больше разочаровался.
Может я был немного высокомерным. Но я так не думаю. Я просто не понимал, как с ними разговаривать, как чувствовать себя комфортно в их окружении. Общение с другими парнями не заставляло меня чувствовать себя умнее. Общение с другими парнями заставляло меня чувствовать себя глупым и неполноценным. Это было, словно они все состояли в одном клубе, а я нет.
Когда я стал слишком взрослым для бойскаутов, я сказал отцу, что не хочу больше этим заниматься. Я больше этого не выдержу.
— Потерпи ещё год, — сказал мне он. Отец знал, что иногда я люблю подраться. Он часто читал мне лекции о физическом насилии. Он пытался оградить меня от влияния школьных группировок. Он не хотел, чтобы я стал таким как мой брат, который сидит в тюрьме. Именно из-за моего брата, о чьём существовании даже не упоминалось, я должен был быть примерным бойскаутом. Это отстой. Почему я должен быть хорошим мальчиком только потому, что у меня плохой брат? Ненавижу эту семейную математику.
Я уступил отцу. Я решил потерпеть еще один год. Я ненавидел это, кроме того, что я научился делать искусственное дыхание. Мне не очень нравилось дышать в чей-то рот. Это выводило меня из себя. Но по какой-то причине, меня восхищало то, что ты можешь заставить сердце вновь забиться. Я не совсем понимал, как это работает. Но после того как я получил нашивку за то, что научился оказывать первую помощь, я ушел из бойскаутов. Придя домой, я отдал нашивку отцу.
— Я думаю, что ты совершаешь ошибку, — вот и все, что сказал мне отец.
Я не собирался садиться в тюрьму. Именно это я и хотел ему сказать, но вместо этого фыркнул:
— Если ты заставишь меня вернуться к бойскаутам, то клянусь, я начну курить.
Отец посмотрел на меня, и сказал:
— Это твоя жизнь.
Будто так и было. Еще одна особенность моего отца, это то, что он никогда не читает лекции. И это меня бесило. Он не был злым. И у него был хороший характер. Он всегда высказывал свое мнение короткими фразами: «Это твоя жизнь», «Просто попробуй», «Ты действительно уверен, что этого хочешь?» Почему он не может просто поговорить? Как я могу узнать его поближе, если он не хочет со мной общаться? Меня это раздражало.
В целом жилось мне хорошо. У меня даже были друзья в школе. Типа того. Я не пользовался дикой популярностью. Этого просто не могло произойти. Быть популярным, значит убедить людей в том, что ты веселый и интересный. А я просто не любил играть на публику.
Раньше я общался с братьями Гомес. Но они переехали. Еще была пара девчонок, Джина Наварро и Сьюзи Берд, которым доставляло удовольствие надо мной издеваться. Девчонки. Они тоже были загадкой. Весь мир был загадкой.
Хотя, думаю, что не все было так плохо. Может быть, я и не был всеобщим любимчиком, но и не был тем парнем, которого все ненавидят.
Я мог за себя постоять. Поэтому меня и оставляли в покое.
Я был почти невидимый. И я думаю, мне это нравилось.
Но потом появился Данте.
ПЯТЬ
После моего четвертого занятия по плаванию, Данте пригласил меня к себе в гости. Он жил меньше чем в квартале от бассейна в большом старом доме напротив парка.
Он представил меня своему отцу, учителю английского. Я никогда не встречал американца мексиканского происхождения, который преподает английский язык. Я даже не знал, что такие существуют. Да он и не выглядел как профессор. Он был молодым, привлекательным и добродушным, казалось, что какая-то его часть так и осталась мальчишкой. Он был похож на мужчину, влюбленного в жизнь. Не то, что мой отец, который сторонится окружающего мира. В моем отце была какая-то мрачность, которую я не понимал. В отце Данте совершенно не было такой мрачности. Даже его черные глаза, казалось, были полны света.
В тот день, когда я познакомился с отцом Данте, он был одет в джинсы и футболку. Он сидел в кожаном кресле в своем кабинете и читал книгу. Я не встречал ни одного человека, у которого дома был личный кабинет.
Данте подошел к своему отцу и поцеловал его в щеку. Я бы никогда так не сделал. Ни за что.
— Пап, ты сегодня не побрился.
— Сейчас же лето, — сказал его отец.
— Это значит, что тебе не надо работать.
— Это значит, что я должен закончить писать свою книгу.
— Написание книги — это не работа.
Отец Данте громко рассмеялся после этих слов.
— Ты еще многого не знаешь о работе.
— Сейчас лето, пап. Я не хочу слушать о работе.
— Ты никогда не хочешь слушать о работе.
Данте не понравилось, что разговор принял такой оборот, и он решил сменить тему.
— Ты собираешься отращивать бороду?
— Нет, — рассмеялся он. — Слишком жарко. Кроме того, твоя мама не хочет меня целовать, если я хотя бы один день не побреюсь.
— Ух ты, она строгая.
— Ага.
— А что ты будешь делать без её поцелуев?
Он ухмыльнулся и посмотрел на меня.
— Как ты терпишь этого парня? Ты должно быть Ари.
— Да, сэр.
Я нервничал. Я еще никогда не знакомился с родителями своих друзей. Большинство родителей, которых я встречал, не были заинтересованы в общении со мной.
Он встал со своего кресла и отложил книгу. Он подошел ко мне и протянул мне руку.
— Я Сэм, — сказал он. — Сэм Кинтана.
— Приятно познакомиться, Мистер Кинтана.
Я слышал эту фразу «Приятно познакомиться», тысячу раз. Когда мне это сказал Данте, это звучало искренне. Но когда ее произнес я, то почувствовал себя глупо и неоригинально. Мне захотелось где-нибудь спрятаться.
— Ты можешь называть меня Сэм, — сказал он.
— Я не могу, — ответил я. Боже, я хотел провалиться сквозь землю.
Он кивнул.
— Это мило, — сказал он. — И уважительно.
Мой отец никогда не произносил слова «мило».
Он посмотрел на Данте.
— У молодого джентльмена есть уважение. Данте, ты мог бы поучиться у него.
— То есть ты хочешь, чтобы я называл тебя Мистер Кинтана?
Они оба едва сдержали смех. Потом он снова обратился ко мне:
— Как дела с плаванием?
— Данте хороший учитель, — ответил я.
— Данте хорош во многом. Но он никогда не был хорош в уборке своей комнаты. Ведь уборка — синоним слову работа.
Данте посмотрел на него.
— Это намек?
— Ты сообразительный, Данте. Должно быть, унаследовал это от мамы.
— Не будь нахалом, пап.
— Что за слово ты сейчас употребил?
— Это слово тебя обидело?
— Не слово. Возможно это отношение.
Данте закатил глаза и уселся в отцовское кресло. Он снял свои кроссовки.
— Не устраивайся слишком удобно. Наверху тебя ждет твой собственный свинарник, — сказал ему отец.
Мне понравилось то, как они общаются друг с другом, они разговаривали так просто и с нежностью, как будто любовь между отцом и сыном это что-то естественное. Иногда мы так же просто общаемся с мамой. Иногда. Но между мной и отцом такого никогда не было. Интересно, что было бы, если бы я зашел в комнату и поцеловал своего отца.
Мы поднялись на второй этаж, и Данте показал мне свою комнату. Это была просторная комната с высокими потолками, деревянным полом и большими окнами. Повсюду валялись вещи. Одежда, разбросанная по всему полу, куча старых альбомов, книги, исписанные блокноты, фотографии, пара камер, гитара без струн, ноты и пробковая доска с прикрепленными к ней записками и картинками.
Он включил музыку. У него был проигрыватель. Настоящий проигрыватель из 60-х годов.
— Это мамин, — сказал он. — Она хотела его выбросить. Представляешь?
Он поставил свой любимый альбом The Beatles «Abbey Road».
— Пластинки. Настоящие пластинки. Не то, что эти кассеты.
— А что не так с кассетами? — спросил я.
— Я им не доверяю.
Я подумал, что это действительно странная фраза. Забавная и странная.
— Пластинки легко поцарапать.
— Нет, если за ними ухаживать.
Я осмотрел его комнату.
— Я вижу, тебе действительно нравится заботиться о своих вещах.
Он не разозлился. Он рассмеялся.
Он протянул мне книгу.
— Вот, — сказал он. — Ты можешь немного почитать, пока я буду убираться.
— Может быть мне просто уйти, — я остановился и осмотрел комнату, — здесь немного страшновато.
Он улыбнулся.
— Нет. Не надо. Не уходи. Я ненавижу убираться.
— Возможно, если бы у тебя не было так много вещей.
— Это просто хлам, — сказал он.
Я ничего не ответил. У меня не было хлама.
— Будет не так плохо, если ты останешься.
Почему-то я чувствовал себя неуютно… но остался.
— Хорошо, — сказал я. — Тебе помочь?
— Нет. Это моя работа, — он сказал это так покорно. — Как бы сказала моя мама: «Это твоя ответственность, Данте». Ответственность — это любимое слово моей мамы. Она считает, что отец недостаточно на меня давит. Конечно нет. А чего она ожидала? Отец совсем не напористый человек. Она вышла за него замуж. Разве она не знала, какой он?
— Ты всегда анализируешь своих родителей?
— А они анализируют нас, разве нет?
— Это их работа, Данте.
— Хочешь сказать, что ты не пытаешься понять своих родителей?
— Я пытаюсь, но у меня это не получается. Я никак не могу их разгадать.
— Что касается меня, то пока я разгадал только отца. Мама остается для меня самой большой загадкой в мире. Кажется, что в вопросах воспитания она предсказуема, но на самом деле она непостижима.
«Непостижима». Я знал, что когда приду домой, я должен посмотреть в словаре значение этого слова.
Данте посмотрел на меня, ожидая, что я тоже что-нибудь скажу в свою очередь.
— Я во многом понимаю свою маму, — сказал я. — Мой отец. Он тоже непостижим.
Я чувствовал себя мошенником, употребляя это слово. Может быть, в этом был весь я. Я не был настоящим мальчиком. Я был подделкой.
Он протянул мне книгу стихов.
— Почитай это, — сказал он.
Я никогда до этого не читал стихи и не уверен, что знаю, как их читать. Я недоуменно посмотрел на него.
— Поэзия, — сказал он, — она тебя не убьет.
— А что если убьёт? Представь, паренек умер от скуки, читая стихи.
Он старался не рассмеяться, но это у него не слишком хорошо получалось. Он покачал головой и начал собирать вещи с пола.
Он показал на стул.
— Просто скинь весь хлам на пол и садись.
На стуле я заметил блокнот.
— Что это?
— Блокнот.
— Можно мне посмотреть?
Он затряс головой.
— Я никому его не показываю.
Это уже интересно. У него был свой секрет.
Он опять показал мне на сборник стихов и сказал:
— Серьезно, это тебя не убьет.
Весь день Данте убирался в своей комнате. А я читал стихи Уильяма Карлоса Уильямса. Я никогда о нем не слышал, но я не слышал и о других поэтах. Я даже кое-что понял. Не все, но многое. И мне понравилось. Это меня удивило. Стихи были достаточно интересные, не глупые, не слащавые и не слишком заумные. Совсем не такими, какими их я себе раньше представлял. Некоторые стихи были простые. Некоторые загадочные. Я пришел к выводу, что знал значение этого слова.
Я пришел к выводу, что стихи как люди. Некоторых ты понимаешь сразу. А есть люди, которых ты не можешь разгадать, и никогда не разгадаешь.
Я был впечатлен тем, как ловко Данте справился с уборкой. Когда мы пришли, в комнате был полнейший хаос. Но когда он закончил уборку, все было на своих местах.
В мире Данте царил порядок.
Он разложил все свои книги по полкам и на рабочем столе.
— Я кладу книги, которые собираюсь прочитать на свой стол, — сказал он.
Стол. Настоящий стол. Если мне надо что-то написать, то я использую кухонный стол.
Он взял у меня из рук книгу и открыл её на одном из стихотворений. Стих назывался «Смерть». Данте смотрелся так гармонично в убранной только что комнате, освященный солнечным светом и с книгой в руках, словно она и должна здесь быть, в его руках и только в его руках. Мне понравилось, что он читал стихотворение так, как будто сам его написал:
Он мертв
собака больше не будет
спать на картошке,
чтобы согреть ее
он умер
старый мерзавец…
Когда Данте прочел слово «мерзавец», он улыбнулся. Я знал, что ему нравилось его произносить, потому что оно было запрещено. Но он в своей комнате и может делать все, что хочет.
Весь день я сидел в удобном кресле в комнате Данте, а он лежал на своей кровати и читал вслух стихи.
Я не старался их понять или разобраться, что они могут значить. Мне было все равно. Главное, что голос Данте был настоящим. И я чувствовал себя настоящим. До появления Данте, для меня было сложно находиться среди людей. Но он заставил меня задуматься, что разговаривать, чувствовать и просто жить это совершенно естественно. Но не в моем мире.
Вернувшись домой, я посмотрел значение слова «непостижимый». Это обозначает что-то, что трудно понять. Я выписал все синонимы к этому слову. «Непонятный». «Необъяснимый». «Загадочный». «Таинственный».
В тот день я выучил два новых слова. «Непостижимый». И «друг».
Слова обретают другое значение, когда ты пропустил их через себя.
ШЕСТЬ
Однажды вечером Данте зашел ко мне в гости и сам познакомился с моими родителями. Кто так делает?
— Я Данте Кинтана, — сказал он.
— Он учил меня плавать, — пояснил я. Не знаю почему, но я должен был сказать об этом родителям. А затем, посмотрев на маму, добавил: — Ты же просила меня не утонуть, вот я и нашел того, кто мне поможет сдержать обещание.
Отец взглянул на маму. Мне показалось, что они улыбнулись друг другу. Я знал, о чем они подумали. Наконец-то он нашел друга. Меня это раздражало.
Данте пожал моему отцу руку, а затем протянул ему книгу.
— Я принес вам подарок, — сказал он.
Я просто стоял там и наблюдал. Я видел эту книгу у него дома на кофейном столике. Это был альбом с работами мексиканских художников. Он казался таким взрослым, а вовсе не пятнадцатилетним парнем. Каким-то образом, даже его длинные волосы, которые он всегда носил распущенными, делали его более взрослым.
Мой отец заулыбался, рассматривая книгу и сказал:
— Данте, это очень великодушно с твоей стороны, но я не знаю, могу ли я её принять.
Мой папа держал книгу так осторожно, будто боялся повредить её. Они с мамой переглянулись. Мама и папа часто так делали. Они любили общаться взглядами. Я пытался угадать, что же они хотели сказать друг другу этими взглядами.
— Она о мексиканском искусстве, — сказал Данте. — Поэтому вы должны её взять.
Я почти увидел, как заработал его мозг, пытаясь придумать убедительный аргумент. Убедительный, но в тоже время правдивый аргумент.
— Мои родители не хотели отпускать меня к вам с пустыми руками.
Он посмотрел на моего отца очень серьезно и добавил:
— Так что, вы должны её принять.
Мама взяла у отца книгу и посмотрела на обложку.
— Это очень красивая книга. Спасибо, Данте.
— Вы должны благодарить моего отца. Это была его идея.
Отец улыбнулся. Это был уже второй раз за последние пару минут. Это на него не похоже. Папа не часто улыбается.
— Поблагодари своего отца от моего имени, Данте.
Мой папа взял книгу и сел в кресло. Словно это была драгоценность. Видите, я совсем не понимаю своего отца. Я никогда не могу угадать его реакцию на какие-то вещи. Никогда.
СЕМЬ
— В твоей комнате ничего нет.
— Тут есть кровать, радиоприемник, кресло-качалка, книжный шкаф и немного книг. Это не ничего.
— На стенах ничего нет.
— Я снял мои постеры.
— Почему?
— Мне они не нравились.
— Ты как монах.
— Ага. Аристотель-монах.
— У тебя есть хобби?
— Конечно. Пялиться на голые стены.
— Может, ты станешь священником?
— Чтобы быть священником надо верить в бога.
— Ты не веришь в бога? Даже самую малость?
— Может только если чуть-чуть.
— Значит ты скептик?
— Конечно. Я католик-скептик.
Данте громко рассмеялся.
— Я не сказал ничего смешного.
— Я знаю. Но это смешно.
— Ты думаешь это плохо, сомневаться?
— Нет. Я думаю это умно.
— Я не считаю себя слишком умным. Не таким умным как ты, Данте.
— Ты умный, Ари. Очень умный. Да и быть умным ничего не значит. Люди всегда потешаются над тобой. Мой отец говорит, что это в порядке вещей. Знаешь, что он говорит мне? «Данте, ты мыслящий человек. Это то, кем ты являешься. Не надо этого стыдиться».
Я заметил, что его улыбка стала немного грустной. Может быть, каждый из нас в немного грустит. Может быть.
— Ари, я стараюсь не стыдиться этого.
Я прекрасно знал, что значит стыд. Только в отличие от меня, Данте знал причину своего стыда. А я нет.
Данте. Он мне очень нравился. Очень, очень нравился.
ВОСЕМЬ
Я наблюдал, как отец листает страницы. Было очевидно, что ему нравится эта книга. И благодаря этой книге я узнал кое-что новое о своем отце. Прежде чем пойти на флот, он изучал искусство. Это никак не вписывалось в мое представление об отце. Но мне нравилась эта идея.
Однажды вечером, изучая книгу, он подозвал меня к себе.
— Посмотри, — сказал он, — это фреска Ороско.
Я взглянул на репродукцию в книге. Но меня больше заинтересовал палец отца, которым он указывал на картину. Этот палец нажимал на курок во время войны. Этот палец прикасался к моей маме в самых интимных местах. Мне хотелось сказать что-нибудь, задать вопрос. Но я не мог. У меня в горле застрял ком. Я просто кивнул.
Я никогда не думал, что мой отец разбирается в искусстве. Я видел в нем только бывшего моряка, который стал почтальоном после того как вернулся из Вьетнама. Бывший моряк, который не любит разговаривать.
Бывший моряк, а в настоящем почтальон, который вернулся с войны, и заделал еще одного сына. Я не думаю, что отец хотел моего рождения. Скорей всего этого хотела моя мама. Не то чтобы я знал, чьей идей было завести еще одного ребенка. В моей голове было много мыслей по этому поводу.
Я мог бы задать отцу кучу вопросов. Мог бы. Но что-то в его взгляде, в выражении его лица останавливало меня. Я думаю, что он не хотел, чтобы я узнал его поближе. Поэтому я просто коллекционировал подсказки. То, что отцу понравилась эта книга по искусству, стало еще одной подсказкой в мою копилку. В один прекрасный день все подсказки соединятся в единую картину. И я разгадаю своего отца.
ДЕВЯТЬ
Однажды после плавания мы с Данте решили прогуляться. Мы остановились в супермаркете. Он купил Колу и арахис.
А я купил карамельно-арахисовый батончик.
Данте предложил мне Колу.
— Не люблю Колу, — сказал я.
— Это странно.
— Почему?
— Все любят Колу.
— А я не люблю.
— А что ты любишь?
— Кофе и чай.
— Это странно.
— Хорошо, я странный. Только заткнись.
Он рассмеялся. Мы пошли дальше. Наверное, нам просто не хотелось идти домой. Мы говорили о разных вещах. Глупых вещах. И вдруг Данте спросил меня:
— Почему мексиканцы так любят прозвища?
— Не знаю. Разве?
— Да. Ты знаешь, как мои тети называют мою маму? Они зовут её Чоле.
— Ее зовут Соледад?
— Вот видишь, о чем я, Ари. Ты знаешь. Ты знаешь прозвище к имени Соледад. Зачем оно вообще? Почему они не могут называть её Соледад? Почему Чоле? Откуда взялась кличка Чоле?
— Почему тебя это так волнует?
— Я не знаю. Просто это странно.
— Это слово дня?
Он рассмеялся и проглотил несколько орешков.
— А у твоей мамы есть прозвище?
— Лили. Её зовут Лилиана.
— Красивое имя.
— Так же, как и Соледад.
— Я так не думаю. Тебе бы понравилось, если бы тебя звали Изоляция?
— А еще оно может означать одиночество, — сказал я.
— Понимаешь? Какое печальное имя.
— А я так не думаю. Мне кажется, что это красивое имя. И оно очень идет твоей маме, — сказал я.
— Может быть и так. Зато имя Сэм прекрасно подходит моему отцу.
— Ага.
— А как зовут твоего отца?
— Джейми.
— Мне нравится это имя.
— Его настоящее имя Сантьяго.
Данте заулыбался.
— Теперь ты понял, что я имел в виду, говоря о прозвищах?
— Тебя волнует то, что ты мексиканец, разве нет?
— Нет.
Я посмотрел на него.
— Ну да, да, меня это беспокоит.
Я предложил ему батончик.
Он немного откусил.
— Я не знаю, — сказал он.
— Конечно, это тебя беспокоит, — сказал я.
— Знаешь, что я думаю, Ари? Мне кажется, я не нравлюсь мексиканцам.
— Это звучит очень странно, — сказал я.
— Странно, — сказал Данте.
— Странно, — повторил я.
ДЕСЯТЬ
Однажды безлунной ночью, мы с родителями Данте отправились в пустыню полюбоваться звездным небом в новый телескоп. По дороге Данте и его отец вместе подпевали группе «Битлз». И то, что это у них не совсем хорошо получалось, их совсем не волновало.
Они часто обнимали друг друга. Это была семья поцелуев и объятий. Каждый раз, когда Данте возвращался домой, он целовал в щечку своих родителей, или они целовали его, словно это было совершенно нормально.
Интересно, а что бы сделал мой отец, если бы я вдруг подошел и поцеловал его в щечку. Не думаю, что он наорал бы на меня. Но… я не знаю.
Мы заехали подальше в пустыню. Оказывается, мистер Кинтана знал прекрасное место, где бы мы могли полюбоваться звездами.
Где-то подальше от городских огней.
Городские огни. Так называл их Данте. Казалось, он был хорошо знаком с городскими огнями.
Мистер Кинтана и Данте установили телескоп.
Я наблюдал за ними, и слушал радио.
Мистер Кинтана предложил мне Колу. Я взял её, хотя и не люблю это напиток.
— Данте говорит, что ты очень умный.
Комплементы заставляли меня нервничать.
— Я не такой умный, как Данте, — ответил я.
Тут я услышал голос Данте, который решил вмешаться в наш разговор.
— Я думал, что мы с тобой уже это обсудили, Ари, — сказал он.
— Что? — поинтересовалась его мама.
— Ничего. Просто умные люди обычно оказываются настоящим дерьмом.
— Данте! — одернула его мама.
— Да, мам, я знаю, надо следить за языком.
— Данте, почему тебе так нравиться материться?
— Это весело, — ответил он.
Мистер Кинтана рассмеялся и сказал:
— Весело значит. Только давай ты будешь веселиться, когда мамы нет рядом.
Миссис Кинтана не понравился совет мистера Кинтана:
— Чему ты его учишь, Сэм?
— Соледад, я думаю что…
Но дискуссию прервал возглас Данте, наблюдающего в телескоп:
— Вау, пап! Только посмотри на это! Посмотри!
Долгое время никто не произносил ни слова.
Мы все хотели увидеть, что ж так впечатлило Данте.
Мы молча стояли посреди пустыни возле телескопа, ожидая своей очереди взглянуть на звездное небо. Когда я посмотрел в телескоп, Данте начал объяснять, что я вижу. Но я не слышал его. Когда я взглянул на необъятную вселенную, внутри меня что-то перевернулось. Через телескоп мир казался ближе и больше, чем я мог себе представить. И это все так красиво и всепоглощающе, что я осознал, что и внутри меня есть что-то стоящее.
Данте, наблюдая как я смотрю в телескоп, прошептал мне:
— Однажды я открою все секреты вселенной.
Это меня насмешило.
— Что ты будешь делать со всеми этими секретами? — спросил я его.
— Я решу, что мне делать, — сказал он. — Может быть, изменю мир.
Я поверил ему.
Данте Кинтана был единственным человеком из всех, кого я знал, кто мог сказать что-то подобное. Я знаю, что, повзрослев, он никогда не скажет такой глупости как «девушки словно деревья».
Этой ночью мы спали у него на заднем дворе.
Мы могли слышать, как разговаривают его родители, потому что окно на кухне было открыто. Его мама говорила на испанском, а его отец на английском.
— Они всегда так делают, — сказал Данте.
— Мои тоже, — ответил я.
Мы почти не разговаривали. Мы просто лежали и любовались звездами.
— Слишком много городских огней, — сказал Данте.
— Слишком много городских огней, — ответил я.
ОДИННАДЦАТЬ
Одна важная особенность Данте: он не любит носить обувь.
Если мы катаемся на скейтборде в парке, то он снимает свои кроссовки и вытирает ноги о траву, словно хочет что-то стереть с них. Когда мы идем в кино, он и там снимает обувь. Однажды он оставил их там, и нам пришлось вернуться.
Мы опоздали на автобус. И даже в автобусе Данте снял свою обувь.
Однажды, гуляя, он просто сел на скамейку, развязал шнурки и снял обувь прямо там. Я удивленно посмотрел на него. Заметив мой взгляд, он закатил глаза и, показав на крестик, прошептал:
— Иисус не носил обувь.
Мы оба рассмеялись.
Когда он пришел ко мне в гости, он снял свои ботинки на крыльце, прежде чем войти.
— Так делают японцы, — сказал он. — Они не заносят грязь в чужой дом.
— Ага, — ответил я, — но мы не японцы. Мы мексиканцы.
— Мы не настоящие мексиканцы. Разве мы живем в Мексике?
— Но наши дедушки и бабушки родом оттуда.
— Хорошо. Но что мы знаем о Мексике?
— Мы говорим на испанском языке.
— Не слишком хорошо.
— Говори за себя, Данте. Ты почо.
— Что значит «почо»?
— Бракованный мексиканец.
— Хорошо, может быть я почо. Но то, что я пытаюсь сказать, это то, что мы можем позаимствовать что-то из других культур.
Не знаю почему, но я вдруг начал хохотать. Наверное, потому что мне нравилась эта своеобразная война Данте с обувью. Однажды я не выдержал и спросил его:
— А почему вдруг такая не любовь к обуви?
— Я просто её не люблю. Вот и все. Здесь нет ничего особенного. Я родился уже с нелюбовью к ней. Не надо утрировать, как это делает моя мама. Она заставляет меня носить обувь. Она говорит, что так надо, рассказывает мне о тех болезнях, которыми я могу заразиться. Она боится, что люди подумают, что я бедный мексиканец. Еще она говорит, что мальчишки в мексиканских деревнях убили бы за пару обуви. «А ты можешь позволить себе носить обувь, Данте» — говорит она. И знаешь, что я ей отвечаю на это? «Нет, я не могу себе этого позволить. Разве у меня есть работа? Нет. Поэтому я не могу себе ничего позволить». Она не хочет, чтобы меня принимали за бедного мексиканца. Она говорит: «Быть мексиканцем не значит быть бедным». Я просто хочу донести до неё, что это не связано ни с бедностью, ни с тем, что я мексиканец. Я просто не люблю носить обувь. И вообще, я, моя мама и обувь — это не лучшая тема для разговора.
Данте поднял глаза к небу. Это его привычка. Он всегда так делает, когда думает.
— Знаешь, носить обувь — это противоестественно. Это мое глубокое убеждение, — сказал он.
Иногда он рассуждает как ученый или философ.
— Твой жизненный принцип? — спросил я.
— Ты смотришь на меня словно я сумасшедший.
— Ты сумасшедший, Данте.
— Вовсе нет, — сказал он. — Нет.
Казалось, он совсем расстроился.
— Хорошо, ты не сумасшедший, — сказал я, — но ты и не японец.
Он наклонился и развязал мне шнурки.
— Сними обувь, Ари. Почувствуй свободу.
Мы вышли на улицу и начали играть в только что придуманную Данте игру. Мы соревновались, кто дальше бросит кроссовок. У нас было три раунда по шесть бросков у каждого. У нас был кусочек мела, и мы отмечали место, где приземлился наш кроссовок. Данте принес отцовскую рулетку.
— Зачем нам нужна рулетка? — спросил я. — Разве вы не можем просто бросать кроссовки и отмечать место падения мелом. И чья отметка окажется дальше тот и выиграл. Все очень просто.
— Нам нужно знать точное расстояние, — сказал он.
— Зачем?
— Потому что, если делаешь что-то, надо точно знать, что ты делаешь.
— Никто не знает точно, что он делает, — сказал я.
— Это потому что люди ленивые и недисциплинированные.
— Тебе раньше не говорили, что ты разговариваешь как чокнутый прекрасно владеющий английским?
— Это вина моего отца, — сказал он.
— То, что ты чокнутый или то, что прекрасно владеешь английским? Это просто игра, Данте.
— Ну и что. Даже играя в игру, ты должен отдавать отчет тому, что ты делаешь.
— А я понимаю, что мы делаем. Мы придумали игру. Мы швыряем ботинки, чтобы посмотреть, кто дальше закинет. Вот что мы делаем.
— Это похоже на метание копья, верно?
— Думаю да.
— А при метании копья всегда измеряют дистанцию, разве нет?
— Да, но то настоящий спорт, а у нас игра.
— Это тоже настоящий спорт. Я настоящий. Ты настоящий. Кроссовки настоящие. Улица настоящая. И правила, которые мы придумали, тоже настоящие. Что тебе ещё надо?
— Но это слишком сложно. После каждого броска, мы должны измерять расстояние. В чем веселье? Весело просто кидать кроссовки.
— Нет, — сказал Данте, — веселье играть и следовать правилам игры.
— Я не понимаю. Бросать кроссовки — это весело. А вот измерять рулеткой улицу это уже работа. Что здесь веселого? А если появится машина?
— Мы просто уйдем с дороги. Или мы можем играть в парке.
— На дороге веселее, — сказал я.
Данте посмотрел на меня. И я посмотрел на него в ответ. Я знал, что у меня нет шансов. Мы все равно будем играть по его правилам. Главное, что это было важно для Данте. А что касается меня, то мне было все равно. Итак, в нашей игре мы использовали наши кроссовки, два куска мела и рулетку. Мы придумывали правила по ходу игры, и они постоянно менялись. В конечном итоге у нас было три сета как в теннисе. Шесть бросков в сете. Данте выиграл два из трех сетов.
Отец Данте вышел из дома и, покачав головой спросил:
— Что вы творите?
— Мы играем.
— Что я говорил тебе по поводу игр на дороге, Данте? Парк совсем рядом. А что вы делаете? Вы бросаете кроссовки?
Данте не боялся своего отца. Он даже не шелохнулся, уверенный в том, что может отстоять свою позицию.
— Пап, мы просто играем в игру. Это что-то наподобие метания копья.
Его отец рассмеялся. Он действительно рассмеялся.
— Ты единственный ребенок во вселенной, который мог придумать игру с кроссовками, только чтобы не носить их. Маме бы это не понравилось.
— А мы ей не скажем.
— Конечно, скажем.
— Почему?
— Потому у нас есть правило, никаких секретов.
— Но мы играем прямо посреди дороги. Как это может быть секретом?
— Секретом это станет, если мы её об этом не скажем. Идите в парк, Данте.
Мы нашли хорошее место в парке, чтобы продолжить нашу игру. Я наблюдал за Данте, когда он со всей силой бросал свой кроссовок. Его отец был прав. Данте выдумал игру просто для того, чтобы снять обувь.
ДВЕНАДЦАТЬ
Однажды вечером, после тренировки по плаванию мы сидели на крыльце у дома Данте.
Он сидел и смотрел на свои ноги. Это вызвало у меня улыбку.
Он спросил, почему я улыбаюсь.
— Просто улыбнулся, — сказал я, — разве я не могу просто улыбаться?
— Ты говоришь мне неправду, — сказал он. У него был пунктик по поводу правды. В отличие от моего отца, который держал все в себе, Данте считал, что нужно всегда говорить откровенно.
— Хорошо, — сказал я, — я улыбался, потому что ты рассматривал свои ноги.
— Разве это забавно? — спросил он.
— Это странно, — ответил я. — Кто будет сидеть и пялиться на свои ноги? Только ты.
— Нет ничего плохо в изучении своего собственного тела, — сказал он.
— Но это действительно странно, Данте.
— Неважно, — сказал он.
— Неважно, — сказал я.
— Ты любишь собак, Ари?
— Люблю.
— Я тоже. И им не надо носить обувь.
Я рассмеялся. Я начинаю думать, что моё главное занятие — это смеяться над шутками Данте. Но дело в том, что Данте не старается шутить. Он, такой как он и есть.
— Я хочу попросить отца, чтобы он разрешил завести мне собаку.
— Какой породы собаку ты хочешь?
— Я не знаю, Ари. Но это обязательно должна быть собака из приюта. Из тех, которых когда-то оставили.
— А как ты узнаешь, какую лучше взять? Ведь в приюте много собак и они все хотят быть спасены.
— Это потому что люди подлые. Они выбрасывают животных как мусор. Меня это бесит.
Вдруг мы услышали на улице шум. Это были три подростка немного моложе нас. У двоих из них были пневматические ружья, которыми они целились в птицу.
— Эй! — закричал Данте. — Прекратите!
Он уже был посредине улицы, когда я понял, что происходит и побежал за ним.
— Прекратите! Вы что творите! Отдайте мне ружьё!
— Да черта с два.
— Это противозаконно, — сказал Данте. Он был взбешен.
— А как насчет второй поправки? — ответил парень с ружьем.
— Ага, вторая поправка, — сказал второй парень и только крепче сжал своё ружье.
— Вторая поправка не касается пневматического оружия, придурки. И кстати, запрещено использовать оружие в черте города.
— И что ты сделаешь, ты, кусок дерьма?
— Я собираюсь вас остановить, — ответил Данте.
— Как?
— Я просто надиру ваши тощие задницы, — вмешался я. Я испугался, что эти парни могут обидеть Данте. Я сказал то, что должен был сказать в такой ситуации. Эти парни были тупые и подлые. А я знаю, на что способны такие парни. А Данте был недостаточно готов к драке. Но я был во все оружие и совсем не против преподать урок парочке наглецов.
Мы стояли и смотрели друг на друга в упор. Я не знал, что Данте может предпринять в данной ситуации.
Один из парней направил своё ружье прямо на меня.
— На твоем месте я бы этого не делал, — сказал я и одним движением выбил оружие из его рук. Это произошло так быстро, что он не успел ничего понять. Первое правило драки, которое я уяснил, это двигайся быстро, разоружи соперника внезапно. Это всегда срабатывает. И теперь его ружье было у меня в руках.
— Тебе повезло, что я не затолкал тебе его в одно место, — сказал я и отбросил ружье в сторону.
Мне даже не пришлось говорить им, чтобы они убирались ко всем чертям. Они уже удирали, бормоча ругательства себе под нос.
Данте и я посмотрели друг на друга.
— Я не знал, что ты любишь драться, — сказал Данте.
— А я и не люблю, — ответил я. — Не очень люблю.
— Нет, — сказал Данте, — ты любишь подраться.
— Возможно, ты прав. А я не знал, что ты пацифист.
— Вовсе нет. Просто я думаю, что нужна веская причина, чтобы убивать птиц. А ты, кстати, тоже не прочь выругаться.
— Ага, только давай не будем говорить об этом твоей маме.
— Твоей мы тоже не скажем.
Я посмотрел на него и сказал:
— У меня есть теория, почему мамы такие строгие.
— Потому что они нас любят, Ари, — ответил Данте.
— Это тоже верно. Но главное это то, что они хотят, чтобы мы всегда оставались детьми.
— Ага, я думаю, моя мама была бы просто счастлива, если я останусь подростком навсегда.
Данте посмотрел на лежащую на земле мертвую птицу. Еще пару минут назад в его глазах была ненависть, а теперь он выглядел так, словно сейчас расплачется.
— Я никогда не видел тебя таким взбешенным, — сказал я.
— Я тоже, — ответил он.
Мы прекрасно знали, что взбесились по разным причинам.
Некоторое время мы просто стояли и смотрели на мертвую птицу.
— Это просто маленький воробушек, — сказал Данте и разрыдался.
Я не знал, что мне делать. Я просто стоял и смотрел на него.
Мы перешли улицу и сели на крыльцо у его дома. Данте зашвырнул свои кроссовки со всей силой и вытер слезы с глаз.
— Тебе было страшно? — спросил он.
— Нет.
— А я испугался.
И мы снова замолчали. Эта тишина меня раздражала. И наконец, я задал глупейший вопрос:
— Для чего вообще нужны птицы?
— Ты не знаешь? — спросил он, внимательно посмотрев на меня.
— Понятия не имею.
— Птицы существуют, чтобы научить нас любоваться небом.
— Ты так считаешь?
— Да.
Я хотел сказать, чтобы он не расстраивался. То, что эти парни сделали с птицей ерунда. Но для Данте это имело значение. Так пусть он выплачется. В этом весь он.
Вдруг он прекратил рыдать и, посмотрев на меня, спросил:
— Ты поможешь мне похоронить птицу?
— Конечно.
Мы взяли лопату из гаража, и пошли в парк к тому месту, где лежала мертвая птица.
Я положил птицу на лопату и понес её через улицу на задний двор Данте. Потом я выкопал ямку под большим деревом. Мы положили птицу в ямку и закопали.
Никто из нас не произнес ни слова.
Данте снова заплакал. Я чувствовал себя неловко от того, что меня это не тронуло. Это была просто птица. Возможно, она не заслужила такой смерти, но все-таки это просто птица.
Я был жестче, чем Данте. И я пытался скрыть свою жесткость от него, потому что хотел понравиться ему. Но теперь он все понял. И может это к лучшему. Мы просто примем тот факт, что я не сентиментален, а он слишком чувствителен.
— Спасибо, — сказал Данте.
Я знал, что в этот момент он хотел побыть один.
— Эй, — прошептал я, — до завтра.
— У нас завтра занятие по плаванию, — сказал он.
— Да, мы идем в бассейн.
По его лицу катились слезы. Интересно, какого это быть парнем, который плачет из-за смерти обычной птицы.
Я помахал ему на прощание. Он помахал в ответ.
По пути домой я размышлял о птицах и о смысле их существования. У Данте был ответ на это вопрос, в отличие от меня. Я понятия не имею, для чего нужны птицы.
Я понял, что Данте имел в виду. Если мы наблюдаем за птицами, то мы учимся быть свободными. Я думаю, именно об этом он и говорил. А у меня, того, кто носит имя философа, не было ответа. Почему? И почему некоторые парни могут плакать, а некоторые не способны на это?
Придя домой, я сел на крыльцо и любовался закатом.
Я чувствовал себя одиноко, но в хорошем смысле этого слова. Мне нравилось быть одному. Возможно, даже слишком. Наверное, мой отец был такой же.
Я подумал о Данте. Казалось, что его лицо — это карта мира. Карта мира без подлости.
Мир без подлости. Это, наверное, так красиво.
Часть ІI: ВОРОБЬИ, ПАДАЮЩИЕ С НЕБА
Когда я был маленьким, я часто просыпался с мыслью, что мира больше не существует.
ОДИН
Наутро после того как мы похоронили птичку, я проснулся с высокой температурой. Все тело ломило, горло болело, голова раскалывалась. Я уставился на свои руки, словно они принадлежали кому-то другому. Когда я попытался встать, вся комната зашаталась, и закружилась. Я попытался сделать шаг, но мои ноги меня не слушались. Не устояв на ногах, я рухнул в кровать.
В дверях комнаты появилась мама, но почему-то она показалась мне нереальной.
— Мам? Мам? Это ты? — мне казалось, что я кричал.
В её глазах читался вопрос.
— Да, — сказала она. У неё был очень озабоченный вид.
— Я упал, — сказал я.
Она начала что-то говорить, но я не мог разобрать ни слова. Все было так странно, и мне стало казаться, что я просто сплю. Мама потрогала мой лоб:
— Да ты весь горишь, — сказала она.
Я почувствовал её руку на своем лице.
Я продолжал гадать, где же я нахожусь, так что я спросил:
— Где мы?
— Чшш, — успокаивала меня мама.
Мир вокруг затих. Между мной и миром появился невидимый барьер, и на мгновение мне показалось, что мир никогда не хотел, чтобы я существовал, и сейчас пользуется возможностью, и избавляется от меня.
Я поднял глаза, и увидел маму с двумя таблетками аспирина и стаканом воды в руках. Когда я взял стакан, то стало заметно, как сильно трясутся мои руки. Мама сунула мне в рот термометр.
— Сорок один, — сказала она, взглянув на термометр. — Такую температуру нужно сбить. Это всё твои тренировки в бассейне, — покачав головой, сказала она.
— Это просто простуда, — прошептал я. Но мне показалось, что это сказал кто-то другой.
— Я думаю, у тебя грипп.
Но сейчас лето. Слова крутились у меня на языке, но я не мог их произнести. Меня трясло. Мама укрыла меня ещё одним одеялом.
Голова закружилась, в глазах потемнело, и я уснул.
Птицы падали с неба. Воробьи. Миллионы воробьев. Это был дождь из воробьев. Падая, они задевали меня, и я весь был покрыт их кровью. Я не мог найти места, чтобы укрыться. Их клювы рассекали мою кожу как стрелы. Я видел, как падает самолет Бадди Холли и слышал песню Вейлона Дженнингса «Ла Бамба». Я слышал, как плачет Данте. И когда я обернулся, чтобы посмотреть, где он, я увидел его, держащего искалеченное тело Ричи Валенса. И тут самолет рухнул прямо на нас. Все что я мог рассмотреть — это тени и земля в огне.
Потом небо и вовсе исчезло.
Я, наверное, кричал во сне, потому что мама и папа вбежали в мою комнату. Меня трясло, и я весь вспотел. И вдруг я понял, что рыдаю и никак не могу остановиться.
Отец взял меня на руки и сел в кресло. Я чувствовал себя маленьким и слабым. Я хотел обнять его, но руки меня не слушались. Мне захотелось спросить у него, держал ли он меня также в детстве и почему я этого не помню. Я начал думать, что все еще сплю, но увидев, как мама меняет простыни на моей кровати, я понял, что это реально. Всё кроме меня.
Кажется, я что-то бормотал. Отец прижал меня крепче, и что-то прошептал. Но ни его объятья, ни его шепот не избавили меня от озноба. Мама обтерла меня полотенцем, и вдвоем с отцом они сменили мне одежду. И вдруг я сказал странную вещь: «Только не выбрасывай мою футболку. Мне её подарил папа». Я расплакался, но не знал почему, ведь я не из тех парней, которые плачут. Я подумал, что может быть это вовсе не я, а кто-то другой разрыдался.
Я услышал, как отец прошептал: «Тише, все в порядке». Он положил меня на кровать, а мама протянула мне стакан воды и ещё аспирина.
Я взглянул на отца, и понял, что он волнуется. Мне стало грустно от того, что я заставляю его тревожиться. Я хотел сказать ему, что вовсе не ненавижу его. Я просто не понимаю его, не понимаю, какой он на самом деле. Но я очень хочу его понять. Мама сказала что-то отцу на испанском, и он кивнул.
Мир затих. Я уснул, и сны вновь вернулись. Мне снилось, что за окном лил дождь, сверкали молнии, слышались раскаты грома. Я увидел себя, бегущего под дождем. Я искал Данте, я звал его: «Данте! Вернись! Вернись!» Потом я стал искать, и звать отца: «Папа! Папа! Где ты? Куда ты ушел?»
Когда я снова проснулся, то был весь мокрый от пота. Отец сидел в кресле и внимательно смотрел на меня. В комнату вошла мама. Она посмотрела на отца, а потом на меня.
— Я не хотел вас пугать, — сказал я шепотом.
Мама улыбнулась, и я подумал, что в молодости она была довольно привлекательной девушкой. Мама помогла мне сесть.
— Дорогой, ты вспотел. Почему бы тебе не принять душ?
— Мне снились кошмары.
Я положил голову ей на плечо. Я хотел, чтобы вот так втроем все вместе мы сидели вечно.
Отец помог мне принять душ. Как только теплая вода коснулась моего тела, я вспомнил о своих снах… Данте, мой отец. Интересно, как выглядел мой отец в молодости. Мама говорила, что он был красив. Такой же красивый, как и Данте? И я тут же сам удивился своим мыслям. Когда я вернулся в постель, мама уже успела поменять постельное белье.
— Жар прошел, — сказала она, и протянула мне стакан воды. Я не хотел пить, но выпил весь стакан. Я даже не знал, что меня так сильно мучает жажда. Я попросил маму принести ещё воды.
Отец все еще сидел в кресле.
— Ты искал меня, — сказал он.
Я взглянул на него.
— Во сне. Ты искал меня.
— Я всегда ищу тебя, — прошептал я.
ДВА
На следующее утро я проснулся, и подумал, что умер. Я понимал, что этого не может быть, но все еще продолжал думать об этом. Может быть, какая-то часть тебя умирает, когда ты болеешь? Я не знаю.
Мамино лечение состояло в том, чтобы влить в меня галлон воды. В конце концов, я взбунтовался и отказался пить.
— Мой мочевой пузырь скоро лопнет.
— Это необходимо. Нужно промыть твой организм.
Но вода это не единственное, что меня раздражало. Я ненавидел её куриный суп. Первая тарелка была восхитительна. Я еще никогда не был так голоден. Это был в основном бульон. Но суп появился и на второй день. И это тоже было нормально, потому что это был уже полноценный суп с курицей, овощами и теплым хлебом. Потом суп был на обед и на ужин.
Мне надоели вода и куриный суп. Мне надоело болеть. После четырех дней в постели, я решил, что выздоровел.
— Я уже поправился, — сообщил я маме.
— Еще нет, — ответила она.
— Я в заложниках, — первое, что я сказал отцу, когда он вернулся с работы.
Он ухмыльнулся.
— Я в порядке, пап. Правда.
— Ты еще бледный.
— Мне нужно на свежий воздух.
— Потерпи ещё денек, — сказал он, — а потом можешь идти и творить свои безобразия дальше.
— Хорошо, но только больше никакого куриного супа.
— Это ты с мамой договаривайся.
Выходя из моей комнаты, он немного замешкался. Стоя спиной ко мне он спросил:
— Тебе больше не снились кошмары?
— Мне постоянно снятся кошмары, — ответил я.
— Даже когда ты здоров?
— Ага.
Он обернулся, и посмотрел на меня.
— И ты всегда ищешь кого-то?
— В основном да.
— И ты всегда пытаешься найти меня?
— Мне кажется, что в первую очередь я хочу найти себя, пап.
Было странно обсуждать с ним что-то подобное. Но я тоже был напуган этими кошмарами. Я хотел продолжить разговор, но не знал, как выразить словами то, что было внутри меня. Я посмотрел на отца и пожал плечами.
— Извини, — сказал он. — Извини, что я так далеко.
— Ничего.
— Нет, — сказал он, — это не нормально.
Казалось, он хотел сказать ещё что-то, но передумал. Он развернулся и вышел из комнаты.
Я опустил взгляд. Вдруг я услышал голос отца:
— У меня тоже бывают кошмары, Ари.
Я хотел узнать у него, были ли эти кошмары связаны с войной или с моим братом. Я хотел спросить, просыпается ли он таким же напуганным, как и я. Но все что я сделал, это просто улыбнулся ему. Он наконец-то, рассказал что-то о себе. Я был счастлив.
ТРИ
Мне разрешили смотреть телевизор. Но я кое-что понял о себе. На самом деле, я не люблю телевидение. Ни капельки. Я выключил телевизор и стал наблюдать за мамой, которая сидела за кухонным столом и готовилась к занятиям.
— Мам.
Она посмотрела на меня, и я попытался представить её, стоящую перед классом. Интересно, что парни о ней думают. Как они её видят? Нравится ли она им?
— О чем ты думаешь? — спросила она.
— Тебе нравится преподавать?
— Конечно, — сказала она.
— Даже если твоим ученикам все равно?
— Я открою тебе секрет. Я не несу ответственность за то, хотят мои ученики учиться или нет. Желание должно исходить от них, не от меня. Это всего лишь моя работа.
— Даже если им все равно?
— Даже если им все равно.
— А если твои ученики так же, как и я считают, что жизнь скучна?
— Таково мнение всех пятнадцатилетних.
— Это просто период, — сказал я.
— Да, это просто период такой, — ответила она и рассмеялась.
— Ты любишь пятнадцатилетних?
— Ты спрашиваешь, люблю ли я тебя или своих студентов?
— И про себя, и про них.
— Я тебя обожаю, Ари, ты же знаешь.
— Да, но ты также обожаешь и своих учеников.
— Ты ревнуешь?
— Можно мне пойти на улицу?
Я не мог также умело, как она избегать неприятных мне вопросов.
— Ты можешь выйти только завтра.
— Ты тиран, фашист.
— Таков мир, Ари.
— Благодаря тебе я знаю разные режимы правления. Муссолини был тираном. Франко был тираном. И папа говорит, что Рейган тоже тиран.
— Не воспринимай шутки отца так буквально, Ари. Он всего лишь хотел сказать, что президент Рейган, по его мнению, слишком деспотичен.
— Я знаю, что он имел в виду. Так же, как и ты понимаешь, что я имею в виду.
— Я тебя поняла, Ари. Но ты все равно не выйдешь из дома.
— Я просто хочу выбраться отсюда. Я схожу сума.
Она встала, подошла ко мне и сказала:
— Мне жаль, что ты считаешь, что я слишком строга с тобой. Но у меня на это есть причины. Когда ты подрастешь…
— Ты всегда так говоришь. Мне пятнадцать. Сколько мне должно исполниться, мам, прежде чем ты поймешь, что я уже не маленький мальчик?
Она взяла мою руку и поцеловала.
— Для меня ты всегда ребенок, — прошептала она. По её щекам катились слезы. Я не мог понять, что происходит. Сначала Данте, потом я, теперь мама. Может быть слезами можно заразиться так же, как и простудой?
— Все хорошо, мам, — прошептал я и улыбнулся ей. Я надеялся, что она объяснит причину своих слез. — Ты в порядке?
— Да, — сказала она, — все хорошо.
— Я так не думаю.
— Я стараюсь не сильно волноваться за тебя.
— Почему ты волнуешься? Это был просто грипп.
— Я говорю не об этом.
— А о чем?
— О том, чем ты занимаешься вне дома.
— Всякой ерундой.
— У тебя даже нет друзей.
Она вдруг осеклась и закрыла рот рукой.
Мне хотелось возненавидеть её за такие обвинения.
— А мне никто и не нужен. И как у меня могут появиться друзья, если ты даже не выпускаешь меня из дома? И кстати, у меня есть друзья, мам. Школьные друзья и Данте. Он мой друг.
— Ах да, Данте, — сказала она.
— Да, — сказал я — Данте.
— Я рада за Данте.
— Я в порядке, мам. Я не тот тип парней… — я не знал, что сказать. — Я просто другой, — сказал я. Я даже сам не понял, что я имел в виду.
— Знаешь, что я думаю?
Я не хотел знать, что она думает. Но мне придется выслушать её.
— Конечно, — сказал я.
Она проигнорировала мой сарказм.
— Я думаю, что ты не догадываешься, насколько сильно мы тебя любим.
— Я знаю.
Она хотела что-то сказать, но передумала.
— Ари, я просто хочу, чтобы ты был счастлив.
Мне хотелось объяснить ей, что мне трудно быть счастливым. Но я думаю, что она это и сама прекрасно понимала.
— Но я сейчас в таком возрасте, когда я должен быть недоволен жизнью.
Это её рассмешило.
У нас снова все было хорошо.
— А ты не против, если ко мне заглянет Данте?
ЧЕТЫРЕ
Данте взял трубку уже после второго гудка.
— Ты пропустил занятие в бассейне, — сказал он раздраженно.
— Я болел, подхватил грипп. Почти все время я спал, просыпаясь в холодном поту от кошмаров, и ел куриный суп.
— Температура была?
— Ага.
— Кости ломило?
— Ага.
— А ночная потливость?
— Была.
— Это плохо, — сказал он. — А про что были твои кошмары?
— Я не хочу об этом говорить.
Казалось, что ответ его удовлетворил. Но уже через пятнадцать минут он стоял у входной двери моего дома. Я услышал звонок в дверь, а потом голос Данте, который о чем-то говорил с моей мамой. Он любит поговорить.
Я услышал, как он прошел в зал, и вот он уже стоял в дверях моей комнаты. На нем была старая поношенная футболка и старые дырявые джинсы.
— Привет, — сказал он. У него в руках была книга стихов, блокнот для рисования и несколько угольных карандашей.
— Ты забыл надеть обувь, — сказал я ему.
— Я пожертвовал её одному бедняку.
— Полагаю, что джинсы будут следующими.
— Ага, — ответил он, и мы оба рассмеялись.
Он посмотрел на меня.
— Ты всё еще бледный.
— И все равно больше похож на мексиканца, чем ты.
— Любой больше похож на мексиканца, чем я. Ты скажи это тем, кто дал мне свои гены.
Его голос изменился. Было заметно, что его сильно беспокоили все эти разговоры про мексиканцев.
— Хорошо, хорошо, — сказал я и решил сменить тему. — Я смотрю, ты принес свой блокнот с рисунками.
— Ага.
— Ты покажешь мне свои наброски?
— Нет. Я лучше тебя нарисую.
— А что если я не хочу, чтобы ты меня рисовал?
— А как я стану художником без практики?
— А разве моделям не платят?
— Только красивым моделям.
— Разве я не красивый?
Данте заулыбался:
— Не будь занудой.
Он казался смущенным. Но я смутился больше, потому что почувствовал, что покраснел. Даже такие смуглые парни как я могут краснеть.
— Ты действительно собираешься стать художником? — спросил я.
— Конечно. Ты мне не веришь?
— Мне нужны доказательства.
Он сел в кресло и внимательно посмотрел на меня.
— Ты все ещё выглядишь больным.
— Спасибо.
— Может это из-за твоих кошмаров?
— Возможно.
Я не хотел говорить о моих снах.
— Когда я был маленький, я часто просыпался, думая, что мир исчез. Я вставал и смотрел на себя в зеркало. В моих глазах была грусть.
— Как и в моих.
— Ага.
— Мои глаза всегда печальны.
— Но ведь мир не исчез, Ари.
— Конечно, он не исчез.
— Поэтому не надо грустить.
— Грустно, грустно, грустно, — сказал я.
— Грустно, грустно, грустно, — сказал он.
Мы оба рассмеялись. Я был рад, что он пришел. За время болезни я очень ослаб и мне это не нравилось. Смех придал мне силы.
— Я хочу тебя нарисовать.
— А если я этого не хочу?
— Ты же сам просил доказательств.
Он протянул мне сборник стихов.
— Читай. Ты будешь читать, а я буду рисовать тебя.
Он стал осматривать все в моей комнате: меня, кровать, покрывала, подушки, освещение. Я чувствовал себя странно, неловко и некомфортно. Взгляд Данте был направлен на меня, и я не знал, нравится мне это или нет. Я точно знал, что чувствую себя не в своей тарелке. Но казалось, что для Данте я был невидимый. Его интересовал только его блокнот. И я расслабился.
— Только нарисуй меня красиво.
— Читай, — сказал он. — Просто читай.
Уже совсем скоро я забыл, что Данте меня рисует. Я просто читал. Читал, читал, и читал. Иногда я поднимал глаза, чтобы взглянуть на него. Но он был поглощен работой. Я прочел строчку, и попытался понять её: «звезды сделаны из того, что мы не можем удержать». Красиво сказано, но я не знал, что это значит. Обдумывая значение этой фразы, я уснул.
Когда я проснулся, Данте уже не было. И он не оставил ни одного наброска, которые он рисовал с меня. Он оставил только рисунок моего кресла. Это было идеально. Кресло на фоне пустой стены моей комнаты. Он изобразил даже послеполуденный свет, льющийся в комнату, тени, падающие на кресло, и придал всему этому такую глубину, что создавалось впечатление, что это что-то больше, чем просто неодушевленный предмет. От рисунка веяло печалью и одиночеством. Интересно, Данте передал свое видение мира в целом или так он видит мой мир.
Я долго разглядывал рисунок. Он меня пугал, потому что в нем было что-то правдивое.
Интересно, а где он научился рисовать. Я ему завидовал. Он умел плавать, рисовать, общаться с людьми. Он читал стихи, и любил себя. Интересно, как это любить себя. И почему одни люди не любят себя, а другие вполне собой довольны?
Я посмотрел на рисунок, потом на кресло. И тут я заметил записку.
Ари,
Я надеюсь, тебе понравился рисунок твоего кресла. Я скучаю по нашим занятиям в бассейне. Охранники такие придурки.
Данте
После ужина я ему позвонил.
— Почему ты ушел?
— Тебе надо было отдохнуть.
— Извини, что я уснул.
Повисла пауза.
— Мне понравился рисунок, — прервал я неловкое молчание.
— Почему?
— Потому что он очень правдоподобный.
— И это единственная причина?
— В нем что-то есть, — сказал я.
— Что?
— Эмоции.
— Расскажи мне, — сказал Данте.
— Это печаль. Печаль и одиночество.
— Это о тебе, — сказал он.
Меня взбесило, что он увидел какой я на самом деле.
— Я не всегда грустный, — сказал я.
— Я знаю.
— А почему ты мне не показал остальные рисунки?
— Не хочу.
— Почему?
— По той же причине, почему ты не хочешь рассказывать про свои кошмары.
ПЯТЬ
Грипп и не собирался отступать.
В эту ночь опять вернулись кошмары. Мой брат. Он стоял на другом берегу реки. Он был в Хуаресе, а я в Эль Пасо и мы могли видеть друг друга. Я кричал: «Бернардо, иди сюда!», а он только качал головой. Я подумал, что он просто не понимает и закричал на испанском. Мне казалось, что если бы я нашел правильные слова и сказал бы их на правильном языке, то он бы пересек реку и вернулся бы домой. Потом появился отец. Он и мой брат пристально смотрели друг на друга. На их лицах читалась боль всех отцов и сыновей мира. И эта боль была столь велика, что они разрыдались. Вдруг мой сон изменился, и отец с братом исчезли. Теперь я стоял на том месте, где только что стоял мой отец, а Данте стоял на другом берегу напротив меня. Он был без рубашки и босиком. Я хотел доплыть до него, но не мог пошевелиться. Потом он сказал мне что-то на английском, но я его не понял. Я сказал ему что-то по-испански, но он не понял меня.
Я так одинок. Вдруг свет погас, и Данте исчез в темноте.
Я проснулся, и почувствовал себя потерянным.
Я не понимал, где я нахожусь.
Лихорадка вернулась. Я думал, что может на этот раз все будет по-другому. Я знал, что это просто жар. Я снова уснул. С неба начали падать воробьи, и я был тем, кто их убил.
ШЕСТЬ
Данте зашел навестить меня. Со мной было не весело, и он это знал. Но ему было все равно.
— Ты хочешь поговорить?
— Нет, — ответил я.
— Ты хочешь, чтобы я ушел?
— Нет.
Он читал мне стихи, а я думал про воробьев, падающих с неба. Когда я слушал Данте, я подумал, а как звучит голос моего брата. Интересно, читал ли он когда-нибудь стихи. Мой мозг кипел: падающие воробьи, призрак моего брата, голос Данте.
Данте закончил читать один стих и стал искать следующий.
— А ты не боишься заразиться от меня? — спросил я.
— Нет.
— Ты ничего не боишься.
— Я боюсь многих вещей, Ари.
Я хотел спросить его, чего же он боится, но он вряд ли бы ответил.
СЕМЬ
Жар прошел, но кошмары остались. В них был мой отец, мой брат, Данте и иногда даже мама. У меня в голове постоянно всплывал один образ. Я иду по улице, держа за руку брата. Интересно, это воспоминание или сон. Или надежда.
Я лежал и думал о своей жизни, о проблемах и загадках. Я решил, что мой школьный год провален. Данте посещал соборную школу, потому что там была команда по плаванию. Мои родители тоже хотели отдать меня в эту школу, но я отказался. Я объяснил родителям, что в этой школе учатся только богатые. На что мама ответила, что за хорошую успеваемость там выплачивают стипендию. Я возразил, заявив, что вовсе не такой умный, чтобы заработать стипендию. Но мама не уступала, и сказала, что они могут себе позволить оплачивать моё обучение. «Я ненавижу этих мальчиков!» Я умолял отца не отправлять меня в эту школу.
Я никогда не говорил Данте, что ненавижу учеников его школы. Он не должен этого знать.
Я вспомнил про мамины обвинения: «У тебя нет друзей».
Я вспомнил про нарисованное Данте кресло и про то, как точно рисунок выражал мой внутренний мир.
Я был креслом. Я почувствовал себя ещё хуже.
Я понимал, что я уже давно не мальчик. Но я все ещё ощущал себя ребенком, хотя и уже начал чувствовать что-то мужское в себе. Я больше не хотел, чтобы со мной обращались как с ребенком. Я не хотел жить в созданном родителями мире, но собственного мира я еще не создал. Странным образом дружба с Данте заставляла меня чувствовать себя еще более одиноким.
Может это потому, что Данте вхож в любую компанию, а я чувствую себя везде не к месту. Мне даже не принадлежит моё собственное тело. Я превращаюсь сам не знаю в кого. Перемены болезненны, и я не знаю почему. Все мои переживания и эмоции не имеют никакого смысла.
Когда я был помладше, я решил вести дневник. Я даже что-то записывал в маленькую специально для этого купленную кожаную книжечку. Но я никогда не отличался дисциплинированностью и, поэтому записи в дневник велись урывками.
Когда я был в шестом классе, родители подарили мне на день рождения бейсбольную перчатку и печатную машинку. Тогда я состоял в бейсбольной команде, и перчатка была кстати. Но вот зачем печатная машинка? Как им в голову пришла мысль, что мне нужна печатная машинка? Я притворился, что всем доволен. Но у меня это не очень хорошо получилось. Плохой из меня притворщик.
Самое забавное то, что я научился печатать на машинке. В конце концов, какой никакой, а навык. С бейсболом наоборот ничего не получилось. Играл я хорошо, но без особого желания. Я делал это только для отца.
Я не знаю, почему я обо всем этом думал в тот момент. Возможно, потому что эти мысли всегда были со мной. Наверное, у меня в голове транслируется моё собственное телевидение, и я могу контролировать все, что хочу «смотреть» и переключать каналы в любое время.
Я подумал позвонить Данте. Но поразмыслив, решил, что у меня совсем нет желания с кем-нибудь говорить. Мне нравилось быть погруженным в собственные мысли.
Я вспомнил о моих старших сестрах и о том, насколько близки они между собой и как далеки они от меня. Я понимал, что это все из-за возраста. В этом все дело. Они всегда говорили, что я родился «немного поздно». Однажды я услышал их разговор на кухне, в котором речь шла обо мне, и они употребили именно это выражение, «поздно родился». Я решил поговорить с сестрами. Я посмотрел на Сесилию, и сказал: «Это вы родились слишком рано». Я улыбнулся ей, и покачал головой. «Разве это не печально? Это чертовски печально». На что моя другая сестра Сильвия, прочитала мне целую лекцию: «Я терпеть не могу это слово. Не употребляй его. Это неуважительно».
Они пожаловались маме, что я выражаюсь. Ей не нравились подобные высказывания. Сурово посмотрев на меня, она сказала: «Употребление подобных выражений указывает на отсутствие уважения и воображения. И не закатывай глаза».
Но настоящие неприятности начались после того как я отказался извиняться. И после этого случая я больше не слышал, чтобы сестры употребляли выражение «родился слишком поздно» в мой адрес.
Я бесился от того, что не мог поговорить ни со своим братом, ни со своими сестрами. Не то, чтобы мои сестры совсем обо мне не заботились. Просто они обращались со мной скорее, как с сыном, чем с братом. Но мне не нужны были три мамы. И поэтому на самом деле я был очень одинок. Чувство одиночество вызывало у меня желание поговорить с кем-то моего возраста, с тем, кто понимает, что употребление матерных слов дает мне ощущение свободы.
Иногда я записываю все ругательства, которые приходят мне на ум. Мне становится легче. У моей мамы на все есть свои правила. Правило для отца: не курить в доме, а для всех остальных: не выражаться. Она это терпеть не может. Даже когда отец употреблял новые интересные слова, она говорила ему: «Лучше выйди на улицу, может быть, там ты найдешь кого-нибудь, кому понравится твоя манера речи».
Моя мама добрая, но при этом очень строгая. Я думаю, это её способ выжить. Я не хотел иметь неприятности с мамой из-за ругательств, поэтому все матерные слова я держал при себе.
Ещё меня беспокоило моё имя. Ангел Аристотель Мендоза. Я ненавидел имя Ангел и никому не позволял называть меня так. Все, кого я знал с именем Ангел, были настоящие придурки. А что касается имени Аристотель, то хотя я и знал, что был назван в честь дедушки, я так же знал, что такое имя носил известный философ. И меня это раздражало, так как все ожидали от меня того, чего я не мог им дать.
Поэтому я всегда представлялся именем Ари.
Если я подписывал письма, то ставил подпись Воздух*.
Я думаю, было бы чудесно стать воздухом. Я могу быть всем и ничем одновременно. Я необходим и при этом невидим. Я всем нужен, но никто меня не видит.
* Воздух — с англ. Air. Получается игра слов: Ari — Air.
ВОСЕМЬ
Мама прервала мои мысли, если они таковыми были.
— Данте звонит.
Я шел мимо кухни и заметил, что мама делала уборку в ящиках. Чтобы не значило лето, для мамы — это работа.
Я плюхнулся на диван в гостиной и взял телефон.
— Привет, — сказал я.
— Привет. Что делаешь?
— Ничего. Я не очень хорошо себя чувствую. Поле обеда мама ведет меня к врачу.
— Я надеялся, мы пойдем поплавать.
— Черт, — сказал я. — Я не могу. Я просто, понимаешь…
— Да, знаю. Значит, ты ничего не делаешь?
— Ага.
— Ты читаешь что-то, Ари?
— Нет. Я думаю.
— О чем?
— О разных вещах.
— О разных вещах?
— Знаешь, Данте, о вещах.
— Например?
— Знаешь, например, что две мои сестры и брат намного старше меня, и что я чувствую из-за этого.
— По сколько им лет?
— Мои сестры близняшки. Они не одинаковые, но очень похожи. Им двадцать семь. Моя мама родила их, когда ей было восемнадцать.
— Вау, — сказал он. — Двадцать семь.
— Да, вау.
— Мне пятнадцать и у меня есть три племянницы и четыре племянника.
— Это круто, Ари.
— Поверь мне, Данте, это не так уж и круто. Они даже не называют меня дядей.
— А сколько лет твоему брату?
— Двадцать пять.
— Я всегда хотел брата.
— Да, у меня можно сказать, его тоже нет.
— Почему?
— Мы не говорим о нем. Он будто мертв.
— Почему?
— Он в тюрьме. Я никому не рассказывал о своем брате. Я ни разу не сказал о нем и слова. Я не хочу говорить о нем.
Данте ничего не ответил.
— Мы можем не говорить о нем? — спросил я.
— Почему?
— Мне как-то не по себе.
— Ари, ты ничего не сделал.
— Я не хочу говорить о нем, хорошо?
— Хорошо. Но знаешь, что, Ари? У тебя очень интересная жизнь.
— Не совсем, — сказал я.
— Но это так. По крайней мере, у тебя есть сестры и брат. А у меня только мама и папа.
— А что насчет кузин?
— Я им не нравлюсь. Они думают, что я немного другой. Они настоящие мексиканцы. А я, как ты там называешь меня?
— Почо.
— Вот кто я. Мой испанский не очень хорош.
— Ты можешь выучить его, — ответил я.
— Учить его в школе совсем не так, как дома или на улице. И это очень тяжело, потому что большинство моих кузин со стороны мамы, и они очень бедные. Моя мама самая младшая и она очень долго боролась со своей семьей, чтобы пойти в школу. Ее отец не думал, что девочка должна идти в колледж. Так что моя мама сказала: «К черту все. Я пойду туда в любом случае».
— Я не могу представить, чтобы твоя мама говорила «к черту все».
— Ну, возможно она выразилась не совсем так, но она имела в виду именно это. Она была очень умной и очень старалась попасть в колледж. Она получила какую-то стипендию в Беркли. Именно там она и встретила моего отца. Я родился где-то там. Они учились. Мама училась на психолога. А папа — на учителя английского языка. Родители моего папы были мексиканцами. Они жили в маленьком домике в восточном Лос-Анджелесе, говорили по-английски и управляли небольшим рестораном. Мои родители создали свой собственный мир. И я живу в их новом мире. Но они понимают старый мир, мир в котором они родились, а я нет. Я никуда не подхожу. Это проблема.
— Это не так, — сказал я. — Ты подходишь всему. Вот такой ты.
— Ты просто никогда не видел меня с кузинами. Рядом с ними, я выгляжу как фрик.
Я понимал это чувство.
— Я понимаю, — ответил я. — Я тоже чувствую себя фриком.
— Ну, по крайней мере, ты настоящий мексиканец.
— А что я знаю о Мексике, Данте?
Он молчал, и это было очень странно.
— Думаешь, так будет всегда?
— Как?
— И имею в виду, когда мы начнем чувствовать, будто весь мир принадлежит нам?
Я хотел сказать ему, что мир никогда не будет принадлежать нам.
— Я не знаю, — сказал я. — Завтра.
ДЕВЯТЬ
Я зашел на кухню и начал смотреть как мама прибирается в ящиках.
— О чем вы с Данте разговаривали?
— О разных вещах.
Я хотел спросить о моем брате. Но я знал, что это плохая идея.
— Он рассказывал мне о своих родителях, о том, что они познакомились в Беркли. И что он родился там. Он сказал, что помнит, как его родители все время читали книги и учились.
Мама улыбнулась.
— Точно также было и с нами.
— Я не помню.
— Я заканчивала бакалавра, когда твой отец был на войне. Это помогало мне отвлечься. Я постоянно волновалась. Моя мама и тети помогали заботится о твоих сестрах и брате, пока я ходила в колледж и училась. А когда твой отец вернулся, у нас родился ты.
Она улыбнулась и как всегда провела рукой по моим волосам.
— Твой отец устроился на почту, а я продолжала учиться. У меня был ты и колледж. И твой отец был в безопасности.
— Было сложно?
— Я была счастлива. Ты был таким хорошим младенцем. Я думала, что умерла и попала на небеса. Мы купили этот дом. Ему был нужен ремонт, но он был нашим. И я занималась тем, о чем мечтала всю жизнь.
— Ты всегда хотела быть учителем?
— Всегда. Когда я росла, у нас ничего не было, но мама понимала, как много для меня значит обучение. Она расплакалась, когда я сказала, что я собираюсь выйти замуж за твоего отца.
— Он ей не нравился?
— Нет, дело не в этом. Она просто хотела, чтобы я продолжала ходить в колледж. И я пообещала, что не брошу. Это заняло время, но я сдержала свое обещание.
Это был первый раз, когда я действительно увидел мою маму, как человека. Человека, который был намного больше, чем просто моей мамой. Было странно думать о ней так. Я хотел спросить о своем отце, но я не знал, как.
— Он изменился? Когда вернулся с войны?
— Да.
— Насколько?
— Внутри него много шрамов, Ари.
— Но что это? Боль? Что это?
— Я не знаю.
— Как ты можешь мне знать, мам?
— Потому что они его, Ари. Они только его.
Я понял, что она и сама не до конца приняла его личные шрамы.
— Они когда-нибудь излечатся?
— Я так не думаю.
— Мам? Могу я кое-что спросить?
— Ты можешь спросить, о чем угодно.
— Его тяжело любить?
— Нет, — сказал она, даже не задумываясь.
— Ты понимаешь его?
— Не всегда. Но Ари, я не всегда должна понимать людей, которых люблю.
— А я должен.
— Это сложно, не так ли?
— Я не знаю его, мам.
— Я знаю, что ты разозлишься, когда я скажу это, Ари, но я все равно скажу это. Возможно, однажды ты поймешь.
— Ага, — сказал я. — Однажды.
Однажды, я пойму моего отца. Однажды он мне все расскажет. Однажды. Я ненавижу это слово.
ДЕСЯТЬ
Мне нравилось, когда мама говорила, о чем она думает. Казалось, она могла делать это. Не то чтобы мы много разговаривали, но, когда это все же случалось, я чувствовал, будто действительно знаю ее. А я не испытывал такого чувства к огромному количеству людей. Когда она говорила со мной, у нее было много идей, по поводу того, кем я должен быть. Я ненавидел это и боролся с ней, потому что не хотел, чтобы она вмешивалась.
Я не думаю, что должен слушать, кем люди хотят меня видеть. Если бы ты не был таким молчаливым, Ари… Если бы ты был более дисциплинирован… Да, у всех было свое мнение по поводу моего поведения, и по поводу того, кем я должен стать. Особенно у моих старших сестер.
Потому что я был самым младшим.
Потому что я был неожиданным.
Потому что я родился слишком поздно.
Потому что мой старший брат был в тюрьме. И возможно мои родители винили себя за это. Если бы они только сказали что-то, сделали что-то. Они не допустят этой ошибки снова. Так что, я застрял с виной моих родителей. Виной, о которой моя мама никогда не говорила. Иногда она мельком упоминала моего брата. Но она никогда не называла его по имени.
Так что, теперь я был единственным сыном. И на самом деле, это было тяжело. Но все было так, как было.
Каждый раз, когда я упоминал моего брата при Данте, у меня появлялось странное чувство, будто я предаю свою семью. И это было плохое чувство. В нашем доме было так много призраков — призрак моего брата, призрак войны моего отца, призрак голосов моих сестер. Я даже думал, что внутри меня тоже есть призраки, просто я еще их не обнаружил. Они могли показаться в любой момент. Они просто ждали подходящего времени.
Я взял свой старый дневник и пролистал несколько страниц. Я нашел запись, которую написал через неделю после того, как мне исполнилось пятнадцать:
Мне не нравится быть пятнадцатилетним.
Мне не нравилось быть четырнадцатилетним.
Мне не нравилось быть тринадцатилетним.
Мне не нравилось быть двенадцатилетним.
Мне не нравилось быть одиннадцатилетним.
Мне нравилось быть десятилетним. Не знаю почему, но в пятом классе у меня был очень хороший год.
Пятый класс был замечательным. Миссис Педрегон была хорошим учителем и по какой-то причине, я всем нравился. Хороший год. Замечательный год. Пятый класс. Но сейчас, в пятнадцать лет, все немного неловко. Мой голос вытворяет странные вещи. Моя мама говорит, что мои рефлексы пытаются смириться с тем, что я так быстро расту.
Я не особо волнуюсь по этому поводу.
Мое тело делает вещи, которые я не могу контролировать. И мне просто не нравится это.
В конце концов, у меня волосы по всему телу. Волосы подмышками, волосы на ногах, и волосы вокруг… волосы между ногами. Мне не нравится это. Даже на моих пальцах растут волосы. Как такое может быть?
А мои ноги становятся все больше и больше. Что не так с большими ногами? Когда мне было десять, я был очень маленьким, и я не волновался по поводу волос. Единственной вещью, из-за которой я волновался, было мое знание английского. Когда мне было десять, я решил, что не хочу иметь мексиканский акцент. Я хотел быть американцем. И когда я говорил, я хотел звучать, как американец.
Какая разница, если я не выгляжу как настоящий американец?
Как вообще выглядят настоящие американцы?
У них большие руки, большие ноги и волосы вокруг… Ну, между ног?
Мне было ужасно стыдно, когда я читал свои собственные слова. Я был таким идиотом. Должно быть, я был самым огромным неудачником в мире, потому что писал о волосах и прочих вещах на моем теле. Не удивительно, что я перестал вести дневник. Я будто писал доказательство своей собственной глупости. Зачем я делал это? Почему я хотел напоминать себе, каким идиотом я был?
Я даже не знаю, почему не швырнул дневник через всю комнату. Я просто продолжал листать его. А затем я наткнулся на страницу, посвященную моему брату.
В этом доме нет фотографий моего брата.
Здесь есть фотографии моих старших сестер с их свадеб. Фотография моей мамы в ее первом исповедническом платье. Фотография моего папы из Вьетнама. Мои детские фотографии, фотографии с первого дня школы и фотография, на которой я держу кубок за первое место в чемпионате.
Фотографии трех моих племянниц и четырех племенников.
Фотографии моих бабушек и дедушек, которые уже давно мертвы.
По всему дому куча фотографий.
Но нет ни одной фотографии моего брата.
Потому что он в тюрьме.
Никто не говорит о нем.
Он будто вовсе умер.
Но это хуже, чем быть мертвым. По крайней мере, о мертвых не боятся говорить и рассказывать разные истории. Люди улыбаются, когда рассказывают эти истории. Иногда они даже смеются. Мы говорим даже собаке, которая у нас была давным-давно.
Даже о Чарли, мертвой собаке, рассказывают истории.
А о моем брате не говорят ничего.
Он был стерт из нашей семейной истории. Это неправильно. Мой брат больше, чем просто слово, написанное на картонке. Я должен написать эссе про Александра Хэмилтона, и даже его я знаю лучше.
Я бы лучше написал эссе о моем брате.
Но не думаю, что кому-либо в школе было интересно читать это эссе.
Я думал, хватит ли у меня когда-либо смелости, чтобы попросить родителей рассказать о брате. Однажды я спросил сестер. Сесилия и Сильвия грозно взглянули на меня.
— Даже не вспоминай его.
Я вспомнил, что в тот момент подумал, что, если бы у нее был пистолет, она бы пристрелила меня. Я подловил себя на том, что постоянно шепчу: «Мой брат в тюрьме, мой брат в тюрьме, мой брат в тюрьме». Я хотел почувствовать эти слова на языке, и сказать их в слух. Слова могут быть как еда — их можно почувствовать во рту. У них был вкус. «Мой брат в тюрьме». У этих слов был горький привкус.
Но худшей частью было то, что эти слова жили во мне. И они были готовы вырваться в любой момент. Слова нельзя контролировать. Не всегда.
Я не понимал, что со мной происходит. Это был хаос, а я был ужасно напуган. Я был словно комната Данте, пока он не расставил все по местам. По местам. Это то, в чем я нуждался. Я взял дневник, и начал писать:
В моей жизни происходит много вещей (не обязательно в таком порядке):
— Я подхватил грипп и ужасно себя чувствовал.
— Я всегда чувствовал себя ужасно. И причины этого постоянно меняются.
— Я сказал отцу, что мне постоянно снились кошмары. И это было правдой. Раньше я этого никому не рассказывал. Даже самому себе. Я просто знал, что это правда.
— На несколько минут я возненавидел мою маму, потому что она сказала, что у меня нет друзей.
— Я хочу узнать о моем брате. Если бы я знал о нем больше, ненавидел бы я его?
— Папа держал меня на руках, когда у меня был жар и я хотел, чтобы он держал меня на руках как можно дольше.
— Проблема не в том, что я не люблю родителей. Проблема в том, что я не знаю, как любить их.
— Данте — моей самый первый друг. Это меня пугает.
— Я думаю, что, если бы Данте знал настоящего меня, я бы ему не понравился.
ОДИННАДЦАТЬ
Нам пришлось ждать в кабинете врача около двух часов. Но мы с мамой были подготовлены к этому. Я взял книгу Уильяма Карлоса Уильямса, которую мне дал Данте, а мама взяла роман, который она читала, «Благослови меня, Ультима».
Я сидел напротив нее и заметил, что иногда она рассматривала меня. Я чувствовал на себе ее взгляд.
— Я не знала, что ты любишь стихи.
— Это книга Данте. Книги его отца лежат по всему дому.
— Это замечательно.
— Ты имеешь в виду быть профессором?
— Да. Это замечательно.
— Наверно, — ответил я.
— Когда я училась в университете, у меня никогда не было мексиканско-американского профессора. Ни одного.
На ее лице был почти гнев.
Я так мало знал о ней. О том, через что она прошла, о том, какого это быть ею. И если честно, я никогда не интересовался. Но сейчас я задумался над этим. Я начал задумываться обо всем.
— Тебе нравятся стихи, Ари?
— Да. Думаю, да.
— Возможно, ты станешь писателем, — сказала она. — Поэтом.
Из ее уст это звучало так красиво. Слишком красиво для меня.
ДВЕНАДЦАТЬ
Со мной все в порядке. Так сказал врач. Это просто нормальное восстановление после гриппа. Весь день потрачен впустую. Кроме того, что я наконец-то увидел гнев на лице моей мамы. Именно об этом я и думаю уже некоторое время.
Как только она становилось менее загадочной, эта загадочность возвращалась еще в большей мере.
Наконец-то меня выпустили из дома.
Я встретился с Данте возле бассейна, но я быстро запыхался. Большую часть времени я просто смотрел, как плавает Данте.
Казалось, что сейчас пойдет дождь. В это время года постоянно шли дожди. А затем начался ливень.
Я посмотрел на Данте.
— Я не побегу, если не побежишь ты.
— Я не побегу.
Так что, мы просто шли под дождем. Я хотел идти быстрее, но вместо этого я только замедлил шаг.
Я взглянул на Данте.
— Ты успеваешь?
Он улыбнулся.
Медленно, мы пришли к нему домой. Под дождем. Полностью промокшие.
Как только мы зашли в дом, отец Данте прочитал нам лекцию и заставил переодеться в сухую одежду.
— Я знал, что у Данте нет никакого здравого смысла. Но ты, Ари, я думал, ты немного ответственнее.
Данте не выдержал и прервал:
— Отличный шанс, пап.
— Он только переболел гриппом, Данте.
— Со мной все хорошо, — сказал я. — Я люблю дождь. Простите.
Он положил руку мне на подбородок и приподнял его.
— Летние мальчики, — сказал он.
Мне нравилось то, как он смотрел на меня. Я думал, что он был самым добрым человеком в мире. Возможно, все были добрыми. Даже мой отец. Но мистер Кинтана был храбрым. Ему было все равно, знает ли весь мир о том, что он добрый. Данте был весь в него.
Я спросил Данте, злится ли когда-либо его отец.
— Он не злится очень часто. Едва ли. Но когда это случается, я стараюсь не попадаться ему на глаза.
— А из-за чего он злится?
— Однажды я выкинул все его бумаги.
— Серьезно?
— Он не обращал на меня внимания.
— Сколько тебе было лет?
— Двенадцать.
— Значит, ты специально разозлил его.
— Вроде того.
Непонятно из-за чего я начал кашлять. Мы испуганно переглянулись.
— Горячий чай, — сказал Данте.
Я кивнул. Хорошая идея.
Мы сидели, пили свой чай и смотрели на дождь. Небо было почти черным, а затем пошел град. Это так прекрасно и страшно. Я начал думать о шторме и почему иногда кажется, будто он хочет сломить весь мир.
Я начал думать о граде, когда Данте толкнул меня в плече.
— Нам надо поговорить.
— Поговорить?
— Да, поговорить.
— Мы разговариваем каждый день.
— Да, но я имею в виду другой разговор.
— О чем же?
— О нас. О наших родителях. О всяком таком.
— Тебе когда-нибудь говорили, что ты ненормальный?
— Это то, к чему я должен стремится?
— Нет. Но ты ненормальный. Откуда ты взялся?
— Ну, однажды ночью у моих родителей был секс.
Я почти представил его родителей, занимающихся сексом… Что было немного странно.
— Откуда ты знаешь, что это было ночью?
— Хорошо подмечено.
Мы начали смеяться.
— Ладно, — сказал он. — Это серьезно.
— Это игра?
— Да.
— Ну, тогда я сыграю.
— Какой твой любимый цвет?
— Голубой.
— Красный. А любимая машина?
— Мне не нравятся машины.
— Мне тоже. Любимая песня?
— Тоже нету. А твоя?
— «Длинная и извилистая дорога».
— «Длинная и извилистая дорога»?
— Битлз, Ари.
— Я не знаю такую песню.
— Это отличная песня, Ари.
— Скучная игра, Данте. Это что, интервью?
— Вроде того.
— И на какую роль я прохожу собеседование?
— На роль лучшего друга.
— Я думал, что я уже получил эту работу.
— Не будь так уверен, высокомерный сукин сын.
Он потянулся и ударил меня. Не сильно. Но и не легко.
Из-за этого я рассмеялся.
— Отличная речь.
— А ты никогда не хотел просто встать и начать кричать все плохие слова, которые ты знаешь?
— Каждый день.
— Каждый день? Ты еще хуже меня.
Он посмотрел на град.
— Это похоже на разозленный снег.
Я снова рассмеялся.
Данте затряс головой.
— Знаешь, мы слишком хорошие.
— О чем ты?
— Наши родители превратили нас в хороших мальчиков. Я ненавижу это.
— Я не считаю себя таким уж хорошим.
— Ты состоишь в секте?
— Нет.
— Ты принимаешь наркотики?
— Нет.
— Ты пьешь?
— Я бы хотел.
— Я тоже. Но это был не ответ.
— Нет, я не пью.
— Ты занимаешься сексом?
— Сексом?
— Сексом, Ари.
— Нет, я никогда не занимался сексом, Данте. Но я бы хотел.
— Я тоже. Видишь, о чем я? Мы хорошие.
— Хорошие, — повторил я. — Черт.
— Черт, — сказал он.
А затем мы оба рассмеялись.
Весь день Данте задавал мне вопросы. А я отвечал на них. Когда прекратился град и дождь, теплый день превратился в прохладный. Казалось, что весь мир затих. Я хотел бы, чтобы мир был таким постоянно.
Данте вышел на крыльцо. Он протянул руку к небу.
— Это чертовски красиво. Пошли погуляем?
— А наша обувь?
— Папа положил ее в сушилку. Какая вообще разница?
— Да, какая разница?
Я знал, что делал это раньше — ходил босиком по мокрой улице и чувствовал прохладный воздух на лице. Но я не ощущал, будто когда-либо делал это. Казалось, что это происходит впервые.
Данте что-то говорил, но я его не слушал. Я смотрел на небо, на темные облака и слушал звуки грома.
Я посмотрел на Данте, ветер раздувал его длинные, темные волосы.
— Мы уезжаем на год, — сказал он.
Резко мне стало грустно. Нет, даже не грустно. Я чувствовал себя так, будто кто-то ударил меня.
— Уезжаете?
— Да?
— Почему? То есть, когда?
— В следующем году мой папа будет профессором с Университете Чикаго. Думаю, они хотят нанять его.
— Это отлично, — сказал я.
— Ага.
Я был счастлив, но в тоже время расстроен. Я не смогу этого выдержать. Я не смотрел на него. Я просто смотрел на небо.
— Это действительно отлично. Так, когда вы уезжаете?
— В конце Августа.
Шесть недель. Я улыбнулся.
— Это отлично.
— Ты продолжаешь говорить «это отлично».
— Но ведь так и есть.
— Да. Так и есть. Разве тебе не грустно, что я уезжаю?
— Почему мне должно быть грустно?
Он улыбнулся, а потом на его лице появился этот взгляд, будто ему было трудно сказать, о чем он думает или что он чувствует. Это было странно, потому что лицо Данте было открытой книгой.
— Смотри, — сказал он. Он указал на птицу, которая сидела посреди улицы и пыталась взлететь. Скорее всего, одно из ее крыльев было сломано.
— Она же умрет, — прошептал я.
— Мы можем спасти ее.
Данте подошел к птице и попытался взять ее в руки. А я следил за ним. Это последнее, что я помню, прежде чем на дороге появилась машина. Данте! Данте! Я знал, что из меня вырывается крик. Данте!
Я помню, что мне показалось будто это просто сон. Все это. Это был просто еще один кошмар. Я продолжал думать, что это конец света. Я думал о воробьях, падающих с неба.
Данте!
Часть ІІІ: КОНЕЦ ЛЕТА
Ты помнишь
летний дождь…
Позволь упасть всему, что хочет упасть.
— Карен Фишер
ОДИН
Я помню, как машина выехала из-за угла, и как Данте стоял посредине улицы и держал птицу с поломанным крылом. Я помню скользкие улицы после града. Я помню, как кричал его имя. Данте!
Я проснулся в больничной палате.
Обе мои ноги были в гипсе.
Так же, как и моя левая рука. Все казалось таким далеким, каждая часть моего тела болела, и я все продолжал думать что же произошло? У меня ужасно болела голова. Что произошло? Что произошло? Даже мои пальцы болели. Клянусь, так и было. Я чувствовал себя, как футбольный мяч после игры. Черт. Должно быть, я стонал или что-то вроде того, потому что, я не заметил, как мои родители оказались возле моей кровати. Мама плакала.
— Не плачь, — сказал я. У меня пересохло в горле, и мой голос звучал так, будто это вовсе не я.
Она закусила губу, наклонилась и провела рукой по моим волосам.
Я просто посмотрел на нее.
— Просто не плачь, ладно?
— Я боялась, что ты никогда не проснешься, — прошептала она в плече моего отца.
Часть меня хотела все это записать. А вторая часть хотела просто быть где-то в другом месте. Возможно, ничего из этого вообще не происходило. Но это не так. Это происходило. Но это не казалось настоящим. Кроме того, что мне было невыносимо больно. Это было самой реальной вещью за всю мою жизнь.
— Все болит, — сказал я.
После этих слов мама вытерла слезы и снова стала собой. Я был рад. Я ненавидел, когда она была слабой и плакала, будто разваливается на части. Мне стало интересно, чувствовала ли она себя так же само, когда моего брата забрали в тюрьму. Она нажала кнопку на моем внутривенном катетере и положила мне его в руку.
— Если тебе сильно больно, ты можешь нажимать на эту кнопку каждые 15 минут.
— Что это?
— Морфий.
— Я так могу и привыкнуть.
Она проигнорировала мою шутку.
— Я позову медсестру.
Моя мама всегда была в движении. Мне это нравилось.
Я осмотрел комнату и задумался, почему я проснулся. Я продолжал думать, что, если бы я опять уснул, тогда мне не было бы так больно. Я предпочитаю кошмары, чем боль.
Я посмотрел на отца.
— Все хорошо, — сказал я, хотя сам не верил в то, что говорю.
На лице моего отца появилась серьезная улыбка. А затем он сказал:
— Ари, Ари. Ты самый храбрый мальчик в мире.
— Нет.
— Да.
— Я парень, который боится собственных снов, пап. Помнишь?
Мне нравилось, когда он улыбался. Почему он не мог улыбаться постоянно?
Я хотел спросить у него, что случилось. Но я боялся. Я не знал… Мое горло пересохло, и я не мог говорить. А затем я вспомнил, как Данте держал раненную птицу. Я не мог дышать, и мне стало страшно от мысли, что Данте мог умереть. Внутри меня росла настоящая паника. Я мог почувствовать, как эта ужасная мысль появилась у меня в голове.
— Данте? — еле слышно прошептал я.
Медсестра стояла возле меня. У нее был приятный голос.
— Я собираюсь проверить твое давление.
Я просто лежал и позволил ей сделать все, что она хотела. Мне было все равно. Она улыбнулась.
— Как твоя боль?
— Отлично, — ответил я.
Она рассмеялась.
— Ты нас хорошо напугал, молодой человек.
— Я люблю пугать людей, — прошептал я.
Мама покачала головой.
— Мне нравится морфий, — сказал я и закрыл глаза. — Данте?
— Он в порядке, — сказала мама.
Я открыл глаза.
Я услышал голос отца.
— Он напуган. Он очень напуган.
— Но он в порядке?
— Да. Он в порядке. Он ждал, пока ты проснешься.
Мама с папой переглянулись.
— Он здесь.
Он жив. Данте. Я снова могу дышать.
— Что случилось с птицей, которую он держал?
Папа сжал мою руку.
— Сумасшедшие мальчики, — прошептал он. — Сумасшедшие, сумасшедшие мальчики.
Я смотрел, как он выходит из комнаты.
А мама просто продолжала смотреть на меня.
— Куда ушел папа?
— Он пошел за Данте. Он не ушел. Он был здесь последние тридцать шесть часов. Он ждал, пока ты…
— Тридцать шесть часов?
— У тебя была операция.
— Операция?
— Им пришлось сращивать твои кости.
— Ладно.
— У тебя остались шрамы.
— Ладно.
— После операции ты немного находился в сознании.
— Я не помню.
— Тебе было больно. Они дали тебе что-то. А затем ты опять уснул.
— Я не помню.
— Доктор предупреждал, что ты не вспомнишь.
— Я что-то говорил?
— Ты просто стонал. Ты звал Данте. Он бы не ушел. Он очень упрямый парень.
Я улыбнулся.
— Да. Он выигрывает во всех спорах. Точно так же, как и я выигрываю у тебя.
— Я люблю тебя, — прошептала она. — Ты знаешь, как сильно я люблю тебя?
Мне было так приятно, что она сказала это. Она не говорила мне этих слов уже давно.
— Я люблю тебя больше.
Когда я был маленьким, я постоянно отвечал ей так.
Я думал, что она снова начнет плакать. Но она не заплакала. Я увидел несколько слезинок, но она не плакала. Она протянула мне стакан с водой, и я немного отпил.
— Твои ноги. Машина переехала твои ноги.
— Это вина водителя, — сказал я.
Она кивнула.
— У тебя был очень хороший хирург. Все переломы ниже колен. Боже… Они думали, что ты потеряешь ноги…
Она остановилась и вытерла слезы.
— Я больше никогда, никогда не выпущу тебя из дома.
— Фашист, — прошептал я.
Она поцеловала меня.
— Ты милый и прекрасный ребенок.
— Я не такой уж и милый, мам.
— Не спорь со мной.
— Ладно, — сказал я. — Я милый.
Она снова начала плакать.
— Все хорошо, — сказал я.
Данте и мой папа вошли в комнату.
Мы посмотрели друг на друга и улыбнулись. Над его левым глазом были швы, и вся левая половина его лица была в царапинах. На его правой руке был гипс.
— Привет, — сказа он.
— Привет, — ответил я.
— Мы подходим друг-другу.
— Тут я выигрываю.
— Ну, хоть когда-то ты выиграл спор.
— Да, наконец-то, — сказал я. — Ты ужасно выглядишь.
Он стаял напротив меня.
— Точно так же, как и ты.
Мы просто смотрели друг на друга.
— Звучишь уставшим, — сказал он.
— Ага.
— Я рад, что ты проснулся.
— Да, я проснулся. Но когда я спал, мне было не так больно.
— Ты спас мою жизнь, Ари.
— Герой Данте. Прям как я всегда хотел.
— Не делай этого, Ари. Не шути. Ты почти умер.
— Я сделал это не специально.
Он начал плакать. Данте начал плакать. Данте начал плакать.
— Ты оттолкнул меня. Ты оттолкнул меня и спас мою жизнь.
— А выглядит так, будто я оттолкнул тебя, и изуродовал твое лицо.
— Не выводи меня.
— Все из-за этой чертовой птицы, — сказал я. — Во всем виновата птица. Во всем.
— Я покончил с птицами.
— Нет, это не так.
Он снова начал плакать.
— Прекрати, — сказал я. — Моя мама плакала, а теперь плачешь ты… Даже папа выглядит так, будто сейчас заплачет. Правила. У меня есть правила. Никаких слез.
— Ладно, — сказал он. — Больше никаких слез. Парни не плачут.
— Парни не плачут, — повторил я. — Я устал от всех этих слез.
Данте рассмеялся. А потом стал очень серьезным.
— Ты нырнул так, будто находился в бассейне.
— Мы не обязаны говорить об этом.
Он просто продолжал говорить.
— Ты напал на меня, как футболист, который нападает на парня с мечем. Ты оттолкнул меня. Все случилось так быстро, будто… Будто ты знал, что ты делаешь. Не учитывая того, что ты мог убить себя. — По его лицу снова покатились слезы. — И все из-за того, что я идиот, стоящий по средине улицы, пытаясь спасти тупую птицу.
— Ты снова нарушаешь правило «никаких слез». И птицы не тупые.
— Ты почти умер.
— Ты ничего не сделал. Ты просто был собой.
— Больше никаких птиц.
— А мне нравятся птицы, — сказал я.
— Я бросаю их. Ты спас мою жизнь.
— Я же сказал тебе. Я сделал это не специально.
Из-за этих слов все рассмеялись. Боже, я так устал. Мне было так больно. Я помню, как Данте сжал мою руку и снова и снова повторял «Мне жаль. Прости меня, Ари. Прости меня».
Из-за операции и морфия я чувствовал себя немного опьяненным.
Я помню, как напевал «Ла Бамбу». Я знал, что Данте и мои родители все еще были в комнате, но я засыпал.
Я помню, как Данте сжимал мою руку. И я помню, как думал «Простить тебя? За что, Данте? Что означает простить?»
Я не знаю почему, но мне снился дождь.
Мы с Данте были босиком. И дождь не прекращался.
И мне было страшно.
ДВА
Я не знаю, как долго пробыл в больнице. Несколько дней. Четыре дня. Может пять. Шесть. Черт, я не знаю. Казалось, что прошла вечность.
Они проводили тесты. Вот, что делали в больнице. Они хотели убедиться, что у меня нет никаких внутренних повреждений. Особенно повреждений головы. Ко мне приходил невролог. Он мне не понравился. У него были темные волосы и ярко зеленые глаза. Казалось, что ему все равно. Или наоборот, слишком не все равно. Но на самом деле, он не очень хорошо общался с людьми. Он почти не разговаривал. Он много записывал.
Я узнал, что медсестры очень любят разговаривать. Этим они и занимались. Они дают таблетки, чтобы помочь уснуть, а потом будят всю ночь. Черт. Я хотел спать. Я хотел проснуться и увидеть, что мои гипсы пропали. Это я и сказал медсестрам.
— Можно я просто усну и проснусь, когда мне уже снимут гипсы?
— Глупый мальчик, — ответила медсестра.
Да. Глупый мальчик.
Я кое-что помню: вся моя комната была в цветах. Цветы от всех подруг моей мамы. От родителей Данте. От моих сестер. Цветы от соседей. Цветы из сада моей мамы. Цветы. Черт. У меня никогда не было мнения по поводу цветов. Теперь оно появилось. Я ненавижу цветы.
Мне нравился мой хирург. Он делал операции спортсменам. Он был довольно молодой и был похож на спортсмена. Но у него были руки пианиста. Я помню, как размышлял над этим. Но я ничего не знаю о руках пианистов или руках хирургов. Я даже помню, как мне приснились его руки. В моем сне, он держал птицу Данте, а потом отпустил ее, и она улетела. Это был хороший сон. У меня не было хороших снов уже давно.
Доктор Чарльз. Так его звали. Он знал, что делает. Хороший парень. Да, вот что я думал. Он отвечал на все мои вопросы. А у меня их было много.
— В моих ногах есть штифты?
— Да.
— Постоянные?
— Да.
— И вам не придется снова менять их?
— Надеюсь, нет.
— Вы не очень-то разговорчивы, да, доктор?
Он рассмеялся.
— Ты крепкий парень, да?
— Я не думаю, что я такой уж и крепкий.
— Что ж, я думаю, ты крепкий. Очень крепкий.
— Да?
— Я постоянно был возле тебя.
— Серьезно?
— Да. Серьезно, Аристотель. Я могу кое-что сказать тебе?
— Называйте меня Ари.
— Ари. — Он улыбнулся. — Я удивлен, как хорошо ты держался во время операции. И я удивлен, как хорошо ты держишься сейчас. Это действительно замечательно.
— Это удача и гены, — сказал я. — Гены, которые я получил от мамы и папы. А моя удача, ну, я не знаю откуда она появилась. Возможно, от Бога.
— Ты религиозный парень?
— Не совсем. Это все из-за моей мамы.
— Да, мамы и Бог хорошо ладят.
— Наверно. Когда я перестану чувствовать себя так ужасно?
— Нет определенного времени.
— Нет времени? Мне будет так больно все восемь недель?
— Станет лучше.
— Конечно. А как так получилось, что мои переломы находятся под коленями, а гипсы — выше колен?
— Ты должен лежать спокойно в течение двух или трех недель. Ты не должен сгибать ноги. Ты можешь снова поранить себя. Крепкие парни, они давят на себя. Через несколько недель я поменяю твои гипсы. Потом ты сможешь сгибать ноги.
— Черт.
— Черт?
— Несколько недель?
— Три недели.
— Три недели не сгибать ноги?
— Это не так уж и долго.
— Сейчас же лето.
— А потом ты будешь ходить к физиотерапевту.
Я вздохнул.
— А это? — сказал я, указывая на руку. Мне становилось очень грустно.
— Этот перелом был не таким сильным. Я сниму гипс через месяц.
— Месяц? Черт.
— Тебе нравится это слово, да?
— Я предпочитаю использовать другие слова.
— «Черт» вполне подойдет, — с улыбкой сказал он.
Я хотел плакать. И я заплакал. В основном я был зол, и я знал, что он скажет, что мне нужно немного терпения. Именно это он и сказал.
— Тебе просто нужно быть терпеливым. Ты будешь как новенький. Ты молод. Ты силен. У тебя отличные, здоровые кости. У меня есть все основания, чтобы верить в то, что ты очень быстро восстановишься.
Очень мило. Терпение. Черт.
Он проверил, чувствую ли я свои пальцы, послушал мое дыхание и попросил проследить взглядом за его пальцем.
— Знаешь, — сказал он. — То, что ты сделал для своего друга, Данте, было очень храбро.
— Послушайте, я хочу, чтобы люди перестали говорить мне об этом.
Он посмотрел на меня.
— Ты мог остаться парализованным. Или еще хуже.
— Хуже?
— Ты мог умереть, молодой человек.
Умереть. Ладно.
— Люди продолжают говорить это. Послушайте, доктор, я же жив.
— Тебе не очень нравится быть героем, не так ли?
— Я сказал Данте, что сделал это не специально. Все подумали, что это было шуткой. Но это не так. Я даже не помню, как рванул к нему. Я не говорил себе «я спасу моего друга, Данте». Все было не так. Это был просто рефлекс. Прям как когда кто-то ударяет тебя под колено. Твоя нога сгибается. Вот как все было. Это просто произошло.
— Просто рефлекс? Это просто произошло?
— Именно так.
— То есть, ты не ответственен за это?
— Это обычное дело.
— Обычное дело?
— Ага.
— А у меня есть другая теория.
— Конечно, вы же взрослый.
Он рассмеялся.
— Ты имеешь что-то против взрослых?
— У них слишком много идей по поводу нас. Или по поводу того, кем мы должны быть.
— Это наша работа.
— Славно.
— Славно, — повторил он. — Послушай, сынок, я понимаю, что ты не считаешь себя храбрым, отважным и так далее. Конечно, ты не считаешь себя таковым.
— Я просто обычный парень.
— Да, именно так ты себя и видишь. Но ты оттолкнул своего друга от приближающейся машины. Ты сделал это, Ари, и ты не думал о себе или о том, что случится с тобой. Ты сделал это, потому что ты тот, кто ты есть. На твоем месте, я бы подумал об этом.
— Зачем?
— Просто подумай.
— Я не уверен, что хочу думать.
— Ладно. Просто, чтобы ты знал, Ари, я думаю, что ты очень редкий парень. Вот, что я думаю.
— Я уже говорил вам, доктор, это был просто рефлекс.
Он усмехнулся и положил руки мне на плечи, а затем сказал:
— Я знаю, что ты добрый, Ари. Я с тобой.
Я понятия не имею, что он имел в виду. Но он улыбался.
Сразу после этого разговором с доктором Чарльзом, ко мне пришли родители Данте. Мистер Кинтана подошел ко мне и поцеловал меня в щеку. Будто это было нормальной вещью. Полагаю, для него это было нормально. И, если честно, я думал, что этот жест был милым, даже очень милым, но из-за него мне стало немного неловко. Я не привык к такому. А еще он снова и снова благодарил меня. Я хотел попросить его перестать. Но я этого не сделал, потому что я знал, как сильно он любит Данте и как он был счастлив, потому я тоже был счастлив. Так что, все было нормально.
Я хотел сменить тему. Но нам особо не о чем разговаривать. Я чувствовал себя ужасно. Но они пришли, чтобы навестить меня, так что я должен продолжать разговаривать и обрабатывать информацию, несмотря на то, что мой мозг был немного заторможенным. Так что я просто сказал:
— Значит, вы будите в Чикаго целый год?
— Да, — ответил он. — Данте все еще злится на меня.
Я просто взглянул на него.
— Он все еще злится. Он говорит, что его мнение тоже должны были учесть.
Я улыбнулся.
— Он не хочет пропускать плаванье целый год. Он сказал мне, что сможет прожить без тебя год.
Это удивило меня. У Данте намного больше секретов, чем я думал. Я закрыл глаза.
— Ты в порядке, Ари?
— Иногда этот зуд сводит меня с ума. Так что, я просто закрываю глаза.
Он очень странно посмотрел на меня.
Я не сказал ему, что пытался представить, как выглядел мой брат каждый раз, когда я больше не мог терпеть этой боли в моих ногах.
— В любой случае, мне было приятно поговорить с вами, — сказал я. — Это отвлекает меня. Значит Данте злиться на вас?
— Ну, я сказал ему, что я бы все равно не оставил его одного на целый год.
Я представил, каким было выражение лица Данте, когда он услышал эти слова.
— Данте упрямый.
— Он весь в меня, — ответила миссис Кинтана.
Я улыбнулся, потому что это было правдой.
— Знаете, что я думаю? — сказала она — Я думаю, он будет скучать за тобой. Думаю, именно поэтому он и не хочет уезжать.
— Я тоже буду за ним скучать, — ответил я. На самом деле, я не хотел говорить это. Это было правдой, но я не хотел, чтобы кто-либо узнал об этом.
— У Данте не много друзей, — сказал мистер Кинтана.
— Я всегда думал, что он всем нравится.
— Это правда. Данте всем нравится. Но он всегда был одиночкой. Он не ладит с толпой. Он всегда был таким. Так же, как и ты.
— Наверно, — сказал я.
— Ты лучший друг, который у него когда-либо был. Думаю, ты должен знать это.
Я не хотел знать это. И я не знал почему. Я улыбнулся. Отец Данте был хорошим человеком. И он разговаривал со мной. Со мной. С Ари. И, несмотря на то, что я не хотел этого разговора, я знал, что просто должен смириться. В этом мире не так уж и много хороших людей.
— Знаете, вообще-то я очень скучный. Не знаю, что Данте нашел во мне.
Я не мог поверить, что сказал это.
Миссис Кинтана стаяла немного в стороне. Но после этих слов она подошла ближе и вплотную встала рядом с мистером Кинтаной.
— Почему ты так думаешь, Ари?
— Что?
— Почему ты думаешь, что ты скучный?
Боже, я подумал, что пришел терапевт. Я просто пожал плечами и закрыл глаза. Ладно, я понимал, что, когда открою глаза, они все еще будут тут. Мы с Данте были окружены родителями, которым не все равно на нас. Почему они не могут просто оставить нас в покое? Что случилось с родителями, которые были слишком заняты, слишком эгоистичны или которым было просто наплевать на то, чем занимаются их дети?
Я решил снова открыть глаза.
Я знал, что мистер Кинтана собирается сказать что-то еще. Я чувствовал это. Но может он тоже что-то почувствовал. Я не знаю. Но он больше ничего не сказал.
Мы начали разговаривать о Чикаго. Я был рад, что мы не говорили обо мне, Данте или том, что случилось. Мистер Кинтана сказал, что университет предложил ему небольшую квартиру. Миссис Кинтана взяла отпуск на восемь месяцев. Так что, они пробудут там меньше года. Просто учебный год. Не так уж и долго.
Больше я ничего не помню. Они так старались, и одна часть меня была этому очень рада, а второй было все равно. И, конечно же, разговор снова вернулся ко мне и Данте. Миссис Кинтана сказала, что хочет отвести Данте к консультанту, потому что он плохо себя чувствует. Она и мне предложила сходить к консультанту.
— Я беспокоюсь за вас обоих, — сказала она.
— Вы должны встретиться с моей мамой. Тогда вы сможете беспокоиться вместе.
Мистер Кинтана подумал, что это была шутка, но я не хотел, чтобы это прозвучало так.
Миссис Кинтана усмехнулась.
— Аристотель Ментоза, ты ни капельки не скучный.
Через некоторое время я устал, поэтому просто перестал разговаривать.
Я не знаю, почему не мог вытерпеть благодарности в глазах мистера Кинтана, когда он прощался. Но миссис Кинтана понимала меня. В отличие от своего мужа, она не была тем человеком, который любил показывать свои чувства. Не то чтобы она не была милой или благодарной. Она была. Просто теперь я понимаю, что имел в виду Данте, когда говорил, что его мама непроницаема.
Перед тем как уйти, миссис Кинтана обхватила мое лицо двумя руками, посмотрела мне прямо в глаза и прошептала: «Аристотель Ментоза, я всегда буду любить тебя». Ее голос был мягким, уверенным и бесстрашным, а в ее глазах не было и следа слез. Ее слова были уверенными, и она смотрела мне прямо в глаза, чтобы убедиться, что я понял каждое слово.
Вот что я понял: женщины, как миссис Кинтана, не используют слово «любовь» очень часто. Когда она произнесла это слово, она именно это и имела в виду. А еще я понял, что мама Данте любила его намного больше, чем он мог себе представить. Я не знал, что делать с этой информацией. Так что я просто сохранил это в себе. Это то, что я делаю всегда. Храню все в себе.
ТРИ
На следующий день мне позвонил Данте.
— Прости, что не пришел навестить тебя, — сказал он.
— Все в порядке, — ответил я. — На самом деле, я не в настроении, чтобы разговаривать с людьми.
— Я тоже, — сказал он. — Мои родители утомили тебя?
— Нет. Они очень милые.
— Мама говорит, что я должен сходить к психологу.
— Да, она говорила что-то такое.
— А ты пойдешь?
— Я никуда не пойду.
— Наши мамы разговаривали.
— Конечно, они разговаривали. Так ты пойдешь?
— Когда мама думает, что что-то является хорошей идеей, бежать некуда. Лучше просто сделать то, что она говорит.
Он рассмешил меня. Я хотел спросить, что он собирается говорить психологу. Но не думаю, что на самом деле хотел это знать.
— Как там твое лицо? — спросил я.
— Мне нравится смотреть на него.
— Ты очень странный. Возможно, встреча с психологом не такая уж и плохая идея.
Мне нравится слышать, как он смеется. В такие моменты я чувствую себя нормальным. Но какая-то часть меня думает, что все уже никогда не станет нормальным.
— Тебе все еще очень больно, Ари?
— Я не знаю. Все так, будто мои ноги управляют мной. Я не могу думать ни о чем другом. Я просто хочу сорвать этот гипс и… Черт. Я не знаю.
— Это все моя вина.
Я ненавижу, когда он так говорит.
— Послушай, — сказал я. — Давай установим несколько правил.
— Правил? Еще правила? У нас уже есть правило «никаких слез».
— Именно.
— Тебе уже не дают морфий?
— Нет.
— Значит ты просто в плохом настроении.
— Дело не в моем настроении. Дело в правилах. Я не вижу в этом проблему. Ты же любишь правила.
— Я ненавижу правила. В основном, я люблю нарушать их.
— Нет, Данте, ты любишь придумывать собственные правила. Пока правила являются твоими, ты любишь их.
— О, значит, теперь ты анализируешь меня?
— Видишь, ты не должен идти к психологу. У тебя есть я.
— Я скажу это моей маме.
— Дай знать, что она ответит, — мы оба улыбнулись. — Данте, я просто хочу сказать, что нам надо установить кое-какие правила.
— Послеоперационные правила?
— Можешь называть их так, если хочешь.
— Ладно, ну так что за правила?
— Правило номер один: мы не будем говорить о несчастном случае. Никогда. Правило номер два: хватит благодарить меня. Правило номер три: все, что произошло — это не твоя вина. И правило номер четыре: давай просто двигаться дальше.
— Я не уверен, что мне нравятся эти правила, Ари.
— Обговори их со своим психологом. Но это мои правила.
— Ты звучишь так, будто злишься.
— Я не злюсь.
Я знал, что в данный момент Данте думает. Он знал, что я не шучу.
— Ладно, — сказал он. — Мы никогда не будем разговаривать о случившемся. Это глупое правило, но ладно. И могу я сказать: «Мне жать» и «Спасибо» еще один раз?
— Ты только что это сказал. Все, больше нельзя.
— Ты закатываешь глаза?
— Да.
— Ладно, больше не буду.
После обеда он приехал навестить меня. Он выглядел не очень хорошо. Он старался делать вид, что ему не больно смотреть на меня, но он никогда не мог скрывать свои чувства.
— Не надо жалеть меня, — сказал я. — Врач сказал, что все очень хорошо заживет.
— Очень хорошо?
— Именно это он и сказал. Так что, дай мне от восьми до десяти или двенадцати недель, и я снова стану собой. Не то, чтобы быть мной — это так хорошо.
Данте засмеялся. А потом посмотрел на меня.
— Ты же не придумаешь правило «никакого смеха»?
— Смех — это всегда хорошо. Так что, нет.
— Хорошо, — он сел и достал несколько книг из рюкзака. — Я принес тебе что почитать. «Гроздья гнева» и «Война и мир».
— Отлично, — ответил я.
— Я мог бы принести тебе еще цветов, — сказал он, посмотрев на меня.
— Я ненавижу цветы.
— Каким-то образом я догадался, — усмехнулся он.
Я уставился на книги.
— Они чертовски большие.
— В этом все суть.
— Думаешь, у меня есть время?
— Именно.
— Ты читал их?
— Конечно читал.
— Конечно читал.
Он положил книги на прикроватный столик.
Я покачал головой. Да. Время. Черт.
Он достал свой альбом для рисования.
— Ты собираешься рисовать меня в гипсе?
— Нет. Я просто подумал, что ты захочешь взглянуть на мои рисунки.
— Ладно, — сказал я.
— Но не радуйся так сильно.
— Я и не радуюсь. Просто боль то приходит, то снова уходит.
— Тебе больно сейчас?
— Ага.
— Ты пьешь какие-нибудь таблетки?
— Стараюсь не пить. Я ненавижу как чувствую себя после того, чтобы они мне там не давали.
Я нажал кнопку на кровати, чтобы сесть. Я хотел сказать: «Ненавижу это», но не сказал. Мне хотелось кричать.
Данте протянул мне альбом.
Я начал открывать его.
— Посмотришь после того, как я уйду.
Думаю, на моем лице он прочитал вопрос.
— У тебя есть правила. И у меня есть правила.
Я рассмеялся. Я хотел смеяться еще и еще, пока не стану кем-то другим. Смех заставлял меня забыть о странном ощущении, которое я чувствую в ногах. Даже, если это было всего на пару минут.
— Расскажи мне о людях из автобуса, — попросил я.
Он улыбнулся.
— В автобусе был мужчина, который рассказал мне о инопланетянах в Розвеле. Он сказал, что…
Я не хотел слушать всю историю. Я просто хотел слушать голос Данте. Будто я слушал песню. И я продолжал думать о птице со сломанным крылом. Никто не сказал мне, что же случилось с птицей. И я даже не мог спросить, потому что тогда я нарушу собственное правило «не говорить о случившемся». Данте продолжал рассказывать историю о мужчине в автобусе, инопланетянах в Розвеле и о том, как кто-то сбежал в Эль Пасо и планировал изменить транспортную систему.
Пока я смотрел на него, мне в голову пришла мысль, что я ненавижу его.
Он прочитал мне несколько стихов. Думаю, они были хорошими. Я не был в настроении.
Когда он наконец-то ушел, я посмотрел на его альбом для рисования. Они никому не разрешал смотреть на эти рисунки. А сейчас он показывал их мне. Мне. Ари.
Я знал, что он позволял мне посмотреть на них, только потому, что он был благодарен.
Я ненавидел все это.
Данте думал, что должен мне что-то. Я не хотел этого. Не от него.
Я взял его альбом и кинул в противоположный конец комнаты.
ЧЕТЫРЕ
Мне просто повезло, что, когда мама вошла в комнату, альбом Данте попал в стену.
— Ты ничего не хочешь мне рассказать?
Я покачал головой.
Мама подняла альбом и села. Она собиралась открыть его.
— Не делай этого, — сказал я.
— Что?
— Не смотри на то, что внутри.
— Почему?
— Данте не любит, когда люди смотрят на его рисунки.
— А как же ты?
— Думаю, мне он разрешает.
— Тогда почему ты швырнул его?
— Я не знаю.
— Я понимаю, что ты не хочешь говорить об этом, Ари, но я думаю…
— Я не хочу знать, что ты думаешь, мам. Я просто не хочу разговаривать.
— Ты не можешь постоянно держать все в себе. Я знаю, это сложно. И следующий два или три месяца тоже будут сложными. А то, что ты все держишь в себе, ни капельки не поможет.
— Ну, тогда ты должна отвести меня к этому психологу, и заставить меня обсуждать с ним мои проблемы.
— Я различаю сарказм, когда слышу его. И я не думаю, что психолог — это плохая идея.
— Ты и миссис Кинтана сговорились что ли?
— Ты очень умный парень.
Я закрываю глаза, а потом снова открываю их.
— Тогда давай тоже заключим сделку, мам. — Клянусь, я почти почувствовал злость на кончике языка. — Ты расскажешь мне о моем брате, а я расскажу тебе о своих чувствах.
Я увидел странное выражение на ее лице. Она выглядела одновременно удивленно и ранено. И она была злой.
— Твой брат не имеет никакого отношения ко всему этому.
— Думаешь, только вы с папой можете хранить все в себе? Папа держит в себе всю войну. Я тоже могу хранить вещи в себе.
— Эти вещи не имеют никакого отношения друг к другу.
— Я так не думаю. Ты пойдешь к психологу. И папа пойдет к психологу. И только после этого я тоже пойду к психологу.
— Пожалуй, я выпью чашечку кофе, — сказала она.
— Не торопись.
Я закрыл глаза. Думаю, это станет моей новой привычкой. Я не могу скандалить, когда зол. Я просто должен закрыть глаза и спрятаться ото всех.
ПЯТЬ
Папа навещает меня каждый вечер.
Я хотел, чтобы он ушел.
Он пытался поговорить со мной, но ничего не выходило. Так что, он просто сидел в моей палате. Это сводило меня с ума. И тут мне в голову пришла идея.
— Данте оставил мне две книги, — сказал я. — Какую из них ты хочешь прочитать? Я буду читать другую.
Он выбрал «Войну и мир».
Меня вполне устраивала «Гроздья гнева».
Это было не так уж и плохо, я и мой отец сидящие в больничной палате. Читая.
У меня ужасно чесались ноги.
Иногда я просто глубоко дышал.
Чтение тоже помогало.
Иногда, я замечал, что папа изучает меня.
Он спросил, снятся ли мне до сих пор эти сны.
— Да, — ответил я. — Только теперь я ищу свои ноги.
— Ты найдешь их.
Мама ни разу не упомянула о разговоре, который состоялся у нас недавно. Она просто притворялась, что этого не было. Я не уверен, что я чувствую по этому поводу. Единственным плюсом во всем этом было то, что она не заставляла меня разговаривать. Она просто бегала туда-сюда, чтобы убедиться, что мне удобно. Мне не было удобно. Кому вообще может быть удобно, когда обе его ноги загипсованы? Мне во всем нужна была помощь. Я устал от судна. Я устал от инвалидного кресла. Но оно было моим лучшим другом. И моя мама тоже была моим лучшим другом. Она сводила меня с ума.
— Мам, хватит мешкать. Ты заставляешь меня сказать слово на «б». Я серьезно.
— Не смей говорить это слово при мне.
— Клянусь, если ты не остановишься, то я скажу его.
— Что за роль ты играешь?
— Я не играю не какую роль, мама. — Я был в отчаянии. — Мам, мои ноги болят, а когда не болят, то чешутся. Они перестали давать мне морфий…
— Это хорошо, — прервала мама.
— Да, ладно, мам. Не хватало вам еще маленького наркомана, бегающего вокруг вас. — Будто бы я мог бегать. — Черт. Мам, я просто хочу побыть в одиночестве. Ты не против? Что я просто хочу побыть один?
— Ладно, — сказала она.
После этого она дала мне больше личного пространства.
Данте больше не навещал меня. Он звонил два раза в день, просто чтобы поздороваться.
Он подхватил простуду. Грипп. Мне было жаль его. Он звучал ужасно. Он сказал, что ему снятся кошмары. Я сказал, что мне тоже снятся кошмары. Однажды он позвонил и сказал:
— Я хочу кое-что сказать тебе, Ари.
— Хорошо, — сказал я.
Но он так ничего и не сказал.
— Что? — спросил я.
— Не бери в голову. Это не важно.
Я подумал, что, скорее всего, это значило очень много.
— Ладно, — сказал я.
— Хотел бы я, чтобы мы снова могли плавать.
— Я тоже.
Я был рад, что он позвонил. А еще я был рад, что он не смог прийти ко мне. Я не знаю почему. По какой-то причине я думал, что теперь моя жизнь станет другой. Я продолжал повторять это себе. Мне было интересно, какого было бы, если бы я лишился ног. Я вроде, как и лишился их. Но не навсегда. Просто на некоторое время.
Я пытался ходить на костылях. Но у меня не получалось. Медсестры и мама предупреждали меня об этом. Думаю, я просто хотел убедиться сам. Просто это было невозможно, так как обе мои ноги и левая рука были в гипсе.
Мне было сложно делать абсолютно все. Но самое ужасное это то, что мне приходилось использовать судно. Это было унизительно. Вот как можно описать это одним словом. Я даже не мог по-настоящему принять душ… И я не могу использовать две руки. Но зато я мог шевелить всеми пальцами. Это было хоть каким-то преимуществом.
Я практиковался использовать инвалидное кресло без ног. Я назвал его Фиделем.
Доктор Чарльз пришел навестить меня последний раз.
— Ты подумал о том, что я сказал тебе?
— Ага, — сказал я.
— И?
— И я думаю, что вы приняли действительно правильное решение, когда стали хирургом.
Вы бы были ужасным психологом.
— Значит ты всегда такой умник, да?
— Всегда.
— Что ж, тогда ты можешь ехать домой и быть занудой там. Как тебе такое предложение?
Я хотел обнять его. Я был счастлив. Я был счастлив где-то секунд десять. А потом я начал беспокоится.
Я поговорил с мамой.
— Когда мы приедем домой, ты не должна суетится вокруг меня.
— Зачем ты придумываешь все эти правила, Ари?
— Никакой суеты. Вот и все.
— Но тебе нужна помощь, — сказала она.
— Но и побыть одному мне тоже надо.
Она улыбнулась.
— Старший брат следит за тобой.
Я улыбнулся ей в ответ.
Даже когда я хотел ненавидеть мою маму, я любил ее. Интересно, нормально ли это любить свою маму пятнадцатилетнему парню? Может быть. А может и нет.
Я помню, как мы сели в машину. Мне пришлось лечь на заднее сиденье. Залезть в машину было очень сложно. Хорошо, что мой папа сильный. Все было так сложно, и мои родители боялись причинить мне боль.
В машине никто не проронил и слова.
Я смотрел в окно и искал птиц.
Я хотел закрыть глаза и позволить тишине полностью поглотить меня.
ШЕСТЬ
На следующее утро, после того, как я приехал домой, мама помыла мне голову.
— У тебя такие красивые волосы, — сказала она.
— Думаю, я отращу их, — сказал я. На самом деле, у меня не было выбора. Поездка в парикмахерскую была бы просто кошмаром.
Она протерла меня мочалкой.
Я закрыл глаза и сидел смирно, пока она брила меня.
Как только она ушла, я расплакался. Мне еще никогда не было так грустно. Мне никогда не было так грустно. Никогда.
Мое сердце болело даже больше ног.
Я знал, что мама слышит меня. Но у нее хватило приличия оставить меня в покое.
Большинство дней я просто смотрел в окно. Я пытался выехать на инвалидном кресле из дома. А мама продолжала все поправлять, чтобы мне было легче.
Мы много улыбались друг другу.
— Ты можешь посмотреть телевизор, — сказала она.
— От него гниют мозги. У меня есть книга.
— Она тебе нравится?
— Ага. Но она немного сложная. Не слова. Но, понимаешь, содержание. Думаю, мексиканцы не единственные бедные люди в мире.
Мы взглянули друг на друга. Мы не совсем улыбались. Но наши улыбки были внутри нас.
Мои сестры зашли на ужин. А мои племенники и племянницы разрисовали мой гипс. Я очень много улыбался, а все остальные говорили и смеялись. Это все казалось таким правильным. И я был очень благодарен маме и папе, потому что, казалось, что из-за меня всем было грустно.
Когда мои сестры ушли, я попросил папу посидеть напротив крыльца.
Я сидел в Фиделе. А мама с папой сидели на своих стульях.
Мы пили кофе.
Мои родители держались за руки. И мне стало интересно, каково это, держать кого-то за руку. Бьюсь об заклад, что иногда в чьих-то руках можно найти все тайны вселенной.
СЕМЬ
Это было дождливое лето. Каждый вечер тучи собирались как стая воронов и начинался дождь. Я по-настоящему влюбился в гром. Я прочитал «Гроздья гнева» и «Войну и мир». Я решил, что хочу прочитать все книги Эрнеста Хемингуэя. А папа решил, что прочитает все, что читаю я. Возможно, это был наш способ общения.
Данте приходил каждый день.
В основном он говорил, а я слушал. Он решил, что будет читать «И всходит солнце» вслух. Я не собирался спорить с ним. Я никогда не собирался спорить с Данте Кинтана. Так что, он читал по главе каждый день. А потом мы ее обсуждали.
— Это грустная книга, — сказал я.
— Да. Именно поэтому она и нравится тебе.
— Да. Именно так.
Он так и не спросил, что я думал о его рисунках. И я был рад. Я положил его альбом под кровать и так и не посмотрел, что там внутри. Думаю, я наказывал Данте таким образом. Он подарил мне ту часть себя, которую никогда бы не подарил кому-либо другому. А я даже не взглянул на рисунки. Почему я так поступаю?
Однажды он проболтался, что наконец-то собирается встретится с психологом.
Я надеялся, что он не станет рассказывать мне об их разговорах. Он не стал. И я был рад. А затем я разозлился. Ладно, я был просто не в настроении. И непоследовательный. Да, именно таким я и был.
Данте все еще смотрел на меня.
— Что?
— А ты пойдешь?
— Куда?
— К психологу, идиот.
— Нет.
— Нет?
Я посмотрел на свои ноги.
Я чувствовал, что он снова хочет сказать «мне жаль». Но он этого не сделал.
— Это помогает, — сказал он. — Походы к психологу. Все было не так плохо. Это действительно помогло.
— Ты пойдешь туда снова?
— Возможно.
Я кивнул.
— Разговоры не помогают всем.
— Откуда тебе знать, — улыбнулся Данте.
Я улыбнулся в ответ.
— Да. Откуда мне знать.
ВОСЕМЬ
Я не знаю, как это произошло, но одним утром пришел Данте и решил, что хочет искупать меня.
— Ты не против? — спросил он.
— Ну, это вроде как работа моей мамы, — ответил я.
— Она не против.
— Ты спрашивал ее?
— Да.
— О, — сказал я. — Черт, это действительно ее работа.
— А твой папа? Он никогда не купал тебя?
— Нет.
— И не брил?
— Нет. Я не хотел, чтобы он делал это.
— Почему?
— Просто не хотел.
Он притих.
— Я не сделаю тебе больно.
Ты уже сделал мне больно. Вот, что я хотел сказать. Эти слова пришли мне в голову. Этими словами я хотел дать ему пощечину. Эти слова были жестокими. Я был жестоким.
— Пожалуйста, — сказал он.
Место того, чтобы послать его к черту, я сказал, что не против.
Я научился не обращать внимания на то, что мама купала и брила меня. Я просто закрывал глаза и думал о персонажах из книги, которую я читал. Каким-то образом это помогало.
Я закрыл глаза.
Я почувствовал руки Данте не свои плечах. Теплую воду, мыло и мочалку.
Руки Данте были больше, чем у моей мамы. И мягче. Он все делал медленно, методично и осторожно. Из-за этого я чувствовал себя хрупким, как фарфор.
Я ни разу не открыл глаз.
Мы не проронили ни одного слова.
Я чувствовал его руки на своей обнаженной груди.
Я позволил ему побрить себя.
Когда он закончил, я открыл глаза. По его лицу катились слезы. Я должен был ожидать этого. Я хотел накричать на него. Я хотел сказать ему, что это я должен плакать.
Но Данте выглядел как ангел. А все, что я хотел, это ударит его кулаком в челюсть. Я не мог вытерпеть своей собственной злобы.
ДЕВЯТЬ
Через три недели и четыре дня после несчастного случая, я пошел к врачу, чтобы он поменял мне гипсы и сделал рентген. Папа взял отгул на работе. По дороге к доктору он был чересчур разговорчив, что было на него не похоже.
— Тридцатое августа, — сказал он.
Ладно, это был день моего рождения.
— Я подумал, что тебе понравится машина.
Машина. Черт.
— Ага, — сказал я. — Только я не умею водить машину.
— Ты можешь научится.
— Ты же не хотел, чтобы я когда-либо водил машину.
— Я никогда не говорил этого. Это сказала твоя мама.
С заднего сиденья я не мог видеть лицо мамы. И я не мог наклониться.
— И что же думает мама?
— Ты имеешь в виду свою маму фашиста?
— Да, ее, — сказал я.
Мы все засмеялись.
— Ну, что скажешь, Ари?
Мой отец звучал как мальчишка.
— Думаю, мне бы понравилась гоночная машина.
В разговор тут же встряла моя мама.
— Только через мой труп.
И я снова рассеялся. Думаю, что я смеялся не меньше пяти минут. Папа тоже присоединился к веселью.
— Ладно, — наконец смог сказать я. — Серьезно?
— Серьезно.
— Я хочу старый пикап.
Мои родители обменялись взглядами.
— Ну, это возможно, — сказала мама.
— У меня только два вопроса. Первый: вы покупаете мне машину, только из-за того, что я инвалид?
Мама легко ответила на этот вопрос.
— Нет. Ты будешь инвалидом всего несколько недель. А потом ты пройдешь терапию и будешь в порядке. И не будешь инвалидом. Ты снова станешь занозой в заднице.
Мама никогда не упрямилась. Это было серьезным делом.
— Какой второй вопрос?
— Кто из вас двоих будет учить меня водить машину?
— Я, — ответили они одновременно.
Я решил оставить этот выбор им.
ДЕСЯТЬ
Я ненавидел жить в атмосфере клаустрофобии моего маленького дома. Я даже не чувствовал себя как дома. Я чувствовал себя нежеланным гостем. Я ненавидел постоянно ждать. И я ненавидел, что мои родители были так терпеливы ко мне. Так и есть. Это правда. Они все делали правильно. Они просто старались помочь мне. Но я ненавидел их. И я ненавидел Данте тоже.
И я ненавидел самого себя за эти чувства. Так и появился мой собственный замкнутый круг. Моя личная вселенная ненависти.
Я думал, что это никогда не пройдет.
Я думал, что моя жизнь никогда не станет лучше. Но она стала лучше с моими новыми гипсами. Теперь я мог сгибать колени. Я использовал Фиделя всего неделю. А потом мой гипс на руке сняли, и я смог пользоваться костылями. Я попросил папу убрать Фиделя в подвал, чтобы я больше никогда не видел это тупое инвалидное кресло.
Теперь, когда у меня снова появилось две руки, я могу сам принимать ванну. Я взял свой дневник и написал: Я ПРИНЯЛ ДУШ!
Я был почти счастлив. Я, Ари, почти счастлив.
— Твоя улыбка вернулась, — сказал Данте.
— Улыбки всегда такие. Они приходят и уходят.
Но моя рука все равно болела. Мой врач показал несколько упражнений. Посмотрите, я могу шевелить рукой. Посмотрите на меня.
Одним утром я проснулся, пошел в ванную комнату и посмотрел на себя в зеркало. Кто ты? Потом я пошел на кухню. Мама была там, она пила кофе и смотрела на расписание уроков следующего года.
— Планируешь будущее, мам?
— Я люблю быть готовой.
Я сел напротив нее.
— Ты была хорошим скаутом.
— И ты ненавидь это, не так ли?
— Почему ты так говоришь?
— Ты же ненавидел все это, все, что связанно со скаутами.
— Папа заставлял меня ходить.
— Ты готов вернуться в школу?
Я поднял костыли.
— Да, мне придется носить шорты каждый день.
Она сделала мне чашку кофе и провела рукой по моим волосам.
— Хочешь подстричься?
— Нет. Мне так нравится.
— Мне тоже, — улыбнулась она.
Когда мы с мамой пили кофе, то почти не разговаривали. В основном, я смотрел как она листает свою папку. Утром на кухне всегда было светло. И в этом свете она выглядела очень молодо. Она была красивой. Она была красивой. Я завидовал ей. Она всегда знала, кто она.
Я хотел спросить ее, когда я пойму, кем я являюсь. Но я промолчал.
Я и мои костыли пошли в мою комнату, и я взял свой дневник. Я почти ничего не писал в нем. Думаю, я боялся, что вся моя злость выльется на его страницы. И я просто не хотел смотреть на это. Это был особый вид боли. Боль, которую я не мог вытерпеть. Я старался не думать и просто начал писать:
— Школа начинается через пять дней. Младший класс. Думаю, мне придется ходить в школу на костылях. И все будут замечать меня. Черт.
— Я представляю, как еду по пустынной дороге в своем пикапе, и никого нет рядом. Я слушаю Лос Лобос. Я представляю, как лежу в прицепе пикапа, смотря на звезды. Никаких городских огней.
— Физическая терапия скоро начнется. Доктор сказал, что плаванье пойдет мне на пользу. Но оно напоминает мне о Данте. Черт.
— Когда я достаточно выздоровею, я начну качаться. У папы в подвале есть его старые гантели.
— Данте уезжает через неделю. Я рад. Мне нужен перерыв. Я устал от его ежедневных приходов. Он приходит только из жалости. Я не знаю, сможем ли мы снова стать друзьями.
— Я хочу собаку. Я хочу выгуливать ее каждый день.
— Гулять каждый день! Мне нравится эта мысль.
— Я не знаю, кто я.
— Что я действительно хочу на день рождения: чтобы кто-то рассказал о моем брате. Я хочу увидеть его фотографию на одной из стен в доме.
— Я надеялся, что этим летом я пойму, что я жив. Мама и папа сказали, что предо мной открыт весь мир.
Но на самом деле это не так.
Этим вечером снова пришел Данте. Мы сели на ступеньках крыльца.
Он потянул руку, ту самую, которую сломал в результате несчастного случая.
— Так-то лучше, — сказал он.
Мы оба улыбнулись.
— Когда что-то ломается, это можно починить, — он снова потянул руку. — Она как новенькая.
— Может и не такая как новенькая, — сказал я. — Но она тоже нечего.
Шрамы на его лице тоже зажили. В вечернем свете, он снова был идеален.
— Сегодня я ходил плавать, — сказал он.
— И как?
— Я люблю плавать.
— Я знаю, — ответил я.
— Я люблю плавать, — повторил он. Несколько секунд он просто молчал. А потом сказал:
— Я люблю плавать. И я люблю тебя.
Я ничего не ответил.
— Я люблю плавать, и я люблю тебя, Ари. Вот, что я люблю больше всего.
— Ты не должен был говорить это.
— Но это правда.
— Я и не говорил, что это не правда. Я просто сказал, что ты не должен был говорить этого.
— Почему?
— Данте, я не…
— Ты ничего не должен отвечать. Я знаю, что мы не похожи. Мы разные.
— Нет, мы не похожи.
Я знал, что он говорит и умолял Бога, чтобы он не произносил этого вслух. Я просто продолжал кивать.
— Ты ненавидишь меня?
Я не знаю, что произошло. С тех пор, как произошел несчастный случай, я был зол абсолютно на всех, я ненавидел всех, я ненавидел Данте, маму и папу, я ненавидел себя. Всех. Но в этот момент я понял, что никого не ненавижу. Не по-настоящему. Я не ненавидел Данте. Но я не знал, как быть его другом. Я не знал, как быть чьим-либо другом. Но это не значит, что я ненавижу его.
— Нет, — сказал я. — Я не ненавижу тебя, Данте.
И мы просто сидели молча.
— Мы будем друзьями? Когда я вернусь из Чикаго?
— Да, — сказал я.
— Правда?
— Да.
— Обещаешь?
Я посмотрел в его идеальное лицо.
— Обещаю.
Он улыбнулся. Он не плакал.
ОДИННАДЦАТЬ
Родители Данте зашли к нам за день до их отъезда в Чикаго. Наши мамы вместе готовили. Я даже не удивился, что они так быстро поладили. В какой-то степени, они были похожи. Но я удивился, как хорошо поладили мой отец и мистер Кинтана. Они сидели в гостиной, пили пиво и говорили о политике. И они даже соглашались друг с другом.
Мы с Данте сидели на крыльце.
Нам обоим нравилось проводить время на крыльце.
Мы особо не разговаривали. Думаю, мы просто не знали, что друг другу сказать. И тут мне в голову пришла мысль. Я играл со своими костылями.
— Твой альбом для рисования у меня под кроватью. Не принесешь его?
Данте заколебался. А потом кивнул.
Он пошел в дом, а я остался ждать его.
Когда он вернулся, он протянул мне альбом.
— Я должен кое в чем признаться, — сказал я.
— В чем?
— Я не смотрел на рисунки.
Он ничего не ответил.
— Мы можем посмотреть на них вместе? — спросил я.
Он снова ничего не сказал, так что я просто открыл альбом. Первый рисунок был автопортретом. Он читал книгу. На втором рисунке был изображен его отец, который также читал книгу. А потом был еще один автопортрет. Просто его лицо.
— На этом рисунке ты выглядишь грустно.
— Возможно, в этот день не было грустно.
— Тебе грустно сейчас?
На этот вопрос он снова не ответил.
Я перевернул страницу и увидел рисунок меня. Я ничего не сказал. На следующих рисунках тоже был я. Он сделал их в один день. Я осторожно рассматривал их. В этих рисунках не было ничего небрежного. Совсем ничего такого. Они были точными и полными его чувств. Но в то же время они были спонтанными.
Данте молчал.
— Они правдивые, — сказал я.
— Правдивые?
— Правдивые и настоящие. Однажды ты станешь великим художником.
— Однажды, — сказал он. — Слушай, ты не должен оставлять альбом у себя.
— Ты подарил его мне. Он мой.
Это все, что мы сказали. А потом мы снова начали сидеть молча.
Мы даже не попрощались. Не по-настоящему. Мистер Кинтана поцеловал меня в щеку. Он всегда так делал. Миссис Кинтана положила руку на мой подбородок и приподняла мою голову вверх. Она посмотрела мне прямо в глаза, будто хотела напомнить мне, о том, что говорила мне в больнице.
Данте обнял меня.
Я обнял его в ответ.
— Увидимся через несколько месяцев, — сказал он.
— Да, — ответил я.
— Я буду писать.
Я знал, что он будет.
Но я не был уверен, что буду писать ему в ответ.
Когда они ушли, я и мои родители сели на крыльце. Начался дождь. А мы сидели и наблюдали за ним в тишине. Я продолжал представлять Данте, стоящим под дождем и держащим птицу с поломанным крылом. Я не мог разобрать, улыбался он или нет.
А что, если бы он потерял свою улыбку?
Я закусил губу, чтобы не расплакаться.
— Я люблю дождь, — прошептала мама.
Я тоже люблю дождь. Я тоже.
Я чувствовал себя самым грустным парнем во Вселенной. Лето приходит и уходит. Оно пришло и ушло. И наступил конец света.
Часть ІV: БУКВЫ НА СТРАНИЦЕ
Есть слова, которые я никогда не научусь произносить.
ОДИН
Первый день школы. Старшая школа Остина, 1987.
«Что с тобой произошло, Ари?» На этот вопрос я мог ответить двумя словами. «Несчастный случай». Джина Наварро подсела ко мне за ленчем и спросила:
— Несчастный случай?
— Ага, — ответил я.
— Это не ответ.
Джина Наварро. Каким-то образом она начала меня преследовать, потому что она знает меня с первого класса. Единственное, что я знал о Джине, это то, что она не любит простых ответов. Жизнь — это сложная вещь. Это было ее девизом. Что сказать? Что сказать? Я ничего не сказал. Я просто посмотрел на нее.
— Ты никогда не изменишься, не так ли, Ари?
— Изменения переоценивают.
— Откуда тебе знать?
— Да, откуда мне знать.
— Я не уверенна, что ты мне нравишься, Ари.
— Я тоже не уверен, что ты мне нравишься, Джина.
— Ну, не все отношения основаны на симпатии.
— Думаю нет.
— Слушай, я самый близкий человек, с которым у тебя были долговременные отношения.
— Ты сводишь меня с ума, Джина.
— Не вини меня в своей меланхолии.
— Меланхолии?
— Послушай. Твое отстойное настроение — это только твоя вина. Просто взгляни на себя. Ты запутался.
— Я запутался? Иди прогуляйся, Джина. Оставь меня в покое.
— Вот в чем твоя проблема. Ты слишком много времени проводишь наедине с собой. Ты должен общаться.
— Я не хочу, — я знал, что она не собирается отступать.
— Послушай, просто расскажи мне, что произошло.
— Я уже рассказал тебе. Это был несчастный случай.
— Какой несчастный случай?
— Это сложно.
— Ты насмехаешься надо мной.
— Ты заметила.
— Ты баран.
— Конечно.
— Конечно.
— Ты уже заколебала меня.
— Ты должен поблагодарить меня. По крайней мере, я разговариваю с тобой. Ты самый не популярный парень во всей школе.
— Нет, вот самый не популярный парень во всей школе, — я указал на Чарли Эскобедо, который выходил из кафетерия. — Я даже не на втором месте.
Именно в этот момент к нам подошла Сьюзи Берд. Она села возле Джины и уставилась на мои костыли.
— Что случилось?
— Несчастный случай.
— Несчастный случай?
— Именно это он и утверждает.
— И что же это был за несчастный случай?
— Он не скажет.
— Я вам не мешаю?
Джина уже начинала злиться. Последний раз, когда я видел ее такой, она кинула в меня камень.
— Скажи нам, — сказала она.
— Ладно. Это было после урагана. Помнишь, когда был град?
Они синхронно кивнули.
— В этот день все и произошло. На дороге стоял парень, и из-за угла выехала машина. Я прыгнул и оттолкнул его. Я спас его жизнь. А по моим ногам проехала машина. Вот и вся история.
— Ты идиот, — сказал Джина.
— Это правда, — ответил я.
— Ты думаешь, я поверю, что ты герой?
— Ты опять кинешь в меня камень?
— Ты действительно идиот, — сказала Сьюзи. — И кто же этот парень, которого ты спас?
— Не знаю. Просто парень.
— Как его звали?
Я немного заколебался, прежде чем ответить.
— Думаю, его звали Данте.
— Данте? Его звали Данте? И ты думаешь, что мы поверим тебе? — Джина и Сьюзи переглянулись. Наверняка они думали: «Этот парень просто невероятен». Вот, что выражал это взгляд. Они обе встали из-за стола и ушли.
Весь остальной день я улыбался. Иногда, все, что ты должен сделать — это просто сказать людям правду. Они все равно не поверят тебе. И после этого они оставят тебя в покое.
ДВА
Моим последним уроком был английский с мистером Блокером. Новый учитель, полон улыбок и энтузиазма. Он еще думает, что ученики старшей школы бывают хорошими. Больше он ничего не знал. Он бы понравился Данте.
Он хотел узнать нас поближе. Конечно же, он хотел. Мне всегда было жалко новых учителей. Они так сильно старались. Мне было неловко.
Как только мистер Блокер зашел в класс, он попросил рассказать об одном интересном событии, которое произошло с нами этим летом. Я всегда ненавидел эту ерунду. Я подумал, что должен расспросить у мамы про учителей и их упражнениях.
Джина Наварро, Сьюзи Берд и Чарли Эскобедо были в моем классе. Мне это не нравилось. Эти трое постоянно задавали мне кучу вопросов. Вопросы, на которые я не хотел отвечать. Они хотели узнать меня. Но я не хотел, чтобы меня узнавали. Я хотел купить футболку с надписью: «Меня невозможно узнать». Но из-за этого Джина Наварро начала бы задавать еще больше вопросов.
Так что, вот он я, застрял в одном классе с Джиной, Сьюзи и Чарли… новым учителем, который любил задавать вопросы. Я наполовину слушал ответы других ребят, которые казались интересными. Джонни Алварез сказал, что он научился водить. Филип Кальдерон сказал, что он навещал кузину в Лос-Анджелесе. Сьюзи Берд, сказала, что ходила на «Girls State» в Остине. Карлос Галлинар утверждал, что потерял девственность. Все начали смеяться. Кем она была? Кем она была? После этого мистеру Блокеру пришлось установить несколько правил. А я решил просто помечтать. Я был замечательным выдумщиком. Я подумал о грузовике, который мне подарят на день рождения. Я представлял, что еду по грязной дороге, небо было голубое, а на фоне играла группа U2. Мои мечтания прервал голос мистера Блокера.
— Мистер Мендоза? — По крайней мере, он правильно назвал мою фамилию. Я поднял на него взгляд. — Вы с нами?
— Да, сэр, — сказал я.
А потом я услышал крик Джини:
— С ним никогда не происходит ничего интересного.
И все засмеялись.
— Так и есть, — сказал я.
Я подумал, что мистер Блокер перейдет к кому-то другому, но он этого не сделал. Он просто ждал, пока я что-то расскажу.
— Одно интересное событие, а? Джина права, — сказа я. — Этим летом со мной не произошло ничего интересного.
— Ничего?
— Ну, я сломал обе ноги, когда попал в аварию. Думаю, это подходит, — я кивнул, но чувствовал себе неудобно, так что решил быть таким же умником, как и все. — О, — сказал я, — раньше я никогда не пробовал морфий. Было прикольно.
Все снова рассмеялись. Особенно Чарли Эскобедо, который любил принимать всякие вещества.
Мистер Блокер улыбнулся.
— Должно быть, тебе было очень больно.
— Ага, — ответил я.
— С тобой все будет хорошо, Ари?
— Да, — я начинал ненавидеть этот разговор.
— Тебе все еще больно?
— Нет, — сказал я. Это было ложью. Настоящий ответ был длиннее и сложнее. Джина Наварро была права. Жизнь — сложная штука.
ТРИ
Я взял свой дневник и пролистал несколько страниц. Я рассматривал свой подчерк. У меня отвратительный подчерк. Никто не мог разобрать его. Это были хорошие новости. Потому что никто не захочет прочитать его. Я решил написать что-то. Вот что я написал:
Этим летом я научился плавать. Нет, это не правда. Кто-то научил меня. Данте.
Я разорвал страницу.
ЧЕТЫРЕ
— Ты задаешь вопросы своим ученикам в первый день школы?
— Конечно.
— Почему?
— Мне нравится узнавать своих учеников.
— Зачем?
— Потому что я учитель.
— Тебе платят за то, что ты преподаешь право. Первую, вторую и третью поправки в Конституции. И так далее. Зачем тебе узнавать учеников?
— Я учу своих учеников. А ученики — это люди, Ари.
— Мы не настолько интересные.
— Вы намного интереснее, чем вы думаете.
— Мы сложные.
— Это часть вашего очарования.
На ее лице появилось интересное выражение. Я узнал этот взгляд. Иногда моя мама пребывала в состоянии между иронией и искренностью. Это было частью ее очарования.
ПЯТЬ
Следующий день в школе был нормальным… Не считая того, что после школы я ждал маму и ко мне подошла девочка Илеана. Она достала маркер и написала свое имя на моем гипсе.
Она посмотрела мне в глаза. Я захотел отвернуться. Но я не сделал этого.
Ее глаза были как ночное небо в пустыне.
Мне показалось, что в ней живет целый мир. И я ничего не знал об этом мире.
ШЕСТЬ
Охотничий пикап 1957 года. Вишнево красный с желтыми крыльями, желтыми колпаками и белыми полосками. Это был самый красивый грузовик в мире. И он был моим.
Я помню, как посмотрел папе в глаза и прошептал: «Спасибо».
Я чувствовал себя глупым и недостойным, так что я решил обнять его. Неуверенно. Я был благодарен и хотел обнять его. Этого я и хотел.
Настоящий грузовик. Настоящий грузовик для Ари.
Но я так и не получил фотографию моего брата на одной из стен дома.
Ты не можешь получить все, что хочешь.
Я сидел в грузовик, но должен был заставить себя присоединится к вечеринке. Я ненавидел вечеринки… Даже те, которые устраивали в мою честь. Прямо сейчас, я хотел бы вывезти грузовик на открытую дорогу, и чтобы рядом со мной сидел мой брат. И Данте. Этого было бы достаточно.
Я скучал по Данте, но несмотря на это, я старался не думать о нем. Проблема в том, чтобы не думать о чем-то — это то, что именно об этом ты и думаешь.
Данте.
По какой-то причине я вспомнил Илеану.
СЕМЬ
Каждое утро я просыпался очень рано и прихрамывая направлялся к своему грузовику, который стоял в гараже. Потом я выезжал на дорогу. Все вселенная ждала, пока я изучу ее на своем пикапе. Когда я сидел на месте водителя, то мне казалось, что я способен на все. И было немного странно чувствовать себя так оптимистично. Странно и прекрасно.
Сидеть в грузовике и слушать радио было моей версией молитвы.
Одним утром мама подошла к грузовику и сфотографировала меня.
— Куда ты собираешься? — спросила она.
— В школу, — ответил я.
— Нет. Я не это имею в виду. Когда ты поедешь на этой штуке в первый раз, куда ты направишься?
— В пустыню, — сказал я. Я не сказал ей, что хочу поехать туда, чтобы посмотреть на звезды.
— Сам?
— Ага, — сказал я.
Я знал, что она хотела спросить завел ли я новых друзей в школе. Но она этого не спросила. А потом она посмотрела на мой гипс.
— Кто такая Илеана?
— Одна девочка.
— Она красивая?
— Слишком красивая для меня, мам.
— Дурачок.
— Да, дурачок.
Той ночью мне приснился кошмар. Я ехал по улице в своем пикапе. Илеана сидела возле меня. Я посмотрел на нее и улыбнулся. Я не видел, что он, Данте, стоял на дороге. Я не мог остановиться. Я не мог остановиться. Когда я проснулся, я был весь мокрый от пота.
Утром, когда я сидел в своем грузовике и пил кофе, моя мама вышла из дома. Она села на ступеньках крыльца. Затем она похлопала по ступеньке рядом с собой. И я кое-как выбрался из грузовика. А мама уже над чем-то задумалась.
Я подошел к крыльцу и сел возле нее.
— На следующей неделе снимают гипсы, — сказала она.
— Да, — улыбнулся я.
— А потом терапия.
— И уроки вождения.
— Твой отец хочет учить тебя.
— Ты проиграла в подбрасывании монетки?
Она рассмеялась.
— Будь терпелив с ним, хорошо?
— Без проблем, мам. — Я знал, что она хотела о чем-то поговорить. Я всегда знал это.
— Ты скучаешь по Данте?
— Я не знаю, — ответил я, взглянув на нее.
— Как ты можешь не знать?
— Ну, слушай, мам, Данте такой же, как и ты. Я имею в виду, иногда он витает в облаках.
Она ничего не ответила.
— Мне нравится находиться в одиночестве, мам. Я знаю, что ты этого не понимаешь, но это так.
Она кивнула, и казалось, что она действительно меня слушает.
— Прошлой ночью ты кричал его имя, — наконец говорит она.
— А, это был просто сон.
— Плохой?
— Ага.
— Ты хочешь поговорить об этом?
— Не совсем.
Она толкнула меня локтем, будто хотела сказать: «Ну же».
— Мам? Тебе когда-нибудь снятся кошмары?
— Не часто.
— Не так как мне и папе.
— Ты и твой отец, вы боритесь со своими собственными внутренними войнами.
— Наверно. Я ненавижу свои сны. — Я чувствовал, что мама слушает меня. Она всегда была рядом со мной. И я ненавидел ее за это. И любил. — Я ехал на своем грузовике и на улице шел дождь. Я не видел, что он стоял на дороге. Я не мог остановиться. Не мог.
— Данте?
— Да.
Она сжала мою руку.
— Мам, иногда я хочу, чтобы я курил.
— Тогда я заберу грузовик.
— Ну, по крайней мере, теперь я знаю, что будет, если я нарушу правила.
— Ты думаешь, что я жестокая?
— Я думаю, что ты строгая. Иногда чересчур строгая.
— Мне жаль.
— Это не так. Однажды я нарушу твои правила, мама.
— Я знаю, — сказала она. — Но постарайся сделать это за моей спиной, хорошо?
— Не сомневайся в этом.
Мы оба засмеялись. Засмеялись так сильно, как это было с Данте.
— Мне жаль, что тебе снятся кошмары, Ари.
— Папа слышал?
— Да.
— Мне жаль.
— Ты не можешь управлять своими снами.
— Я знаю. Я не хотел переехать его.
— Ты не хотел. Это был просто сон.
Я не сказал ей, что даже не смотрел на дорогу. Я смотрел на девочку. Именно поэтому я и переехал Данте. Я не сказал ей этого.
ВОСЕМЬ
Два письма от Данте за один день. Они лежали на моей кровати, когда я вернулся со школы. Мне не нравилось, что мама знает о письмах. Глупо. Почему? Потому что они личные. Вот почему. У меня нет ничего личного.
Дорогой Ари,
Ладно, на самом деле мне нравится Чикаго. Иногда я езжу по железной дороге и придумываю истории о людях. Тут больше черных людей, чем в Эль Пасо. И мне это нравится. Тут много ирландцев и европейцев, ну и конечно же мексиканцев. Мексиканцы везде. Мы как воробьи. Знаешь, я до сих пор не знаю мексиканец ли я. Я не думаю, что являюсь им. Кто же я, Ари?
Мне не разрешают ездить по железной дороге ночью. Повторяю, мне не разрешают.
Мама и папа думают, что со мной случится что-то плохое. Я не помню, чтобы они были такими до аварии. Так что я сказал папе: «Пап, машина не может переехать мою задницу на железной дороге». И мой папа, который спокойно относится к большинству вещей, посмотрел на меня очень строго и сказал: «Никогда езди по железной дороге ночью».
Мой папа любит свою работу. Он должен преподавать всего один урок и подготавливать лекцию на определенную тему. Я думаю, что он пишет о модернизме или что-то типа того. Я уверен, что мы с мамой посетим его лекцию. Я люблю своего отца, но вся эта учебная ерунда не для меня. Слишком много анализа. Что случилось с чтением книг только для наслаждения?
Мама хочет написать книгу о плохих привычках молодежи. Большинство ее клиентов, подростки с зависимостями. Не то чтобы она много говорила о своей работе. Большую часть времени она проводит в библиотеке, и я думаю, ей это нравится. Оба моих родителя умники. Мне нравится это.
У меня появилось несколько друзей. Они хорошие. Но другие, я так думаю. Знаешь, они все готы. Я был на вечеринке и впервые выпил пива. Я немного напился. Не сильно, но все же. Я не знаю, нравится мне пиво или нет. Думаю, что, когда я стану старше, я буду пить вино. Дорогое вино. Думаю, я сноб. Но мама говорит, что у меня синдром «единственного ребенка». Думаю, она это придумала. И чья это вина? Кто останавливает их от того, чтобы завести еще одного ребенка?
На вечеринке мне предложили косяк. Я сделал несколько затяжек. Ладно, я не хочу говорить об этом.
Мама убила бы меня, если узнала, что я экспериментировал с веществом, меняющим настроение. Пиво и косяк. Не плохо. Но у моей мамы другое мнение на этот счет. Она говорила со мной о «дворовых наркотиках», как она их называет. Я только закатил на это глаза.
Косяк и пиво — это обычные вещи для вечеринки. Это не такое уж и большое дело. И я не собираюсь обсуждать это с мамой. И с папой.
Ты пил пиво? Пробовал косяк? Дай мне знать.
Я подслушал разговор родителей. Они уже решили, что, если папе предложат постоянную работу, он отклонит ее. «Это плохое место для Данте». Они уже решили это. И, конечно же, они не просили меня. А что, если Данте сам сделает выводы? Данте любит говорить за себя сам. Да, так и есть.
Я не хочу, чтобы мир моих родителей крутился вокруг меня. Однажды, я разочарую их. И что потом?
На самом деле, Ари, я скучаю по Эль Пасо. Когда мы впервые переехали туда, мне там не нравилось. Но теперь я постоянно вспоминаю это место.
И я вспоминаю тебя.
Всегда,
Данте
P.S. Я хожу плавать почти каждый день после школы. Я подстригся. Очень коротко. Но это хорошо для плавания. Иметь длинные волосы отстойно, если ты плаваешь каждый день. Даже не знаю, почему я никогда не стригся.
Дорогой Ари,
Тут постоянно вечеринки. Папа думает, что это хорошо, потому что меня всегда приглашают. А мама, ну, мне сложно сказать, что она думает. Думаю, она следит за мной. Она сказала, что моя одежда пахнет сигаретами после последней вечеринки.
— Некоторые люди курят, — сказал я. — Я не могу ничего с этим поделать.
В ответ она строго посмотрела на меня.
Так вот, в пятницу я пошел на вечеринку. И, конечно же, там был алкоголь. Я пил пиво, и решил, что это не для меня. Мне нравится водка и апельсиновый сок. Ари, там было так много людей. Невероятно. Мы были как муравьи! Нельзя было пошевелиться, не врезавшись в кого-то. Я просто ходил и общался со всеми. Мне было очень хорошо.
Каким-то образом, я понял, что разговариваю с этой девочкой. Ее зовут Эмма. Она умная, милая и красивая. Мы разговаривали на кухне, и она сказала, что ей нравится мое имя. А потом она наклонилась и поцеловала меня. Думаю, я поцеловал ее в ответ. На вкус она как мята и сигареты. Мне понравилось, Ари.
Мы много целовались.
Потом мы выкурили сигарету, и продолжили целоваться.
Ей нравилось трогать мое лицо. Она сказала, что я красивый. Никто не называл меня красивым. Мамы и папы не считаются.
А потом мы вышли наружу.
Она выкурила еще одну сигарету. И предложила мне. Но я отказался.
Я все еще думаю об этом поцелуе.
Она дала мне свой номер.
Я не знаю, что думать по поводу всего этого.
Твой друг,
Данте
ДЕВЯТЬ
Я пытался представить Данте с короткой стрижкой. Я пытался представить его, целующегося с девушкой. Данте был сложным. Он бы понравился Джине. Не то чтобы я собирался знакомить их.
Я лежал в кровати и думал о том, что бы написать ему ответ. Вместо этого, я решил написать в своем дневнике.
Какого это, целовать девушку? Особенно Илеану. На вкус она бы не была как сигареты. Какая девушка на вкус, когда ты целуешь ее?
Я перестал писать и старался подумать о чем-то другом. Я думал о дурацком сочинении по «Великой депрессии», которое я совсем не хотел писать. Я думал о Чарли Эскорбедо, который хотел подсадить меня на наркотики. Я снова начал думать о Данте, который целует девушку. А потом я подумал о Илеане. Возможно, на вкус она была бы как сигареты. Возможно, она курила. Я ничего о ней не знаю.
Я сел на кровать. Нет, нет, нет. Не думать о поцелуях. А потом, сам не знаю почему, но мне стало грустно. А потом я начал думать о брате. Каждый раз, когда мне было грустно, я думал о нем.
Возможно, какая-то часть глубоко внутри меня постоянно думала о нем. Я понял, что произношу его имя по буквам. Б-Е-Р-Н-А-Н-Д-О. Почему мой мозг произносил его имя без моего же разрешения?
Иногда я думаю, что не управляю своими мыслями. Для любого другого человека это не так уж и важно, но для меня это очень важно. Я думаю, причиной того, что мы видим сны, является то, что мы думаем о вещах, о которых даже не подозреваем… И иногда эти вещи появляются в наших снах. Возможно, мы как одежда, между которой слишком много воздуха. Рано или поздно воздух просачивается. Точно так же, как и сны.
Этой ночью мне приснился сон о моем брате. Мне было четыре, а ему пятнадцать. Мы гуляли. Он держал меня за руку, а я смотрел на него. Я был счастлив. Это был хороший сон. Небо было голубым и чистым.
Возможно, это было воспоминание. Сны не появляются из ниоткуда. Это факт. Я подумал, что хочу изучать сны, когда выросту. Я определенно не хочу изучать Александра Гамильтона. Да, возможно я буду изучать сны и их происхождение. Фрейд. Вот, что я сделаю — напишу статью о Зигмунде Фрейде. С этого я и начну.
Возможно, я буду помогать людям, которым снятся кошмары. Я бы действительно хотел этим заниматься.
ДЕСЯТЬ
Я решил найти способ поцеловать Илеану Теллез. Но когда? Где? У нас нет общих уроков. Я едва ли вижу ее.
Найти ее шкафчик. Таков план.
ОДИННАДЦАТЬ
Когда я возвращался от врача, мама спросила, ответил ли я на письмо Данте.
— Еще нет.
— Думаю, ты должен написать ему.
— Мам, я твой сын, не коробка предложений.
Она стрельнула в меня взглядом.
— Смотри на дорогу, — сказал я.
Когда я пришел домой, я взял свой дневник и вот, что я написал:
Если сын не берутся из ниоткуда, тогда почему в своем сне я переехал Данте? И почему мне снова приснился этот сон? Оба раза я смотрел на Илеану, когда переехал Данте. Думаю, это не очень хороший знак.
Воздух просачивается.
Я не хочу думать об этом.
Я могу думать либо о снах о моем брате, либо о снах о Данте.
Мой ли это выбор?
Думаю, я должен начать жить.
ДВЕНАДЦАТЬ
Когда я думаю о сне о моем брате, я вспоминаю, что последний раз, когда я его видел, мне было четыре года. Вот прямая связь между сном и моей жизнью. Думаю, именно тогда все и произошло. Мне было четыре, а ему пятнадцать. Именно тогда он и сделал то, что сделал. А теперь он в тюремном заключении. Нет, не так. Он в тюрьме. Это большая разница. Иногда мой дядя напивается и оказывается в тюремном заключении. Это очень расстраивает мою маму. Но его сразу же выпускают, потому что, когда он пьян, он не садится за руль. Он просто оказывается в глупых местах и ведет себя немного агрессивно. Если бы слово «агрессивно» не было бы изобретено, то его бы изобрели для тех случаев, когда мой дядя напивается. Но кто-то постоянно дает за него залог. В тюрьме нет такого понятия, как залог. Тебе не выпустят быстро. Тюрьма — это то место, в которое ты попадаешь на долго.
Вот где находится мой брат. Тюрьма.
Я не знаю, в какой именно он тюрьме. И не знаю, по какому принципу людей распределяют между тюрьмами. Этому не учат в школе.
Я собираюсь узнать, почему мой брат в тюрьме. Это расследование. Я думал об этом. Газеты. Люди где-нибудь хранят старые газеты?
Если бы Данте был тут, он бы помог мне. Он умный. Он бы точно знал, что делать.
Мне не нужен Данте.
Я могу справиться сам.
ТРИНАДЦАТЬ
Дорогой Ари,
Надеюсь, ты получил мои письма. Ладно, это лицемерное начало. Конечно же ты получил мои письма. Я не собираюсь раздумывать, почему ты не написал мне в ответ. Ладно, это не совсем так. Когда я вернулся с плавания, я очень долго думал, почему ты не прислал мне ответ. Я не хочу тратить бумагу на теории, которые приходят мне в голову, когда я не могу уснуть. Вот в чем дело, Ари, я не собираюсь обижаться на тебя за то, что ты мне не ответил. Обещаю. Если я захочу написать тебе, я напишу. А если ты не хочешь писать мне, ты не должен. Ты должен быть тем, кем хочешь. И я должен быть тем, кем хочу. Такова жизнь. И в любом случае, я всегда разговаривал больше тебя.
У меня появилось новое любимое занятие — походы в Институт искусства Чикаго. Вау, Ари. Ты обязательно должен посмотреть на это искусство. Оно невероятно. Я хотел бы, чтобы ты был здесь, и мы смогли сходить туда вместе. Тебе бы очень понравилось. Клянусь. Там есть все виды искусства — современное и не очень. Я мог бы продолжать говорить об этом, но не стану. Тебе нравится Энди Уорхол?
Здесь есть знаменитая картина «Ночные ястребы», которую написал Эдвард Хоппер. Я обожаю эту картину. Иногда, я думаю, что все люди точно такие же, как на этой картине — потерянные в своей собственной вселенной боли или вины, далекие и непостижимые. Эта картина напоминает тебя. Это разбивает мне сердце.
Но «Ночные ястребы» моя любимая картина. Но это ненадолго. Я когда-то говорил тебе, какая картина моя любимая? «Плот Медузы». За этой картиной стоит целая история. Она основана на реальной истории о кораблекрушении. Эта картина сделала Жерико популярным. Художники всегда рассказывают истории. Я имею в виду, что некоторые картины похожи на повести.
Однажды я посещу Париж. Я пойду в Лувр и буду рассматривать картины целый день.
Я подсчитал, и знаю, что тебе уже сняли гипс. Я знаю, что твое правило гласит, что мы больше никогда не говорим об аварии. Но я скажу это, Ари. Это глупое правило. Ни один нормальный человек не станет следовать этому правилу. Так что, надеюсь, что твоя терапия проходит хорошо, и что ты снова нормальный. Не то чтобы ты когда-либо был нормальным. Ты определенно не нормальный.
Я скучаю за тобой. Могу ли я сказать это? Или для этого тоже есть правило? Знаешь, мне действительно интересно, почему у тебя так много правил. Почему, Ари? Думаю, у каждого есть свои правила. Может нам досталось это от родителей. Родители всегда придумывают правила. Возможно, они придумываю чересчур много правил, Ари. Задумывался ли ты когда-либо над этим?
Я думаю, что мы должны что-то с этим сделать.
Я больше не буду говорить, что скучаю за тобой.
Твой друг,
Данте
ЧЕТЫРНАДЦАТЬ
С помощью Сьюзи Берд, я нашел шкафчик Илеаны.
— Только не говори об этом Джине.
— Не скажу, — ответил я. — Обещаю.
Она бы сразу нарушила свое обещание.
— Она сплошная проблема, — сказала Джина.
— Да, ей восемнадцать, — ответила Сьюзи.
— И что?
— А ты просто мальчик. А она женщина.
— Проблема, — повторила Джина.
Я оставил Илеане записку. «Привет», написал я. Внизу я подписал свое имя. Я идиот. Привет. И что это значит?
ПЯТНАДЦАТЬ
Весь вечер я провел в библиотеке, в поисках информации в газете Эль Пасо. Я искал статью о моем брате. Но я даже не знал, какой год мне нужен. Так что, я бросил это занятие через полтора часа. Должен быть лучший способ для таких поисков.
Я подумывал о том, чтобы написать Данте письмо. Но вместо этого, я нашел книгу об искусстве Эдварда Хоппера. Данте был прав насчет «Ночных ястребов». Это отличная картина. И то, что говорил Хоппер, было правдой. Мне казалось, что я смотрю в зеркало. Но это не разбивало мне сердце.
ШЕСТНАДЦАТЬ
Вы знаете, как выглядит мертвая кожа после снятия гипса?
Такой была моя жизнь, прямо как мертвая кожа.
Было странно чувствовать себя старым Ари. Не считая того, что это было не совсем так. Ари, которым я был раньше, больше не существует.
А Ари, которым я становился? Он еще не существует.
Когда я приехал домой, я решил прогуляться.
Я понял, что смотрел на то место, где Данте держал птицу. Я даже не помню, как оказался там.
Я понял, что хожу перед домом Данте.
В парке через дорогу на меня смотрел пес.
Я посмотрел на него в ответ.
Внезапно он упал на траву.
Я прошелся по улице, но пес не шевелился. Он просто махал хвостом. Я улыбнулся. Я сел на траву возле него и снял обувь. Пес подполз ко мне и уронил голову на мои колени.
А я просто сидел и гладил его. Я заметил, что у него нет ошейника. После того, как я изучил его лучше, я узнал, что он был ею.
— Как тебя зовут?
Люди разговаривают с собаками. Но я не думаю, что они понимают. Но возможно, они понимают достаточно. Я подумал о последнем письме Данте. Я должен посмотреть значение слова «бессодержательный». Я встал и пошел в библиотеку, которая была на углу улицы.
Я нашел книгу по искусству, в которой была фотография «Плота Медузы».
Потом я пошел домой: Ари, мальчик, который снова может ходить без помощи костылей. Я хотел сказать Данте, что он подсчитал дату немного неправильно. Мне сняли гипс сегодня, Данте. Сегодня.
По дороге домой, я думал несчастном случае, Данте и моем брате, и я гадал, умел ли он плавать. Я думал о папе, и о том, что он никогда не говорит о Вьетнаме. Несмотря на то, что в гостиной висели фотографии с его знакомыми из Вьетнама, он никогда о них не говорил и не называл их имен. Однажды я спросил их имена, но он сделал вид, что не услышал моего вопроса. Больше я никогда не задавал этот вопрос. Возможно, единственной проблемой между мной и моим отцом было то, что мы одинаковые.
Когда я пришел домой, я заметил, что собака шла за мной. Я сел на ступеньки крыльца, а она легла на тротуаре, смотря на меня.
Из дома вышел мой папа.
— Твои ноги вернулись?
— Ага, — сказал я.
Он посмотрел на собаку.
— Она шла за мной от самого парка.
— Он тебе нравится?
— Это она.
Мы оба улыбнулись.
— И да, — сказал я. — Она мне очень нравится.
— Помнишь Чарли?
— Ага. Я любил эту собаку.
— Я тоже.
— Я умер, когда она умерла.
— Я тоже, Ари. — Мы посмотрел друг на друга. — Кажется, это хорошая собака. У нее нет ошейника?
— Нет, пап. Превосходно.
— Превосходно, Ари. — рассмеялся он. — Мама не любит, когда в доме собаки.
СЕМНАДЦАТЬ
Дорогой Данте,
Прости, что не отвечал тебе.
Теперь я могу ходить, как нормальный человек. Так что, ты больше не должен чувствовать себя виноватым, договорились? Снимки выглядят хорошими. Я полностью вылечился, Данте. Врач говорит, что многое могло пойти не так, начиная с операции. Но все хорошо. Представь себе, Данте, все хорошо. Ладно, я нарушил свое собственное правило, так что хватит.
У меня новая собака! Ее зовут Легс*, потому что я нашел ее, когда снова смог ходить. Она последовала за мной из парка до самого дома. Мы с папой помыли ее на заднем дворе. Она хорошая собака. Она просто стояла, и разрешила нам ее помыть. Очень ручная и милая собака. Я не знаю ее точной породы. Ветеринар предполагает, что она наполовину Пит Буль, на половину Лабрадор. Но он не уверен. У нее белая шерсть среднего размера и коричневые круги вокруг глаз. Она очень красивая. Мама не была против собаки. Единственным ее требованием было: «Собака живет во дворе».
Но это правило не продлилось долго. Ночью я впустил собаку в свою комнату. Она спала на моих ногах. На кровати. Мама была в ярости. Но она пришла в себя очень быстро.
— По крайней мере, у тебя есть друг, — сказала она.
Мама думает, что у меня нет друзей. Так и есть. Я не умею заводить друзей. Но это нормально.
Кроме собаки, мне нечего и рассказать. Нет, подожди. Угадай что? На день рождения мне подарили Пикап 1957 года! Он желтого цвета. Я обожаю этот грузовик. Настоящий мексиканский грузовик, Данте!
Папа учит меня водить. Мы поехали на заброшенную ферму. Я справился довольно хорошо. Но мне надо поработать над педалями. Я не очень хорошо торможу, поэтому несколько раз чуть не угробил грузовик. Все это требует времени. Дави на сцепление, тормоз, газ, сцепление, тормоз, газ. Только потом ты начинаешь ехать. Когда-нибудь, я научить делать все эти действия одним движением. Это будет также легко, как ходить. Мне даже не придется думать.
После первого урока, мы припарковали грузовик, и папа выкурил сигарету. Да, иногда он курит. Но не в доме. Иногда он курит на заднем дворе, но это происходит не часто. Я спросил его, собирается ли он бросать, на что он ответил: «Это помогает от кошмаров». Я знаю, что ему снится война. Иногда, я представляю его во вьетнамских джунглях. Но никогда не спрашиваю его. Думаю, он бы все равно не рассказал. Наверно, это ужасное чувство, хранить в воспоминаниях войну. Но возможно именно так и должно быть. Так что, вместо того, чтобы расспрашивать его о войне, я спросил, снился ли ему когда-либо Бернардо.
— Иногда. — Это все, что он сказал. По дороге домой он не сказал ни слова.
Думаю, я расстроил его, спросив о моем брате. Я не хочу расстраивать его, но ничего не могу с этим поделать. Я всегда расстраиваю его. И других людей тоже. Я и тебя расстраиваю. Я знаю это. И мне жаль. Я делаю все возможное, понимаешь? Так что, если я не пишу так много писем, как это делаешь ты, не расстраивайся. Я не хочу расстраивать тебя. Вот в чем проблема. Я хочу, чтобы люди говорили мне о своих чувствах. Но я не уверен, что хочу говорить им о своих.
Думаю, я пойду посижу в своем грузовике, и подумаю над этим.
Ари
__________________________
* Legs(с англ. Ноги).
ВОСЕМНАДЦАТЬ
Вот список, из чего состоит моя жизнь:
— Обучение вождению, а также усердная учеба в школе, чтобы я смог поступить в хороший колледж. (Это делает счастливой мою маму).
— Поднятие гантелей в подвале.
— Бег с Легс, которая является не просто хорошей собакой, но и отличным бегуном.
— Чтение писем Данте (иногда, даже дважды в неделю).
— Споры с Джиной Наварро и Сьюзи Берд (о чем угодно).
— Попытки найти способы столкнуться с Илеаной в школе.
— Поиски информации в газете Эль Пасо о моем брате.
— Письмо в дневнике.
— Мытье грузовика раз в неделю.
— Кошмары. (Я все еще сбиваю Данте).
— Работа в кафе. Переворачивать гамбургеры не так уж и плохо. Я работаю четыре часа по вторникам после школы, шесть часов по пятницам и восемь часов по субботам. (Папа не разрешает брать дополнительные смены).
Этим списком можно описать всю мою жизнь. Возможно, моя жизнь не такая уж и интересная, но, по крайней мере, я постоянно чем-то занят. Но занят, не означает счастлив. Я это знаю. Но по крайней мере, мне не скучно. А скука — это самое худшее чувство в мире.
Мне нравится иметь собственные деньги, и то, что у меня не остается времени на жалость к себе.
Меня приглашают на вечеринки, но я не прихожу.
Ну, однажды я пошел на вечеринку, и то, чтобы посмотреть была ли там Илеана. Я ушел, как только приехали Джина и Сьюзи. Джина обозвала меня мизантропом. Она сказала, что я единственный мальчик во всей чертовой школе, который никогда не целовался.
— И этого никогда не произойдет, если ты будешь сбегать с вечеринок, как только все начинают по-настоящему веселиться.
— Правда? — сказал я. — Я никогда не целовался? И как именно ты пришла к этому выводу?
— Это очевидно, — сказала она.
— Ты хочешь, чтобы я начал рассказывать тебе о моей жизни. Но это не сработает.
— И кого же ты целовал?
— Проехали, Джина.
— Илеану? Я так не думаю. Она просто играет с тобой.
Я просто продолжил идти и помахал ей рукой.
Джина, что не так с этой девочкой? Семь сестер, и не одного брата — вот в чем проблема. Думаю, она решила, что может просто одолжить меня. Сделать из меня брата, над которым можно издеваться. Они со Сьюзи часто приходят в кафе, в котором я работаю, по пятницам. Просто ради того, чтобы продолжить издеваться надо мной. Просто, чтобы вывести меня из себя. Они заказывают гамбургер, колу и картошку фри, и сидят до самого закрытия, приставая ко мне прям как надоедливые насекомые. Джина училась курить, и постоянно подпаливала свои сигареты, будто она была Мадонной.
Однажды, они решили выпить пиво, и она заказала его и мне. Ну, я и согласился. Все было хорошо, даже отлично.
Кроме того, что Джина постоянно расспрашивала меня о том, с кем же я все-таки целовался.
Но потом, мне в голову пришла идея, как заставить ее остановиться.
— Знаешь, что я думаю, — сказал я. — Я думаю, что ты хочешь, чтобы я поцеловал тебя.
— Это отвратительно, — ответила она.
— Тогда почему ты интересуешься? Ты бы хотела поцеловать меня.
— Ты идиот, — сказала она. — Я бы лучше съела птичий помет.
— Конечно, — сказал я.
Сьюзи Берд сказала, что я веду себя подло. Это же Сьюзи, радом с ней надо всегда быть милым. Если ты сказал что-то неправильно, она начинала плакать. А мне не нравилось, когда девчонки плакали. Она была хорошей. Но она не могла сдерживать свои слезы.
Больше Джина не заводила разговор о поцелуях. Это было хорошо.
Иногда Илеана находила меня. Она улыбалась, и каждый раз я все больше влюблялся в ее улыбку. Не то, чтобы я хоть что-то знал о любви.
В школе было все хорошо. Мистер Блокер все еще устраивал нам допросы. Но он был хорошим учителем. Он заставлял нас много писать. Мне это нравилось. По какой-то причине, мне очень нравилось писать. Единственный урок, с которым у меня были проблемы, это рисование. Я не умею рисовать. У меня получались деревья, но я так и не научился рисовать лица. Но на уроке рисования, все, что от тебя требуется — это просто попытка. Мне часто ставили пятерки. Но не за талант. А за мою историю.
Моя жизнь не такая уж и плохая. У меня есть собака, водительские права, и два хобби: поиски имени моего брата в газетах и поиски способа поцеловать Илеану.
ДЕВЯТНАДЦАТЬ
У нас с папой появился собственный ритуал. По субботам и воскресеньям мы просыпались очень рано и начинали наши уроки вождения. Я думал… Я не знаю, что я думал. Думаю, я думал, что мы с папой будем много говорить и жизни. Но мы не говорили. Мы говорили только о вождении. Все разговоры были только по делу. Все было связано с уроками вождения.
Папа был терпелив. Он объяснял, как правильно водить, о том, что надо внимательно следить за дорогой и за другими водителями. Он был очень хорошим учителем, и никогда не расстраивался (кроме того случая, когда я упомянул своего брата). Однажды он сказал кое-что, что вызвало у меня улыбку.
— Ты не можешь ехать в двух направлениях, если это дорога в одну сторону.
Я подумал, что это было очень веселое и интересное замечание. Когда он сказал это, я засмеялся. А он никогда не смешил меня.
Но он никогда не интересовался моей жизнью. В отличие от моей мамы, он не вмешивался в мой личный мир. Мы с папой были как картина Эдварда Хоппера. Похожи, но не идентичны. Я заметил, что папа сегодня папа был более расслаблен, чем обычно. Он чувствовал себя как дома. Даже несмотря на то, что он почти не говорил, он не казался отдаленным. Мне это нравилось. Иногда он свистел, будто был действительно счастлив находиться рядом со мной. Возможно, моему папе просто не нужны слова. Я не был таким как он. Я был его полной противоположностю, и просто притворялся, что мне не нужны слова. Но внутри я таким не был.
Я кое-что узнал о себе: внутри я вовсе не был как мой отец. Я был как Данте. И это очень пугало меня.
ДВАДЦАТЬ
Прежде, чем мама разрешила мне водить грузовик самому, мне пришлось взять ее с собой.
— Ты едешь немного быстро, — сказала она.
— Мне шестнадцать, — сказал я. — И я парень.
Она ничего не ответила. Но потом, она все же сказала:
— Если я когда-либо заподозрю, что ты сел за руль, сделав хотя бы один глоток алкоголя, я продам грузовик.
По непонятной причине, я улыбнулся.
— Это не справедливо. Почему я должен расплачиваться за то, что ты слишком подозрительная? Это не моя вина.
Она посмотрела на меня.
— Фашисты всегда такие.
Мы улыбнулись друг другу.
— Никакого вождения в нетрезвом виде.
— А что насчет хождения в нетрезвом виде?
— Это тоже под запретом.
— Я это и так знал.
— Я просто напоминаю.
— Я не боюсь тебя, мам. Просто, чтобы ты знала.
Она рассмеялась.
Моя жизнь была более или менее незамысловатой. Я получал письма от Данте, но не всегда писал в ответ. Когда я все же отвечал ему, мои письма были короткими. А его письма всегда были длинными. Он все еще экспериментировал с поцелуями с девушками, даже несмотря на то, что сказал, что предпочитает целовать парней. Именно так он и сказал. Я не знаю, что думать по этому поводу. Но Данте — это Данте, и, если я хочу быть его другом, я должен смириться с этим. И из-за того, что он был в Чикаго, а я в Эль Пасо, смириться с этим было намного проще. Жизнь Данте была намного сложнее моей, по крайней мере, когда дело доходило до поцелуев. С другой стороны, ему не приходилось думать о брате, который сидел в тюрьме и родители которого притворялись, что его не существует.
Думаю, я старался сделать мою жизнь менее проблематичной, потому что я чувствовал себя таким запутанным. И в доказательство этому, мне снились кошмары. Одной ночью, мне приснилось, что у меня не было ног. Они просто пропали. И я не мог встать с кровати. Я проснулся от крика.
Мой папа зашел в комнату, и прошептал:
— Это просто сон, Ари. Просто плохой сон.
— Да, — прошептал я. — Просто плохой сон.
Но знаете, я привык к кошмарам. Но почему некоторые люди не запоминают свои сны? И почему я не был одним из этих людей?
ДВАДЦАТЬ ОДИН
Дорогой Данте,
Я получил водительские права! Я уже возил маму и папу. Я отвез их в Новую Мексику. Мы пообедали. Потом я отвез их домой, и думою они более-менее одобрили мое вождение. Но, вот, что было лучшей частью. Я встал ночью, и поехал в пустыню. Я слушал радио, лежал на прицепе грузовика и смотрел на звезды. Никаких городских огней, Данте.
Это было прекрасно.
Ари
ДВАДЦАТЬ ДВА
Одним вечером мои родители ушли на свадьбу. Мексиканцы. Они обожают свадьбы. Они хотели взять меня с собой, но я отказался. Смотреть на моих родителей, танцующих под мексиканскую музыку, было сущим адом. Я сказал, что устал от работы, и что я останусь дома и отдохну.
— Что ж, если ты захочешь уйти, — сказал папа. — Просто оставь записку.
У меня не было никаких планов.
Я собирался сделать кесадилью и устроиться поудобнее, когда ко мне в дверь постучался Чарли Эскобедо.
— Ужинаешь? — спросил он.
— Не совсем. Я делаю кесадилью.
— Круто.
Я собирался предложить кесадилью и ему, потому что он выглядел голодным. Но это был его обычный вид. Он всегда казался голодным. А еще он был худой, и выглядел как койот в самый разгар засухи. Я много знал о койотах. Они мне очень нравились. Мы так и стояли, смотря друг на друга, и наконец я произнес:
— Ты голоден?
Не могу поверить, что спросил это.
— Неа, — ответил он. — Ты когда-нибудь стрелял из ружья?
— Нет, — ответил я.
— А хотел бы?
— Нет.
— Ты должен попробовать. Это чудесно. Знаешь, мы бы могли выехать в пустыню и попробовать наркотики. Они сладкие. Они очень сладкие, чувак.
— Я предпочитаю шоколад, — сказал я.
— О чем ты вообще говоришь?
— Сладкие. Ты сказал сладкие. Думаю, я получу свою порцию сладости из шоколада.
После этого он разозлился, начал обзывать меня, и сказал, что надерет мне задницу. Еще он сказал, как я посмел считать себя слишком хорошим для стрельбы или героина. А еще он сказал, что я никому не нравлюсь, потому что считаю себя мистером Габачо.
Мистер Габачо.
Мне это не понравилось. Я был точно таким же мексиканцем, как и он. Но я не боялся этого придурка.
— Почему ты не найдешь кого-то другого для своих дел? — сказал я, и только потом понял, что он одинок. Но это не дает ему права быть придурком.
— Ты гей. Ты это знаешь? — сказал Чарли.
О чем он болтал? Я гей только потому, что не хотел курить травку?
— Да, я гей, и я хочу поцеловать тебя, — сказал я.
А потом его лицо искривилось, и он сказал:
— Я собираюсь побить тебя.
— Вперед.
И он ударил меня, но я не был против. Вообще, он мне нравился. Но это было до того, как он стал заставлять меня делать то, что я не хочу. Если честно, мне бы хотелось попробовать героин, но я еще не был готов к этому.
Парень должен быть готов ко всему. Я так думал.
Я подумал о рассказе Данте, в котором он писал, как он напился. Я пил пиво с Джиной и Сьюзи, но я никогда не напивался. Мне было интересно, хорошее ли это чувство. Я снова начал думать о брате. Возможно, его посадили в тюрьму из-за наркотиков.
Думаю, когда я был маленьким, я очень любил его. Возможно, именно поэтому мне было грустно и одиноко. Возможно, я просто скучал по нему всю свою жизнь.
Не знаю почему я сделал то, что сделал. Но я сделал это. Я вышел на улицу, и нашел пьяного попрошайку, который просил денег. Он ужасно выглядел, а пах еще хуже. Но я не хотел становится его другом. Я попросил его купить мне пиво, и сказал, что взамен тоже куплю ему пиво. Он согласился. Я припарковался на углу, и стал ждать. Когда он принес мне пиво, он спросил сколько мне лет.
— Шестнадцать, — сказал я. — А вам?
— Мне? Мне сорок пять. — Он выглядел намного старше. Внезапно мне стало плохо, из-за того, что я использовал этого попрошайку. Но он ведь тоже использовал меня. Так что, все честно.
Сначала я хотел поехать в пустыню, и напиться там. Но потом понял, что это не самая лучшая идея. В моей голове появились недавние слова мамы. В итоге, я решил просто поехать домой. Я знал, что родители придут еще не скоро. У меня есть целая ночь.
Я припарковался возле дома. Решив остаться в грузовике, я начал пить пиво. Я впустил к себе Легс, но она пыталась лизнуть пиво, и мне пришлось сказать ей, что собакам нельзя пить пиво. Возможно, подросткам тоже не стоит пить пиво. Но понимаете, я ведь просто экспериментировал. Открывал тайны Вселенной.
Я решил, что начну пьянеть уже после двух бутылок пива. Так все и было. Я чувствовал себя очень хорошо.
И я начал думать о разных вещах.
О брате.
Данте.
Кошмарах моего отца.
Илеане.
После того, как я выпил еще бутылку пива, я перестал чувствовать боль. Оно действовало прям как морфий. Но не совсем так. Затем я открыл еще одну бутылку пива. Легс положила голову мне на колени.
— Я люблю тебя, Легс, — сказал я. И это было правдой. Я любил эту собаку. И когда я сидел в своем грузовике с пивом и собакой, жизнь не казалась такой уж плохой.
Многие парни могли убить за то, что есть у меня. Так почему же я не был благодарен? Потому что я неблагодарный, вот почему. Именно это сказала обо мне Джина Наварро. Она была умной девочкой. И она не ошибалась по поводу меня.
Я открыл окно, и почувствовал холод. Приближалась зима. Лето не принесло мне то, что я хотел. И я не думал, что это сделает зима. Почему вообще существуют времена года? Цикл жизни. Зима, весна, лето, осень. А потом все сначала.
Что ты хочешь, Ари? Я повторяю этот вопрос снова и снова. Возможно, в этом виновато пиво. Что ты хочешь, Ари?
И тут я нашел ответ:
— Жизнь.
— А что такое жизнь?
— Откуда я знаю?
— Глубоко внутри ты знаешь это, Ари.
— Нет, не знаю.
— Заткнись, Ари.
И я заткнулся. А потом мне в голову пришла мысль, что я хочу кого-либо поцеловать.
Неважно кого именно. Кого угодно. Илеану.
Когда я выпил все шесть бутылок пива, я поплелся в дом.
Я уснул, и этой ночью мне ничего не приснилось. Совсем ничего.
ДВАДЦАТЬ ТРИ
На рождественских каникулах, я упаковывал подарки для моих племенников. Я пошел за ножницами. Я знал, что мама держит их в комоде комнаты для гостей. Так что, именно туда я и направился. Именно там они и были, прямо на большом коричневом конверте с именем моего брата.
БЕРНАРДО.
Я знаю, что в этом конверте есть все о моем брате.
Вся его жизнь в одном конверте.
Я знал, что там есть его фотографии.
Я хотел разорвать и открыть конверт, но не сделал этого. Я оставил ножницы на месте, и притворился, что не знаю о конверте.
— Мам, — сказал я. — Не знаешь, где ножницы?
И она принесла их мне.
Ночью я сел писать в своем дневнике. Я снова и снова писал его имя:
Бернардо
Бернардо
Бернардо
Бернардо
Бернардо
Бернардо
ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ
Дорогой Ари,
Недавно мне приснилось, как ты лежал в прицепе своего грузовика и смотрел на звезды. У меня сразу же появилась идея для рисунка. Я отправляю тебе свою фотографию возле рождественской елки. А еще я отправляю тебе подарок. Надеюсь, тебе понравится.
С Рождеством, Ари.
Данте
Когда я открыл подарок, то не смог сдержать улыбки.
А потом я рассмеялся.
В коробке была пара миниатюрных теннисных кроссовок. И я точно знал, что должен с ними сделать. Я должен повесить их на зеркало заднего вида. И именно это я и сделал.
ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ
На следующий день после Рождества у меня была восьмичасовая смена в Угле. В связи с тем, что сейчас каникулы, папа разрешил брать дополнительный часы работы. Мне нравилось работать. Не считая того, что парень, с которым я работал, был настоящим придурком. Он постоянно болтал, и даже не замечал, что в большинстве случаев я даже не слушаю, о чем он говорит. Однажды он пригласил меня погулять после работы, но я сказал, что у меня планы.
— Свидание? — спросил он.
— Ага, — кивнул я.
— У тебя есть девушка?
— Ага, — снова кивнул я.
— Как ее зовут?
— Шер.
— Иди к черту, Ари, — сказал он.
Некоторые парни просто не понимают шуток.
Когда я пришел домой, мама готовила ужин. Я любил ее домашние Тамале. Мне нравилось разогревать их в духовке, что было очень странным, потому что они разогревались совсем не так. Мне нравилось, что в духовке они становились хрустящими и подгоревшими.
— Звонил Данте, — сказала мама.
— Правда?
— Да. Он тебе перезвонит. Я сказала, что ты на работе.
Я кивнул.
— Он не знал, что ты работаешь. Ты никогда не упоминал об этом в своих письмах?
— Разве это важно?
— Думаю, нет, — покачала головой мама.
Я знал, что она обдумывает это, но она не стала ничего говорить. Я не был против. Мама уже собиралась что-то сказать, но вдруг зазвонил телефон.
— Наверно это Данте, — сказала она.
Это был Данте.
— Привет.
— Привет.
— С Рождеством.
— В Чикаго идет снег?
— Нет. Просто холодно. И пасмурно. Очень-очень холодно.
— Звучит славно.
— Мне это даже нравится. Но я устал от пасмурных дней. Говорят, в январе будет еще хуже. В феврале скорее всего тоже.
— Отстой.
— Да, отстой.
Повисла неловкая пауза.
— Значит, ты работаешь?
— Ага, переворачиваю гамбургеры в Угле. Я пытаюсь накопить немного денег.
— Ты не говорил.
— Да, но это не важно. Просто отстойная работенка.
— Ну, ты не сможешь накопить приличную суму, если будешь покупать красивые книги для друзей. — По его голосу было понятно, что он улыбается.
— Так ты получил книгу?
— Я сейчас смотрю на нее. Это прекрасная книга, Ари.
Я подумал, что он расплачется. И мысленно я шептал: не плач, не плач. И, будто услышав мои мысли, он не заплакал.
— Сколько гамбургеров ты перевернул, чтобы купить эту книгу? — спросил Данте, нарушив тишину.
— Этот вопрос в стиле Данте, — сказал я.
— А этот ответ в стиле Ари, — ответил он.
А потом мы начали смеяться. И в этот момент я понял, как сильно за ним соскучился.
Когда я положил трубку, мне стало немного грустно. Но также я был счастлив. И на несколько минут мне захотелось, чтобы мы с Данте жили во вселенной мальчиков, чем во вселенной почти мужчин.
Я отправился на пробежку трусцой. Я и Легс. Думаю, что у каждого парня должна быть собака. Джина говорит, что каждый парень сам по себе собака. Но в этом вся Джина. Она очень похожа на мою маму. Ее голос постоянно в моей голове.
Посреди моей пробежки пошел дождь. В моей голове снова появился фрагмент аварии. И на несколько секунд, я почувствовал боль в ногах.
ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ
В канун Нового года меня вызвали на работу. Я не был против. Я хорошо справлялся со своей задачей, и к тому же, у меня не было никаких планов.
— Ты собираешься на работу? — мама явно не была рада.
— Социальное взаимодействие, — ответил я.
Она посмотрела на меня грозным видом, и сказала:
— К нам придут гости.
Да, как всегда к нам придут родственники. Дяди. Кузины. Много еды, приготовленной моей мамой. Пиво. Вино для мамы и сестер. Я не был фанатом семейных сборов. Слишком много людей. Я не знаю, о чем сними говорить, поэтому постоянно улыбаюсь.
— 1987. Рад, что он заканчивается, — улыбнулся я маме.
Она снова выразительно на меня посмотрела.
— Это был хороший год, Ари.
— Да, не считая небольшого несчастного случая.
— Почему ты просто не можешь радоваться жизни?
— Потому что я весь в отца. — Я поднял чашку кофе, и сказал, — За 1988. И за папу.
В ответ, мама пригладила мои волосы рукой. Она не делала этого уже очень давно.
— Ты все больше становишься похожим на мужчину, — сказала она.
— Что ж, за мужественность, — я снова поднял чашку кофе.
На работе я не был особо занят. Из-за дождя людей почти не было, так что я, и еще трое ребят просто бездельничали, напивая любимые песни. Моей песней былa «La Bamba». Я не умел петь, но упорно продолжал это делать. Альма пела «Faith». Люси продолжала притворятся Мадонной, несмотря на то, что у нее не было голоса. Где-то к концу смены мы все начали петь «I Still Haven’t Found What I’m Looking For». Отличная песня.
Без пяти десять я услышал голос возле окошка для автомобилистов. Джина Наварро. Я узнал бы этот голос где угодно. Я не мог понять, нравится ли она мне, или я просто к ней привык. Когда она сделала заказ, я принес его к ним в машину, в которой также сидела Сьюзи Берд.
— Вы что, встречаетесь?
— Отвали, придурок.
— И тебя с Новым годом.
— Ты закончил свою смену.
— Почти.
Сьюзи Берд улыбнулась. У нее была очень милая улыбка.
— Мы приехали, чтобы пригласить тебя на вечеринку.
— Вечеринка. Не заинтересован, — сказал я.
— Там будет пиво, — сказала Джина.
— И девчонки, с которыми можно целоваться, — добавила Сьюзи.
Персональная служба свиданий. Именно то, что я хотел на Новый год.
— Возможно, — сказал я.
— Никаких возможно, — сказала Джина. — Расслабься.
Не знаю, почему я согласился, но я сказал:
— Хорошо. Дай мне адрес, и я встречу вас на месте. Сначала, мне нужно заехать домой и предупредить родителей.
Я надеялся, что мама с папой не отпустят меня. Но этого не произошло.
— Ты действительно собираешься на вечеринку? — спросила мама.
— Удивлена, что меня пригласили, мам?
— Нет. Просто удивлена, что ты хочешь пойти.
— Это же Новый год.
— Там будет выпивка?
— Я не знаю, мам.
— Я не разрешаю тебе брать грузовик.
— Тогда я не смогу попасть на вечеринку.
— Где проходит вечеринка?
— На углу Силвер и Эльм.
— Это же совсем не далеко. Ты можешь пройтись.
— Но на улице дождь.
— Он же не будет идти вечно.
Мама практически вытолкнула меня из дому.
— Иди. Повеселись.
Черт. Повеселится.
И угадайте, что произошло? Мне было весело.
Я поцеловал девушку. Нет, она поцеловала меня. Илеана. Она тоже была там. Илеана. Она просто подошла ко мне, и сказала:
— Это Новый год. Так что, с Новым годом.
А потом она наклонилась, и поцеловала меня.
Мы целовались. Долго. А потом она прошептала:
— Ты целуешься лучше всех в мире.
— Нет, — сказал я. — Это не так.
— Не спорь со мной. Я в этом разбираюсь.
— Ладно, — сказал я. — Я не буду спорить с тобой. — А потом мы опять поцеловались.
— Мне пора, — сказала она, и ушла.
У меня даже не было времени все обдумать, как возле меня оказалась Джина.
— Я все видела, — сказала она.
— И что с этого?
— Как это было?
— С новым годом, — сказал я и обнял ее. И мы оба рассмеялись.
Было очень странно по-настоящему веселиться.
ДВАДЦАТЬ СЕМЬ
Однажды, когда я остался дома один, то решил заглянуть в шкафчик. В тот самый шкафчик с огромным манящим конвертом с надписью БЕРНАРДО. Я хотел открыть его. Я хотел узнать все тайны, что были спрятаны в нем.
Может тогда я стану свободным? Но почему я не был свободным? Это же не я был в тюрьме.
Я положил конверт на место.
Я не хотел делать это так. Я хотел, что мама сама дала его мне, и сказала: «Это история твоего брата».
Наверно, я хотел слишком много.
ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ
Данте написал мне небольшое письмо.
Ари,
Ты мастурбируешь? Думаю, этот вопрос покажется тебе смешным. Но это очень серьезно. Ты ведь нормальный. По крайней мере, ты нормальнее меня.
Так что, может ты мастурбируешь, а может и нет. Возможно, я просто немного помешан на этой теме. Возможно, это просто фаза. Но Ари, если ты мастурбируешь, о чем ты думаешь?
Я знаю, что должен спросить об этом папу, но я не хочу. Я люблю папу, но разве я должен рассказывать ему все?
Шестнадцатилетний мальчик мастурбирует. Это вообще нормально?
Твой друг,
Данте
Меня очень разозлило, что он прислал мне письмо. Не то, что он написал его, а то что прислал. Я был немного растерян. Мне совсем не хочется обсуждать мастурбацию с Данте.
Я вообще не хочу обсуждать эту тему с кем-либо.
Что происходит с этим парнем?
ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ
Январь, Февраль, Март, Апрель. Все месяцы буквально сплетались воедино. В школе все было хорошо. Я учился. Я занимался спортом. Работал. Играл в прятки с Илеаной. Точнее, это она играла в прятки со мной. А я никогда не выигрывал.
Иногда я приезжал в пустыню и смотрел на звезды.
Однажды я рискнул пригласить Илеану на свидание. Я устал от всего этого флирта. Это больше не действовало.
— Давай посмотрим фильм, — сказал я. — Ну знаешь, держась за руки.
— Не могу, — ответила она.
— Не можешь?
— Никогда.
— Тогда зачем ты поцеловала меня?
— Потому что ты красивый.
— И это все?
— И милый.
— Тогда в чем проблема? — Я начала думать, что Илеана просто играет в игру, которая мне не нравится.
Иногда она приходила в кафе, где я работаю, и когда я заканчивал свою смену, мы садились в грузовик и разговаривали. Но мы не говорили ни о чем важном. Она была еще более скрытной, чем я.
Приближался выпускной, и я собирался ее пригласить. И не важно, что она меня отшила. За несколько недель до выпускного она пришла в Уголь. Мы снова сели в грузовик.
— Хочешь пойти на выпускной со мной? — спросил я. Я старался звучать уверенно, но не думаю, что у меня это получилось.
— Я не могу, — ответила она.
— Ладно.
— Ладно?
— Да, все нормально.
— Ты не хочешь узнать причину, Ари?
— Если бы хотела сказать, ты бы уже сказала.
— Хорошо, я скажу, почему не могу пойти.
— Ты не должна.
— У меня есть парень, Ари.
— Оу, — сказал я. Я сделал вид, будто так и должно быть. — Значит я просто, эм, кто я для тебя Илеана?
— Ты парень, который мне нравится.
— Ладно, — ответил я. Я слышал голос Джины в своей голове. Она просто играет с тобой.
— Он преступник, Ари.
— Твой парень?
— Ага. И если он узнает, что я была здесь, с тобой случится что-то плохое.
— Я не боюсь.
— А должен.
— Почему ты просто не расстанешься с ним?
— Все не так просто.
— Почему?
— Ты хороший парень, Ари. Ты это знаешь.
— Ага, что ж, это отстойно, Илеана. Я не хочу быть хорошим парнем.
— Ну, ты такой. И мне это нравится.
— Вот в чем дело, — начал я. — Я хороший парень. Но хорошие парни не получают девушек. И мне не нравится это развитие событий.
— Ты злишься. Не злись.
— Не говори мне не злиться.
— Ари, пожалуйста, не злись.
— Почему ты поцеловала меня? Почему, Илеана?
— Я не должна была. Прости. — Она посмотрела на меня. Прежде чем я успел что-либо сказать, она вылезла из грузовика.
В понедельник я искал ее в школе. Но так и не нашел. Я попросил Джину и Сьюзи о помощи. Они были хорошими детективами.
— Илеана ушла из школы, — сказала Джина.
— Почему?
— Просто ушла, и все, Ари.
— Она могла так просто уйти? Разве это не нарушение закона, или что-то типа того?
— Она старшеклассница, Ари. Ей восемнадцать. Она взрослая. Она может делать все, что хочет.
— Но она не знает, чего хочет.
Я нашел ее адрес. Номер ее отца был в справочнике. Я подошел к ее дому, и постучал в дверь.
— Да? — спросил ее отец?
— Я ищу Илеану.
— Что тебе от нее надо?
— Она мой друг. Из школы.
— Друг? — он закивал головой. — Слушай, парень, она выходит замуж.
— Что?
— Она залетела. И выходит замуж за этого парня.
Я не знал, что сказать. Так что, я просто промолчал.
Этой ночью я сидел в грузовике вместе с Легс. Я продолжал думать, что принял этот поцелуй близко к сердцу. Я пообещал себе, что поцелуи станут для меня обычным делом.
Поцелуи ничего не значат.
ТРИДЦАТЬ
Дорогой Ари,
Семь к одному. Это пропорция писем Данте к Ари. Просто, чтобы ты знал. Когда я вернусь, мы пойдем плавать, и я утоплю тебя. А потом я спасу тебя, сделав дыхание рот-в-рот. Как тебе эта идея? Как по мне, она отличная. Я не сильно тебя испугал?
По поводу поцелуев. Эта девочка, с которой я экспериментировал, я имею в виду в поцелуях, она отлично целуется. Она многому меня научила. Но недавно она сказала: «Данте, мне кажется, что, когда ты целуешь меня, ты думаешь о ком-то другом».
— Да, — сказал я. — Думаю, так и есть.
— Ты думаешь о другой девушке? Или о парне?
Мне пришло в голову, что это очень интересный вопрос.
— О парне, — ответил я.
— Я его знаю?
— Нет. Думаю, я просто придумываю парня в своей голове.
— Просто парня?
— Да, — сказал я. — Красивого парня.
— Что ж, — сказала она. — Настолько красивого как ты?
Я пожал плечами. Мне понравилось, что она считает меня красивым. Сейчас мы друзья. И это хорошо, потому что теперь я не чувствую себе обманщиком. И в любом случае, она призналась, что единственной причиной, по которой она меня целовала, было то, что она пыталась заставить ревновать другого парня. Это меня очень рассмешило. Она сказала, что это не сработало. «Скорее всего, он хотел бы поцеловать тебя, а не меня». В ответ я просто рассмеялся. Я не знал, о ком она говорит, но честно говоря, Ари, несмотря на то, что мне повезло подружиться с богатенькими детишками из Чикаго, которые могут позволить себе все что угодно, мне было с ними скучно. Такая компания не для меня.
Я хочу вернуться домой.
Я спросил родителей, можем ли мы вернуться домой прямо сейчас. Но мой папа, который может быть невероятным занудой, посмотрел мне в глаза, и сказал: «Я думал, ты ненавидел Эль Пасо? Разве не это ты сказал, когда мы туда переезжали? Ты сказал: «Лучше пристрели меня, пап».
Я знал, чего он добивался. Он хотел, чтобы я сказал, что был не прав. Так что, я посмотрел прямо в его глаза, и сказал:
— Я был неправ. Ну что, ты счастлив?
— Почему я должен быть счастлив? — спросил он, не скрывая усмешки.
— Ты счастлив, что я был не прав?
Он поцеловал меня в щеку, и сказал:
— Да, я счастлив, Данте.
Дело в том, что я люблю своего отца. И свою маму. И я часто думаю, как они отреагируют, если однажды я скажу им, что женюсь на парне. Мне интересно, что они скажут. Ведь я их единственный сын. И они захотят внуков. Мне не нравится, что я разочарую их, Ари. Я знаю, что и тебя разочаровал.
А еще я немного беспокоюсь, что мы больше не будем друзьями. Думаю, я должен с этим разобраться. Я ненавижу врать, Ари. И особенно я ненавижу врать родителям.
Думаю, я расскажу все папе. У меня есть небольшая речь. Она начинается примерно так: «Пап, я должен тебе кое-то рассказать. Мне нравятся парни. Не злись на меня. Пожалуйста, не злись. Ведь ты тоже парень». Мне надо еще поработать над этой речью. Она звучит слишком убого. А я не хочу быть убогим. Только потому, что я играю за другую команду, не означает что я ничтожное существо, которое умоляет, чтобы его любили. У меня есть самоуважение.
Да, я знаю, я только и делаю, что жалуюсь. Еще три недели, и я буду дома. Дом. Еще одно лето, Ари. Как думаешь, мы не сильно взрослые, чтобы играть на улице? Скорее всего. А может и нет. Слушай, я просто хочу, чтобы ты знал, что ты не обязан быть моим другом, когда я вернусь. Ведь я не образец идеального лучшего друга, не так ли?
Твой друг,
Данте
P.S. Будет очень странно, не дружить с парнем, который спас твою жизнь, не думаешь? Я опять нарушаю правила?
ТРИДЦАТЬ ОДИН
В последний день школы, Джина на самом деле сделала мне комплимент.
— Ты знаешь, все твои тренировки пошли тебе на пользу.
— Это самая милая вещь, что ты когда-либо говорила мне, — улыбнулся я.
— Так, как ты собираешься отпраздновать начало лета?
— Сегодня я работаю.
— Так по-взрослому, — улыбнулась она.
— А вы со Сьюзи идете на вечеринку?
— Ага.
— Разве вы не устаете от всех этих вечеринок?
— Не будь глупым. Мне семнадцать, идиот. Конечно же, я не устаю от вечеринок. Знаешь что, ты старик, застрявший в теле семнадцатилетнего парня.
— До августа мне все еще шестнадцать.
— Это даже хуже.
Мы оба рассмеялись.
— Хочешь сделать мне одолжение? — спросил я.
— Какое?
— Если сегодня я поеду в пустыню и напьюсь, вы со Сьюзи отвезете меня домой? — Я даже не знал, почему сказал это.
Она улыбнулась. У нее очень красивая улыбка. Очень.
— Конечно, — сказала она.
— А как же твоя вечеринка?
— Знаешь, смотреть как ты напиваешься — это тоже вечеринка. Мы даже купим тебе пиво, — сказала она. — Чтобы отпраздновать начало лета.
Джина и Сьюзи ждали возле моего крыльца, когда я вернулся с работы. Они разговаривали с моими родителями. Конечно же. Я отругал себя, за то, что сказал им ждать меня возле дома. О чем я вообще думал? У меня даже не было объяснения. Да мам, мы собираемся в пустыню, чтобы я напился в дерьмо.
Джина и Сьюзи держались хорошо. Никакого намека на пиво, которое они обещали купить. Перед моими родителями, они притворялись хорошими девочками. Не то чтобы они ими не были. Именно такими они и были: хорошими девочками, которые притворялись плохими. Но они никогда не станут плохими девочками, потому что они чересчур воспитанные.
Когда я подъехал, мама была восторженна. Не то, чтобы она вела себя восторженно. Но я знал этот взгляд. Наконец-то у тебя появились друзья! Ты идешь на вечеринку! Да, я действительно люблю свою маму. Мою маму. Маму, которая знает родителей Джины, знает родителей Сьюзи, знает всех. Конечно же.
Я помню, как переодевался своей спальне. Я помню, как рассматривал себя в зеркале. «Ты красивый парень». Я не верил в это, но очень хотел.
Джина и Сьюзи были первыми, кто сел в мой грузовик, не считая Легс и моих родителей.
— Ребята, вы врываетесь в мой девственный грузовик, — сказал я. В ответ они закатили глаза, а потом громко рассмеялись.
Мы остановились возле дома кузины Джины, чтобы забрать пиво и колу. Я позволил Джине сесть за руль, чтобы убедиться, что она умеет водить. Она была профессионалом. Она вела машину лучше меня. Но я ей этого не сказал. Это была идеальная ночь с прохладным пустынным ветерком. Но, несмотря на это, я чувствовал, что лето уже на пороге.
Я, Сьюзи и Джина уселись в прицепе моего грузовика. Я пил пиво и смотрел на звезды. А потом я прошептал:
— Как думаете, мы когда-нибудь узнаем все тайны Вселенной?
Я был удивлен, когда услышал голос Сьюзи.
— Было бы превосходно, не так ли, Ари?
— Ага, — прошептал я. — Превосходно.
— Ари, как думаешь, любовь связана с тайнами Вселенной?
— Не знаю. Возможно.
Сьюзи улыбнулась.
— А ты любил Илеану?
— Нет. Ну, может чуть-чуть.
— Она разбила твое сердце?
— Нет. Я даже не знал ее.
— Ты когда-нибудь был влюблен?
— А моя собака считается?
— Ну, в какой-то степени да.
Мы все рассмеялись.
Сьюзи пила колу, пока я выпивал пиво за пивом.
— Ты уже пьян?
— Вроде того.
— Так почему ты хотел напиться?
— Чтобы почувствовать хоть что-то.
— Ты идиот, — сказала она. — Ты хороший парень, Ари. Но ты определенно идиот.
Мы все легли в моем грузовике, и просто продолжали смотреть на ночное небо. На самом деле, я не был пьян. Я слушал разговор Джины и Сьюзи, и думал, как это классно, что они знают как говорить, смеяться и просто быть в этом мире. Возможно, для девочек это было проще.
— Хорошо, что вы прихватили покрывала, — сказал я. — Хорошо продумано.
— Так поступают девочки, думают, — рассмеялась Джина.
Я задумался, какого это любить девушку, знать, о чем она думает, посмотреть на мир ее глазами. Может, они знали больше чем парни. Может, они понимали вещи, которые не могли понять парни.
— Плохо, что мы не можем лежать здесь вечно.
— Плохо, — сказала Сьюзи.
— Да, плохо, — согласилась Джина.
Плохо.
Часть V: ПОМНИ ДОЖДЬ
Помни дождь, терпеливо переворачивающий страницы, в поисках смысла.
— У.С. Мервин
ОДИН
Снова наступило лето. Лето, лето, лето. Я его одновременно любил и ненавидел. Летом во мне всегда что-то пробуждалось. Это время свободы, молодости, путешествий, новых открытий и отсутствия школы. Лето — это книга надежды. Вот почему я любил и ненавидел лето. Потому что оно заставляло меня верить.
В моей голове играла песня Элис Купер.
Я решил, что это лето будет моим. Если лето — это книга, то я собираюсь написать в ней что-то красивое. Своим собственным почерком. Но я понятия не имел, что же мне написать.
Я начал работать в полную смену. Я еще никогда не работал сорок часов в неделю. Но мне правилось мое расписание: с одиннадцати утра до пол восьмого вечера, с понедельника по четверг. С таким графиком я всегда мог выспаться, и, если бы захотел, куда-либо сходить. Правда, я понятия не имел, куда мог бы сходить.
Моя жизнь все еще не принадлежала мне.
В первые выходные после окончания школы, я проснулся очень рано. Я вышел на кухню, чтобы выпить стакан апельсинового сока. На кухне сидела мама, читая утреннюю газету.
— Сегодня я работаю, — сказал я.
— Я думала, ты не работаешь по субботам?
— Майк попросил подменить его на несколько часов.
— Он твой друг?
— Не совсем.
— С твоей стороны очень благородно согласиться подменить его.
— Я делаю это не просто так, мне заплатят. И, в любом случае, ты учила меня быть благородным.
— Ты говоришь так, будто в этом есть что-то плохое.
— А что тут хорошего? Хочешь знать правду? Я хочу быть плохим.
— Плохим?
— Таким, как Джеймс Дин.
— И кто же тебя останавливает?
— Я смотрю на этого человека.
— Ага, обвиняй во всем свою мать, — рассмеялась она. — Знаешь, Ари, если бы ты действительно хотел быть плохим, ты бы таким и стал. Последнее, что делают плохие парни, это спрашивают разрешения у своей мамы.
— Ты думаешь, мне надо твое разрешение?
— Я не знаю, что должна на это ответить.
Мы посмотрели друг на друга. Я всегда старался избегать таких разговоров с мамой.
— А что, если я брошу работу?
— Хорошо, — спокойно ответила она.
Я знал этот тон. «Хорошо» означало, что у меня проблемы. Несколько секунд мы просто молча смотрели друг на друга. Это казалось мне целой вечностью.
— Ты слишком взрослый для карманных денег, — сказала она.
— А может я просто батист?
— У тебя очень богатое воображение.
— Что, звучит слишком по-мексикански?
— Нет. Просто слишком ненадежно.
— Переворачивать гамбургеры. Вот что надежно. Не очень креативно, но надежно. Подумай над этим, эта работа идеально подходит мне. Я надежный и не креативный.
Она покачала головой.
— Ты собираешься провести всю жизнь издеваясь над собой?
— Ты права. Возможно, я должен взять перерыв.
— Ты учишься в старшей школе, Ари. Ты не ищешь профессию. Ты просто ищешь способ заработать немного денег. Это просто переход во взрослую жизнь.
— Просто переход? Ну и какая из тебя мексиканская мама?
— Я образованная женщина. Это не делает меня не мексиканкой, Ари.
Она была немного разозленной. Я любил, когда она злилась, и надеялся, чтобы это случалось чаще. Ее гнев не был похож на мой или папин. Он не захватывал ее полностью.
— Ладно, я понял тебя, мам.
— Да?
— Почему-то, когда я рядом с тобой, я постоянно чувствую себя, будто я на уроке.
— Прости, — сказала она. Хотя я знал, что ей не было жаль. — Ари, ты знаешь, что такое экотон?
— Это место, где соприкасаются две разные экосистемы. В экотоне, ландшафт содержит элементы двух разных экосистем. Это как природная пограничная полоса.
— Умный мальчик. Переход. Я больше ничего не должна говорить, не так ли?
— Нет, не должна. Я живу в экотоне. Работа должна сосуществовать с удобством. Ответственность должна сосуществовать с безответственностью.
— Что-то вроде того.
— Я получил пятерку?
— Не злись на меня, Ари.
— Я не злюсь.
— Злишься.
— Ты типичный учитель.
— Слушай, Ари, я не виновата, что тебе почти семнадцать.
— Когда мне будет двадцать пять, ты все еще будешь учителем.
— Это было грубо.
— Прости.
Она учила меня.
— Правда, прости, мама.
— Мы каждое лето начинаем с ссоры, разве не так?
— Это традиция, — ответил я. — Я иду на пробежку.
Когда я уже повернулся, чтобы уйти, она схватила меня за руку.
— Послушай, Ари, мне тоже жаль.
— Все в порядке, мам.
— Я знаю тебя, Ари, — сказала она.
Я хотел сказать ей то же, что хотел сказать Джине Наварро. Никто не знает меня.
А потом она сделала то, чего я и ожидал — провела рукой по моим волосам.
— Ты не должен работать, если не хочешь. Мы с папой можем давать тебе деньги.
Я знал, что она имела в виду именно то, что сказала.
Но я этого не хотел. Я не знал, чего я хотел.
— Дело не в деньгах, мама.
Она ничего не ответила.
— Просто проведи это лето хорошо.
То, как она сказала это. То, как она на меня посмотрела. Иногда, в ее голосе было столько любви, что я просто не мог этого выдержать.
— Хорошо, — сказал я. — Возможно, я даже влюблюсь.
— А почему бы и нет? — спросила она.
Иногда родители любят своих сыновей настолько сильно, что делают из их жизни роман. Они думают, что наша молодость может помочь нам перетерпеть все на свете. Возможно, мамы и папы просто забывают об одном маленьком факте: быть на грани семнадцатилетия может быть очень болезненным и грубым временем. Быть на грани семнадцатилетия — это ужасное чувство.
ДВА
То, что мы с Легс наткнулись на дом Данте, было не совсем случайностью. Я знал, что он должен вернуться, но не знал, когда. В день, когда он покидал Чикаго, я получил открытку: Сегодня мы возвращаемся домой. Но сначала мы заедем в Вашингтон. У моего папы там какие-то дела. Увидимся скоро. С любовью, Данте.
Когда я пришел в парк, я отвязал Легс, хотя не должен был. Мне нравилось смотреть, как она бегает. Мне нравилась эта невинность собак, чистота их любви. Они не знали достаточно, чтобы скрывать свои чувства. Они просто существовали. Собака была собакой. В том, чтобы быть собакой есть что-то изящное, и я этому завидовал. Я подозвал ее, надел ошейник, и мы побежали назад.
Я развернулся и прошел к его дому. Там стоял Данте. На некоторое время, мы просто замерли и смотрели друг на друга. Было странно, что у нас не было слов. Потом он спрыгнул с крыльца и обнял меня.
— Ари! Посмотри на себя! Длинные волосы! Ты похож на Че Гуевара, только без усов.
— Мило, — сказал я.
Легс залаяла на него.
— Ты должен ее приласкать, — сказал я. — Она ненавидит, когда ее игнорируют.
Данте опустился на колени, и погладил ее. А потом поцеловал. Легс облизала его лицо. Было трудно сказать, кто из них был нежнее.
— Легс, Легс, рад встречи с тобой, — Данте выглядел таким счастливым, и мне стало интересно, сколько же в нем может уместится счастья. Откуда оно взялось? Внутри меня тоже есть счастье? Я просто боялся выпустить его?
— Откуда взялись все эти мышцы, Ари?
Я посмотрел на него, стоящего передо мной, и бросающего в меня кучу вопросов.
— Старые штанги моего отца в подвале, — сказал я. А затем я понял, что теперь он выше меня. — Как ты так вырос?
— Должно быть холод. Теперь у меня с папой одинаковый рост. — Он начал рассматривать меня. — Ты низкий, но из-за стрижки кажешься выше.
Не знаю почему, но я рассмеялся. Он снова обнял меня, и прошептал: «Я так за тобой скучал, Ари Мендоза».
Я не знал, что должен сказать в таком случае, так что просто промолчал.
— Мы будем друзьями?
— Не дури, Данте. Мы и так друзья.
— Будем ли мы друзьями всегда?
— Всегда.
— Я никогда не солгу тебе, — сказал он.
— А я могу солгать, — сказал я. Моя фраза рассмешила нас обоих. И я подумал, что возможно, этим летом будет ничего кроме смеха и веселья. Может, это будет мое лето.
— Иди, поздоровайся с мамой и папой, — сказал он. — Они хотели увидеть тебя.
— Они могут выйти к нам? У меня Легс.
— Легс тоже может зайти.
— Не думаю, что твоей маме это понравится.
— Если это твоя собака, то она может зайти. Поверь мне. — Он понизил голос до шепота. — Мама никогда не забудет тот несчастный случай под дождем.
— Это древняя история.
— Когда дело касается памяти, моя мама — слон.
Но мы так и не проверили, разрешила бы его мама впустить собаку, потому что мистер Кинтана уже стоял возле двери, и когда он заметил меня, то тут же позвал свою жену.
— Соледад, угадай, кто здесь?
И они напали на меня. Они обнимали меня, и говорили такие приятные вещи, что мне захотелось плакать. Их привязанность была такой настоящей, и почему-то я чувствовал, что не заслуживаю этого. Мне казалось, что они обнимают меня только потому что я спас их сына. Но я хотел, чтобы меня обнимали только за то, что я был Ари. Но я никогда не буду просто Ари для них. К счастью, я научился скрывать свои чувства. Нет, это не так. Я этому не учился. Я был рожден, умея скрывать свои чувства.
Они были так рады видеть меня. И правда в том, что я тоже был рад видеть их.
Я помню, как сказал мистеру Кинтана, что работаю в «Угле». Он повернулся к Данте, и улыбнулся:
— Работа, Данте, это отличная идея.
— Я собираюсь найти работу, пап. Правда.
Миссис Кинтана выглядела по-другому. Такое чувство, что в ней было много света. Я еще никогда не видел настолько красивую женщину. Она выглядела намного моложе, чем в последний раз. Моложе, не старше. Не то, чтобы она была старой. Она родила Данте в двадцать. Так что, ей было около тридцати восьми. Но в утреннем свете, она выглядела намного моложе. Возможно, все дело было в утреннем свете.
Я услышал голос Данте, когда его родители рассказывали о Чикаго.
— Когда ты покатаешь меня в своем грузовике?
— Как насчет вечера? — сказал я. — Моя смена заканчивается в пол восьмого.
— Ты должен научить меня водить, Ари.
Лицо его мамы исказилось.
— Разве не отцы должны делать это? — спросил я.
— Мой папа — худший водитель во вселенной.
— Это не правда, — сказал мистер Кинтана. — Просто худший водитель в Эль Пасо. — Он был единственным мужчиной, который действительно признавал, что плохо водит машину. — Я знаю, что рано или поздно ты позволишь Данте сесть за руль.
— Нет, — сказал я.
— Данте очень убедительный. Просто пообещайте, что будете осторожны.
— Обещаю, — улыбнулся я его маме. Что-то в ней делало меня уверенным и спокойным. Я не чувствовал себя так со многими людьми. — Мне кажется, что этим летом мне придется справляться с двумя мамами.
— Ты член этой семьи, — сказала она. — Нет смысла бороться с этим.
— Я уверен, что однажды разочарую вас, миссис Кинтана.
— Нет, — сказала она. И несмотря на то, что ее голос всегда твердый, в тот момент он был очень мягок. — Ты слишком строг к себе, Ари.
Я пожал плечами.
— Может я такой сам по себе.
— Данте не единственный, кто скучал по тебе, — улыбнулась она.
Это была самая прекрасная вещь, которую мне когда-либо говорили взрослые, не считая родителей. Я знал, что во мне было что-то, что миссис Кинтана видела и любила. И несмотря на то, что мне казалось, что это самая прекрасная вещь, это очень на меня давило. Но для меня любовь всегда была тяжелой. Она была чем-то, что мне приходилось переносить.
ТРИ
Мы с Легс подобрали Данте около восьми часов. Солнце все еще светило, но оно быстро садилось и было жарко. Я посигналил и Данте тут же оказался возле двери.
— Это твой грузовик! Невероятно! Он превосходный, Ари.
Да, я это знал. Должно быть, на моем лице появилась глупая ухмылка. Парень, который обожает свой грузовик, нуждается в том, чтобы другие люди одобряли его машину. Да. Вот в чем правда. Не знаю почему, но все парни с грузовиками такие.
— Мам! Пап! Посмотрите на грузовик Ари! — крикнул он в сторону дома. Он спрыгнул со ступенек прям как маленький ребенок. Всегда такой открытый. Мы с Легс вылезли из грузовика, и наблюдали, как Данте ходит вокруг него и одобрительно кивает.
— Ни царапинки, — сказал он.
— Это потому, что я не езжу на нем в школу.
— И желтая краска, — улыбнулся Данте. — Ты настоящий мексиканец.
Я рассмеялся.
— Так же, как и ты, придурок.
— Неа, я никогда не буду настоящим мексиканцем.
Почему для него это было так важно? Но для меня это тоже было важно. Он собирался что-то сказать, но заметил родителей, выходящих из дома.
— Отличный грузовик, Ари! Классика.
Мистер Кинтана отреагировал прямо как Данте, с неподдельным энтузиазмом.
Миссис Кинтана просто улыбнулась. Они обошли вокруг грузовика, внимательно осматривая, и улыбаясь ему, будто встретили старого друга.
— Прекрасный грузовик, Ари.
Я не ожидал услышать это из уст миссис Кинтана. Данте уже переключил свое внимание на Легс, которая облизывала его лицо. Не знаю, чем я руководствовался, но я протянул ключи мистеру Кинтана.
— Если хотите, вы можете прокатить свою девушку, — сказал я.
В его улыбке не было никакого колебания. А миссис Кинтана со всех сил старалась удержать девочку, которая все еще жила в ней. Но даже без улыбки ее мужа, то, что она держала в себе, казалось мне очень глубоким. У меня появилось такое чувство, что я понимаю маму Данте. И это много значило. Мне стало интересно почему.
Мне нравилось наблюдать за ними. За всеми троими. Я хотел, чтобы время остановилось, потому что все казалось таким простым: Данте и Легс влюбляются друг в друга, родители Данте вспоминают что-то из своей молодости, осматривая мой грузовик, а я являюсь гордым хозяином. Мне было чем дорожить, даже если это был всего лишь грузовик, который пробуждал в людях ностальгию. Мои глаза будто бы были камерой, и я фотографировал моменты, зная, что сохраню эти фотографии на всю жизнь.
Мы с Данте сели на ступеньки и наблюдали за его родителями.
— Купи ей молочный коктейль! — крикнул Данте. — Девушкам нравится, когда им что-то покупают!
Когда они отъезжали, мы увидели, что они смеются.
— Твои родители, — сказал я. — Иногда они ведут себя прям как дети.
— Они счастливы, — ответил он. — А твои родители? Они счастливы?
— Мои родители не похожи на твоих. Но моя мама обожает папу. Я это знаю. И думаю, что мой папа тоже обожает маму. Просто он не любит демонстрировать свои чувства.
— Демонстрировать. Это совсем не твое слово.
— Не смейся. Я расширяю свой словарный запас, — я легонько толкнул его. — Я готовлюсь к колледжу.
— Как много новых слов в день?
— Знаешь, несколько. Старые слова мне нравится больше. Они как старые друзья.
Данте толкнул меня в ответ.
— Демонстрирует. Будет ли это слово старым другом?
— Скорее всего нет.
— Ты прям как твой отец, не так ли?
— Да, думаю, так и есть.
— Знаешь, моя мама тоже с этим борется. Она не любит показывать свои чувства. Вот почему она вышла замуж за отца. Я так думаю. Он вытягивает наружу все ее чувства.
— Тогда, они подходят друг другу.
— Да. Но самое смешное в том, что иногда мне кажется, что мама любит папу больше, чем он ее. В этом есть какой-то смысл?
— Да, думаю есть. Возможно, их любовь соперничает?
— И что это значит?
— Может все любят по-разному. Может, именно в этом дело.
— Ты понимаешь, что ты говоришь? Я имею в виду, ты действительно говоришь.
— Я говорю, Данте. Не будь придурком.
— Иногда ты говоришь. А иногда ты просто, я не знаю, ты просто избегаешь всего.
— Я справляюсь так, как могу.
— Я знаю. Будут ли у нас новые правила, Ари?
— Правила?
— Ты знаешь, о чем я.
— Да, думаю я знаю.
— Итак, какие правила?
— Я не целуюсь с парнями.
— Ладно, значит первое правило: Никаких попыток поцеловать Ари.
— Да, именно так.
— А у меня есть правило для тебя.
— Хорошо, это справедливо.
— Не убегать от Данте.
— И что это значит?
— Думаю, ты сам это понимаешь. Однажды, кто-то подойдет к тебе, и скажет: «Почему ты проводишь время с этим чудаком?» И если не сможешь назвать меня своим другом… Если ты не сделаешь этого, то это просто… Это убьет меня. Ты же это знаешь…
— Это вопрос верности.
— Да.
— Ну, мне приходится следовать более сложным правилам, — рассмеялся я.
Данте тоже рассмеялся.
Он дотронулся до моего плеча, и улыбнулся.
— Бред, Ари. Тебе приходится следовать более сложным правилам? Полный бред. Бред. Все, что тебе нужно, так это быть верным самому замечательному парню, которого ты когда-либо встречал. Это просто. Прям как ходить босиком по парку. А мне придется воздержаться от поцелуев с самым лучшим парнем во Вселенной. А это можно сравнить с ходьбой босиком по раскаленным углям.
— Вижу, ты все еще помешан на ходьбе босиком.
— Я никогда не полюблю обувь.
— Нам надо сыграть в игру, — сказал я. — В игру, которую ты придумал, чтобы избавиться от кроссовок.
— Было весело, не так ли?
То, как он сказал это. Будто он знал, что мы больше никогда не сыграем в это игру. Теперь мы были слишком взрослыми. Мы что-то потеряли, и оба это понимаем.
Очень долго мы не проронили ни слова.
Мы просто сидели на ступеньках. Ждали. Я поднял голову, и увидел, что Легс легла возле Данте.
ЧЕТЫРЕ
Этой ночью я, Данте и Легс поехали в пустыню. В мое любимое место. На улице только начинало темнеть, и звезды появлялись оттуда, где бы они ни прятались на протяжении дня.
— В следующий раз, возьмем мой телескоп.
— Хорошая идея, — сказал я.
Мы улеглись в моем грузовике и начали смотреть на небо. Легс побежала исследовать пустыню, так что мне пришлось позвать ее назад. Она запрыгнула в грузовик, и улеглась между мной и Данте.
— Я люблю Легс, — сказал Данте.
— Она тоже тебя любит.
— Видишь Большую Медведицу? — Данте указал на небо.
— Нет.
— Она прямо тут.
Я начал изучать небо.
— Да. Да, теперь я ее вижу.
— Это невероятно.
— Да, так и есть.
Мы молчали, и просто лежали, рассматривая небо.
— Ари?
— Да?
— Знаешь, что?
— Что?
— Моя мама беременна.
— Что?
— У моей мамы будет ребенок. Ты можешь в это поверить?
— Ни за что.
— В Чикаго было холодно, и мои родители нашли способ согреться.
От этой фразы я рассмеялся.
— Как думаешь, родители когда-нибудь перерастут секс?
— Не знаю. Не думаю, что это вообще можно перерасти. Единственное, что я знаю, так это то, что хочу дорасти до этого.
— И я,
Мы снова затихли.
— Вау, Данте, — прошептал я. — Ты будешь старшим братом.
— Ага, — он посмотрел на меня. — Это пробуждает в тебе воспоминания о… Как зовут твоего брата?
— Бернардо.
— Это пробуждает в тебе воспоминания о Бернардо?
— Все на свете пробуждает во мне воспоминания о нем. Иногда, когда я еду в пикапе, я думаю о нем и о том, нравятся ли ему пикапы. Я гадаю о том, какой он. Я хочу знать его. Я даже не знаю, почему это так важно, ведь я ни разу не встречал его.
— Если это важно, значит это важно.
Я ничего не сказал.
— Ты закатываешь глаза?
— Ага.
— Думаю, ты должен поговорить с родителями. Ты должен заставить их рассказать тебе все. Заставить их быть взрослыми.
— Ты не можешь заставить кого-то быть взрослым. Особенно взрослых.
Это рассмешило Данте, и мы начали смеяться так громко, что Легс залаяла на нас.
— Знаешь, — сказал Данте. — Я должен последовать собственному совету. — Он остановился. — Я молюсь, чтобы у моей мамы родился мальчик. И чтобы ему нравились девочки. Потому что, если это будет не так, я убью его.
Мы снова рассмеялись. А Легс снова начала лаять.
Когда мы наконец-то смогли успокоится, я услышал тихий голос Данте.
— Я должен рассказать им, Ари.
— Почему?
— Потому что должен.
— А что если ты влюбишься в девушку?
— Этого не произойдет, Ари.
— Но ты всегда нравишься девчонкам.
Он ничего не ответил. А потом я услышал его плач. И я просто позволил ему выплакаться. Я ничего не мог сделать. Кроме как выслушать его боль. Это я мог. Я едва ли мог терпеть это. Но я мог. Просто выслушать его боль.
— Данте, — прошептал я. — Ты видишь, как сильно они тебя любят?
— Я разочарую их. Точно так же, как я разочаровал тебя.
— Ты не разочаровал меня, Данте.
— Ты говоришь это только потому, что я плачу.
— Нет, Данте, — я поднялся и сел на край откидного борта грузовика. Он тоже поднялся, и наши глаза оказались друг на против друга. — Не плачь, Данте. Я не разочарован.
По пути назад, мы остановились в закусочной на выезд и купили пива.
— Итак, чем ты собираешься заняться этим летом? — спросил я.
— Ну, я собираюсь потренироваться со сборной по плаванию Кафедрального собора, нарисовать несколько картин и найти работу.
— Серьезно? Ты собираешься работать?
— Боже, ты говоришь прям как мой отец.
— И зачем тебе работать?
— Чтобы узнать настоящую жизнь.
— Жизнь, — сказал я. — Работа. Дерьмо. Экотон.
— Экотон?
ПЯТЬ
Однажды вечером мы с Данте сидели в его комнате. Он заканчивал работать над своей картиной. Холст стоял на большом мольберте, который все закрывал.
— Я могу посмотреть?
— Нет.
— А когда ты закончишь?
— Тогда можешь.
— Ладно, — сказал я.
Он лежал на кровати, а я сидел в его кресле.
— Прочитал какие-нибудь хорошие книги за последнее время? — спросил я.
— Нет, не совсем, — он казался немного отвлеченным.
— Где ты, Данте?
— Здесь, — сказал он. Он сел на кровать. — Я думал о поцелуях.
— Оу, — только и ответил я.
— Я имею в виду, откуда ты знаешь, что тебе не нравится целовать парней, если ты даже не пробовал?
— Думаю, ты просто знаешь.
— Так ты никогда не целовал парней?
— Ты же знаешь, что нет. А ты?
— Нет.
— Что ж, может тебе и не нравится целовать парней. Может, ты просто думаешь, что это так.
— Думаю, мы должны провести эксперимент.
— Я знаю, что ты собираешься сказать, и мой ответ — нет.
— Ты мой лучший друг, так?
— Да. Но в данный момент я жалею об этом.
— Давай просто попробуем.
— Нет.
— Я никому не скажу. Давай.
— Нет.
— Послушай, всего один поцелуй. Понимаешь. Просто, чтобы мы оба знали.
— Мы уже знаем.
— Мы не можем знать наверняка, пока не попробуем.
— Нет.
— Ари, пожалуйста.
— Данте.
— Встань.
Не знаю, почему я сделал это, но я сделал. Я встал.
А затем он встал прямо напротив меня.
— Закрой глаза, — скомандовал он.
И я закрыл глаза.
И он поцеловал меня. А я поцеловал его в ответ.
А потом он начал по-настоящему целовать меня. И я отпрянул.
— Ну? — спросил он.
— Не сработало со мной, — сказал я.
— Ничего?
— Неа.
— Ладно. Но это определенно сработало со мной.
— Ага. Думаю, я понял это, Данте.
— Итак, вот и все, да?
— Ага.
— Ты злишься на меня?
— Немного.
Он снова сел на кровать. Он выглядел грустным. И мне это не нравилось.
— Я больше злюсь на себя, — сказал я. — Я всегда позволяю тебя втягивать меня во что-либо. Это не твоя вина.
— Да, — прошептал он.
— Не плачь, ладно?
— Ладно.
— Ты плачешь.
— Нет.
— Ладно.
— Ладно.
ШЕСТЬ
Я не звонил Данте уже несколько дней.
И он тоже мне не звонил.
Но почему-то я знал, что он сердится. Ему было плохо. И мне тоже было плохо. Поэтому, спустя несколько дней, я все же ему позвонил.
— Не хочешь отправиться на пробежку? — спросил я.
— Во сколько? — ответил Данте.
— В пол седьмого.
— Ладно.
Для того, кто никогда не бегает, он бегал очень даже хорошо. Я бежал намного медленнее, и отставал. Мы немного поговорили. И посмеялись. А после всего этого, мы начали играть в фрисби с Легс в парке. У нас снова все было хорошо. Я в этом нуждался. Также, как и он.
— Спасибо, что позвонил, — сказал Данте. — Я думал, что ты больше никогда не позвонишь.
На несколько мгновений моя жизнь казалась подозрительно обычной. Не то, чтобы я хотел обычное лето. Но я не был против. Думаю, я мог бы к этому привыкнуть. По утрам я ходил на пробежки и тренировался. А потом шел на работу.
Иногда мне звонил Данте, и мы разговаривали обо всем на свете. Он работал над своими картинами, и устроился в аптеку Керн Плэйс. Он сказал, что ему нравится там работать, потому что когда у него был перевод, он мог пойти в университетскую библиотеку. В том, что ты сын профессора есть свои плюсы. А еще он сказал:
— Ты не поверишь, кто покупает презервативы.
Я не знаю, сказал ли он это, чтобы рассмешить меня. Но это сработало.
— А еще мама учит меня водить, — продолжал он. — Конечно, в основном мы просто ругаемся.
— Можешь взять мой пикап, — сказал я.
— Это худший кошмар моей мамы.
Мы снова рассмеялись. Какое же это замечательное чувство. Если бы не смех Данте, это лето было бы просто ужасным. Мы часто разговаривали по телефону, но почти не виделись первые недели лета.
Он был занят. Я был занят.
Хотя я думаю, что в основном мы были заняты тем, что игнорировали друг друга. Несмотря на то, что мы не хотели делать из этого поцелуя что-то серьезное, у нас этого не вышло. Понадобилось немало времени, что призрак поцелуя наконец-то исчез.
Одним утром, когда я вернулся с пробежки, мамы не было дома. Она оставила записку, в которой говорилось, что она собирается помогать переорганизовывать еду для бездомных.
«Когда ты приступишь к своей субботней смене? Ты обещал».
Не знаю почему, но я решил позвонить Данте.
— Я вызвался помогать с организацией еды для бездомных по субботам. Не хочешь присоединиться?
— Конечно. Что мы должны делать?
— Уверен, что моя мама нам все объяснит, — сказал я.
Я был рад, что он спросил. Я скучал по нему. А сейчас, когда он приехал, я скучаю по нему еще больше, чем раньше.
Я не знаю почему.
Я принял душ и посмотрел на время. У меня было еще несколько минут. Сам того не осознавая, я открыл выдвижной ящик в спальне для гостей, и достал конверт с надписью БЕРНАРДО. Я очень хотел его открыть. Возможно, когда я посмотрю, что там находится, я наконец-то разберусь со своей жизнью.
Но я просто не мог. Поэтому я бросил его назад.
Весь оставшийся день я думал о своем брате. Хотя я даже не помню, как он выглядел. Из-за этих мыслей я не мог сосредоточиться на работе, и поэтому портил заказ за заказом. В итоге, ко мне подошел менеджер, и приказал сосредоточится.
— Я не плачу тебе за то, что ты был красивым.
В моей голове проскользнуло несколько ругательств, но я сдержал себя, и просто промолчал.
После работы я подъехал к дому Данте.
— Хочешь напиться? — спросил я.
Он внимательно осмотрел меня, но согласился. К счастью, у него хватило вежливости не спрашивать, что случилось.
Когда я вернулся домой, то сразу отправился в душ, чтобы смыть с себя запах жареной картошки и грибов. Дом был необычно тихим. Я нашел папу, сидящем в кресле и читающим.
— Где мама?
— Она в Тусоне, навещает тетю Офелию вместе с твоими сестрами.
— Точно. Я совсем забыл.
— Так что, мы остались вдвоем.
— Звучит весело, — согласился я.
Я был уверен, что папа изучает мое лицо.
— Ари, что-то случилось?
— Нет. Я иду гулять. Мы с Данте собираемся прокатится.
Он кивнул, все еще не сводя с меня взгляда.
— Та изменился, Данте.
— Каким образом?
— Ты стал раздраженным.
Был бы я смелее, то сказал бы: Раздраженным? Почему я должен быть раздраженным? Ты что-то знаешь, пап? На самом деле, мне все равно, что ты ничего не рассказываешь мне о Вьетнаме. Несмотря на то, что я прекрасно понимаю, что часть войны всегда будет в тебе, мне все равно, если ты не хочешь поделиться этим со мной. Но мне не все равно, что ты не хочешь говорить о моем брате. К черту, папа, я больше не могу жить с твоей тишиной.
А он бы ответил: Вся эта тишина спасла меня, Ари. Разве ты этого не знаешь? И почему ты так помешан на своем брате?
Но я бы добавил: Помешан? Знаешь, чему я научился от вас с мамой? Я научился молчать. Я научился хранить все свои чувства глубоко внутри. И я ненавижу вас за это!
— Ари?
Я знал, что еще чуть-чуть, и я расплачусь. И я знал, что он это видит. Я ненавижу показывать отцу свою грусть.
— Ари, — он дотронулся до моего плеча.
— Не трогай меня. Просто не трогай меня.
Я не помню, как доехал к Данте. Единственное, что я помню, это то, как я сел за руль, а через секунду я уже парковался возле его дома.
Его родители сидели на ступеньках возле входа, и помахали мне, как только заметили. А потом он оказали прямо возле моего пикапа, и я услышал голос мистера Кинтана:
— Ари, ты плачешь.
— Ага, это случается иногда, — сказал я.
— Ты должен зайти в дом, — сказала миссис Кинтана.
— Нет.
А потом к нам подошел Данте. Он улыбнулся сначала мне, а потом своим родителям.
— Поехали, — сказал он.
Его родители не задавали никаких вопросов.
Я просто поехал. Я мог бы ездить часами. Даже не знаю, каким образом я нашел мое любимое место в пустыне. Было такое чувство, будто в моей голове есть компас. Одной из тайн Вселенной было то, что наши инстинкты были намного сильнее разума. Как только я припарковал грузовик, то сразу же вылез, громко хлопая дверцей.
— Черт! Я забыл про пиво.
— Нам не нужно пиво, — прошептал Данте.
— Нет, нам нужно пиво! Нам нужно это чертово пиво, Данте! — я не знаю, почему я кричал. Мой крик превратился в рыдание, я обнял Данте, и позволил себе выплакаться.
Он просто обнимал меня, и ничего не говорил.
Еще одна тайна Вселенной: Иногда боль бывает, как шторм, который появляется из неоткуда. Самое ясное летнее утро может закончится ливнем. Может закончится молнией и громом.
СЕМЬ
Было странно, что мамы не было рядом.
Я не привык делать кофе.
Папа оставил записку. Ты в порядке?
Да, пап.
Я был рад, что Легс начала лаять, и нарушила эту гробовую тишину, стоявшую в доме. Это был ее способ напомнить, что мне пора на пробежку.
Этим утром мы с Легс бежали быстрее. Я старался не о чем не думать, когда бегаю, но сегодня у меня этого не вышло. Я думал об отце, брате и Данте. Я всегда думал о Данте, всегда старался разгадать его, всегда интересовался, почему мы стали друзьями, и почему это было так важно. Не только для меня, но и для него. Я не люблю думать о людях, особенно когда они были загадкой, которую я не мог разгадать. Я переключил свои мысли на тетю Офелию в Тосоне. Мне стало интересно, почему я никогда не навещал ее. Я любил ее. Она жила одна, и я мог навещать ее хотя бы изредка. Но я этого не делал. Иногда я звонил ей. Она всегда заставляла меня чувствовать себя любимым. Интересно, как ей это удавалось.
После душа я подошел к зеркалу и начал рассматривать свое тело. Я изучал его. Так странно — иметь тело. Иногда я чувствовал себя так. Странно. Я вспомнил, что однажды сказала мне моя тетя. «Тело — это прекрасная вещь». Никто из взрослых не говорил мне такого. И мне стало интересно, буду ли я хоть когда-либо чувствовать, что мое тело красивое. Моя тетя Офелия разгадала несколько из многочисленных тай Вселенной. А мне кажется, что я до сих пор не разгадал не одной из них.
Я даже не разгадал тайну моего собственного тела.
ВОСЕМЬ
Перед работой я заехал в аптеку, в которой работал Данте. Думаю, я просто хотел убедиться, что у него действительно есть работа. Когда я вошел в аптеку, он стоял за прилавком, раскладывая сигареты по полкам.
— На тебе есть обувь? — спросил я.
Он улыбнулся. Тут я заметил его бейдж. На нем было написано «Данте К.»
— Я как раз думал о тебе, — сказал он.
— Правда?
— Недавно сюда заходили какие-то девочки.
— Девочки?
— Они знали тебя. Мы немного поговорили.
Для того, чтобы догадаться, что это были за девочки, много думать не пришлось.
— Джина и Сьюзи, — сказал я.
— Ага. Они милые. И красивые. Они ходят с тобой в школу.
— Да, они милые и красивые. А еще напористые.
— Они посмотрели на мой бейдж. А потом друг на друга. А потом одна из них спросила, знаю ли я тебя. Этот вопрос показался мне очень забавным.
— И что ты им сказал?
— Я сказал, что знаю тебя, и что ты мой лучший друг.
— Ты правда так сказал?
— Ты мой лучший друг.
— Они спрашивали что-нибудь еще?
— Да. Они спросили, знаю ли я что-либо о несчастном случае, и о том, как ты сломал ногу.
— Поверить не могу. Поверить не могу!
— Что?
— Ты рассказал им?
— Конечно же, я рассказал.
— Рассказал?
— Почему ты злишься?
— Ты рассказал им о том, что произошло?
— Конечно я рассказал.
— Ты нарушил правило, Данте.
— Ты злишься? Ты злишься на меня?
— Правило гласило, что ты не можешь говорить о несчастном случае.
— Не правда. Правило гласило, что я не могу говорить о несчастном случае с тобой. На других это правило не распространяется.
За моей спиной появилась чья-то тень.
— Я должен вернуться к работе, — сказал Данте.
Позже, этим же днем, Данте позвонил мне на работу:
— Почему ты злишься?
— Я просто не хочу, чтобы другие люди знали эту историю.
— Я не понимаю тебя, Ари. — Данте бросил трубку.
Я знал, что это произойдет. Так и случилось. Джина и Сьюзи появились в закусочной прямо перед закрытием.
— Ты говорил нам правду, — сказала Джина.
— И что?
— И что? Ты спас жизнь Данте.
— Джина, давай не будет об этом говорить.
— Ты расстроен?
— Я не люблю об этом говорить.
— Почему, Ари? Ты герой, — сказала Сьюзи Берд очень странным голосом.
— И как мы могли не знать о твоем лучшем друге? — спросила Джина.
— Да, как же так получилось?
Я посмотрел на них.
— Он такой милый. Я бы тоже ради него бросилась под машину.
— Заткнись, Джина, — сказал я.
— Почему ты держал его в секрете?
— Он не секрет. Он просто ходит в Кафедральный собор.
— Кафедральные мальчики такие милые, — на лице Сьюзи появилось это глупое выражение лица.
— Кафедральный мальчики отстой, — сказал я.
— Итак, когда ты нас познакомишь поближе?
— Никогда.
— Ох, значит, ты хочешь, чтобы он был только твоим.
— Угомонись, Джина. Ты выводишь меня из себя.
— Ты очень чувствительный. Ты это знаешь, Ари?
— Иди к черту, Джина.
— Ты и впрямь не хочешь, чтобы мы с ним подружились, правда?
— Мне все равно. Вы знаете, где он работает. Кто вам мешает с ним подружиться? Может, хоть тогда, вы наконец-то оставите меня в покое.
ДЕВЯТЬ
— Не понимаю, почему ты так расстроен.
— Зачем ты рассказала обо всем Джине и Сьюзи?
— Что с тобой, Ари?
— Мы договорились не говорить об этом.
— Я тебя не понимаю.
— Я сам себя не понимаю.
Я поднялся со ступенек на его крыльце, где мы сидели.
— Мне надо идти.
Я посмотрел на улицу через дорогу, и на меня нахлынули воспоминания, как Данте бежал за двумя мальчиками, которые стреляли в птицу.
Я открыл дверцу грузовика и забрался внутрь, громко хлопая дверью. Данте стоял напротив меня.
— Ты бы хотел не спасать мою жизнь? Ты бы хотел, чтобы я умер?
Он стоял перед грузовиком, смотря прямо мне в глаза.
Но я не смотрел на него. Я завел грузовик.
— Ты самый загадочный парень во Вселенной.
— Ага, — сказал я. — Думаю, ты прав.
Мы с папой ужинали в абсолютной тишине. Я дал немного еды из своей тарелки Легс.
— Мама не одобрила бы это.
— Нет, не одобрила бы.
Мы неловко улыбнулись друг другу.
— Я собираюсь в боулинг. Присоединишься?
— Боулинг?
— Да. Мы с Сэмом идем в боулинг.
— Ты идешь в боулинг с отцом Данте?
— Ага. Он пригласил меня. Думаю, это хорошая идея. Вы с Данте присоединитесь к нам?
— Не знаю, — сказал я.
— Вы поссорились?
— Нет.
Я позвонил Данте.
— Сегодня наши отцы идут в боулинг.
— Я знаю.
— Папа хочет знать, присоединимся ли мы к ним.
— Скажи ему, что нет, — ответил Данте.
— Ладно.
— У меня есть идея получше.
Мистер Кинтана заехал за моим папой. Я подумал, что это очень странно. Я даже не знаю, что папа умеет играть в боулинг.
— Это мальчишник, — сказал мистер Кинтана.
— Не пейте, если вы будете за рулем, — пошутил я.
— Данте плохо на тебя влияет, — сказал он. — Что случилось с этим почтительным молодым человеком?
— Он все еще здесь, — сказал я. — Я ведь не называю вас Сэмом, так?
Папа стрельнул в меня взглядом.
— Пока, — сказал я.
Я смотрел им вслед, когда они отъезжали. Потом я посмотрел на Легс, и сказал: «Пошли». Она залезла в грузовик, и мы поехали к Данте. Он сидел на крыльце и разговаривал с мамой. Я помахал. Мы с Легс вылезли из пикапа. Я подошел к ступенькам и поцеловал миссис Кинтана. Последний раз, когда я видел ее, я поздоровался и пожал ее руку. Я чувствовал себя очень глупо.
— Нет ничего плохого в поцелуе в щеку, Ари, — сказала она. Так что, теперь это наше новое приветствие.
Солнце уже садилось. И даже не смотря, что день выдался очень жарким, небо затянулось облаками и появился прохладный ветерок. Казалось, что сейчас пойдет дождь. Когда я смотрел на развивающиеся волосы миссис Кинтана, я вспоминал маму.
— Данте составляет список имен для своего братика.
— А что, если родится девочка? — спросил я у Данте.
— Это будет мальчик, — в его голосе не было ни капли сомнения. — Мне нравится имя Диего. Или Джокуин. Или Явьер. Рафаэль. А еще мне нравится имя Максимилиано.
— Эти имена звучат очень по-мексикански, — сказал я.
— Да, я стараюсь воздержаться от застарелых классических имен. И, кроме того, если у него будет мексиканское имя, возможно, он будет чувствовать себя настоящим мексиканцем.
Выражения лица его мамы говорило о том, что они обсуждали этот вопрос уже много раз.
— А что насчет Сэма? — спросил я.
— Мне нравится, — ответил он.
— А у матери есть право выбора? — рассмеялась миссис Кинтана.
— Нет, — ответил Данте. — Мать просто должна сделать всю работу.
Он наклонилась и поцеловала его. Потом подняла взгляд на меня.
— Значит, вы двое едите смотреть на звезды?
— Ага, мы будем смотреть на звезды своими глазами. Без телескопа, — сказала я. — Но нас будет трое. Вы забыли Легс.
— Нет, — сказала она. — Легс остается со мной. — Мне не помешает компания.
— Ладно, — сказал я. — Если вы так хотите.
— Это замечательная собака.
— Да, так и есть. Теперь вам нравятся собаки?
— Да, — сказала она. — Они очень милые.
Похоже, Легс понравился этот комплимент. Когда мы с Данте забрались в грузовик, она осталась рядом с миссис Кинтана. Мне показалось странным, что собаки так хорошо понимают людей.
Когда я завел грузовик, миссис Кинтана крикнула:
— Обещай, что будешь осторожен.
— Обещаю.
— И помни дождь, — сказала она.
ДЕСЯТЬ
Когда я подъезжал к своему месту в пустыне, Данте достал два пакетика и помахал ими в воздухе.
Мы улыбнулись друг другу, а затем рассмеялись.
— Ты плохой мальчик, — сказал я.
— Ты тоже плохой мальчик.
— Именно таким я всегда хотел быть.
— Если бы наши родители знали, — сказал я.
— Если бы наши родители знали, — повторил Данте.
Мы снова рассмеялись.
— Я никогда этого не делал.
— Этому не сложно научится.
— Где ты достал травку?
— Даниил. Парень, с которым я работаю. Думаю, я ему нравлюсь.
— Он хочет поцеловать тебя?
— Думаю да.
— А ты хочешь поцеловать его?
— Не уверен.
— Но ты уговорил его дать тебе травки, не так ли?
Даже несмотря на то, что я не сводил глаз с дороги, я знал, что он улыбается.
— Тебе нравится уговаривать людей, да?
— Я не собираюсь отвечать на это.
В небе сверкала молния, гремел гром и все пахло дождем.
Мы с Данте молча вылезли из грузовика. Он поджег косяк, вдохну и задержал дым в легких. Потом он наконец-то его выпустил. Он повторил этот процесс снова, и протянул косяк мне. Я сделала все так, как и он. Должен признать, мне нравится этот запах, но не ощущение. Я старался не кашлять. Если Данте не закашлял, то и я смогу. Мы сидели, куря травку, пока она не закончилась.
Я чувствовал себя легко, свежо и счастливо. Это было странно и прекрасно, все казалось таким отдаленным и близким одновременно. Мы с Данте перебрались в откидной борт пикапа, и все еще продолжали смотреть друг на друга. Потом мы начали смеяться и не могли остановиться.
Вскоре свежий ветерок перерос в ветер. А гром и молния были все ближе и ближе. Начался дождь. Мы залезли в грузовик, все еще громко смеясь. Я совсем не хотел прекращать смеяться.
— Это безумие, — сказал я. — Я просто безумен.
— Безумие, — сказал он. — Безумие, безумие, безумие.
— Господи, какое же это безумие.
Я хотел смеяться всю жизнь. Но через несколько минут мы успокоились и начали слушать звуки ливня. Шел настоящий дождь. Как той ночью.
— Давай выйдем наружу, — сказал Данте. — Давай выйдем под дождь. — Он начал раздеваться. Сначала снял футболку, потом шорты и боксеры. Все, кроме кроссовок. Это было забавно. — Ну, — сказал он, и положил руку на ручку дверцы. — Готов?
— Подожди. — Я стянул футболку и всю остальную одежду. Кроме кроссовок.
Мы переглянулись, и снова засмеялись.
— Готов? — спросил я.
— Готов.
И мы выбежали под дождь. Боже, капли дождя такие холодные.
— Черт! — прокричал я.
— Черт! — прокричал в ответ Данте.
— Мы чертовски ненормальные.
— Да! — рассмеялся Данте. Мы бегали вокруг грузовика, абсолютно голые, и смеялись. Мы бегали круг за кругом, снова и снова, пока оба не устали так, что уже не могли дышать.
Мы сели в грузовик, не прекращая смеяться. А потом дождь прекратился. Для пустыни это было нормальное явление. Дождь заканчивался также резко, как и начинался. Я открыл дверцу и вылез навстречу холодному ночному воздух.
Я потянулся к небу, и закрыл глаза.
Данте стоял возле меня.
Я не знаю, как бы поступил, если бы он дотронулся до меня.
Но он этого не сделал.
— Я голоден, — сказал он.
— И я.
Мы оделись и поехали назад в город.
— Что хочешь съесть? — спросил я.
— Менудо.
— Ты любишь менудо.
— Ага.
— Думаю, это делает тебя настоящим мексиканцем.
— Настоящим мексиканцам нравится целовать парней?
— Не думаю, что это изобретение американцев.
— Наверно ты прав.
— Да, наверно. Как насчет Тако Чико?
— У них нет менудо.
— Ладно, тогда как насчет Кафе Удачи в Аламеда?
— Мой отец любит это место.
— Мой тоже.
— Они играют в боулинг, — вспомнил я.
— Они играют в боулинг. — Мы снова рассмеялись так сильно, что у меня заболел живот.
Когда мы наконец-то доехали до Кафе Удачи, мы были настолько голодны, что оба заказали полные тарелки энчиладас и две миски менудо.
— Мои глаза красные?
— Нет, — сказал я.
— Хорошо. Думаю, мы можем ехать домой.
— Ага.
— Поверить не могу, что мы это сделали.
— Я тоже.
— Но было весело, — сказал он.
— Нет, — сказал я. — Было фантастически.
ОДИННАДЦАТЬ
На следующий день отец разбудил меня рано.
— Мы едем в Тусон, — сказал он.
Я сел на кровати и посмотрел на него.
— Кофе готово.
Легс вышла из комнаты следом за папой.
Мне было интересно, злился ли он на меня и зачем нам было ехать в Тусон. Я чувствовал себя немного неустойчиво, будто меня разбудили посреди ночи. Натянув джинсы, я пошел на кухню. Папа протянул мне чашку кофе.
— Ты единственный ребенок, из тех, кого я знаю, который пьет кофе.
Я попытался начать небольшой разговор, старался притворится, что у нас не было того вымышленного разговора. Не то, чтобы он знал, что я сказал. Но я знал. И я знал, что я не должен был о таком думать.
— Пап, однажды все дети по всему миру будут пить кофе.
— Мне нужна сигарета, — сказал он.
Мы с Лег вышли во двор следом за ним.
Я подождал, пока он подожжет сигарету, а потом спросил:
— Как боулинг?
— Было весело, — сказал он с улыбкой. — Я ужасно играю в боулинг. К моему счастью, Сэм тоже.
— Ты должен чаще выбираться куда-то, — сказал я.
— Ты тоже, — он затушил сигарету. — Вчера ночью звонила мама. У твоей тети серьезный удар. Она не справится.
Я вспомнил время, когда жил с ней однажды летом. Я был маленьким мальчиком, а она — доброй женщиной. Она так и не вышла замуж. Но это не важно. Она все знала о мальчиках, и знала, как рассмешить, и заставить ребенка чувствовать себя центром Вселенной. По непонятной причине, которую никто мне не объяснил, она жила отдельно от всей семьи. Но меня это никогда не волновало.
— Ари? Ты слушаешь?
Я кивнул.
— Ты куда-то пропадаешь.
— Нет, не пропадаю. Я просто думал. Когда я был маленький, я проводил с ней лето.
— Да. Ты не хотел возвращаться домой.
— Правда? Я не помню.
— Ты полюбил ее, — папа улыбнулся.
— Возможно так и было. Я не помню, чтобы я не любил ее. И это странно.
— Почему же это странно?
— Я не чувствую такого по отношению к другим тетям и дядям.
Он кивнул.
— Мир был бы счастливее, если бы в нем было больше таких людей, как она. Они с твоей мамой писали друг другу каждую неделю. По одному письму каждую неделю год за годом. Ты знал это?
— Нет. Должно быть это большое количество писем.
— Она все их сохранила.
Я сделал глоток кофе.
— Ты можешь взять отгул на работе, Ари?
Я мог представить его на войне. Раздавая приказы. Его голос спокойный и невозмущенный.
— Ага. Я всего лишь переворачиваю бургеры. Что они могут сделать? Уволить меня? — Легс залаяла. Она привыкла к утренним пробежкам. Я посмотрел на отца. — Что мы будем делать с Легс?
— Данте, — сказал он.
Его телефон подняла миссис Кинтана.
— Привет, — сказал я. — Это Ари.
— Я знаю, — ответила она. — Ты рано встал.
— Ага. Данте проснулся?
— Ты шутишь, Ари? Он встает за полчаса до его смены на работе. И не минутой раньше.
Мы оба рассмеялись.
— Ну, — сказал я. — Мне нужна небольшая услуга.
— Я слушаю, — сказала она.
— Ну, у моей тети удар. Мама сейчас у нее. Мы с папой выезжаем так скоро, как только можем. Но, понимаете, у нас же Легс, и я подумал, может вы…, - она не дала мне закончить предложение.
— Конечно мы возьмем ее. Она отличная компания. Прошлой ночью она уснула на моих коленях.
— Но вы работаете, и Данте тоже.
— Все будет в порядке, Ари. Сэм дома целый день. Он пишет книгу.
— Спасибо, — сказал я.
— Не благодари меня, Ари. — Ее голос звучал намного счастливее и светлее, чем, когда я встретил ее впервые. Возможно это из-за того, что она беременна. Думаю, причина именно в этом.
Я повесил трубку, и начал упаковывать вещи. Зазвонил телефон. Это был Данте.
— Сожалею о твоей тете. Но, эй, я заберу Легс! — иногда он мог быть таким мальчишкой. Возможно он будет мальчишкой всегда. Как его папа.
— Ты, ты заберешь Легс. Она любит бегать по утрам. Рано.
— Насколько рано?
— Мы встаем в 5:45.
— Пять сорок пять! Ты сумасшедший? А как насчет сна?
Этот парень всегда мог рассмешить меня.
— Спасибо, что делаешь это, — сказал я.
— Ты в порядке?
— Да.
— Папа устроил скандал из-за того, что ты вернулся поздно?
— Нет. Он уже спал.
— Мама хотела знать, чем мы занимались.
— И что ты ей сказал?
— Я сказал, что нам не удалось посмотреть на звезды из-за бури. Я сказал, что дождь лил как из ведра, и мы застряли. Так-то, мы просто сидели в грузовике и разговаривали. А когда дождь прекратился, мы поняли, что проголодались, и поехали за менудо.
— Она очень странно посмотрела на меня, и сказала: «Почему я тебе не верю?» А я ответил: «Потому что у тебя очень подозрительная натура». А потом она прекратила меня допрашивать.
— У твоей мама гипер-инстинкты, — сказал я.
— Ага, но она ничего не может доказать.
— Уверен, что она знает.
— Откуда?
— Я не знаю. Но уверен, что она знает.
— Теперь я чувствую себя параноиком.
— Отлично.
Мы оба залились смехом.
Мы завезли Легс к Данте этим же утром. Папа дал мистеру Кинтана ключ от нашего дома. Данте придется поливать цветы моей мамы.
— И не укради мой грузовик, — сказал я.
— Я мексиканец, — сказал он. — Я все знаю о взломе. — Это меня рассмешило. — Послушай, — сказал он. — Поедание менудо и взлом грузовика — это два абсолютно разных вида искусства.
Мы усмехнулись друг другу.
Миссис Кинтана посмотрела на нас.
Мы выпили с родителями Данте чашечку кофе. Данте показал Легс дом.
— Уверенна, что Данте с удовольствием разрешит Легс сжевать всю его обувь, — мы все рассмеялись. Кроме моего отца. Он не знал о войне Данте против обуви. Когда Легс и Данте вернулись в кухню, мы рассмеялись еще сильнее. Легс тащила один из кроссовок Данте в зубах.
— Смотри, что она нашла, мам.
ДВЕНАДЦАТЬ
По дороге в Тусон мы с отцом почти не разговаривали.
— Твоя мама расстроена, — начал он. Я знал, о чем он думает.
— Хочешь, чтобы я повел?
— Нет, — сказал он. Но потом он передумал. — Да. — Он вышел на следующей заправке, заправил машину и купил нам кофе. Потом он протянул мне ключи. Его машиной было управлять намного проще, чем моим грузовиком. Я улыбнулся. — Я никогда не водил что-либо, помимо моего грузовика.
— Если ты справился с грузовиком, ты справишься с чем угодно.
— Прости за прошлую ночь, — сказал я. — Просто иногда я думаю о разных вещах, и во мне появляется это чувство. И я не всегда знаю, что с этим делать. Скорее всего, они даже не имеют никакого смысла.
— Все хорошо, Ари.
— А я так не думаю.
— Чувствовать — это нормально.
— Только если это не злость. Я даже не знаю, откуда во мне берется вся эта злость.
— Возможно, нам стоит чаще разговаривать.
— Ну и кто же из нас хорош в разговорах, пап?
— Ты хорош в разговорах, Ари. Ты просто не хорош в разговорах со мной.
Я ничего не ответил. Но потом сказал:
— Папа, я не хорош в разговорах.
— Ты постоянно разговариваешь с мамой.
— Да, но только потому что это обязанность.
Он рассмеялся.
— Я рад, что она заставляет нас говорить.
— Если бы она не была рядом, мы бы умерли в собственной тишине.
— Ну, мы разговариваем сейчас, не так ли?
Я поднял взгляд, и увидел, что он улыбается.
— Да, мы разговариваем.
Он опустил окно.
— Твоя мама не разрешает мне курить в машине. Ты не против?
— Нет, я не против.
Запах сигарет всегда напоминал мне о нем. Он курил. А я был за рулем. Я не был против тишины, пустыни и облачного неба.
Что значили слова для пустыни?
Мои мысли переключились. Я начал думать о Легс и Данте. Мне стало интересно, о чем думал Данте, когда смотрел на меня. Мне стало интересно, почему я не смотрел на рисунки, которые он мне дал. Ни разу. Я подумал о Джине и Сьюзи, и мне стало интересно, почему я никогда им не звонил. Они доставали меня, но это был их способ быть милыми со мной. Я знаю, что нравлюсь им. И они тоже мне нравились. Почему парень не может дружить с девчонками? Что в этом было неправильного? Я подумал о брате, и мне стало интересно, был ли он близок с моей тетей. Мне стало интересно, почему такая милая женщина отдалилась от семьи. Мне стало интересно, почему я провел с ней лето, когда мне было всего четыре года.
— О чем ты думаешь? — я услышал голос отца. Он никогда не задавал этот вопрос.
— Я думал о тете Офелии.
— И о чем же ты думал?
— Почему вы больше не отправляли меня к ней на лето?
Он не ответил. Он снова открыл окно, и в машину ворвался горячий пустынный воздух. Я знал, что он собирается выкурить еще одну сигарету.
— Скажи мне, — попросил я.
— Это было время, когда судили твоего брата, — сказал он.
Это было первый раз, когда он упомянул моего брата при мне. Я ничего не ответил. Я хотел, чтобы он продолжил свой рассказ.
— У нас с твоей мамой были сложные времена. У всех нас. У твоих сестер тоже. Мы не хотели, чтобы ты… — Он остановился. — Думаю, ты понимаешь, что я пытаюсь сказать. — Выражение его лица стало очень серьезным. Еще серьезнее чем обычно. — Твой брат любил тебя, Ари. Любил. И он не хотел, чтобы ты был рядом. Он не хотел, чтобы бы ты так о нем думал.
— И вы отослали меня к тете.
— Да. Так и есть.
— Это ничего не исправило, папа. Я постоянно о нем думаю.
— Мне жаль, Ари. Я просто… Мне действительно жаль.
— Почему мы не можем просто…
— Ари, все намного сложнее, чем ты думаешь.
— В каком смысле?
— У твоей мамы был срыв, — я слышал, что он курил.
— Что?
— Ты был у тети Офелии намного дольше, чем лето. Ты был там девять месяцев.
— Мама? Я не могу… Это просто… Мама? У мамы был… — я хотел попросить у папы сигарету.
— Она очень сильная, твоя мама. Но, я не знаю, в жизни нет логики, Ари. Все было так, будто твой брат умер. Твоя мама стала другим человеком. Я едва ли узнавал ее. Когда они осудили его, она просто развалилась на части. Она была безутешной. Ты понятия не имеешь, как сильно она любила твоего брата. Я не знаю, что делать. И иногда, даже сейчас, я хочу спросить: «Это прошло? Прошло?» Когда она вернулась ко мне, Ари, она казалась такой хрупкой. И спустя недели и месяцы, она снова стала собой. Она снова стала сильной и…
Я слушал, как мой папа плакал. Я припарковала машину на обочине.
— Мне жаль, — прошептал я. — Я не знаю. Я не знал этого, папа.
Он кивнул. Он вышел из машины, и просто стоял на жаре. Я знал, что он пытался взять себя в руки. Как комната, в которой нужно навести порядок. Я оставил его наедине с собой. Но потом, я решил, что хочу быть с ним. Я решил, что мы слишком часто оставляли друг друга. И это убивало нас.
— Пап, иногда я ненавидел вас с мамой, потому что вы притворялись, что он был мертв.
— Я знаю. Мне жаль, Ари. Мне жаль. Мне жаль. Мне жаль.
ТРИНАДЦАТЬ
К тому времени, как мы добрались до Тусона, моя тетя Офелия была мертва.
На похоронах не было ни одного свободного места. Было очевидно, что она была горячо любима. Всеми кроме ее семьи. Мы были единственными на похоронах. Моя мама, мои сестры, я и мой папа.
Люди, которых я не знал, подошли ко мне.
— Ари? — спрашивали они.
— Да, я Ари.
— Твоя тетя обожала тебя.
Мне было так стыдно. За то, что я очень редко вспоминал ее. Мне было так стыдно.
ЧЕТЫРНАДЦАТЬ
После похорон мои сестры вернулись домой.
Мы с мамой и папой остались. Родители закрыли тетин дом. Мама точно знала, что надо делать, и для меня было почти невозможно представить ее на грани здравого смысла.
— Ты постоянно следишь за мной, — сказала она однажды ночью, когда мы смотрели в окно на подходящую бурю.
— Разве?
— Ты очень тихий.
— Для меня тишина — нормальное явление.
— Почему они не приехали? — спросил я. Мои тети и дяди? Почему они не приехали?
— Им не особо нравилась твоя тетя.
— Почему?
— Она жила с женщиной. Много лет.
— Фрэнни, — сказал я. — Она жила с Фрэнни.
— Ты помнишь?
— Да. Немного. Она была милой. У нее были зеленые глаза. И она любила петь.
— Они были вместе, Ари.
Я кивнул.
— Хорошо, — сказал я.
— Тебя это не волнует?
— Нет.
Я продолжал играть с едой на тарелке. Потом поднял взгляд на отца. Он ответил еще до того, как я успел задать вопрос.
— Я любил Офелию, — сказал он. — Она была умной и порядочной.
— Для тебя было важно, что она жила с Фрэнни.
— Некоторым людям это было важно, — сказал он. — Твои тети и дяди, Ари, они просто не могли.
— Но для тебя это не было важно?
На лице моего отца появилось странное выражение, будто он старался сдержать гнев. Я догадался, что его гнев был нацелен на семью моей мамы, а еще я знал, что его гнев был бесполезным.
— Если бы это было для нас важно, думаешь, мы бы оставили тебя с ней? — он посмотрел на маму.
Мама кивнула.
— Когда мы вернемся домой, — сказала она, — Я хочу показать тебе фотографии твоего брата. Ты не против?
Она наклонилась и вытерла мои слезы. Я не мог говорить.
— Мы не всегда принимаем правильные решения, Ари. Мы делаем лучшее, что можем.
Я кивнул, но у меня не было слов, и по моему лицу продолжали бежать слезы, будто внутри меня была целая река.
— Думаю, мы причинили тебе боль.
Я закрыл глаза, чтобы остановить слезы. А потом я сказал:
— Думаю, я плачу, потому что счастлив.
ПЯТНАДЦАТЬ
Я позвонил Данте, и сказал, что мы вернемся через несколько дней. Я ничего не рассказал ему о моей тете. Кроме того, что она оставила мне дом.
— Что? — спросил он.
— Ага.
— Ух ты.
— Это точно.
— А дом большой?
— Да, это отличный дом.
— Что ты собираешься с ним делать?
— Ну, есть друг моей тети, который хочет купить его.
— Что ты будешь делать с этими деньгами?
— Я не знаю. Не думал об этом.
— Как думаешь, почему она оставила тебе дом?
— Понятия я не имею.
— Ну, теперь ты можешь просить свою работу.
Данте. Он всегда мог сделать из всего шутку.
— Чем ты занимаешься?
— Работаю в аптеке. И вроде как провожу время с этим парнем, — сказал он.
— Да?
— Ага.
Я хотел спросить его имя, но не стал.
Он поменял тему. Я знал, когда Данте менял тему разговора.
— Мама с папой очень полюбили Легс.
ШЕСТНАДЦАТЬ
Четвертого Июля мы все еще были в Тусоне.
Мы решили пойти посмотреть на фейверки.
Папа разрешил мне выпить пиво. Мама старалась притвориться, что он это не одобряет. Но если бы это было так, она бы даже не разрешила мне взять банку в руки.
— Это не твое первое пиво, Ари. Не так ли?
Я не собирался лгать ей.
— Мам, я говорил тебе, что, когда нарушу правила, я сделаю это за твоей спиной.
— Да, — подтвердила она. — Это именно то, что ты сказал. Но ты же не был за рулем?
— Нет.
— Клянешься?
— Клянусь.
Я медленно пил пиво и наблюдал за фейверками. Я чувствовал себя маленьким мальчиком. Я любил фейверки — взрывы в небе, и то, как охала и ахала толпа.
— Офелия всегда говорила, что Фрэнни была Четвертым Июля.
— Это отличный комплимент, — сказал я. — Так что с ней случилось?
— Она умерла от рака.
— Когда?
— Около шести нет назад, думаю.
— Ты была на похоронах?
— Да.
— Ты не взяла меня с собой.
— Нет.
— Она присылала мне подарки на Рождество.
— Мы должны были сказать тебе.
СЕМНАДЦАТЬ
Думаю, мои родители решили, что в мире слишком много секретов. Прежде, чем мы покинули дом моей тети, она положила в машину две коробки.
— Что это? — спросил я.
— Письма, которые я ей писала.
— Что ты собираешься с ними делать?
— Я собираюсь отдать их тебе.
— Правда?
Мне стало интересно, была ли моя улыбка настолько большой, как ее. Возможно. Но не такой красивой.
ВОСЕМНАДЦАТЬ
По дороге в Эль Пасо, я сидел на заднем сиденье. Я видел, что мама с папой держались за руки. Иногда они поглядывали друг на друга. Я выглянул в окно, и вспомнил о той ночи, когда мы с Данте курили траву, и бегали голыми под дождем.
— Что ты собираешься делать до конца лета?
— Я не знаю. Работать. Гулять с Данте. Тренироваться. Читать. И всякое такое.
— Ты не должен работать, — сказал мой отец. — Для этого у тебя вся жизнь впереди.
— Я не против работы. И в любом случае, чем еще мне заняться? Мне не нравится смотреть телевизор. У меня нет связи с моим поколением. И я должен благодарить за это тебя, мама.
— Что ж, ты можешь смотреть телевизор сколько угодно.
— Слишком поздно.
Они оба рассмеялись.
— Это не смешно. Я самый не популярный почти-семнадцатилетний парень во Вселенной. И это ваша вина.
— Это все наша вина.
— Да, все это ваша вина.
Мама повернулась, чтобы убедится, что я улыбаюсь.
— Возможно, вы с Данте должны отправиться в путешествие. Поход или что-то типа того.
— Я так не думаю, — ответил я.
— Ты должен подумать об этом, — сказала мама. — Это же лето.
Это же лето, мысленно повтори я. Я продолжал думать о том, что сказала миссис Кинтана: Помни дождь.
— Надвигается буря, — сказал папа. — И мы попадем под нее.
Я выглянул в окно, и увидел черные облака за нами. Я открыл окно, и учуял дождь. В пустыне можно учуять дождь еще до того, как упадет первая капля. Я закрыл глаза, и высунул руку в окно. Наконец-то я почувствовал первые капли. Это было похоже на поцелуй. Небо целовало меня. Мне это нравилось. Именно об этом подумал бы Данте. Я почувствовал еще одну каплю, а потом еще одну. Поцелуй. Поцелуй. А затем еще один поцелуй. Я подумал о моих снах — все они были о поцелуях. Но я никогда не знал, кого целую. Я не мог разглядеть. А затем, мы оказали в самом разгаре ливня. Я закрыл окно, и в машине резко стало холодно. Мои руки были мокрыми, а с рукавов футболки капала вода.
Папа остановил машину.
— Я не могу так ехать, — сказал он.
На улице было темно, и перед нами была занавеса дождя.
Мама сжала руку отца.
Буря всегда заставляла меня чувствовать себя таким маленьким.
Даже не смотря на то, что в основном лето было сделано из солнца и жары, для меня лето было бурей и дождем. И я чувствовал себя одиноко.
Все парни чувствовали себя одиноко?
Летнее солнце не было предназначено для парней вроде меня. Парни как я принадлежали дождю.
Часть VI: ВСЕ ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ
Всю юность я искал тебя, сам не осознавая, что я ищу.
— У.С. Мервин
ОДИН
Всю дорогу назад в Эль Пасо шел дождь. Идеальное время для сна. Но я просыпался каждый раз, когда снова начинался ливень.
В этой поездке домой было что-то безмятежное.
За пределами машины был ужасный шторм. А внутри было тепло. И меня не пугала злая и непредсказуемая погода. Каким-то образом, я чувствовал себя в безопасности и защищенным.
Один раз, когда я заснул, мне начал снится сон. Думаю, мои сны могут приходить по команде. Мне снилось, что мой папа, брат и я курили вместе. Мы были на заднем дворе. А мама и Данте стояли в дверном проходе. И смотрели.
Я не мог решить хорошим или плохим был этот сон. Наверно, хорошим, потому что, когда я проснулся, мне не было грустно. Наверно именно так и определяют, каким был сон. По тому, как ты себя чувствовал, когда просыпался.
— Ты думаешь о несчастном случае? — услышал я мамин нежный голос.
— Почему?
— Дождь не напоминает тебе об этом?
— Иногда.
— Вы с Данте разговаривали по этому поводу?
— Нет.
— Почему?
— Просто не разговаривали.
— Оу, — сказала она. — Я думала, вы говорить обо всем на свете.
— Нет, — сказал я. — Мы точно такие же, как и все остальные. — Это не было правдой. Мы точно не были точно такими же, как все остальные.
Когда мы подъехали к дому, дождь все еще не прекращался. Гром, молния и ветер. Это была самая ужасная буря лета. Пока мы с папой несли чемоданы в дом, успели полностью промокнуть. Мама включила свет и сделала чай, пока мы переодевались в сухую одежду.
— Легс ненавидит гром, — сказал я. — Он причиняет боль ее ушам.
— Уверенна, что она спит прямо возле Данте.
— Ага, думаю так и есть, — сказал я.
— Скучаешь по ней?
— Да. — Я представил, как Легс лежит в ногах у Данте, вздрагивая от звука грозы. Я представил, как Данте целует ее и говорит, что все хорошо. Данте, который любит целовать собак, любит целовать родителей, любит целовать мальчиков, и который любит целовать даже девочек. Возможно, поцелуи являются частями человеческого состояния. Может, я не человек? Может я вовсе не часть естественного порядка вещей. Но Данте наслаждался поцелуями. Я подозреваю, что ему также нравится мастурбировать. Для меня это унизительно. Даже не знаю, почему. Просто так есть. Это же то же самое, что заниматься сексом самим с собой. А заниматься сексом с самим собой очень странно. Аутоэротизм. Я вычитал это в одной из библиотечных книг. Господи, мне было неловко только об одной мысли об этом. Некоторые парни говорили о сексе постоянно. Я слышал в школе. Почему они были так счастливы, когда обсуждали секс? Из-за этого я чувствовал себя несчастным. Неадекватным. И вот, опять это слово. И почему я вообще думал об этих вещах во время бури, сидя за столом с мамой и папой? Я постарался вернуть свои мысли обратно на кухню. Я был тут. Я жил тут. Я ненавидел огромное количество мыслей в моей голове.
Мои родители разговаривали, а я из-за всех сил старался приглушаться к разговору, но у меня ничего не выходило. Мои мысли перескакивали с одной на другую. А потом они сосредоточились на моем брате. Так было всегда. Это можно было сравнить с моим любимым местом в пустыне. Я постоянно «приезжал» туда. Я задумался, каково было бы, если бы мой брат был рядом. Может он научил бы меня как быть парнем, что парни должны чувствовать и, что они должны делать, и как должны себя вести. Возможно, я был бы счастлив. А возможно моя жизнь была бы точно такой же. Возможно, она была бы еще хуже. Не то, что бы у меня была плохая жизнь. Я знал это. У меня были родители, которым не было на меня плевать, у меня была собака, и лучший друг Данте. Но во мне все равно было что-то такое, что заставляло меня чувствовать себя плохо.
Интересно, у всех ли мальчиков внутри есть темнота? Да. Возможно, она была даже у Данте.
Я почувствовал, что мама смотрит на меня. Она изучала меня. Снова.
Я улыбнулся.
— Я бы спросила, о чем ты думаешь, но я уверенна, что ты не ответишь.
Я пожал плечами и указал на отца.
— Я слишком похож на него.
Это рассмешило его. Он выглядел уставшим, но в этот момент, когда мы все вместе сидели на кухне, в нем было что-то мальчишеское. И я подумал, что возможно, он становится другим.
Все становились кем-то другим.
Иногда, когда ты взрослый, ты становишься моложе. А я, я чувствовал себя старым. Как парень, которому еще нет семнадцати, может чувствовать себя старым?
Когда я пошел спать, все еще шел дождь. Где-то далеко гремел гром, и сейчас этот звук казался отдаленным шепотом.
Я спал. Мне снились сны. И снова был этот сон, сон, в котором я кого-то целовал.
Когда я проснулся, я хотел дотронуться до себя. «Ты просто пожимаешь руку своему лучшему другу». Это было эвфемизмом Данте. Он всегда улыбался, когда говорил это.
Вместо этого я принял холодный душ.
ДВА
По непонятной причине в моем животе было забавное ощущение. Не только из-за сна, поцелуев, всей этой ерунды с телом и холодного душа. Не только из-за этого. Было что-то еще, что не ощущалось правильным.
Я подошел к дому Данте, чтобы забрать Легс. На мне была одежда для бега. Я обожаю это пустынную сырость после дождя.
Я постучал в дверь.
Было довольно рано. Я знал, что скорее всего Данте еще спит, но его родители уже должны встать. И я очень хотел увидеть Легс.
Мистер Китана открыл дверь. За ним выбежала Легс и накинулась на меня. Я позволил ей облизать мое лицо, чего я не позволяю ей делать слишком часто.
— Легс, Легс, Легс! Я скучал.
Я продолжал ласкать ее, пока не заметил, что мистер Кинтана выглядел… Он выглядел, не знаю… У него было странное выражение лица.
Я понял, что что-то не так. Я посмотрел на него, и еще даже не успел спросить, что случилось, как он произнес:
— Данте.
— Что?
— Он в больнице.
— Что? Что случилось? Он в порядке?
— Его хорошенько избили. Его мама осталась с ним на ночь.
— Что случилось?
— Не желаешь чашечку кофе, Ари?
Мы с Легс пошли за ним на кухню. Я наблюдал, как мистер Кинтана сделал мне кофе. Он протянул мне чашку, и сел напротив меня. Легс положила голову на колени мистера Кинтана. И он машинально начал гладить ее по голове. Мы сидели в тишине, и я наблюдал за ним. Я ждал, пока он заговорит. Наконец-то он произнес:
— Насколько вы с Данте близки?
— Я не понимаю вопроса, — сказал я.
Он прикусил губу.
— Как хорошо ты знаешь моего сына?
— Он мой лучший друг.
— Я знаю это, Ари. Но как хорошо ты его знаешь?
В его голосе была нотка нетерпеливости. Я притворялся, что действительно не понимаю, что он хочет сказать. Но на самом деле, я это прекрасно знал. Мое сердце бешено билось в груди.
— Он рассказал вам?
Мистер Кинтана кивнул.
— Значит, вы знаете, — сказал я.
Он ничего не ответил.
Я знал, что должен был что-то сказать. Он выглядел потерянным, испуганным, грустным и уставшим. Мне не нравилось видеть его таким, потому что он был хорошим человеком. Я знал, что должен что-то сказать. Но я не знал, что именно.
— Ладно, — произнес я в итоге.
— Ладно? Что, Ари?
— Когда вы уехали в Чикаго, Данте сказал мне, что однажды он хочет выйти замуж за парня. — Я осмотрел комнату. — Или по крайней мере поцеловать парня. Ну, на самом деле, я думаю, что он написал это в письме. Или он сказал это, когда вы вернулись.
Он кивнул, и уставился на свою чашку кофе.
— Думаю, я знал это, — сказал он.
— Как?
— Иногда он смотрит на тебе по-особенному.
— Оу, — я опустил взгляд на пол.
— Но почему ты не рассказал мне, Ари?
— Он не хотел расстраивать вас. Он сказал… — Я остановился и отвел взгляд. Но затем я заставил себя снова посмотреть в его полные надежды глаза. И даже несмотря на то, что мне казалось, что я предаю Данте, я должен был с ним поговорить. — Мистер Кинтана…
— Зови меня Сэм.
Я посмотрел на него.
— Сэм, — сказал я.
Он кивнул.
— Он обожает вас. Думаю, вы это знаете.
— Если он так сильно обожает меня, почему же он не рассказал мне?
— Разговаривать с отцом не всегда просто. Даже с вами, Сэм.
Он сделал глоток кофе.
— Он был так счастлив, что у вас будет еще один ребенок. И не только потому что он станет старшим братом. И он сказал: «Это должен быть мальчик, и ему должны нравится девочки». Вот, что он сказал. Чтобы у вас были внуки. Чтобы вы были счастливы.
— Меня не заботят внуки. Меня заботит Данте.
По лицу Сэма начали бежать слезы, и мне ужасно не нравилось это зрелище.
— Я люблю Данте, — прошептал он. — Я люблю этого ребенка.
— Он счастливчик, — сказал я.
Сэм улыбнулся.
— Они избили его, — прошептал он. — Они до чертиков избил моего Данте. Они сломали ему несколько ребер, били в лицо. У него сеянки по всему телу. Они сделали это с моим сыном.
Это было странное ощущение — хотеть взять на руки взрослого мужчину. Но именно это мне хотелось сделать.
Мы допили наше кофе.
И я больше не задал ни одного вопроса.
ТРИ
Я не знаю, что сказать моим маме и папе. Я вообще толком ничего не знал. Я знал, так это то, что кто-то побил Данте настолько сильно, что он оказался в больнице. И я знал, что это как-то связано с другим парнем. Так же я знал, что сейчас он находится в Мемориальной больнице провидения. И это все.
Я забрал Легс, которая начала бесится, как только мы ступили на порог дома. Собаки не сдерживают себя. Возможно, животные умнее людей. Собака была такой счастливой. Мои родители тоже. Мне было приятно осознавать, что они полюбили мою собаку, что они позволили себе это. И почему-то мне казалось, что собака скрепляет нашу семью.
Возможно, собаки были одной из тайн Вселенной.
— Данте в больнице, — сказал я.
Мама внимательно посмотрела на меня. Так же, как и мой отец. На их лицах было вопросительное выражение.
— Кто-то побил его. У него много повреждений. Он в больнице.
— Нет, — сказала мама. — Наш Данте? — Мне стало интересно, почему она сказала: «Наш Данте».
— Это была банда? — спросил мой папа.
— Нет.
— Это случилось в каком-то переулке, — сказал я.
— В его районе? Да. Думаю, да.
Они ждали, пока я расскажу им что-то еще. Но я не мог.
— Думаю, я пойду, — сказал я.
Я не помню, как вышел из дома.
Я не помню, как доехал до больницы.
Следующее, что я помню — это я, стоящий напротив Данте и смотрящий на его побитое лицо. Он был неузнаваем. Я даже не мог увидеть цвет его глаз. Я помню, как взял его за руку и прошептал его имя. Он едва ли мог говорить. Он едва ли мог видеть, его опухшие глаза были почти закрыты.
— Данте.
— Ари?
— Я здесь, — сказал я.
— Ари? — прошептал он.
— Я должен был быть здесь, — сказал я. — Я ненавижу их. Ненавижу. — Я действительно ненавидел их. Я ненавидел их за то, что они сделали с его лицом, за то, что они сделали с его родителями. Я должен был быть здесь. Должен был быть с ним.
Я почувствовал руку его мамы на моем плече.
Я сидел рядом с Данте и его родителями. Просто сидел.
— Он будет в порядке, правда?
Миссис Кинтана кивнула.
— Да. Но… — она взглянула на меня. — Ты всегда будешь его другом?
— Всегда.
— Несмотря ни на что?
— Несмотря ни на что.
— Ему нужен друг. Каждому человеку нужен друг.
— Мне тоже нужен друг, — сказал я. Раньше я никогда в этом не признавался.
В больнице было нечем заняться. Мы просто сидели и смотрели друг на друга. Ни у кого из нас не было настроения для разговоров.
Когда я уходил, его родители вышли из палаты вместе со мной. Мы остановились на выходе из больницы. Миссис Кинтана посмотрела на меня.
— Ты должен знать, что случилось.
— Вы не обязаны рассказывать мне.
— Думаю, обязана, — сказала она. — Там была одна женщина. Она видела, что произошло. И рассказала полиции. — Я знал, что сейчас она заплачет. — Данте целовался с парнем в переулке. Какие-то мальчишки проходили мимо, и увидели их. А… — она попыталась выдавить улыбку. — Ну, ты видел, что они с ним сделали.
— Я ненавижу их, — сказал я.
— Сэм сказал, что ты знаешь о Данте.
— В этом мире есть вещи похуже, чем парень, которому нравится целовать парней.
— Да, так и есть, — сказала она. — Намного хуже. Ты не против, если я кое-что скажу?
Я улыбнулся и пожал плечами.
— Мне кажется, Данте любит тебя.
Данте был прав насчет своей мамы. Она знала все.
— Да, — ответил я. — Ну, может и нет. Думаю, ему нравится тот другой парень.
Сэм посмотрел мне прямо в глаза.
— Может другой парень был просто заменой.
— Заменой меня?
Он неловко улыбнулся.
— Прости, я не должен был этого говорить.
— Все нормально, — сказал я.
— Это сложно, — сказал он. — Я… черт, сейчас я чувствую себя немного потерянным.
Я улыбнулся.
— Знаете, что самое худшее во взрослых людях?
— Нет.
— Они не всегда ведут себя как взрослые. Но именно это мне в них и нравится.
Я обхватил меня руками и прижал к себе. А потом отпустил.
Все это время миссис Кинтана наблюдала за нами.
— Ты знаешь кто он?
— Вы о ком?
— Другой парень.
— Понятия не имею.
— И тебе не интересно?
— Что я должен сделать? — Я знал, что мой голос надломился. Но я не могу заплакать. Почему я вообще хотел плакать? — Я не знаю, что мне делать. — Я посмотрел сначала на миссис Кинтана, а затем на Сэма. — Данте мой друг. — Я хотел сказать им, что у меня никогда не было друга, никогда. До Данте. Я хотел сказать, что даже не подозревал о существовании таких людей, как Данте. Людей, которые смотрят на звезды, знают факты о воде, и знают достаточно, чтобы утверждать, что птицы принадлежат небу, и что они не должны быть подстрелены во время полета по вине глупых мальчишек. Я хотел сказать им, что он изменил мою жизнь, и что я никогда не буду прежним, никогда. По непонятным причинам, мне казалось, что это Данте спас мою жизнь, а не я его. Я хотел сказать им, что он был единственным человеком, не считая моей мамы, который заставил меня захотеть поговорить о вещах, которые меня пугали. Я хотел сказать им так много, но в тоже время, у меня не было слов. Так что я просто повторил, — Данте мой друг.
Она посмотрела на меня, почти улыбаясь. Но она была слишком грустной, чтобы улыбаться.
— Мы с Сэмом были правы насчет тебя. Ты самый милый мальчик в мире.
— После Данте, — сказал я.
— После Данте, — повторила она.
Они проводили меня до грузовика. И тут мне в голову пришла мысль.
— А что случилось с другим парнем?
— Он убежал, — сказал Сэм.
— А Данте нет.
— Нет.
В этот момент миссис Кинтана не выдержала, и расплакалась.
— Почему он не убежал, Ари? Почему он не убежал?
— Потому что он Данте, — ответил я.
ЧЕТЫРЕ
Я не знал, что собираюсь сделать то, что сделал. У меня не было плана. Я даже не думал. Иногда, ты совершаешь поступки, и ты совершаешь их не потому что думал об этом, а потому что чувствовал. Потому что ты чувствовал слишком много. И ты не всегда можешь контролировать свои поступки в эти моменты. Возможно, разница между мальчиком и мужчиной состоит в том, что мальчики не могут контролировать, что они чувствуют. А мужчины могли. В этот день я был обычным мальчиком. Я даже близко не походил на мужчину.
Я был мальчиком. Мальчиком, который сошел с ума. Сумасшедший. Сумасшедший.
Я сел в грузовик и поехал прямо в аптеку, в которой работал Данте. Я вспомнил наш разговор. Я вспомнил имя этого парня. Дэниэл. Я зашел в аптеку, и он был там. Дэниэл. Я увидел его имя на бейджике. Дэниэл Г. Тот самый парень, которого Данте хотел поцеловать. Он стоял за прилавком.
— Я Ари, — представился я.
Он посмотрел на меня, и на его лице была паника.
— Я друг Данте, — сказал я.
— Я знаю, — ответил он.
— Думаю, тебе пора взять перерыв.
— Я не…
Я не ждал, пока он договорит свое жалкое оправдание.
— Я выйду на улицу, и буду тебя ждать. Я буду ждать тебя ровно пять минут. И если через пять минут ты не выйдешь, я вернусь в аптеку и надеру твою чертову задницу на глазах у всех. И если ты сомневаешься, что я это сделаю, лучше внимательно посмотри в мои глаза.
Я вышел на улицу. И начал ждать. Не прошло и пяти минут, как он стоял возле меня.
— Давай прогуляемся, — сказал я.
— Я не могу отсутствовать долго.
Но он все равно пошел за мной.
— Данте в больнице.
— Оу.
— Оу?
— Ты не пришел навестить его, — он ничего не сказал. Мне хотелось выбить из него все дерьмо прямо там. — Тебе нечего сказать, придурок?
— Что ты хочешь услышать?
— Ты ублюдок. Ты вообще ничего не чувствуешь?
Он дрожал. Но мне было все равно.
— Кто они?
— О чем ты говоришь?
— Не придуривайся.
— Ты никому не расскажешь.
Я схватил его за воротник.
— Данте лежит в больнице, и единственное, о чем ты беспокоишься, это то, расскажу ли я об этом кому-то. Кому я должен рассказать, придурок? Просто скажи мне кто они.
— Я не знаю.
— Вранье. Ты расскажешь мне это сейчас, и я не надеру твою задницу прямо здесь и сейчас.
— Я не знаю их всех.
— Сколько их было?
— Четыре парня.
— Все, что мне нужно это одно имя. Только одно.
— Джулиан. Он был одним из них.
— Джулиан Энрикез?
— Он.
— Кто еще?
— Я не знаю остальных.
— И ты просто оставил Данте там?
— Он бы не убежал.
— И ты не остался с ним?
— Нет. Я имею в виду, что от этого изменилось бы?
— Значит, тебе плевать?
— Нет, мне не плевать.
— Но ты не вернулся, не так ли? Ты не вернулся, чтобы проверить все ли с ним в порядке. Так?
— Нет, — он выглядел испуганным.
Я толкнул его в стену здания. И ушел.
ПЯТЬ
Я знал, где живет Джулиан Энрикез. Когда я был в младшей школе, мы вместе с ним и его братом играли в баскетбол. Но мы не были врагами или что-то типа того. Я немного поездил кругами, а потом осознал, что паркую грузовик возле его дома. Я подошел к входной двери, и постучал.
— Привет, Ари, — сказала она.
Я улыбнулся. Она была красивой.
— Привет, Лулу, — сказал я в ответ. Мой голос был спокойным и почти дружелюбным. — Где Джулиан?
— Он на работе.
— Где он работает?
— Бенни Боди Шоп.
— Во сколько он заканчивает? — спросил я.
— Обычно он приходит домой около пяти.
— Спасибо.
Она улыбнулась.
— Мне передать ему, что ты заходил?
— Конечно, — ответил я.
Бенни Боди Шоп. Мистер Родригес, один из друзей моего папы, управляет этим магазином. Они вместе ходили в школу. Я точно знал, где он находился. Я катался по району весь день, ожидая, когда же уже наступит пять часов. Когда было почти время, я при парковался на углу магазина. Я не хотел, чтобы мистер Родригес увидел меня. Он бы начал задавать вопросы. Он бы сказал моему отцу. А я не хотел вопросов.
Я вылез и пикапа и направился в сторону магазина. Когда я подошел к месту назначения, то увидел Джулиана. Я остановил его и помахал.
— Что тебе надо, Ари?
— Не так уж и много, — сказал я, и указал на грузовик. — Давай покатаемся.
— Это твой грузовик?
— Ага.
— Крутые колеса.
— Хочешь рассмотреть поближе?
Мы подошли к моему грузовику, и он провел рукой по капоту. Потом он присел на корточки, и начал рассматривать колеса. Я представил, как он избивал Данте, пока тот беспомощно лежал на асфальте. Я представил, как выбиваю из него все дерьмо прямо здесь и сейчас.
— Хочешь прокатится?
— Я немного занят. Ты можешь приехать позже, и мы обязательно покатаемся.
Я схватил его за шею и поднял в воздух.
— Залазь в грузовик, — сказал я.
— Что за черт на тебя напал, Ари?
— Залазь, — повторил я, толкая его в сторону грузовика.
— Спокойно, чувак. Что с тобой творится?
Он замахнулся на меня. Именно это мне и было нужно. И я ответил. Его нос начал кровоточить. Но это меня не остановило. Через мгновение время он уже был на земле. Я разговаривал с ним, обзывал его. Все было как в тумане, и я просто продолжал бить его.
А потом я услышал голос, и чьи-то руки схватили меня и оттянули от него. Хватка была сильной, так что я не мог шевелится.
Я перестал сопротивляться.
И все остановилось. Весь мир замер.
На меня смотрел мистер Родригес.
— Что за ерунду ты творишь, Ари? Ты с ума сошел?
Я не должен был ничего отвечать. Я просто опустил взгляд.
— Что тут происходит? Ари? Ответь мне.
Я не мог говорить.
Я смотрел, как мистер Родригес наклоняется и помогает подняться Джулиану. С его носа все еще шла кровь.
— Я убью тебя, Ари, — прошептал он.
— Дерзай, — ответил я.
Мистер Родригес посмотрел на меня, и повернулся к Джулиану.
— Ты в порядке?
Джулиан кивнул.
— Пошли отмоем тебя.
Я не пошевельнулся. Затем я начал забираться в грузовик.
Мистер Родригес бросил мне еще один взгляд.
— Тебе повезло, что я не вызвал копов.
— Давайте, звоните им. Мне плевать. Но, прежде чем вы это сделаете, вам лучше узнать у Джулиана, что он сделал.
После этих слов, я завел грузовик и уехал.
ШЕСТЬ
Я не заметил кровь на костяшках пальцев и на рубашке, пока не подъехал к моему дому.
Я просто сидел там.
У меня не было плана. Так что я просто сидел. Я бы сидеть там вечно — вот мой план.
Я не знаю, как долго я сидел там. Я начал дрожать. Я знал, что схожу с ума, но не мог объяснить это себе. Может быть, это то, что происходит, когда ты сходишь с ума. Ты просто не можешь это объяснить. Не себе. Не кому-либо. А худшая часть этого, это то, что, когда ты снова становишься нормальным, ты не знаешь, что о себе думать.
Мой отец вышел из дома и замер на крыльце. Он посмотрел на меня. Я не люблю смотреть на его лицо.
— Мне нужно с тобой поговорить, — сказал он. Он никогда раньше не говорил мне этих слов. Никогда. Не таким образом. Его голос заставил меня бояться.
Я вышел из машины и сел на ступенях крыльца.
Папа сел рядом со мной.
— Мне только что звонил мистер Родригес.
Я ничего не сказал.
— Что с тобой случилось, Ари?
— Я не знаю, — сказал я. — Ничего.
— Ничего? — в голосе моего отца появился гнев.
Я уставился на свою окровавленную рубашку.
— Мне надо принять душ.
Папа пошел следом за мной.
— Ари!
Мама была в коридоре. От того, как она на меня смотрела, у меня подкосились ноги. Я остановился и опустил взгляд на пол. Я не мог остановить тряску. Все мое тело дрожало.
Я смотрел на свои руки. Ничто не могло остановить тряску.
Отец схватил меня за руку, вовсе не стараясь быть нежным. Он был очень сильным. Он потянул меня в гостиную, и усадил на диван. Мама села рядом со мной. А папа занял место на стуле. Я чувствовал себя глупым.
— Рассказывай, — сказал папа.
— Я хотел причинить ему боль, — признался я.
— Ари? — мама посмотрела на меня. Я ненавидел этот неверующий взгляд. Почему она не может поверить, что я хотел причинить кому-то боль?
Я посмотрел на нее в ответ.
— Я хотел причинить ему боль.
— Однажды твой брат причинил кое-кому боль, — прошептала она. А потом она начала плакать. И я не мог терпеть это. В этот момент я ненавидел себя больше, чем когда-либо в жизни. Я просто наблюдал, как она плачет, а потом сказал:
— Не плачь, мам. Пожалуйста, не плач.
— Почему, Ари? Почему?
— Ты сломал нос этого мальчика, Ари. И единственная причина, что ты сейчас не в полицейском участке, потому что Эльфиго Родригес является старым другом твоего отца. Мы должны заплатить за это маленькое посещение больницы. Ты должен заплатить, Ари.
Я ничего не сказал. Я знал, о чем они думают. Сначала твой брат, а теперь ты.
— Простите, — сказал я. — Это звучало жалко даже для меня. Но часть меня не сожалела об этом. Часть меня была рада, что я сломал нос Джулиана. Единственное, о чем я жалел, это то, что я сделал больно маме.
— Тебе жаль, Ари? — на его лиц было железное выражение лица.
Но я тоже могут быть железным.
— Я не мой брат, — сказал я. — Я ненавижу, что вы об этом подумали. Я ненавижу, что живу в это чер… — Я остановился от использования этого слова при моей маме. — Я ненавижу, что живу в тени. Ненавижу. Я ненавижу быть хорошим мальчиком, только для того, чтобы угодить вам.
Никто из них ничего не сказал.
Папа посмотрел на меня.
— Я продаю твой грузовик.
Я кивнул.
— Отлично. Продавай.
Мама перестала плакать. У нее было странное выражение лица. Не мягкое, и не строгое. Просто странное.
— Я хочу знать причину, Ари.
Я сделал глубокий вдох.
— Ладно, — сказал я. — И вы выслушаете?
— Почему мы не должны слушать? — сказал папа спокойным голосом.
Я посмотрел на него.
Потом посмотрел на маму.
А потом опустил взгляд на пол.
— Они причинили боль Данте, — прошептал я. — Я даже не могу описать, как он выглядит. Вам надо самим на это посмотреть. Они сломали ему несколько ребер. Они оставили его в переулке. Будто он был ничем. И если бы он умер, им было бы плевать. — Я начал плакать. — Вы хотите, чтобы я говорил? Я буду. Он целовал другого парня.
Не знаю почему, но я не мог перестать плакать. А потом я остановился, и осознал, что я был очень зол. Больше, чем когда-либо в своей жизни.
— Их было четверо. Другой парень убежал. Но Данте остался. Потому что он такой. Он не убежал.
Я посмотрел на папу.
Он ничего не сказал.
Мама придвинулась ближе ко мне. Она не переставая теребила мои волосы.
— Мне так стыдно, — признался я. — Я хотел причинить им боль в ответ.
— Ари? — Голос моего папы был мягким. — Ари, Ари, Ари. Ты борешься с этим самым худшим способом.
— Я не знаю другого способа, папа.
— Ты должен попросить о помощи.
— Я не знаю, как делать это, также.
СЕМЬ
Когда я вышел из душа, мой отец уже ушел.
Моя мама была на кухне. Бумажный конверт с именем моего брата был на столе. Мама пила вино.
Я сел напротив нее.
— Иногда я пью пиво, — сказал я.
Она кивнула.
— Я не ангел, мама. И я не святой. Я просто Ари. Я просто, который всегда поступает неправильно.
— Никогда больше не говори такого.
— Это правда.
— Нет, это не так. — Ее голос был жестоким, сильным и уверенным. — С тобой все нормально. Ты милый, хороший и приличный, — она сделала глоток вина.
— Я причинил боль Джулиану, — сказал я.
— Да, это бы не самый умный поступок.
— И не очень хороший.
Она чуть не рассмеялась.
— Нет, совсем не хороший. — Она провела рукой по конверту. — Мне жаль, — сказала она. Мама открыла конверт и достала фотографию. — Это вы. Ты и Бернардо. — Она протянула мне фотографию. Я был маленьким мальчиком, и мой брат держал меня на руках. И он улыбался. Он был красив и улыбался, а я смеялся у него на руках.
— Ты любил его так сильно, — сказала она. — И мне очень жаль. Как я сказала, Ари, мы не всегда совершаем правильные поступки, ты знаешь? Мы не всегда говорим правильные вещи. Иногда, кажется, что это просто слишком больно смотреть на что-то. Так что, ты делаешь все возможное, чтобы этого не делать. Но это не уходит, Ари. — Она протянула мне конверт, и начала плакать. — Все это там. — Он убил человека, Ари. Он убил человека голыми руками. — Она выдавила из себя небольшую улыбку. Но это была сама печальная улыбка, которую я когда-либо видел. — Я никогда не говорила этого раньше, — прошептала она.
— Тебе все еще больно?
— Очень, Ари. Даже после стольких лет.
— Тебе всегда будет больно?
— Всегда.
— И как же ты с этим справляешься?
— Я не знаю. Мы все должны справляется с некоторыми вещами, Ари. Все мы. Твой отец должен справляться с войной, и тем, что она с ним сделала. Ты не должен держать всю боль в себе. Тебе ведь тоже больно, не так ли, Ари?
— Да, — ответил я.
— Я должна справляться с тем, что сделала твой брат.
— Это не твоя вина, мама.
— Я не знаю. Думаю, матери всегда винят себя за поступки детей. И отцы тоже.
— Мам?
Я хотел дотронуться до нее. Но не стал. Вместо этого я просто посмотрел на нее, и постарался улыбнуться.
— Я не знал, что могу любить так сильно.
После этих слов ее улыбка больше не казалась грустной.
— Иди сюда мой мальчик, я расскажу тебе секрет. Ты помогаешь мне справляться с этим. Ты помогаешь мне справляться со всеми потерями. Ты, Ари.
— Не говори так, мама. Я только расстраиваю тебя.
— Нет, дорогой. Никогда.
— А что я сделал сегодня? Причинил тебе боль.
— Нет, — сказала она. — Думаю, я понимаю.
То, как она это сказала. Это было, как будто она поняла что-то обо мне, что она никогда не понимала раньше. Я всегда чувствовал, что, когда она смотрела на меня, она пыталась найти меня, пытаясь выяснить, кто я. Но в тот момент, когда она посмотрела на меня, мне показалось, что она наконец-то смогла узнать меня. Но это меня только еще больше запутало меня.
— Понимаешь?
Она подтолкнула конверт в мою сторону.
— Ты не хочешь заглянуть в него?
Я кивнул.
— Хочу. Просто не сейчас.
— Ты боишься?
— Нет. Да. Я не знаю, — я провел пальцами по имени моего брата. Мы просто сидели, я и моя мама, и казалось, что время остановилось.
Она держала бокал вина, а я смотрел на фотографии моего брата.
Мой брат маленький, мой брат на руках моего отца, мой брат с моими сестрами.
Мой брат сидит на крыльце дома.
Мой брат, маленький мальчик, отдает честь моему отцу в военной форме.
Мой брат, мой брат.
Мама смотрела на меня. Это было правдой. Я никогда не любил ее больше, чем в этот момент.
ВОСЕМЬ
— Куда ушел папа?
— Он пошел увидится с Сэмом.
— Зачем?
— Он просто хочет поговорить с ним.
— О чем?
— О том, что случилось. Знаешь, они друзья. Твой отец и Сэм.
— Это интересно, — сказал я. — Папа старше.
Она улыбнулась.
— И что?
— Да, и что.
ДЕВЯТЬ
— Могу я поставить это в рамку, и повесить в моей комнате? — это была фотография моего брата, который пускал слюни на папу.
— Да, — сказала она. — Мне нравится эта фотография.
— Он плакал? Когда папа уехал во Вьетнам?
— Несколько дней. Она был безутешен.
— Ты боялась, что папа не вернется?
— Я не думал об этом. Я заставила себя не думать об этом. — Она рассмеялась. — Я хороша в этом.
— Я тоже, — сказал я. — И все это время я думал, что я унаследовал эту черту от папы.
Мы рассмеялись.
— Мы можно повесить эту фотографию в гостиной? Ты не будете возражать, Ари?
Это был тот день, когда мой брат снова был в нашем доме. В странной и необъяснимой форме, мой брат оказался домой.
Это была не моя мама, кто ответил на все мои вопросы. Это был мой отец. Иногда она слушала, как мой отец и я говорил о Бернардо. Но она никогда ничего не говорила.
Я любил ее за это молчание.
Или, может быть, я просто понимал ее.
А еще я любил своего отца, за то, как бережно он говорил. Я осознал, что мой отец был осторожным человеком. Быть одновременно осторожным с людьми, а также со словами и поступками — было очень редким явлением.
ДЕСЯТЬ
Я навещал Данте каждый день. Он был в больнице в течение четырех дней. Врачи должны были убедиться, что он был в порядке, потому что у него было сотрясение мозга.
Его ребра болели.
Врач сказал, что чтобы треснувшие ребра зажили, понадобится некоторое время. Но они не были сломаны. Это было бы хуже. Синяки заживут самостоятельно. По крайней мере, те, которые находятся на самых видных местах.
Никакого плавания. На самом деле, ему было разрешено очень мало. В основном он могла просто лежать. Но Данте любил это. Так что, все было хорошо.
Он изменился. Стал печальнее.
На следующий день, как его выписали из больницы, он плакал. Я обнимал его. Я думал, что он никогда не остановится.
Я понимал, что часть его никогда не будет таким же.
Они сломали намного больше, чем его ребра.
ОДИННАДЦАТЬ
— Ты в порядке, Ари? — Мистер Кинстана изучал меня так же, как это делала моя мама. Я сидел напротив родителей Данте за их кухонным столом. Данте спал. Иногда, когда его ребра начинали болеть слишком сильно, он принимал таблетку, от которой становился сонным.
— Да, у меня все хорошо.
— Ты уверен?
— Вы думаете, что мне нужен психотерапевт?
— Нет ничего плохого в том, чтобы встретится с врачом, Ари.
— Вы говорите, как терапевт, — сказал я.
Миссис Кинтана покачала головой.
— Ты не был таким нахалом, пока не начал дружить с моим сыном.
Я рассмеялся.
— Я в порядке, — сказал я. — Почему я должен быть не в порядке?
Родители Данте взглянули друг на друга.
— Это что, какой-то родительски знак?
— Ты о чем?
— То как мама с папой постоянно переглядываются.
Сэм рассмеялся.
— Да, думаю так и есть.
Я знал, что он говорил с моим отцом. Я знал, что он знал о моем поступке. Я знал, что они оба знали.
— Ты знаешь, кто те мальчики, не так ли, Ари? — Миссис Кинтана снова стала строгой. Не то, чтобы я возражала.
— Я знаю двоих из них.
— А остальных?
Я думал о том, чтобы пошутить.
— Держу пари, я мог бы заставить их рассказать.
Миссис Кинтана рассмеялась. Это удивило меня.
— Ари, — сказала она. — Ты сумасшедший мальчик.
— Да, я думаю, так и есть.
— Все дело в верности, — сказала она.
— Да, наверно.
— Но, Ари, у тебя могло быть множество неприятностей.
— Это было неправильно. Я знаю, что это было неправильно. То, что я сделал. Я не могу это объяснить. Они ведь не накажут этих парней, правда?
— Скорее всего, нет.
— Да, — сказал я, — полиция даже не рассматривает это дело.
— Я не забочусь о тех других мальчиках, Ари. — Сэм смотрел мне прямо в глаза. — Я забочусь о Данте. И я забочусь о тебе.
— Я в порядке, — сказал я.
— Ты уверен?
— Я уверен.
— И ты не собираешься искать других мальчиков?
— Эта мысль приходила в мою голову.
В этот раз миссис Кинтана не смеялась.
— Обещаю.
— Ты лучше, чем это, — сказала она.
Мне так хотелось верить ей.
— Но я не собираюсь платить за сломанный нос Джулиана.
— Ты сказал это своему отцу?
— Еще нет. Но я просто хочу сказать ему, что если эти уб… — Я остановился, так и не закончив произносить это слово. Были другие слова, которые я хотел сказать. — Если эти ребята не должны платить за пребывание Данте в больнице, то и я не должен платить за небольшое посещение врача Джулиана. Если папа хочет забрать мой грузовик, я не буду возражать.
На лице миссис Кинтана появилась ухмылка. А это случалось не часто.
— Дай знать, что скажет твой отец.
— И еще кое-что. Если Джулиан захочет, он может обратиться в полицию. — На моем лице тоже появилась ухмылка. — Думаете, он сделает это?
— Ты хорошо разбираешься в уличных проблемах, не так ли, Ари? — мне понравилось выражение лица Сэма.
— Да, это правда.
ДВЕНАДЦАТЬ
Мой отец не спорил с моим решением не оплачивать больничный счет Джулиана. Он посмотрел на меня и сказал:
— Я думаю, ты просто хочешь разобраться с этим без суда, — Он просто продолжал кивать. — Сэм говорил со старой леди. Она сказала, что не сможет распознать тех мальчиков.
Отец Джулиана подошел и поговорил с моим. Он не выглядел очень счастливым, когда уходил.
Папа не забрал мой грузовик.
ТРИНАДЦАТЬ
Казалось, что нам с Данте совершенно не о чем говорить.
Я одолжил несколько книг со стихами у его отца, и читал их Данте. Иногда он просил прочитать какой-то стих еще раз. И я это делал. Я не знаю, что случилось между нами в эти последние дни лета. В некотором смысле я никогда не чувствовал себя ближе к нему. Но в это же время, я никогда не чувствовал себя более отдаленным.
Ни один из нас не вернулся к работе. Я не знаю. Думаю, после того, что случилось, все это казалось таким бессмысленным.
Однажды я решил пошутить, но вышло не совсем удачно.
— Почему лето всегда заканчивается тем, что один из нас оказывается побитым?
Ни один из нас не смеялся над шуткой.
Я не приводил Легс, потому что она любила прыгать на Данте, и могла причинить ему боль. Данте скучал. Но он знал, что я не привожу ее из хороших побуждений.
Однажды утром, я пришел к Данте и показал ему все фотографии моего брата. Я рассказал ему историю, которую собрал из газетных вырезок и того, что рассказал мне отец.
— Так ты хочешь услышать всю историю? — спросил я.
— Расскажи мне, — сказал он.
Мы оба устали от поэзии, устали от того, что нам не о чем поговорить.
— Хорошо. Моему брату было пятнадцать лет. Он был зол. Судя по тому, что я знаю о нем, он всегда был зол. Особенно часто об этом говорят мои сестры. Я предполагаю, что он был подлым, или просто, я не знаю, он просто родился злым. И так, однажды ночью он бродил по улицам города, в поисках неприятностей. Вот, что сказал мой отец. Он сказал: «Бернардо всегда искал неприятности. Он подобрал проститутку».
— Где бы он взял деньги?
— Я не знаю. А что?
— Когда тебе было пятнадцать лет, у тебя были деньги на проститутку?
— Когда мне было пятнадцать лет? Ты говоришь, так, будто это было давным-давно. Черт, у меня едва ли хватало денег на конфеты.
— А я о чем.
Я посмотрел на него.
— Могу ли я закончить?
— Прости.
— Проституткой оказался парень.
— Что?
— Он был трансвеститом.
— Вау.
— Да. Мой брат был баллистическим.
— Насколько баллистическим?
— Он убил этого парня голыми руками.
Данте не знал, что на это ответить.
— Господи, — сказал он.
— Да. Господи.
Прошло много времени, прежде чем кто-либо из них заговорил.
Наконец, я посмотрел на Данте.
— Ты знаешь, кто такие трансвеститы?
— Да. Конечно, я знаю.
— Конечно ты знаешь.
— Ты не знаешь, что такие трансвеститы?
— Откуда я должен это знать?
— Ты такой невинный, Ари, ты знаешь это?
— Не так уж и невинный, — сказал я — Но я не закончил. Все становится еще хуже.
— Как это может стать еще хуже?
— Он убил кого-то еще.
Данте ничего не сказал. Он ждал, пока я закончу рассказ.
— Его поместили в колонию для несовершеннолетних. Я предполагаю, что в один прекрасный день, он снова достал кулаки. Моя мама права. Мы не можем изменится только потому что хотим этого.
— Мне жаль, Ари.
— Ага, ну, мы ничего не можем изменить. Правда? Но это хорошо, Данте. Я имею в виду, это не хорошо для моего брата. Я не знаю, будет ли для него когда-нибудь все хорошо. Но хорошо, что теперь это никто не скрывает. — Я посмотрел на него. — Возможно, когда-нибудь я с ним встречусь. Когда-нибудь.
Он смотрел на меня.
— Ты выглядишь так, будто собираешься расплакаться.
— Нет. Просто это слишком грустно, Данте. И знаешь, что? Думаю, я похож на него.
— Почему? Потому что ты сломал нос Джулиана Энрикес?
— Так ты знаешь?
— Да.
— Почему ты не сказал, что знаешь?
— А почему ты не рассказал мне, Ари?
— Я не горжусь собой, Данте.
— Зачем ты это сделал?
— Я не знаю. Он сделал тебе больно. Я хотел причинить ему боль в ответ. Я совершил глупый поступок. — Я посмотрел на него. — Твои синяки почти пропали.
— Почти, — сказал он.
— Как ребра?
— Лучше. Иногда мне трудно спать. Так что я пью таблетки. Я ненавижу их.
— Ты был бы плохим наркоманом.
— А может нет. Мне очень понравилась травка. Правда.
— Может быть, твоя мама должна взять у тебя интервью для книги, которую она пишет.
— Ну, она уже хорошенько отчитала меня.
— Откуда она узнала?
— Говорю тебе. Она как Бог. Она знает все.
Я старался не смеяться, но я ничего не мог с собой поделать. Данте тоже рассмеялся. Но ему было больно. Из-за его треснувших ребер.
— Ты не такой, — сказал он. — Ты совсем не похож на своего брата.
— Я не знаю, Данте. Иногда я думаю, что я никогда не смогу понять себя. Я не такой как ты. Ты точно знаешь, кто ты есть.
— Не всегда, — сказал он. — Могу я задать тебе вопрос?
— Конечно.
— Тебя беспокоит, что я целовал Дэниела?
— Я думаю, что Даниэль кусок дерьма.
— Нет. Он милый. И хороший.
— Хороший? Как глубоко? Он кусок дерьма, Данте. Он просто оставил тебя там.
— Мне кажется, что тебе это волнует больше, чем меня.
— Ну, тебя это тоже должно волновать.
— Ты бы не сделала это, не так ли?
— Нет.
— Я рад, что ты сломал нос Джулиана.
Мы оба рассмеялись.
— Даниэлю было плевать на тебя.
— Он был напуган.
— И что? Мы все напуганы.
— Не ты, Ари. Ты ничего не боишься.
— Это не правда. Но я не позволил бы им сделать это с тобой.
— Может быть, тебе просто нравится драться, Ари.
— Может быть.
Данте посмотрел на меня. Он просто смотрел на меня.
— Ты пялишься, — сказал я.
— Могу ли я рассказать тебе секрет, Ари?
— Могу ли я остановить тебя?
— Тебе не нравится знать мои секреты.
— Иногда твои секреты пугают меня.
Данте рассмеялся.
— На самом деле я не целовал Даниэля. В моей голове, я целовал тебя.
Я пожал плечами.
— Тебе нужна новая голова, Данте.
Он выглядел немного грустно.
— Да. Полагаю, это так.
ЧЕТЫРНАДЦАТЬ
Я проснулся рано. Солнце еще не взошло. Вторая неделя августа. Лето заканчивалось. По крайней мере та часть лета, в которой нет школы.
Выпускной год. А потом жизнь. Возможно, это так, как все работает. Средняя школа была просто прологом к реальному роману. Все пишут этот роман за тебя, но, когда ты заканчиваешь школу, ты должен начать написать самостоятельно. На выпускном ты должны забрать ручки у своих учителей и родителей. И получили свое собственное перо. И тогда ты можешь писать все, что захочешь. Да. Разве это не круто?
Я сел на кровать и пробежал пальцами по шрамам на моих ногах. Шрамы. Признак того, что тебе было больно. Признак того, что ты исцелился.
Было ли мне больно?
Исцелился ли я?
Может быть, мы просто жили между повреждением и исцелением. Как мой отец. Я думаю, именно так он и жил. В этом в промежутке между пространством. В этом экотоне. Точно также, как и моя мама. Она заперла моего брата где-то глубоко внутри себя. И теперь она пытается выпустить его.
Я продолжал водить пальцами по шрамам. Вверх и вниз.
Легс лежала рядом со мной. Наблюдала. На что ты смотришь, Легс? Что ты видишь? Где ты жила до того, как я тебя нашел? Тебе тоже причинили боль?
Еще одно лето подходило к концу.
Что со мной будет после того как я закончу школу? Колледж? Еще больше учебы. Может быть, я перееду в другой город, в другое место. Возможно, в другом месте лето тоже будет другим.
ПЯТНАДЦАТЬ
— Что ты любишь, Ари? Что ты действительно любишь?
— Я люблю пустыню. Боже, я обожаю пустыню.
— Это так одиноко.
— Разве?
Данте не понимал. Я был непознаваем.
ШЕСТНАДЦАТЬ
Я решил пойти плавать. Я пришел каркас на открытие бассейна, так что я смог поплавать несколько кругов в тишине, прежде чем он был переполнен. Там были спасатели, которые разговаривая о девушках. Я игнорировал их. Они игнорировали меня.
Я плавал и плавал, пока не начали болеть мои ноги и легкие. Потом сделал перерыв. А потом еще немного поплавал. Я чувствовал воду на моей коже. Я вспомнил о дне, когда встретил Данте. «Хочешь я научу тебя плавать?» Я о том, как же сильно изменился его голос. Мой тоже. Я вспомнил о том, что сказала моя мама. «Ты говоришь, как мужчина». Было легче говорить, как мужчина, чем быть им.
Когда я вышел из бассейна, я заметил девушку, которая смотрела на меня. Она улыбнулась.
Я улыбнулся в ответ.
— Привет, — помахал я.
— Привет. — Она помахала в ответ. — Ты ходишь в Остин?
— Ага.
Думаю, она хотела продолжить разговор. Но я не знаю, что еще сказать.
— В каком ты классе.
— В выпускном.
— А я второкурсница.
— Ты выглядишь старше, — сказал я.
Она улыбнулась.
— Я быстро созрела.
— А я нет, — сказал я.
Это заставило ее рассмеяться.
— Ну, пока, — сказал я.
— Пока, — повторила она.
Зрелые. Мужчина. Что вообще означают эти слова?
Я подошел к дому Данте и постучал в дверь. Дверь открыл Сэм.
— Привет, — сказал я.
Сэм выглядел расслабленным и счастливым.
— Привет, Ари. Где Легс?
— Дома. — Я потянул за влажное полотенце, и перебросил его через плечо. — Я ходил плавать.
— Данте будет завидовать.
— Как он?
— Хорошо. Становиться лучше. Ты давненько не заходил. Мы скучали по тебе. — Он пригласил меня в дом. — Он в своей комнате, — Сэм помедлил. — У него гости.
— О, — сказал я. — Я могу зайти позже.
— Не беспокойся об этом. Иди наверх.
— Я не хочу его беспокоить.
— Не глупи.
— Я могу зайти позже. Это не так уж важно. Я просто возвращался с плавания…
— Это просто Даниэль, — сказал он.
— Даниэль?
Я думаю, он заметил удивленный взгляд на моем лице.
— Он тебе не очень нравится, не так ли?
— Он бросил Данте на растерзание.
— Не суди людей по одному поступку, Данте.
Эти слова действительно разозлили меня.
— Передайте Данте, что я заходил.
СЕМНАДЦАТЬ
— Папа сказал, что ты были расстроен?
— Я не был расстроен. — Входная дверь была открыта, и Легс лаяла на собаку, проходящую мимо. — Минуточку, — сказал я. — Легс! Прекрати.
Я принес телефон в кухню и сел за стол.
— Хорошо, — сказал я. — Послушай, я не был расстроен.
— Думаю, что мой папа не говорил мне этого, ели все было не так.
— Хорошо, — сказал я. — Это что так важно?
— Видишь. Ты расстроен.
— Я просто был не в настроении, чтобы встретится с твоим другим Даниэлем."
— Что он тебе сделал?
— Ничего. Мне просто не нравится этот парень.
— Почему мы не можем все быть друзьями?
— Этот ублюдок оставил тебя там умирать, Данте.
— Мы говорили об этом. Все нормально.
— Тогда хорошо. Отлично.
— Ты ведешь себя странно.
— Данте, иногда ты полон дерьма, ты это знаешь?
— Послушай, — сказал он. — Мы собираемся на какую-то вечеринку сегодня вечером. Я хотел бы, чтобы ты пришел.
— Я дам тебе знать, — сказал я и повесил трубку.
Я спустился в подвал и тренировался в течение нескольких часов. Я тренировался и тренировался, пока не понял, что каждая частичка моего тела невыносимо болит.
Боль была не такой уж плохой.
Я принял душ, а потом лег на кровать и просто лежал. Должно быть, я заснул. Когда я проснулся, голова Легс лежала на моем животе. Я гладил ее, пока не услышал голос моей мамы.
— Ты голоден?
— Нет, — сказал я. — Правда. Я не голоден.
— Ты уверен?
— Да. Который сейчас час?
— Шесть тридцать.
— Вау. Кажется, я сильно утомился.
Она улыбнулась мне.
— Может быть, во всем виноваты физические упражнения?
— Наверно.
— Что-то не так?
— Нет.
— Ты уверен?
— Я просто устал.
— Ты слишком много тренируешься, тебе не кажется?
— Нет.
— Когда ты расстроен, ты тренируешься.
— Это еще одна из твоих теорий, мама?
— Это больше, чем теория, Ари.
ВОСЕМНАДЦАТЬ
— Данте звонил.
Я ничего не ответил.
— Ты собираешься перезвонить ему?
— Конечно.
Ты знаешь, что в течение последних четырех или пяти дней ты просто хандрил, слоняясь по дому, и тренировался. Это все, чем ты занимаешься.
Хандрить. Я вспомнил о том, как меня всегда называла Джина — «Мальчик-меланхолия».
— Я не хандрю. И я не только тренировался. Я читал. И я думал о Бернардо.
— В самом деле?
— Да.
— И что ты думал?
— Я думал, что хочу написать ему.
— Он возвращает все мои письма.
— Серьезно? Может быть, он не вернет мои.
— Может быть, — сказала она. — Стоит попробовать. Почему бы и нет?
— Ты перестала ему писать?
— Да, я перестала, Ари. Это слишком больно.
— Это имеет смысл, — сказал я.
— Только не слишком разочаровывайся, Ари, хорошо? Не следует ожидать слишком многого. Твой отец однажды пришел навестить его.
— И что случилось?
— Твой брат не захотел его видеть.
— Он вас ненавидит?
— Нет. Я не думаю, что это так. Я думаю, что он зол на себя. И я думаю, что ему стыдно.
— Он должен переступить через это. — Я не знаю, почему, но я ударил стену.
Мама внимательно смотрела на меня.
— Прости, — сказал я. — Я не знаю, почему я это сделал.
— Ари?
— Что?
В ее лице что-то изменилось. Появился серьезный, обеспокоенный взгляд. Она не сердилась, но ее взгляд был строгим.
— Что случилось, Ари?
— Ты спрашиваешь так, будто у тебя опять есть какая-то теория по поводу меня.
— Поверь мне, так и есть, — сказала она. Но ее голос был таким красивым, добрым и сладким. Она встала из-за кухонного стола и налила себе бокал вина. Потом она достала две бутылки пива и поставила одну из них передо мной. Вторую она поставила на центр стола.
— Твой отец читает. Я пойду позову его.
— Что происходит, мама?
— Семейная встреча.
— Семейная встреча? Что это?
— Это новая вещь, — сказала она. — С этого момента, они будут происходить часто.
— Ты меня пугаешь, мама.
— Хорошо. — Она вышла из кухни. Я смотрел на пиво, стоящее передо мной. Я прикоснулся к холодному стеклу. Не знаю, должен ли я был пить его или нет. Может быть, это все было подстроено. Моя мама и папа вошли в кухню. Они оба сели напротив меня. Мой отец открыл свое пиво, а потом мое. Он сделал глоток.
— Вы проверяете меня?
— Расслабься, — сказал мой отец. Он сделал еще один глоток пива. А мама сделала глоток вина. — Разве ты не хочешь, выпить пиво с мамой и папой?
— Не совсем, — сказал я. — Это против правил.
— Новые правила, — сказала мама.
— Пиво с твоим стариком не убьет тебя. Не притворяйся, что ты не пил раньше. В чем дело?
— Это действительно странно, — сказал я, но все равно сделала глоток пива. — Теперь счастлив?
У моего отца было очень серьезное выражение лица.
— Я когда-нибудь рассказывал тебе о какой-либо из моих стычек, в то время как я был во Вьетнаме?
— О, да, — сказал я. — Я только думал обо всех этих военных историях, которые ты мне рассказывал.
Мой отец наклонился и взял меня за руку.
— Я заслужил это. — Он крепче сжал мою руку, а затем отпустил.
— Мы были на севере. К северу от Дананга.
— Это то, где ты был? Дананг?
— Это был мой дом вдали от дома. — Он криво улыбнулся мне. — Мы были на разведке. Все было довольно спокойно в течение нескольких дней. Это был сезон муссонов. Боже, я ненавидел эти бесконечные дожди. Мы были просто впереди конвоя. Площадка была очищена. Мы были там, чтобы убедиться, что побережье было чистым. И тогда весь Ад вырвался на свободу. Повсюду были пули. Падали гранаты. Мы были в значительной степени в засаде. Это происходило не впервые. Но на этот раз все было по-другому.
— Со всех сторон была стрельба. Лучше, что мы могли сделать, это просто упасть обратно. Беккет вызвал вертолет, чтобы вытащить нас. Там был один парень. Действительно хороший парень. Боже, он был так молод. Девятнадцать лет. Он был еще совсем мальчишкой. — Мой отец покачал головой. — Его звали Луи. Солдат из Лафайета. — По лицу моего отца текли слезы. Он потягивал на свое пиво. — Мы не должны были оставлять никого внизу. Это было правилом. Нельзя оставлять человека внизу. Нельзя оставить человека умирать. — Я мог видеть выражение на лице моей матери. Она категорически отказывалась плакать. — Я помню, как бежал к вертолету. Луи был прямо позади меня. А со всех сторон летели пули. Я думал, что умру. А потом Луи упал. Он кричал мое имя. Я хотел вернуться. Я не помню точно, но последнее, что я помню, это то, как Беккет заталкивает меня в вертолет. Я даже не заметил, что меня подстрелили. Мы оставили его там. Луи. Мы оставили его. — Я смотрел, как мой отец справляется со слезами. В звуке человеческой боли было что-то такое, что напоминало звук раненого животного. Мое сердце разрывалось. Все это время, я так хотел, чтобы мой отец, рассказал мне что-нибудь о войне, а теперь я не мог выдержать его боль, которая даже через столько лет была как новая.
— Я не знаю, верил ли я в войну или нет, Ари. Не думаю, что верил. Я часто об этом думаю. Но я сам подписался на это. И я не знаю, что я чувствовал по поводу этой страны. Я знаю, что единственная страна, которая у меня была — это люди, которые воевали бок о бок со мной. Они были моей страной, Ари. Они. Луи, Беккет, Гарсия, Ал и Гио — они были моей страной. Я не горжусь всем тем, что совершил на этой войне. Я не всегда был хорошим солдатом. Я не всегда был хорошим человеком. Война сделала что-то с нами. Со мной. Со всеми нами. Но люди, которых мы оставили позади. Это те, кто приходят ко мне во снах.
Я пил мое пиво, а отец пил свое. Мама пила вино. Мы все молчали. Время перестало существовать.
— Иногда я слышу его, — сказал мой отец. — Луи. Я слышу, как он зовет меня. Но я не откликаюсь.
— Если бы ты вернулся, тебя бы тоже убили, — прошептал я.
— Может быть. Но я не справился со своей работой.
— Папа, не надо. Пожалуйста… — Я почувствовал, как мама наклонилась через стол и вытерла мои слезы. — Ты не должны говорить об этом, папа. Ты не…
— Думаю, должен. Возможно, пришло время, чтобы остановить кошмары. — Он оперся на мою маму. — Ты не думаешь, что пора сделать это, Лили?
Моя мама не сказала ни слова.
Папа посмотрел на меня, и улыбнулся.
— Несколько минут назад твоя мам вошла в гостиную и забрала книгу, которую я читал из моих рук. И она сказала: «Поговорите с ним. Поговорите с ним, Хайме». И она сказала это своим самым фашистским голосом.
Мама тихо рассмеялась.
— Ари, пришло время перестать убегать.
Я посмотрел на моего отца.
— Убегать от чего?
— Разве ты не знаешь?
— Что?
— Если ты продолжишь убегать, это убьет тебя.
— Ты о чем, пап?
— О тебе и Данте.
— Обо мне и Данте? — Я посмотрел на маму. Потом посмотрел на отца.
— Данте любит тебя, — сказал он. — Это достаточно очевидно. Он не скрывает это.
— Я не могу помочь с тем, что он чувствует, папа.
— Нет. Нет, ты не можешь.
— И к тому же, я думаю, что он не беспокоится по этому поводу. Ему нравится тот парень, Даниэль.
Папа кивнул.
— Ари, проблема заключается не только в том, что Данте влюблен в тебя. Реальная проблема, для тебя во всяком случае, состоит в том, что ты влюблен в него.
Я ничего не ответил. Я просто продолжал смотреть на лице моей матери. А потом на лицо моего отца.
Я не знал, что должен сказать.
— Я не уверен, я имею в виду, я не думаю, что это правда. Я имею в виду, я просто не думаю, что это так. Я имею в виду…
— Ари, я знаю, что я вижу. Ты спас его жизнь. Как думаешь, почему ты сделал это? Как думаешь, почему в одно мгновение, даже не думая, ты прыгнул через улицу и оттолкнул Данте от надвигавшегося автомобиля? Как думаешь, почему это произошло? Я думаю, ты просто не мог выдержать мысль о том, что потеряешь его. Ты просто не мог. Зачем бы ты рисковал своей жизнью, чтобы спасти Данте, если ты его не любишь?
— Потому что он мой друг.
— А почему решил пойти, и выбить все дерьмо из парня, который сделал больно? Почему ты так поступил? Это все твои инстинкты, Ари. Каждый из них что-то говорит. Ты любишь этого мальчика.
Я продолжал смотреть вниз на стол.
— Я думаю, что ты любишь его больше, чем можешь вынести.
— Папа? Пап, нет. Нет, я не могу. Я не могу. Почему ты все это говоришь?
— Потому что я не могу смотреть на все что одиночество, которое живет внутри тебя. Потому что я люблю тебя, Ари. — В этот момент я начал плакать. Я думал, что никогда не смогу прекратить плакать. Но я остановился. Когда я окончательно успокоился, то сделал большой глоток пива.
— Пап, думаю мне больше нравилось, когда ты не говорил.
Мама рассмеялась. Я любил ее смех. И тогда рассмеялся и отец. А потом рассмеялся я.
— Что мне делать? Мне так стыдно.
— Стыдно за что? — спросила мама. — За любовь к Данте?
— Я парень. Он парень. Это не так, как все должно быть. Мама…
— Я знаю, — сказала она. — Знаешь, Офелия меня кое-чему научила. Все эти письма. Из них я многое узнала. И твой отец прав. Ты не можешь продолжать убегать. Не от Данте.
— Я ненавижу себя.
— Не надо, дорогой. Не надо. Я уже потерял одного сына. И я не собираюсь терять второго. Ты не одинок, Ари. Я знаю, что тебе так кажется. Но ты не прав.
— Как ты можешь любить меня так сильно?
— Как я могу не любить тебя? Ты самый красивый мальчик в мире.
— Это не так.
— Так. Так.
— Что мне делать?
Голос отца был мягким.
— Данте не убежал. Я продолжаю представлять, как он принимаете все эти удары. Но он не убежал.
— Ладно, — сказал я. Единственный раз в моей жизни, я прекрасно понимал моего отца.
И он понимал меня.
ДЕВЯТНАДЦАТЬ
— Данте?
— Я звонил тебе каждый день в течение последних пяти дней.
— У меня грипп.
— Плохая шутка. Пошел ты, Ари.
— Почему ты так злишься?
— Почему ты так злишься?
— Я больше не злюсь.
— Значит, теперь моя очередь злится.
— Хорошо, это справедливо. Как Даниэль?
— Ты кусок дерьма, Ари.
— Нет Даниэль — это кусок дерьма.
— Ты ему не нравишься.
— Мне он тоже не нравится. Так теперь он твой новый лучший друг? "
— Даже не близко.
— Вы, ребята, целовались?
— А тебе то что?
— Просто спрашиваю.
— Я не хочу целовать его. Он для меня ничего не значит.
— Итак, что случилось?
— Он самовлюбленный, тщеславный, кусок дерьма. И он даже не умный. И он не нравится моей маме.
— А что о нем думает Сэм?
— Папа не считается. Ему нравятся все.
Это действительно заставило меня смеяться.
— Не смейся. Почему ты злился?
— Мы можем говорить об этом, — сказал я.
— Да, ты же так хорош в этом.
— Дай мне перерыв, Данте.
— Хорошо.
— Хорошо. Так что ты делаешь сегодня вечером?
— Наши родители собираются в боулинг.
— Да?
— Они много разговаривают.
— Действительно?
— Разве ты ничего не знаешь?
— Думаю, что иногда я нахожусь немного в стороне от всего этого.
— Немного?
— Я стараюсь, Данте.
— Скажи, что тебе жаль. Я не люблю людей, которые не знают, как сказать, что им жаль.
— Хорошо. Мне жаль.
— Хорошо. — Я был уверен, что он улыбается. — Они хотят, чтобы мы пошли с ними.
— В боулинг?
ДВАДЦАТЬ
Данте в ожидании сидел на ступеньках. Как только я подъехал, он соскочил с крыльца, и залез в грузовик.
— Боулинг звучит очень скучно.
— Ты когда-нибудь ходил?
— Конечно. Но я в это очень плох.
— А ты должен быть хорош во всем?
— Да.
— Да ладно. Может, будет весело.
— С каких пор ты хочешь проводить время с нашими родителями?
— Это не так уж и плохо, — сказал он. — Они хорошие. И кстати, это ты так сказал.
— Что?
— Ты сказал, что никогда не убегал из дома, потому что обожаешь своих родителей. И я думал, что это очень странно. Я имею в виду, не нормальная. Я имею в виду, полагаю, я думал, что родители — это инопланетяне.
— Это не так. Они просто люди.
— Да. Я знаю. Думаю, я изменил свое мнению по поводу мамы с папой.
— Значит, теперь ты их обожаешь?
— Ага. Думаю, да. — Я завел грузовик. — Если честно, я тоже ужасно играю в боулинг. Просто, чтобы ты знал.
— Ну, ставлю на то, что мы все равно лучше наших мам.
— Уверен, что мы в сто раз лучше.
Мы смеялись. И смеялись. И смеялись.
Когда мы добрались до боулинг-клуба, Данте посмотрел на меня и сказал:
— Я сказал моим родителям, что я никогда, никогда не захочу поцеловать другого парня до конца моей жизни.
— Ты им так и сказал?
— Да.
— Что они ответили?
— Мой папа закатил глаза.
— А что сказала твоя мама?
— Не много. Она сказала, что она знает хорошего терапевта. «Он поможет тебе прийти к соглашению», — сказала она. А потом она добавила: «Если ты не хочешь, можешь поговорить со мной вместо этого». — Он посмотрел на меня. И мы оба рассмеялись.
— Твоя мама, — сказал я. — Она мне нравится.
— Она жесткая, как железо, — сказал он. — Но в тоже время нежная.
— Да, — сказал я. — Заметил.
— Наши родители очень странные, — сказал он.
— Потому что они любят нас? Это не так уж странно.
— То, как они любят нас, это странно.
— Красиво, — сказал я.
Данте посмотрел на меня.
— Ты изменился.
— Как?
— Я не знаю. Ты ведешь себя иначе.
— Странно?
— Да, странно. Но в хорошем смысле.
— Хорошо, — сказал я. — Я всегда хотел быть странным в хорошем смысле.
Я думаю, наши родители были очень удивлены, увидев, что мы действительно пришли. Наши отцы пили пиво. А матери газировку. У них были ужасные баллы. Сэм улыбнулся нам.
— Я не ожидал, что вы ребята, на самом деле придете.
— Нам было скучно, — сказал я.
— Ты нравился мне больше, когда не был таким нахалом.
— Простите, — сказал я.
Было весело. Нам было весело. Оказалось, что я был лучшим игроком. У меня было больше 120-и балов. И во время третей игры я получил еще 135 баллов. Если подумать, то это ужасно. Но остальная часть команды действительно отстой. Особенно моя мама и миссис Кинтана. Они много говорили. И много смеялись. Данте, и я постоянно смотрели друг на друга и смеялись.
ДВАДЦАТЬ ОДИН
Когда мы с Данте вышли из боулинг-клуба, я поехал в пустыню.
— Куда мы идем?
— В мое любимое место.
Данте был тих.
— Уже поздно.
— Ты устал?
— Вроде.
— Сейчас всего лишь десять. Рано встал, не так ли?
— Ты меня знаешь.
— Если ты не хочешь, мы можем просто поехать домой.
— Нет.
— Хорошо.
Данте не захотел включать музыку. Он просмотрел мою коробку с кассетами, но не мог остановиться на чем-нибудь конкретном. Я не был против тишины.
Мы просто ехали в пустыню. Я и Данте. Не говоря ни слова.
Я припарковал на моем обычном месте.
— Я люблю это место, — сказал я. Я мог слышать биение собственного сердца.
Данте ничего не сказал.
Я прикоснулся к теннисной обуви, которую он прислал мне, что свисала с моего зеркала заднего обзора.
— Я люблю эту вещь, — сказал я.
— Ты любишь много вещей, не так ли?
— Твой голос звучит раздраженно. Я думал, ты больше не злишься.
— Думаю, я злюсь.
— Мне жаль. Я сказал, что мне жаль.
— Я не могу так, Ари, — сказал он.
— Не можешь как?
— Вся эта штука с дружбой. Я не могу.
— Почему нет?
— Я должен объяснять это тебе?
Я ничего не ответил.
Он вышел из машины и захлопнул дверь. Я последовал за ним.
— Эй, я коснулась его плеча.
Он оттолкнул меня.
— Мне не нравится, когда ты прикасаешься ко мне.
Мы стояли там в течение долгого времени. Ни один из нас ничего не говорил. Я чувствовал себя маленьким, незначительным и недостаточным. Я ненавидел это ощущение. И я собирался перестать чувствовать себя таким образом. Я собирался остановить это.
— Данте?
— Что? — в его голосе отчетливо слышался гнев.
— Не злись.
— Я не знаю, что делать, Ари.
— Помните, тот раз, когда ты меня поцеловал
— Да.
— Помнишь, я сказал, что это не действует на меня?
— Почему ты об этом говоришь? Я помню. Я помню. Черт, Ари, ты думаешь, я забыл? "
— Я никогда не видел тебя таким раздраженным.
— Я не хочу об этом говорить, Ари. Это просто заставляет меня чувствовать себя плохо.
— Что я сказал, когда ты поцеловал меня?
— Ты сказал, что это не действует на тебя.
— Я соврал.
Он посмотрел на меня.
— Не играй со мной, Ари.
— Я не играю.
Я взял его за плечи, и посмотрел на него. Он посмотрел на меня в ответ.
— Ты сказал, что я не ничего не боюсь. Это не правда. Ты. Вот что я боюсь. Я боюсь тебя, Данте. — Я сделал глубокий вдох. — Попробуй еще раз, — сказал я. — Поцелуй меня.
— Нет, — сказал он.
— Поцелуй меня.
— Нет. — А потом он улыбнулся. — Ты поцелуй меня.
Я положил руку на его затылок, и потянула его к себе. А потом я его поцеловал. Я целовал его. И я целовал его. И я целовал его. И я целовал его. А он продолжал целовать меня.
Мы смеялись, и мы разговаривали, и мы смотрели на звезды.
— Я хотел бы, чтобы сейчас шел дождь, — сказал он.
— Мне не нужен дождь, — ответил я. — Мне нужен ты.
Он начертил пальцем свое имя по моей спине. А я начертил мое на его спине.
Все это время.
Вот что со мной было не так. Все это время я пытался выяснить тайны Вселенной, тайны моего собственного тела, моего собственного сердца. Все ответы всегда были так близко, и все же я всегда боролся с ними, даже не зная об этом. С той минуты, как я встретил Данте, я влюбился в него. Я просто не позволял себе это знать, и думаю, чувствовать это. Мой отец был прав. И то, что сказала моя мама, тоже было правдой. Мы все боремся в нашей собственной войне.
Мы с Данте лежали в самодельной постели моего пиками, и смотрел на летние звезды. Я был свободен. Представьте это. Аристотель Мендоза — свободный человек. Я больше не боялся. Я думал об этом выражение лица моей матери, когда я сказал ей, что мне было стыдно. Я думал об этом взгляде любви и сострадания, которое обретало ее лицо, когда она смотрела на меня. «Стыдно? Из-за любви к Данте?»
Я взял Данте за руку, и сжал ее.
Как мне когда-либо могло быть стыдно любить Данте Кинтана?
БЛАГОДАРНОСТИ
Я долго раздумывал о написании этой книги. На самом деле, после того, как я закончил первую главу или около того, я почти решил отказаться от проекта. Но мне повезло, и я был достаточно благословлен быть окруженным преданными, мужественными, талантливыми и умными людьми, которые вдохновили меня на написание того, что я начал. Эта книга не была бы написана без них. Итак, вот мой маленький, и определенно не полный, список людей, которых я хочу поблагодарить: Пэтти Мусебруггера — отличного агента, и отличного друга. Дэниела и Сашу Чакон за их большую любовью и убеждение, что я должен написать эту книгу. Гектора, Энни, Джинни, и Барбару, которые всегда были со мной. Моего редактора, Дэвида Гейла, который верил в мою книгу и всю команду в Simon & Schuster, особенно Нава Вульфа. Моих коллег из Отдела Креативного Написания, чья работа и великодушие постоянно бросала мне вызов, и вдохновляла быть лучшим писателем и лучшим человеком. И, наконец, я хотел бы поблагодарить моих студентов, прошлых и настоящих, которые напоминают мне, что язык и письмо всегда будут иметь огромное значения. Моя благодарность всем вам.