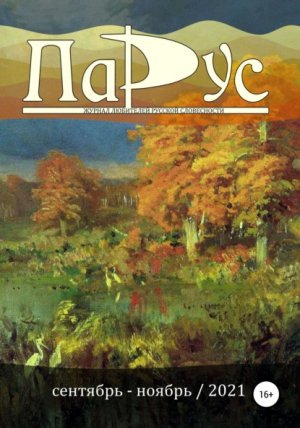
Слово редактора
Приветствую Вас, дорогой читатель!
Журнал «Парус» снова скользит по волнам отечественной словесности, и на этот раз, в осеннем выпуске, мы отобрали непредсказуемые, оригинальные и глубокие рукописи как уже полюбившихся Вам и нам постоянных авторов, так и нескольких дебютантов, в том числе на уровне жанра.
Несказанно рада, что теперь наш «Парус», помимо содружеств литературных журналов на порталах «Русское Поле», «ЛитБук» и «Журнальный мир», появился и на платформе «ЛитРес». Здесь для нас открываются дополнительные возможности. Теперь Вы сможете приобрести электронную или бумажную версии, скачать свежий номер в виде книги и читать оффлайн.
Ещё одна замечательная новость – появление у «Паруса» своей личной гавани, персонального сайта, где собрана основная информация об издании, есть разделы для авторов и читателей, опубликованы основные требования к публикациям, сведения о составе команды и, конечно, свежий номер. Добро пожаловать в гости! Мы расположились по адресу https://parusjournal.ru/.
С удовольствием ждём новых авторов и приглашаем присоединиться к нашему морскому путешествию! Будем рады единомышленникам и тем, кто готов поспорить. Каюты «Паруса» уже приготовлены и замерли в ожидании талантливых, искренних и самобытных произведений, а мы мечтаем об открытии новых имён, материков и тайн стихии творчества.
Вас же, дорогой читатель, приглашаем к уютному чтению! Желаем вдохновенного и свободного плавания в стихии художественного слова – вместе с «Парусом»!
Ирина Калус
Художественное слово. Поэзия.
Евгений ХАРИТОНОВ. «Я взгляд направил в небеса…»
Многострадальная Россия
Соединив свои ладони,
Я взгляд направил в небеса
И прошептал: «Не надо боле
Трепать России паруса…»
И в тот же миг разряды молний
Сожгли с десяток тополей.
Так Бог мне, видимо, напомнил
Про участь Родины моей.
Душа поэта
Порою я слышу нескромный вопрос,
Который вскрывает души оболочку.
Что чувствует автор, когда он нанес
Пером на бумагу финальную строчку,
Заверив тем самым создание стихов?
Ответ вопрошающим будет таков:
Вы видели горные сходы лавин,
Как мчатся снега по немыслимой крути?
Их сход неминуем и неукротим,
Безжалостен и беспощаден по сути!
Но горы, лишенные ноши своей,
Становятся жилистей, выше, стройней!
Смотрели весной пробуждение рек?
Как с треском ломаются крепкие льдины?
Как волны бурлят, начиная разбег,
Чтоб сбросить с себя ледяные седины?
А сбросив, становится тихой волна,
Как будто покой обретает она!
А небо, объятое летней грозой?
Как стонет оно изнывающим громом.
Как молнии вьются по небу лозой,
Вгрызаясь в свинцовые тучи фантомом.
Но, выплакав слезы на город, леса,
Насколько сине́й предстают небеса!
Вот так и поэт, дописавший стихи,
Вздохнет, заковав свои мысли в чернила.
Как будто бумага впитала грехи,
Как будто бы тайны в себе схоронила!
Но этот покой не продлится века
И вновь позовёт помолиться строка.
Могилы со звездами ржавыми
На каждом погосте видны.
Вы здесь не услышите жалобы
От тех, кто с нацистской державою
Сражался во время войны.
По пояс травою заросшие
Лежат на просторах страны
Герои, Победу принесшие,
Штыками врага заколовшие…
А чем отплатили им мы?
Летняя ночь
Небо – плитка шоколада
С нежным цельным миндалем
Ярких звезд. Царит прохлада,
Мгла сгустилась киселем.
Сопок жилистые плечи
Примут лунный свет за шаль.
Пухом ряженые свечи
Камыша глазеют вдаль.
Не шумят поля ковыли,
Сонно головы склонив.
А ветра в степях застыли,
Будто резвость обронив.
Ночь тиха. И до рассвета
Жизнь свою теряет суть.
Словно замерла планета,
Чтоб немножко отдохнуть.
Вот и все
Вот и все, пришел черед разлуки.
Виноватых незачем искать.
Тяжелеют понемногу руки,
Им уже тебя не обнимать.
И волос твоих не гладить косы,
Не смеяться до ночи вдвоем.
Наши чувства – срезанные розы,
Что слабели в вазе день за днем.
За окном улыбку спрячет солнце –
Наш последний вечер на двоих.
Будто оно с нами расстается,
Чтобы завтра согревать других.
Между жизнью и смертью
Если любите розы —
Полюби́те шипы.
Если катятся слезы –
Не сходите с тропы,
По которой идете.
И, быть может, тогда
Вы себя обретете,
Как никто никогда.
Не бывает, поверьте,
Чтоб всегда не везло.
Между жизнью и смертью
Есть добро и есть зло.
Эти грани так хру́пки,
Но нам выделен век
Заслужить за поступки
Звания – Человек!
Похолодало
Вечер ничего не предвещал,
В сентябре еще он бодр и светел.
И все также весело качал
Жёлтый лист в своих ладонях ветер.
Но к утру пошло все кувырком,
Словно осень с приступом невроза.
И в окно стучится кулаком
Тот же ветер с визгом и морозом.
Сквозняки летят со всех щелей,
А под кожей холодеют жилы.
Мне б вернуть одежду потеплей,
Ту, что моль на лето одолжила.
(перевод с белорусского языка стихотворения Каблуковой Алеси, г. Минск)
Язык
Родной нам с детства,
Ты звучи!
Звучи!
Не угасай
В сердцах
И в наших душах!
Ты солнечного прошлого лучи,
Который, словно воздух,
Нам так нужен!
Ну что сказать? Я та, какою стала.
Имею за плечами жизнь без грез.
Пусть обойдет меня дурная слава
И прошлое не кажется всерьез.
Что будет дальше? Где моя дорога?
Ищу ответ на жизненной меже. ́
Ну а пока живу с надеждой в Бога
И с верою на лучшее в душе.
Я не предам ни совести, ни дружбы!
Пусть у других лежит в запасе месть.
Мне б просто стать кому-то очень нужной
И быть желанной, как благая весть.
Любовь АРТЮГИНА. «Ни сном, ни ветром»
Ещё тепло не разбрелось,
не взвизгнули колёса,
разбрызгивая вкривь и вкось
на перекрёстках осень.
Но чья-то детская рука,
как будто ласка лисья,
навеет свет издалека,
и пожелтеют листья.
И станет ясно, что по ним,
ещё живым, о Боже,
вчерашний путь невыполним
и завтрашний, быть может;
и если есть осенний Бог,
то он внутри синички:
и голоден, и одинок,
и рассыпает спички.
Мне нравится, когда уходит лето,
не попрощавшись, не оставив писем,
и в воздухе почти что неодетом
стекает свет, как по щекам, по листьям.
Дни переходят в ритм анабиоза,
заснём и мы, когда замёрзнут руки;
прозрачные, похожие на слёзы,
останемся слоняться по округе.
И будет в темноте казаться, что мы
в домах жжём свет, берёзой топим печи,
и выпускаем воробьёв почтовых
с дымящимися веточками речи.
И будет снег немерен и невидан,
затерян в глубине своей безглазой,
всплакнёт, во мгле покачиваясь, рында
три месяца, три вечности, три раза.
Ветер качает лампады
Тихих и чувственных дней –
Что же мне, Господи, надо
От незажжённой моей?
То ли кабацкого счастья
И – с колокольцами в путь,
В ночь без дороги умчаться,
Чтобы в себя заглянуть.
То ли в забытой деревне,
Где не сыскать борозды,
Слушать, как вторят деревья
Сердцебиенью воды.
Не обманись, не ошибись,
не перепутай:
на черенке другая жизнь
висит как будто,
и всё, что ей разрешено,
тебе запретно,
не лето смотрит сквозь окно,
окно – сквозь лето,
и видит свет в самом себе,
деревья жёлты,
и снег с вороной на губе
бормочет что-то,
вдали трамвайное кольцо
у мглы на пальце,
и у прохожего лицо
переливается.
Брести, брести без остановки,
пока ходьба сладка на вкус,
пока листва без подстраховки
с ветвей не падает без чувств.
Но что бы ни было помимо,
кружения не миновать,
нанизывая кольца дыма
на тёмную речную гладь,
где на мостках бельё светлело
тому назад ещё два дня,
и тонкою полоской мела
плыла, как песня, простыня,
и было вопреки приметам
такое чувство, что навек
там полоскальщицы из света
запястья окунают в свет.
Вот и осень почти что, почти,
без пяти, без одной с половиной,
до неё по мосткам перейти
через тёмный зрачок голубиный
и увидеть, прищурившись, в нём
очертания дома и снега,
и пылающего не огнём,
а лицом и листвой, – человека,
потянуться навстречу ему,
соскользнуть и, хватаясь за воздух,
погружаться в беззвучную тьму,
в молчаливые чуткие звёзды,
и заслышав осенний манок,
ни за что не поведать домашним
этот грустью обдавший дымок,
эти вечно горящие башни.
На грани сентября и полусвета,
когда пустые рощицы сквозят,
ни жалобы, ни просьбы, ни совета
нельзя найти и потерять нельзя.
И в шаге между сущим и насущным,
из горнего стремительного рва,
навстречу приближается несущий
ещё не прозвучавшие слова,
их тонкий ветер, всполохи, и тени,
высокий снег, синичкины следы,
и сад, встающий утром на колени
в глубокие холодные листы.
Зарядили дожди и надолго.
Небеса, словно глаз мертвеца,
И прозрачною ниточкой тонкой
Свет стекает с большого лица.
По-над светлым леском, если светом
Эту морось печальную счесть,
Небольшое движение ветра
Переходит в протяжную песнь.
И деревья бредут, скособочась,
Вдоль разливистой чёрной реки,
Словно тянут холодные ночи
За собой в горизонт бурлаки.
Надломит ветку, прошепнёт овсом,
Дохнёт вдали затерянным и древним,
И воздуха прозрачное лицо
Приблизится вплотную сквозь деревья.
И в этой встрече здесь, наедине,
Где умерли слова – как ты доверчив! –
В единственной, как совесть, тишине
Останется твой оттиск человечий.
С.П.
Ни сном, ни ветром – буквой травяной,
скользящей каплей, тишиной дрожащей,
крадущейся, промозглой, грунтовой,
синичьим всплеском в запустелой чаще
на острый край выходит бытие.
Мелькнёт крыло, и тонкий воздух срежет
задевшего на свежей колее
предчувствием расставленные мрежи.
И капля разобьётся о порог,
и звон её, прозрачен и огромен,
прокатится во мгле пустых дорог
как светлого несбыточного промельк.
Татьяна ЯРЫШКИНА. «Для Вечности – своя…»
Последний день
Отчего-то стало весело вдруг.
Отчего-то приумолкла печаль.
День ли завтрашний желанен, как друг,
Со вчерашним ли расстаться не жаль…
Мне вчера хотелось быть не собой:
Было страшно оставаться никем.
Только лучше распрощаться с мечтой,
Что лица меня лишила совсем.
А на завтра у меня – ни мечты,
Ни какого-то чужого лица.
Важно чувствовать, что ты – это ты,
Если цель твоя – дойти до конца.
До конца, когда войду не скорбя
В день, которым замыкается круг.
В день последний обрету я – себя.
Оттого и стало весело вдруг.
Всё, говорят, проходит…
Да нет, не всё!
Что-то, утратив лицо, остаётся жить.
Эта безликость, чувствую, не спасёт
От безысходности полной на дне души.
Что-то живёт тем дольше, чем глубже дно;
Там погребённое, смотрит и дышит вверх.
Кажется, выжить сможет оно одно —
После всего и всякого.
После всех…
После меня останется не лицо —
Впрочем, лица-то и не было никогда.
Чтó оно есть такое, в конце концов?
То, что проходит.
Теряется без следа…
Если придёт минута, когда душа
Вырвется и обнажит потайную суть, —
Так ли уж важно то, что часы спешат,
Годы проходят и времени не вернуть?..
Терпение
Приходилось лицо подставлять под отточенный скальпель,
Как иному – смиренную щёку свою под удар.
У терпенья – последних – несметное множество капель,
Из которых любая – цены не имеющий дар.
Переполнена чаша, но сила привычки известна.
И немыслимо жить просто так, ничего не терпя.
Как иному судьба милосердная неинтересна,
Так и я с упоением скальпель точу на себя.
И бездонною чашею, выпитой наполовину,
Ощущая привычку терпеть и терпеньем дыша,
Под удары судьбы кто-то ставит с готовностью спину —
У меня под ножом замирает моя же душа…
Судьба и суд
Теперь я просто жду.
Надежд не воскрешая
На то, что лучший день ещё настанет мой.
Я жду – своей судьбы.
Она уже большая
И всё решает так, как нужно ей самой.
Теперь понятно мне, что нужно ей немного.
Успеть бы убедить заранее меня:
Мол, грянет Судный день – так знай, осудят строго;
А лучшего не жди, мол, никакого дня.
Его я и не жду.
Ни лучшего, ни лучше
Хотя бы, чем вчера, сегодня… и всегда…
Я жду – своей судьбы.
Она меня научит,
Как встретить приговор грядущего Суда.
Память зеркала
И только зеркало одно запомнит,
Как отразится в нём моя невзгода
За час до отделенья – или даже
За миг – того, что столь неотразимо.
А станет ли без образа легко мне,
Почувствую в тот самый миг ухода —
Со всей моей нетленною поклажей —
Из тела прочь и отраженья мимо.
Но где-то в глубочайшем зазеркалье —
Где отраженья остаются живы,
Как в памяти, и после отделенья
От образов неотразимой сути —
Ещё воскреснут, в самом их накале,
Все страсти, все души моей порывы
За сколько-то времён до искупленья.
Случится это – искупленье будет…
На пороге
Душа, перерастающая тело,
Стремится к выходу за все пределы
Земного, мыслимого Бытия.
До временных препятствий нет ей дела:
Чуждаясь Времени, душа б хотела
Привыкнуть, что для Вечности – своя.
И на пороге Вечности готова
К тому, что там она пребудет в новом —
Немыслимом, небесном – Бытии.
Воздастся и по вере, и по Слову.
И весь исход ей будет продиктован
Тем, кáк перерастала дни свои.
Беру пример
Сердце никогда не заживёт.
Но при этом всё-таки живёт.
Значит, хочет. Слишком сильно хочет.
У него вопроса нет: «Зачем?»
У него других полно проблем.
И ему, я знаю, трудно очень.
Сердце, брать пример хочу – с тебя.
Если – и печалясь, и любя —
Чувствую, насколько тяжело мне:
Превозмочь ни горе не дано,
Ни любовь, что с горем заодно, —
О твоём превозможенье помню.
Как не помнить? Боль твоя – во мне,
За решёткой рёбер – в тишине,
Чьё дыханье только я и слышу.
И не потеряю этот слух.
И беру пример – смиряю дух.
Чтобы он взлетел как можно выше.
Праздник
Отмечу своё поражение как победу:
Опять наконец-то поем.
И посплю, возможно…
Такая беспечность, конечно же, будет ложной —
Но будет залогом того, что с ума не съеду.
Мне надо остаться в уме и в себе как дома.
И как подобает хозяину, встретить стойко
Своё поражение.
Было их в жизни столько,
Что мне – слава Богу – всё это давно знакомо.
И я, выходя из квартиры, в себе останусь.
Дойду до любимой кафешки, займу там столик.
И нового опыта – что, как обычно, горек —
Отпраздную встречу, его принимая данность.
Пятый угол
В четырёх стенах запрусь, чтоб отыскать
Сокровенный пятый угол.
Там становится заклятая тоска —
Самой верною подругой.
Той заветною печалью, что меня
Очищает понемногу.
Света белого в порыве не кляня,
Учит, как молиться Богу.
Как, скорбя, за то прощения просить,
Что лукавый вновь попутал.
Учит верить, что спасительную нить
Бог протянет в пятый угол.
Слёзы
Если я и плачу снова,
Слёзы эти видишь только Ты.
Людям ничего такого
Не заметно из-за суеты.
Сколько суеты на свете,
Господи! Я знаю наперёд:
Если кто-то вдруг заметит,
Смысла этих слёз не разберёт.
Ты – поймёшь, и Твоего лишь
Я прошу прощения за то,
Что который раз позволишь
Не считаться с общей суетой.
Здесь чему ещё и верят,
Так сухой, бесслёзной злобе дня.
Только Ты по крайней мере
И слезам поверишь, и в меня.
Да, это только слова.
Всего лишь слова.
Так, сотрясение воздуха, звук пустой…
Разве не Сам Ты, Господи, мне даровал
Право – словами болеть как своей судьбой?
Впрочем, скорей не право – пожизненный долг.
Я исполняю: вынашиваю в себе
Столько отчаянных слов, что мой дух замолк,
Весь покорившись отчаянью как судьбе.
И немота его – вся от избытка слов.
И от избытка словам неподвластных чувств.
И, поражённый судьбою, мой дух готов
Логосу – как величайшему из искусств —
Самозабвенно служить.
Научи внимать,
Господи, Слову Единому Твоему.
Чтобы проникла в слова мои благодать,
Свято поверю, что Высшую Суть пойму.
Кто-то же слышит, как Родина с ним говорит.
Будто зовёт или просит – как мать, не иначе.
Я погружаюсь привычно в свои словари —
И ничего-то не слышу.
А Родина плачет.
Знаю, что плачет, утратив исконную речь.
Речи лишась от разрыва эпох и столетий.
Я берегу словари.
И пытаюсь беречь
То, что убили и Время, и западный ветер.
Родина, я не гожусь ни на что и ничем.
Слово моё – равноценно ль огромной потере?
Помню о ней.
Как о том, что уйду насовсем.
Слово потом сохранит эту память, я верю.
Моя лира
Взыскующая лира не простит
Мне остановки, если я устану
Судьбу и душу растравлять как рану,
Тревожа то и дело честь и стыд.
Ещё не завершается судьба.
Душа вовек не знает завершенья —
К стыду ли, к чести ли…
И ей спасенья,
И правды ищет лира, столь груба
И неискусна в пении своём:
Уже не до возвышенного слога.
У совести на службе, судит строго —
И не простит, пока мы с ней поём.
До самого до Страшного Суда.
И мой привычный долг – без остановки,
Ни на какие не идя уловки,
Терзать себя орудием труда.
Художественное слово. Проза.
Наталия МАТЛИНА. Дежурная по кладбищу
(рассказ)
Увидеть Париж и умереть? Она так и сделала! А началось всё с простуды. Жизнь испытывала Галку постоянно, иногда словно ломая через колено. Непутевый муж, с которым долго возилась, но рассталась, гибель сына, а следом и смерть матери, перестроечная нужда – почти сломали ее. И вот, спустя год, подруги купили ей путевку в Париж. Вернулась другой, каким-то свеченьем светясь, и позвала подруг. Они дружили вшестером. Ещё девчонками им довелось работать в одном отделе проектной организации. Когда началась перестройка, организация тихо умерла, и пути подруг разошлись.
Встречались редко, в основном на своих днях рождения. В такие дни они обедали в каком-нибудь ресторане. Но в этот раз все собрались дома у Галки, похорошевшей и счастливой, и слушали, слушали… Вдруг, среди фотографий, частенько стало мелькать лицо одного и того же мужчины.
– Это Саша, – пояснила Галка.
Подруги начали её тормошить, требуя подробностей, но она только тихо улыбалась.
– Так! Давай-ка по пунктам, – включила начальника Надюха. – Возраст? Москвич? Женат? Дети есть? Чем занимается?
– Он моложе меня на три года, разведён, детей нет, в Москве снимает квартиру, работает поваром в ресторане, – пожав плечами, отчиталась Галка.
– Ой, только не будь дурой и не дай ему себя облапошить! – Валюнька нервно закурила, – Вон их сколько «холостяков» понаехало. А потом окажется обыкновенным сказочником, потому что женат и семеро по лавкам. И жена – Пенелопа, и любовница щедрая да доверчивая.
– А мне, девушки, было бы абсолютно монопенсно, если бы… я влюбилась! – мечтательно пропела Наташка.
– Так, мать ты наша, многодетная, – приструнила её Надюха. – Давно не рожала?
Вдруг Галкин смех сменился сильнейшим приступом кашля.
– Ты чего это, солнышко, простыла что ли? – заботливо спросила Марго и приложила руку ко лбу Галки. – Да у тебя температура! Ну-ка, где у тебя градусник? Ого, ничего себе! Так, девоньки, быстро всё убираем! Галка – в постель! Алена – в аптеку! Завтра по телефону вызову врача из нашей ведомственной поликлиники, а вечером приеду.
– Не надо, – тихо сказала Галка. – Мы договорились с Сашей, что он завтра переберётся ко мне.
– Галочка, я так за тебя рада, – полезла целоваться пьяненькая Наташка. – Но! Если что, я ему задам и кузькину мать покажу, не сомневайся.
– Пошли уже, храбрый портняжка, – приобняла её Валюня.
Всё оказалось значительно серьёзней. Галку положили в больницу, где анализы показали рак крови. Болезнь наступала стремительно. И хотя лечение велось на высшем уровне, благодаря связям Марго, Галка угасала.
Саша не отходил от неё. Под Новый год забрал домой, так как по словам врачей, ей оставалось жить не больше месяца. Подруги навестили их в сочельник. Сердце сжималось – от Галки остались одни глаза.
– Девочки, я знаю, что скоро умру, уйду к своим. Мне страшно, но я готова. Люблю вас и приказываю жить долго. Подождите, не перебивайте меня. Я подписала квартиру Саше, мы поженились. У меня больше никого нет. Я очень ему благодарна за всё. Он столько сделал для меня, исполняя самую тяжёлую и грязную работу. Надежда, не поджимай губы. Я просто не могу сказать, как мне хорошо, что он рядом. А теперь давайте поревём…
Галка умерла в конце января. В день похорон была страшная стужа. Сквозь заиндевевшую мглу Галку везли в последний путь. Движок автобуса завывал вместе с ветром, и никаких других звуков, кроме этого воя, доводящего до исступления, не было слышно. В автобусе Саша сидел отдельно.
Гроб закопали так же молча, потому что не было слов, а только ужас прощания.
Уже на выходе, Саша нарушил тишину:
– Девчонки, я знаю, что вы не верите в то, что я люблю Галку. Давайте поедем к нам домой и помянем её.
То, что он сказал люблю, а не любил, снова заставило их зареветь. Вконец продрогшие, они тихо вошли в квартиру. Саша помог им снять пальто и разуться. Каждой, начал растирать ступни, пока ноги не согрелись. А потом заставил надеть тёплые носки. Подруги изумлённо и растерянно молчали. И тут с Наташкой случилась истерика.
– Прости нас, что мы плохо думали о тебе! – бросилась она к Саше. – Спасибо тебе за Галку! Прости!
– Давайте, помянем Галчонка, – тихо сказал он. – Ведь у неё сегодня трудная миссия. Ей предстоит быть дежурной по кладбищу…
Существует такое поверите: умерший дежурит у ворот кладбища до следующего покойника. А зимние ночи холодные… Очень холодные.
Николай СМИРНОВ. Красная чаша
I.
Доброшка любила воду и камни. Она шла искупаться в последний раз по песчаной, седой, нагретой солнцем тропке, и заволновалась, увидев реку, на которой она выросла и которую первый раз увидела, когда мать поднесла ее к Синему камню, помолилась ему, и тогда глаза восьмимесячной девочки тронуло блеском и светом воды, и в глубине замерцали, будто зазеленели они солнечной осокой, тихо, призрачно гнущейся, как во сне, в мелких струйках.
То лето было засушливое, река заметно обмелела. Свежие пни стояли у выбитой тропки, и убого гляделись избушки, наполовину врытые в землю, торчали в небо приставленные к стенам жерди, аккуратно краснели лишь заготовленные и уже постаревшие бревна, на них совсем недавно муж ее сидел и, перекусывая нити зубами, чинил невод. Но еще загадочнее казалась река и величественнее ее солнечная, живая красота. Доброшка знала, что все люди ее племени вышли из этой реки, там, в глубине, есть такие большие избы, там же поля и леса, только окружены они прозрачными стенами. И осторожно надо там ходить, чтобы не задеть этой стены с гуляющими в ней рыбками. Пусть даже и сом подплывет – надо не трогать пальцем его усов – так учила мать, и тогда ты выйдешь на небесную дорогу. Но лучше, если ты вскочишь на рыжего, на золотого конька, каким оборачивается царь-огонь. И теперь Доброшка горько радовалась, что никто не собьет ее с небесного пути, радость размывала всю ее прошлую, тяжелую жизнь в бревенчатом гнезде, дымном, смрадном, втекала в сердце, будто из самой реки; конек огненный был уже близко, ржал и звал к преображению. И муж, умерший, но преображенный уже в ее мыслях, звал ее, чтобы она его проводила, он обещал вознаградить ее там. Когда они там встретятся, ее золотой буйный конек положит голову его могучему коню на шею, и они не закричат, не обнимутся, а просто помолчат, входя, врастая живым, вечным огнем навсегда друг в друга.
Прошлым летом срубили новую деревню, два гнезда ее избушек светлели на травянистом берегу. Дальше на сырых местах, весною заливаемых водой, стояли старые ивы, распавшиеся причудливыми рогатками, изогнувшийся удавом ствол одной сгибался, касаясь травы, и снова выворачивал свою серебристо-серую листву к небу. У старой навозной кучи высилась стая перунова цвета – чертополоха. Короткое детство Доброшки с играми полуголых, одетых в одни короткие рубашонки ребятишек прошло под такими дивными, раскидистыми растениями. В деревне их называли дедушками. Но Доброшка не успела подумать об этом, знакомая боль, тянущая сильно, схватила внизу живота, колени дрогнул; пройдя еще с десяток шагов, онаприсела прямо на траву, замерла, впитывая низом зеленую, лечащую прохладу, как раз на перекрестке тропок: куст чертополоха здесь был похож на дракона, о котором рассказывал ее муж. Зубчатые листья растопырены, как перепончатые крылья – головы с огненными языками. Многоголовый, многокрылый летучий змей… Доброшка любила глядеть на цветущие травы – душа оживает, и открывается ей какая-то новая жизнь. И поэтому она встала – река уже сверкала рядом; дошла, сняла со спины пестерь, берестяную суму, не стыдясь, как делали все женщины их деревни, сбросила с себя рубаху с юбкой, и, войдя в нежно, властно обнимавшую ее воду, вдруг заплакала громко, так, что плач этот был слышен и на том берегу.
Здесь же, у этих камней, двадцать лет назад, в самый жаркий, душный месяц лета, ночью, в рачий праздник, уйдя с давно заприметившим ее Вулафом в травы, она была грубо придавлена к земле и познала мужа. Придя в себя, она вырвалась и долго бегала, как козочка, у воды, словно прося у нее защиты, так что Вулаф испугался, что она уйдет к русалкам, и побежал за ней, но она спряталась от него в сырых кустах. Теплый туман, уже обещающий утро, поднимался с реки. Вулаф был сыном поселившегося здесь, спустившегося на большой лодке с верховий, из деревянного городка, варяга. В деревне, теперь сокрывшейся давно, как в воду, в призрачный поток времени, занимались семья их хлебопашеством. Срубили длинный, с пристройками дом, глядевшийся замком среди местных избушек-землянок. В него через две недели после игрищ рачьей, водяной ночи, Доброшка перешла жить к Вулафу. И в том же году, ей было четырнадцать лет, родила первенца, а на другой год – девочку, похожую на себя, с зелеными глазами. Девочка умерла, отправилась в небесное царство. И так она родила девятерых детей, из которых уцелели только три сына и одна дочка. Она вялила рыбу и мясо, жала, пряла, ткала, ходила босиком по снегу, заговаривала змеиные укусы на синие цветы. Вулаф года не дожил до сорока лет, когда начал внезапно чахнуть, на боку у него появилась дырочка, «жерло», как они ее называли, откуда, не преставая, тек гной, и он слег, и уже не вставал. Не помогли снадобье коренщицы, вещей старухи. Он умер, и его положили в ту большую лодку, на которой приплыл его отец с верховий. Лодку украсили цветами, лентами и ветками березы, нарядили Вулафа в лучшую суконную одежду, нацепили на него бесцельно пролежавшее боевое железо, узкий длинный кинжал, и приготовили немало разной снеди в горшках. Еще в молодости, у воды во время своей свадьбы, а потом в бане, когда Вулаф, посверкивая хранившими северный, жестковатый туск глазами, спросил ее: «Если я умру первым, ты пойдешь со мной в небесное царство?» – Доброшка согласилась, не раздумывая. А как бы она могла не согласиться? Что скажет родня? И жены братьев Вулафа, деверя с золовками? Так поступали почти все женщины из здешних деревень, если муж просил проводить его. Уходили вместе с дымом костра на невидимых золотых коньках в небесный мир. И сейчас она вспоминала, каким в последние дни печальным стал северный, как изморозь, свет в его потерявших силу глазах, как он смигнулслезужалостливо на одре. И он бы простил ее, если бы она испугалась, отказалась теперь пойти за ним. Но, вспоминая его взгляд, она и не смогла нарушить клятву, жалела его, как он там будет один, в небесном царстве? А в земном – будут насмехаться над детьми его жены, а теперь все трое сыновей будут величать ее, не побоявшуюся оседлать золотого, небесного конька: «Уж где же ваша матушка? Уж как нашу матушку боги взяли с боженятами!» И к той же вещей старухе, у которой весной она брала мази и пахучие лепешки для больного мужа, она теперь шла за кореньем, зельем лютым. Уже была вырезана похоронная чаша из красной ольхи для этого, погружающего в смертный сон напитка.
Больв животе после молитвы у камня и купания отпустила, и Доброшка заторопилась. Много у нее забот похоронных. Вещая старуха жила за сосновым леском, на дору. Пошла по привычке мимо поля после ячменя, житища, которое пахал ее муж с сыновьями. Но не остановилась тут, а наоборот, пошла быстрее, привычная жизнь вокруг в эти дни размылась, как во сне, и уже не так болезненно, не так горюче обтекала ее. Мысли ее были просты и вроде бы бессвязны, лежали – каждая отдельно в душе, как зерна, которые она кидала в это поле. Перевести их на современный лад с точностью нельзя. Хотя в корнях своих они мало отличаются от наших. Отдельно от окружавшего мира и мыслей она чувствовала и погружалась в такое чувствование все глубже, что в этой жизни надо уметь забывать себя, отходить к тому, что будет вместо теперешней тебя, перетерпеть свою ничтожность, персть, чтобы стать больше себя…
На лужайке ярко, пестро, привольно, а глухие кусты хранят приятную прохладу. В глуши между ветвей просунулся лучик тонкий, горел, как лучина, и вёл. Доброшка вышла из перелеска в небольшой, разогретый лужок, посредине белый от звездчатки, вокруг над вершинами берез и осин – теплые облака-барашки на неизъяснимо радостном небе.И вчуялась, дрогнув: в этой солнечной радости и затаено уже что-то нездешнее – и всю саму ее, точно смыло волной накативших слез – как смывают пыльное пятно с оконного стекла, сделало прозрачной… Как об этом необычном рассказать?Только сказкой и будущей русской иконописью: о теплом Божьем присмотре ичеловеке, в сотый раз увидевшем все: и белые цветы звездчатки, и теплые облака, и порыжевшие уже травы – но так до конца, и в наши дни, не сумевшем отгадать: за что, на что ему даны такие дивные дары?..
Доброшка похудела, выглядела намного старше своих лет, на самом деле ей было тридцать четыре года, и в лучшие минуты прояснялось лицо ее, как солнечное, песчаное дно, будто вся она состояла из света и воды – и будто весь мед телесный, его сладость, выпитая жизнью – теперь бесплотно, призрачно вспыхивала в сосуде ее тела. Холщовое покрывало, прижатое к русым волосам медным обручем, было низко спущено, голос тонкий почти не отставал от уст, переходя в шепот. Астаруха вещая, вышедшая навстречу ей к частоколу из кривых сучьев, была ее старше, но казалась моложавее: высокая, дородная, в красной юбке и таком же, в пятнах от снадобий, захватанном сажей переднике. Толстые губы ее жадно блестели, точно намазанные жиром, глаза неяркие, голубоватые, смотрели с удивительно молодой силой. Своим притворным весельем коренщица смутила Доброшку, думавшую о болезни мужа, о том, как он мучился последнюю неделю и кричал, как бык – так говорили о нем племянники. И уйдя в ненастье этих переживаний, Доброшка, слушая старуху, только кивала, опуская взгляд. Вынула из берестяного пестеря меха.
Вещая старуха, взяв плату, велела подождать и ушла в свою землянку, у которой была наткнута на кол старая медвежья голова. Доброшка, словно, не поддаваясь потоку тайной, бессловесной муки, стараясь вышагнуть из него, как из тени, отошла от частокола к заросшему осокой пруду и села под низко повисшей березовой веткой на колоду. Дальше в березняке и осиннике начиналось большое болото, заросшее ольховыми кустами.
Из осоки на яркую зеленую ряску выползли три такого же цвета небольших лягушки. Одна – поодаль, а другая деликатными рывочками подплыла и положила голову на шею своей подружке, как это делают лошади, и замерла. Доброшка умилилась, привстала с колоды, но лягушки не испугались, и она рассмотрела, как под мостками выплыли две рыбки, тоже тесно бок о бок. Один карасик почти с ладонь, другой – в два раза меньше. Она заглянула в это коричневатое окно в зеленой ряске, точно отзывавшейся ее зеленым, замерцавшим теплотой слез глазам. Пруд заколыхался, ей представлялось небесное поле, и не две лягушки, а два золотых конька задрожали в слезах на этом голубом поле. Она и Вулаф. И тут же со слезами выплыло и охватило чувство, что она не понимает, зачем ей нужно завтра умереть, зачем лежать в большой лодке рядом с холодным, каменным мужем… Но размягченная душа ее уже не могла отступиться. Особенно ради детей она выпьет яд, чтобы ее родня, северные люди, не смеялись над ее детьми и хранили ее память. А потом они с мужем и детей встретят там, где живут боги с боженятами. Да и лодка уже снаряжена и приготовлено все смертное…
Стояла, глядела в это коричневое окно в ряске и не услышала, как подошла вещая старуха. Рыбки вздрогнули и, еще теснее прижавшись друг к другу, исчезли в придонной тьме. Коренщица длинно, оценивающе глянув на Доброшку со спины, окликнула, подала небольшой березовый туесок с плотно насаженной крышкой. Доброшка, не досмотрев на лягушек, взяла его, а старуха, вдруг поправив ей головное покрывало, начала быстро, подражая мужскому голосу, говорить бесстыдные слова про черное и белое, женское и мужское, про женскую ненасытную силу, про болото, к которому стоит она передом, и про таинственного белого коня, живущего в глубинах этого болота… Кто его выпивает, это коренье, зелье лютое, тот просветится до каждой жилки, до каждого состава и подсоставка. В этом зелье такая сила, что если выплеснуть этот туесок в болото – болото тоже просветится до глубин, и оттуда выскочит белый конь…И сколь крепок и жесток Синий камень, не крошится, не колется и не катится, пусть столь крепок и жесток мой будет заговор… Все непонятнее, быстрее твердила она так, что у Доброшки замутилась голова и заломило сердце, и опять знакомой болью потянуло низ живота. Она опустилась на колоду, прижимая туесок к груди…
– Первый глоток только, милая, сделай, а потом уже будет не оторваться… Красная-то чаша готова? – спросила вдруг, участливо наклоняясь и ловя взгляд Доброшки, коренщица.
– Готова, – точно отталкивая от себя какую-то нависшую тень, встала, очнувшись, с колоды Доброшка.
– Выльешь в красную чашу… Это бересто тоже вместе с ней, смотрите, пусть в огонь положат… А то ведь есть и такие, что встают из огня, идут чашу искать, бересто вылизывать… Первый глоток только сделать, а потом будет не оторваться, – повторяла спокойно вещая старуха, забывчиво перебирая какие-то корешки в большом кармане передника.
Красная, вырезанная из ольхи чаша, из которой Доброшка выпила яд, стояла у ее плеча, в лодке. Она лежала рядом с мужем в свадебном наряде, в высоком «ведерке» из бересты, обтянутом яркой тканью, с цепочками, серебряными дирхемами и привесками с золотыми коньками, которые уже нетерпеливо ржали и били копытцами, собираясь унести их души с дымом костра в небесное царство. В деревне его все хорошо представляли: как подводная глубина – только вода небесная, легкая, как радость, и призрачная, до самых звезд. Доброшка еще в избе выпила чашу, потеряла движение, хотела закричать, но голос из груди не пробивался. А потом вдруг появился перед ней давно умерший отец, утешал, шутил, погладил, как маленькую, и от его руки тяжесть навалилась на все тело… и она никак не могла схватиться за гриву золотую. А потом сидела уже свободно, охватив мужа, ставшего легким, плавным, как птица, в теплых, жемчужно-серых облаках, где летели они в небесной пустыне на золотом коне. А Доброшкин маленький конек скакал за ними следом, как жеребенок.
Лодка с двумя покойниками уже обуглилась и распалась. Костер, истощив свою силу, упал и расстилался теперь по земле. На высоком месте он был далеко виден. Впереди сосны, рядом, за спиной, небольшое сжатое уже ячменное поле и врытые в землю избушки, слева – щеки обрывистого, красной глины береговища с сосновой стеной, и ручей, впадающий в реку, переливающийся между толстолобых, задумчивых валунов, нежная травка на сыром, с железистыми ключами, песке. Вода, уже посветлевшая и стоявшая тихо в заливе против устья ручья, была тоже задумчива, как и валуны, и отвечавшие их молчанию древесным покоем сосны над красным откосом. Все здесь было вроде и не то, и одновременно то же самое, что жило в мыслях Доброшки и ее мужа… Такое царство небесное и есть, точно говорили тяжелыми, каменными словами валуны и глина, сосны, и в такое царство, наверно, уже доскакали души Доброшки и Вулафа… Но напрасно родня пела величание: уж как нашего батюшку, уж как нашу матушку боги взяли с боженятами. И напрасно младшая дочка: вся в мать – с такими же влажными, солнечными глазами – положила в могилу, к обгоревшим костям, бронзовую, из греческой земли пряжку, которую так хотелось получить ей в приданое. Все это скоро забылось. Слова воды, глины и камня были медленны и от этого стали казаться тишиной… Но прошли века, и они завершились, сложились в одно, и выпало, как вымытый цветной камушек из глинистого откоса – одно слово: круглицы.
Так называли небольшие курганы, и тот, где были зарыты варяг с мерянкой, раскопали археологи.Она лежала – маленькая, с широкими тазовыми костями, по грудь ему был ее костяк. Красная чаша ольховая тоже давно забылась, остатки ржавой коросты и штырь кинжала лишь напоминали о вооружении варяга-землепашца. И неподалеку так же взрыхленно дышало поле, и стояли сосны, хотя и сильно поредевшие, а на холме, где чернели когда-то врытые в землю избушки, белела, прямо уходя к облакам, в небесное царство, колокольня, и село теперь называлось по-другому. Прежнего его названия давно не помнили даже столетние старики и старухи…
Заведующего древнерусским отделом музея-заповедника Николая Николаевич Веревкина все глубже завлекало исследование этого, парного захоронения:загадочной жизнью и смертью за той чертой, откуда картины и образы, являются подобно снам. Манят, обманывают, пророчат ли – кто проверит?.. Ему шел пятьдесят восьмой год. Он всю жизнь прожил здесь, в областном городе, если не считать годы учения в московском институте и аспирантуре. У него было круглое, широколобое лицо северянина, низ по скулам мягко заострен к подбородку, губы упрямо и одновременно безвольно как-то поджаты. Волосы русые, все еще чуть вьющиеся, он старательно зачесывал назад, и они спадали на уши. Широко расставленные глаза капризно голубели, светили болезненно ярко, с плоским блеском – узкие, продолговатые, чаще они были подернуты легкой тревогой. Он избегал смотреть прямо в глаза собеседнику, но иногда, сбоку, когда этого не видели, зацеплял пристальным взглядом, точно утаскивал в себяоблик человека или предмет. В монотонном голосе, в напряженных позах распознавались усталость и растерянность, может, и страх перед жизнью. (Лишь заведующая научной библиотекой заглазно, за спиной, замечала, что в его широко расставленных глазах проглядывает что-то нахальное!) Это соседствовало с невидимыми сторонами его характера: пусть и попритушенной, но – жаждой дерзаний, с беспокойством духа, фантастикой. Стремление к строгому анализу совмещалось у него со школьной наивностью суждений и поступков – так считала его жена Любовь Николаевна.
Жили они в угловой квартире на третьем этаже типового дома, единственный сын их женился, переехал в соседний город. Под окном Николая Николаевича комнаты рос молодой клен, упрямо тянувшийся вверх. Макушка под солнцем уже теплела осенним нежно-оранжевым цветом, верхние листья с нее улетели после ветреной, дождливой ночи. Николай Николаевич подбирал их и приносил на работу, в музей, пробовал на их просветном пергаменте что-то писать, подражая древним грамотам.
II
В отделанном заново «актовом» зале администрации города собрались в пятницу чиновники из разных областей. Первой в вестибюль вошла парочка. Он – длинный, как манекен с витрины, будто с нарисованным пробором, одет с модным шиком, но все на нем помято. В том, как он извихнулся, помогая снять пальто своей спутнице, проскользнуло для Николая Николаевича, не привыкшего к галантерейным тонкостям, что-то неприятное. Он не сразу догадался, что это – всего лишь актеры, обслуга для ведения застолья. «Кадровый резерв профессиональная команда страны» – так (без запятой, как было напечатано в программе) назвал все это сборище один резервист из президиума с колючими, жуликоватыми глазами и бородкой, похожей на детский совочек. Из-за того же стола влипали в зал вызывающим взглядом, будто подведенные, мужские, влажно-яркие глаза с каким-то женским, и от этого особенно противным выражением. Николай Николаевич нарочно зацепился за них и смотрел, пока они по-женски же не опустили ресницы. Никогда он не видел столько молодежи с уже нечеловеческими лицами: сплошное лицевое мясо, приправленное предвкушением даровой выпивки и закуски. В каждом мужском лице и развороте пиджака, в каждой, являющей себя женской фигуре, сквозило что-то прикрыто порочное или явно развязное. А на печатных листках чернели еще неслыханные для него потешные слова.Прием у мэра городского поселения: «Голубой огонек «Талантливый резервист». Место проведения «Ресторан гостиничного комплекса «Форсайт-хаус». Программа «Сказки кадрового резерва». Там же и семинар глумливый «Заговорит ли народ?» «Сколько в этом хамства и свиной сытости! – едко удивлялся Николай Николаевич: – Все обречены: если уж не под нож, то на глупое, пустое и ненужное дело»…
– Вы находитесь на земле, где ходил наш президент! – провозгласил с трибуны розовый, уже подвыпивший мэр. Потом они, талантливые резервисты, бродили по залу, игриво приглядываясь друг к другу, без стеснения разбиваясь на парочки.
А на другой день с утра поднимали на звонницу собора новые колокола,
И было не протолкнуться там, где курил Николай Николаевич когда-то, много лет назад, в притворе у мраморного подоконника, в переделанном на дом культуры соборе, у будки, где тогда продавали билеты в кино, и кто-то маленький, кривоногий, выпуская дым, многозначительно ухмылялся ему: «Один французский писатель написал, что он за пять минут оргазма отдал бы всю жизнь!» Николай Николаевич, тогда еще старшеклассник, косился завистливо – ему уже девятнадцать, знает и оргазм, и французов. Он отбивал у Николая Николаевича шестнадцатилетнюю Марину. Подсел к ней в темноте сеанса, а понравился он ей за то, что умел играть на трубе…
После молебна на площади появился губернатор из бывших комсомольских секретарей, благородно седоватый, скукольно подмоложенным лицом. Ему – право ударить первый раз в большой колокол. Дальше для почетных гостей – отдельная программа. Губернатор и его толстяк-заместитель, недавний газодобытчик, входят в бывшую усадьбу предводителя дворянства. Там, за часовней, бывшим больничным моргом – декоративная деревня: работники культуры, наряженные простолюдинами и крепостными девушками. Они гуляют вокруг стола с напитками и громко спорят, поглядывая на губернатора и мэра: «Нет, наш-то барин лучше, с усами!» Распоряжается в картузе и в чуйке – кабатчик-еврей. Губернатору подносят чашу с красным вином. Вокруг рукоплещут – новый прокурор: длиннолицая дама с хорошей фигурой; краевед с лицом, как бадейка, отмеченный премией Сороса, ясноглазый извне и озлобленный изнутри – пришел на праздничный обед. Все застолье он протяжно, по-собачьи просмотрел на губернатора – почему, почему его так и не пригласили к столику его превосходительства? Благотворитель, директор московской фирмы «Форсайт-хаус», отливший колокола и устроивший бесплатный обед, сказал тост, что он больше всего любит православную веру и Россию. Лицо грубое, с сильными челюстями – из той породы подвижников, что постигают жизненную науку «за железными дверями». За ним детина с утиной головой и вторым экземпляром того же образа. Видно, охранник: озирается по сторонам. Священник, страдалец мира и суетного сего жития, сам не свой, как в лихорадке, всегда бывает таким, когда ждет начальства. Ни в каком клубе или народном театре не получишь столько странных, живых впечатлений. Почти каждый житель здесь, в городе – актер. Потому что актер, лицедей вообще – главное лицо нашего короткого времени. Даже сотрудницы музея и Людмила Михайловна с Ирой из научной библиотеки, изображают барышень в нарядах эпохи царствования Николая Павловича…
Сколько же было в жизни Николая Николаевича таких дней, отданных ироничным и суетным наблюдениям, теперь уже не смешившим, не изумлявшим, как в молодые годы.А сколько было пустых, бесполезно мучительных ночей, когда – лежишь, не встать, такое особое состояние тоски: тело на кровати, а душа во тьме: расслабилась, бессильно слилась с этой тьмой. Каждая сила, передвигающая мысли, оставила тебя, умерла, да и мыслей самих нет, то же темное и пустое сжимается над лицом, над мозгом, над вместилищем мыслей… Близкая смерть это, или болезнь, или граница, за которой, может, последует оживление души в ином качестве? А сейчас усталое бессилие выстилает это темное, бездонное гнездо неприятным сновидением…
Николай Николаевич плутает в подземных развалинах – завалило какой-то монастырь или усадьбу. Он обнаружил пролом в кирпичной кладке – это, как оказалось, верх стены, внизу – большой зал. В нем, как в запаснике музея: картины, иконы, громоздкая мебель. Николай Николаевич через пролом спустился туда по стене, ходит, рассматривает. Где-то, в другом конце зала под потолком горит слабая лампочка. Свет тусклый, ночной, заслоненный мебелью, деревянными щитами, стеллажами, между ними – темные и синие провалы теней. Но вещи яркие… Пора уходить, выбираться по выбоинам в краснокирпичной кладке, но он никак не может найти того лаза под потолком, в который спустился сюда.
Встал, не зная, как быть, у фанерного листа, прислоненного к высокой спинке старинного кресла. В кресле – густая тень; смотрит, а в этой тени проявляется человек в черной рубашке, с трубой на коленях. Сидит, готовится играть. Похож на того самого, уже умершего кривоногого музыканта из оркестра, выступавшего когда-то в соборе, переделанном на дом культуры. Николай Николаевич испугался: а вдруг он подумает на меня, что я вор? И тут сбоку, из темной тени от стены появляются еще люди. Краевед с лицом, как бадейка; потом благотворитель, потом, о, ужас! – стоит, повернувшись боком, он сам, Николай Николаевич, то есть его двойник во вьетнамской курточке. И Николай Николаевич к нему поворачивается – боком, стараясь не смотреть, но замечает боковым зрением, что за ними плотно тьмятся еще какие-то мнимые люди. Он, отвернувшись, уходит и как-то выбирается из развалин, но, плутая, не узнает места. Он попал в другой, незнакомый город, нет и областного департамента культуры. Дома под старинными крышами; башни, белая стена монастыря…И тут от тоски он проснулся…
Вяло удостоверяясь внутренним зрением, как слова его все дальше отстают от ночного, подземельного провала, рассказал свой сон жене. Она разогревала кусочки курицы на сковороде, молча выслушала: «Ты сам чай будешь заваривать?» По утрам она вставала первой, Николай Николаевич удивлялся, какая она всегда, несмотря на невзгоды, бодрая; как старательно наряжалась, выглядела намного моложе своих лет, статная, видная. Она на год постарше его, но мужчины и теперь, особенно разные мелкие начальнички, как он ревниво подмечал, подбивают к ней клинья. Его мучило тревожное внутреннее одиночество, о котором он года два уже пытался рассказать ей. Он в такие редкие минуты, бывало, загорался, хотел вложить в несколько фраз сжатые в душе чувства и размышления, но этого не получалось, и жена не понимала. И все, что он сделал за четверть века: диссертация, монография, экспозиция – казалось недовоплотившимся. И все больше становилось бы чужим, ненужным, если бы не Ира…
Когда Николай Николаевич полюбил Иру, она, как он часто повторял про себя, была похожа своими светлыми волосами и нежной улыбкой на июньский, светящийся одуванчик: его хочется поднести к губам, к своему дыханию – от одного ее вида, когда она выбегала навстречу, веселая, легкая – дыхание у него замирало, а душу охватывал солнечный бесплотный огонь… А ей было тогда уже сорок три года…
Особняк, где находится библиотека, обнесен кирпичным, оштукатуренным и окрашенным в желтый цвет забором. Толстые столбы широких, массивных ворот, беленые, с башенками – раньше здесь была больница – заезжий художник один нарисовал их, так и назвав свой этюд: «Больничные ворота». Весенним днем здесь на сером, похожем на пемзу, пыльном асфальте, стояла Ира, солнце било на нее из-за столба, и от этого желтого цвета толстой стены отблески стали гуще. В решетчатых тенях двора он увидел ее светловолосую голову, веселое, милое, смеющееся лицо, и такую знакомую уже, ладную и быструю фигурку, а внутри, точно полоснуло густым, жарким светом, и он замер, почувствовав вдруг нежное, сильное влечение к ней, и заволновался. Так случалось и прямо в кабинете, где она сидела за старинным, коричневым столом, или когда он встречал ее случайно на улице. Он смущался своего волнения, торопился уйти. Это состояние было не перебороть: властное, изумляющее – такого он не знал уже с юности. Но и тогда оно было грубее, телеснее, тяжелее. Тогда говорила плоть. А теперь влажным, горячим огнем занялась душа… Справившись с собой, он заходил просто посидеть около нее минут десять-пятнадцать. «Вот уже немолодая женщина с двумя детьми, может, она на свою зарплату и не доедает, но она свободна, будто бы и не заключена вместе со мной в темницу этой жизни, а я – чувствую себя узником», – растроганно думал он, хотя всегдашнее состояние пленничества, порабощенности грубой суетой – растворялась, душа становилась радостной…
…Ира, остановившись у ворот, что-то сказав, пробежала, мелкими, точно мышиными шажками, легко касаясь асфальта: походка у нее быстрая и немножко с наклоном. Так, перебежками – появлялась она перед Николаем Николаевичем, как ему казалось, всегда внезапно, будто вынырнувшая русалка: «Душой она вся создана из воды, – умиляясь, думал он: все отражает, податливо принимает любые формы, но в руки не дается… Светлая, солнечная, раскачивающая и манящая. У нее, как на Волге солнечное дно – прозрачные, всегда удивляющие глаза. Глядишь, будто уходишь в глубину, что только кажется мелью – но там нет дна, шагнешь – и сразу провалишься в медовое, влажное тепло… А может, и смертную прохладу… Любовь и смерть – сестры. Всякий, по-настоящему влюбленный знает это. Любовь совершенная может только возрастать, то есть переходить в высшее. А переход в высшее и значит – смерть. Все прежнее становится незначительным, то есть умирает»…
Позднее он раздумывал уже трезвее, за что же все-таки полюбил ее? За две-три черты в голосе и жестах, которыми она напоминала его давно умершую мать? У Иры не было ни особенной женской прелести, ни достаточного образования. «Сердце у нее умное – вспоминались ему слова Любови Николаевны – но умом-то этим она и саму себя не осознала. Счастья у нее не будет». И опять что-то подсказывало ему сравнение с водой: она была пустая, ясная, прозрачная, как родничок; над ним наклонишься и не видишь воды между песком дна и воздухом. Все зеркала врут, а из этой женственной пустоты наплывал на тебя твой четко правдивый образ твоей же души, и, не судя – судила, и он увидал в ней себя настоящего, в той законченности, какую придает близкая уже старость.
А в то счастливое лето как-то раз рано утром, чтобы сократить время до встречи с ней на работе, он уехал за город. У опушки бора заброшенное колхозное поле, заросшее яркими березовыми кустами и светлыми, молоденькими сосенками. После июньских дождей оно посвежело, трава – выше пояса; сосенки стоят нарядные, веселые: на ветках, как игрушечные наконечники, свежие, нежные ростки, заметно подавшиеся вверх. Еще недавно они были, как свечки из бурого воска. Уже жарко, звенят насекомые, перекликаются о чем-то своем, загадочном, птицы. Буднично и празднично одновременно, как обычно бывает в конце июня, когда начинает цвести иван-чай и липа, белеют тенистые тропки от тополиного пуха. А здесь, в задичавшем поле у сосновой опушки все бело по-особому – никогда он не помнил, чтобы было столько ромашек. Высокие, чистые, промытые после дождя. Этот невестин цвет – словно утешение матери сырой земле за то, что поле задичало. А, может, это в радость ей, что она, наконец-то, отдохнет от многовекового труда, от пахоты, и вот эти радостные ее чувства, ее вздохи свободные – встали белыми кружевами, будто тысячи маленьких невест закружились по полю. Восстали праматери Руси: и каждая – мерянка или древлянка, чудинка ли – у них еще больше тысячи лет впереди – гадает о своем будущем. И мы погадаем: любит нас мать сыра земля, или не любит? – просветленно думал Николай Николаевич. – Быть или не быть России здесь или за Уралом?.. Или навсегда задичать, как это поле, уйти в травы, в кусты, в непорочные цветы и птичьи песни и стать Христовой невестой в ином времени, в иной стране…
Мягкое, утреннее тепло приятно, по-домашнему нагревало безрукавку. Он стоял, чувствуя кожей все шорохи, звуки и сияния, и, будто истаивал в них. Тогда ему впервые в трогательных мечтаниях представилась мерянка, последовавшая за своим умершим мужем в иной мир, и он наметил построить новую экспозицию о древнерусских женщинах.Почему по сравнению с византийскими дамами среди них так мало святых? Потому что, наверно, вся их жизнь ушла в землю, вот в такие заброшенные поля, в семью, впод государства. Бабий век здесь, как было высчитано на ближнем, недавно раскопанном средневековом кладбище, в среднем составлял тридцать девять лет. Столько же тягот и болезней выпало тем безымянным женам?.. Теперь жизнь их можно назвать подвигом, думал он, по сравнению с нашей, когда душа распадается на сумму помыслов и приражений. И женский тип, сотворившийся из всех этих мерянок, чудинок, кривичанок, из Доброшек, Жирочек, Домашек, Страшек – разлагается.
Он все чаще говорил Ире комплименты, все более и более игривые. Иногда она кокетливо жаловалась, отвечая на них: «Да, вот, по вашим словам, я такая хорошая, а никому не нужна!» А один раз сказала, что она родилась в марте, в один день с заведующей, поэтому их жизни схожи: счастья нет. Он ответил не очень ловко, но, сильно волнуясь, что она ничуть не похожа на заведующую, хотя бы тем, что хорошо сложена.
Она как-то по-девчоночьи беспомощно смутилась и, не справившись с прорвавшимся удовольствием, растерянно, с радостным лицом, мелко, иронично закивала, стараясь изобразить насмешливость, но улыбка, осветившая всю ее, от того стала еще беззащитнее и счастливее. Он замолчал, удивляясь и любуясь ей. А через день или два, заговорив с ней в кабинете, быстро вставил приготовленную фразу: «Вы мне очень нравитесь, я вас люблю»… «Хоть кто-то меня любит», – вытянув губки трубочкой, отвечала она и тотчас же вышла в читальный зал. Это же он повторил и на другой неделе. «Когда любят – это приятно», – не глядя на него, равнодушно, точно не придав значения смыслу его слов, сказала она…
И наступил солнечный, один из последних дней лета, между Преображением и Успением. Николай Николаевич жалел, что не запомнил число. Волга в окне за прозрачной шторой, нежные, размытые линии сосновых и березовых лесов вдали, на той стороне. Он сидел за журнальным столиком. В читальном зале она была одна на своем рабочем месте у настольной лампы, к которой она льнула кошачьими, ласковыми движеньями, грелась, терлась о ее разбавленный солнцем свет, и, будто уворачиваясь на стуле от его признаний, повторяла, всплескиваясь тонким, девчоночьим голоском смешно и немного растерянно: «Такие слова! Такие слова!» «Только вы не смейтесь надо мной»! – попросил он. «Это вы надо мной смеетесь!» – подхватила она: тонкий голосок у нее, точно сломался… Взгляд у нее стал влажным, словно из глубины – тогда он и заметил впервые, что глаза у нее солнечные, нежные. И изменившимся голосом, внезапно ласковым, грудным, густо заворковавшим, которого он от нее больше не слышал, сказала: «Идите к себе, а то так долго засиживаться неприлично».И еще, помедлив, прибавила, уже тише: «У вас жена: я очень уважаю Любовь Николаевну и не хочу, чтобы до нее дошли какие-нибудь слухи!»
Это минутное изменение голоса не шло ей, коснулось каким-то лишним, ненужным впечатлением, осело – будто нечаянно плеснули вином на белоснежную скатерть. Он вспоминал, перебирая те солнечные дни, что похожий, грудной, непрозрачный голос был у Марины…
На другой день после признания утром Николай Николаевич вбежал к ней в кабинет. Она сидела, наклонив голову, боком к нему за старым коричневым столом. Он быстро, боязливо, пытаясь поцеловать, ткнулся губами в волосы ей, там, где заметил, у прямой, белой раковины возле ушка, ближе к щеке, темнела маленькая родинка. «Вы перешли все границы», – не отстраняясь, лишь смущенно спрятав лицо в ладони, сказала она, и голос ее, нежный и укоряющий, зажурчал в его душе, как радуга. А в конце разговора опять сказала упрямо: «Вы хотите просто приободрить меня!..» У нее был милый, еще возбужденный его признанием, даже немного игривый вид. Пересела на свое рабочее место – ногу на ногу, в вельветовых черных брюках. Волосы, точно светились. А он суетливо искал «Русскую Правду» в красном переплете, которая будто бы ему понадобилась, и она подошла помочь, и вдруг, призывно улыбнувшись, стала отступать от него в угол в тесном проходе между полками. Подумала, наверно, что он обнимет ее: заняла смешную оборонительную позу. И он, обрадовавшись, спросил: «Вы боитесь меня?» Она, точно спохватившись, опустила руки, сказала, задорно улыбаясь: «Вас? Чего мне бояться?..»
Николай Николаевич облокотился о ее библиотечный стол: правильно он называется кафедрой. Умилился, что рот с узенькими губками у нее почти детский, беспомощный. Ему так хотелось его поцеловать, но губы у него от волнения пересохли, и он не решился. А какие у нее были глубокие глаза, неизъяснимо милые, сияющие, казалось, они ему давали надежду. Разлет бровей, за который можно умереть. «Такие глаза обмануть нельзя!» – сказал он ей. А дня через три она из-за той же кафедры уже выговаривала ему: «Надоело, вы уже три дня все про глаза да волосы говорите!» Но еще долго он просыпался затемно счастливым, лежа в постели, в мыслях говорил ей о своей любви, ждал, когда рассветает, когда можно будет вставать и идти к ней. Он не мог без нее прожить и дня. Начинал считать часы, особенно невыносимыми стали выходные дни….. «Ира, ты стала мне, как окно, в которое глянул Бог», – вспомнившуюся из какой-то книги фразу повторял он.
С тех пор все так и продолжается: Николай Николаевич ходит в библиотеку почти каждый день… «Хватит, – иногда с утра принимается укорять он себя, – мне это стало очень трудно. Уже, чувствую, в библиотеке на меня пялят глаза… И правда, кто этот морщинистый, безнадежный человек? – вяло бреясь, разглядывает он себя в зеркало. – Кто-то невидимый, призрачный примешивается к тебе изнутри, чувствуешь его тяжесть, будто душа наполняется стеклом. Этот невидимый, прозрачный двойник, давящий, виснущий на душе, всегда недоброжелательно и остро подсматривает изнутри за всеми твоими мыслями. Вот он и стоит в зеркале. Это не ты!»
Сегодня ночью Николай Николаевич опять не мог заснуть, встал – разбитость, серые то ли мысли, то ли страхи под сердцем. Страхи сначала исчезли, когда он полюбил Иру, а теперь возникли снова.
– Нам уже пора, а то я опоздаю на планерку! – говорит жена.
Уверенная, деловитая, взгляд чуть насмешливых глаз ясный и твердый. Тоже устала от суеты, знал он, но виду не показывает.
Стали переходить загазованную, шумную площадь перед монастырем с памятником древнерусскому князю, основателю города, асфальт будто прогнулся, ноги подмыло, и Николаю Николаевичу показалось, что он сейчас упадет. Неужели вернулась старая, давно забытая болезнь? Тысячи раз он переходил эту площадь, однажды стылым, октябрьским вечером после партийного собрания, на котором его крепко отругали, чуть не попал под самосвал. Едва успел отшатнуться – у плеча громоздко пронесся, холодя мертвенно красной подсветкой, грязный зад кузова. Будничная работа в музее ему давно надоела, почему он и взялся за парное захоронение. Боялся он и людских сборищ, знакомых теперь обходил, испытывая непонятную, колючую тревогу. Жена шла рядом, будто в другом мире. Странно, но она не мешала его любви к Ире. Ему нравилось представлять их вдвоем в квартире за каким-нибудь уютным, домашним делом. Он думал, что любил их одинаково, хотя и по-разному. Как по-разному – сам еще не понял. И томился: ему хотелось признаться в этом жене…
Вечером, поговорив с сыном и снохой по телефону, что Любовь Николаевна обычно делала каждую неделю, она вдруг спохватилась, вспомнила Николаю Николаевичу приснившийся ей сон. Будто бы темная ночь, речка, каменистый берег. А на берегу лежит камень, со средней величины валун. Он светится белым светом, и от этого ночью вокруг все видно. И этот белый камень – слово. Мы ищем слово, рассказывала она, удивляясь, и вот находим его. Природа света, озаряющего тьму – иная, чем у обычного света – это твердый, белый камень, рождающий беспредельный свет…
Он плохо слушал ее сквозь убаюкивающее, любовное самоговорение. Лишь на минуту оно развеялось странным, будто бы знакомым удивлением: точно потянуло в размягченные мысли низко стелющимся, тревожно выползающим из холодной ночи туманом. «Откуда у нее такой сон? – забеспокоился он. – Хотя что же здесь удивительного – тут же подумал, успокаивая себя, – она в редакции пишет каждый день, вот ей и снятся сны о словах».
«Почему я боюсь?.. Иру так и не сумел ни обнять, ни поцеловать. Ну, что, она меня ударит, укусит, если я ее обниму? В любимой женщине открывается точно какая-то тайна, – пытался объяснить себе это чувство он, – боишься не ее, а того, что стоит за ней: что-то необъяснимое, неведомое. Прикоснешься – и вдруг оно откроется… Но это лишь чувствуется, любовь – лишь намек на это… Эхо оттуда, из иного мира, отраженное в твоем сердце, дает тебе свое чутье. А почему мы боимся смерти? Потому что так же мы боимся не самого физиологического акта ее, а того, что стоит за ним – неведомого и грозного. Вот почему она так страшна. Такое же суеверное чувство вызывает и любовь. Потому что корни ее здесь от нас скрыты, и прояснятся только в ином мире, где души соединяются или разъединяются навеки… От этого, наверно, я часто и переживаю: внезапный страх, озноб мгновенный: а, может, Иры нет? Надо сходить, посмотреть… Она такая летучая и хрупкая, что, кажется, вот-вот рассеется, будто ее и не было. Что-то у нее есть и мальчишеское в движениях неровных, в жестах, как у девушки-подростка, и что-то такое милое, хорошо знакомое и родное – в улыбке, в повороте головки, в смехе. Голос становится иногда быстрым, тихим и проникновенным, сливается, как шум осенней листвы. Она спохватывается, резко разворачивается плечами, вскакивает, походка бегучая, утекающая – будто она уходит от меня, уходит из этого мира… Зачем тогда, в углу между полками, я не попытался обнять ее?»
Теперь только до него дошло, что в ее смешной, воинственной позе, выставленных руках и игриво блестевших глазах было: «Можно, попробуй!»… Третий день, вмешиваясь в эти мысли, шел вялый, осенний дождь. Николай Николаевич, просыпаясь рано, в темноте, вслушивался в его шуршание и шепот, такой же, как и сто и двести лет назад в этом городе, и мысль совершала скачок, уплывала в сторону: «Или, может, просто – так полюбив ее, я, наконец-то, избавился от себя?… Перестал и думать о себе, теперь думаю только о ней. Как будто умер сам для себя»…
Вечером он пошел под накрапывающий дождик гулять – через кладбище. У ограды могила с чугунным крестом – это Марина. В сумерках на фотографии лицо ее показалось ему злым, и он вдруг затревожился, что Ира чем-то похожа на нее, может, этим чудесным разлетом бровей? У Марины еще между ними появлялась углубинка, когда она отводила свои рыжие глаза и сердилась. Только Ира – светловолосая, а та была мрачная, черная. А вообще-то вид у нее был глупый, она была очень недалекой и вульгарной. Воспоминания о ней были – темные и мстительные. «Лучше бы ты не ходил к ней на могилу», – сказала ему раз жена. И его это удивило и запомнилось…
У черной, посыпанной шлаком грязной дороги – обглоданный куст, а на нем висит пластиковый стаканчик. Пошел дальше, к полю, заросшему кустами, вошел в сырой сумрак с толстыми, в черных морщинах стволами берез. Постоял в тронутой серо-желтым тленом траве: «Вот где хорошо умирать… Зачем я полюбил Иру? Затем, что она мне осветила путь: теперь видно хорошо, просторно – до самого конца жизни. Да и простора уже немного осталось. Вот, как это липкое, в сизой дымке, в обгрызенных кустах поле перейти, а там, за высокой, ровной, черной березовой рощей – уже на нездешней меже ждет, раздваиваясь, ангел любви и смерти. То, что несчастье или смерть внезапная обрывает нас на каком-то интересном деле, или только найденном рецепте новой жизни, может, свидетельствует о том, что там, в мире ином, дело ли, мысль ли эти будут продолжены в каком-то высшем образе, здесь непостижимом. Не надо сожалеть о не достигнутом. Лучше шагнуть вперед, к его нездешнему продолжению»…
Думал, глядел: все небо в накипи сумерек, как мешковина, будто им ноги вытирали, и только на самом горизонте, где невидимое в тучах село солнышко, – светлое, наивное пятнышко… Ночью во сне испытал болезненное чувство, что жизнь началась снова, и он, молодой, идет в тяжелой, как смерть, осенней ночи к Марине, и впереди – скучная встреча, скучные слова, повторение уже бывшего… Сыро, тепло вокруг, по заборам, а под ногами у Николая Николаевича улица почему-то стылая, в инее…
А наутро опять, как провалился в тревожный, блаженный мир ожидания – встречи с Ирой. В памяти мечутся цветные обломки прошлого, Ирины глаза, свет, не сравнимый с солнечным, теплый и близкий, который может излучать только плоть любимой и соты загадочной, приоткрывшейся в своем мерцании ее души… Она и в нем, внутри, была: самая близкая, и – далекая, как будто ее нет. Откуда это «нет»? Оно находит, пугая, мгновенно. Каждый день перед белыми высокими дверями он не верил, что увидит Иру. Каждый раз, входя, он задыхался от волнения: «Сейчас открою, – а тебя уже нет, только – тень, куда ты, светящаяся, русоволосая, ушла. Ты была такой достоверно чудесной, что каждую минуту, будто уходила, утягивалась отсюда». Особенно он чувствовал это в паузы, в провалы в иное, возникавшее во время разговора. Так, бывало у него перед засыпанием, зайдет сознание куда-то в сторону, в боковые ходы своей жизненной норы, очнешься и, будто цельную, отдельную жизнь прожил в ином мире, где за эти секунды был кем-то другим. А то глянешь быстро боковым зрением и, еще не успев скрыться, рванет, точно рваная коричневая дыра в материи мира, и исчезнет. Или какой-то черный ком, сгусток ожившего вещества, не то нездешнее существо, притворявшееся хоть уличной урной – мелькнет у ног и провалится в колодец того света – прямо перед тобой, в лопухах перед забором…
Жизнь – откровение: каждая встреча, каждый человек – явление ангела: дает смысл, соединяет прошлое и настоящее – так просветленно чувствовал Николай Николаевич, рассказывая Ире и про свою первую любовь, полненькую, черноволосую, злую и распутную девчонку, которая теперь лежит на кладбище под чугунным крестом. Тогда ему было лет шестнадцать, а ей семнадцать. Вдруг она не пришла на свидание, и оказалось, что она попала с подозрением то ли на дизентерию, то ли на скарлатину, в инфекционное отделение больницы. Посетителей туда не впускали. Можно было лишь что-нибудь передать через медсестру или тайком, в форточку. На опушке сосняка, окнами на колхозное поле стояло это длинное, унылое, больничное строение. Это было, кажется, на исходе зимы или в марте. Вынужденное своей подружки заключение он решил обернуть в пользу, принес ей книг: Маркса и Ленина. Сорок дней лежать, думал он, и она от скуки прочтет все эти труды, которые даже ему в обычной жизни не поддавались. Но она тут же встала на подоконник и в форточку том за томом спустила их ему прямо на голову: «Вот тебе!» В пижамном костюме в обтяжку высилась за стеклами, близкая, злая, с растрепавшимися крашеными, рыжими волосами. Через день они уже научились тайно устраивать свидания. Только предупредила перед этим она своим низким, тяжелым голосом: прикасаться к ней нельзя, а то можно заразиться. Вечера были ранние, зимние, уборщица уходила в пять часов, и можно было открыть дверь на крыльце и войти в сени. Верхняя одежда у нее была заперта в чулане. Она вышла в пижамном костюме, а в коридоре было так холодно, что, несмотря на неуверенные, остерегающие предупреждения, он сразу же крепко обнял ее, укутал полами пальто. Он не боялся заразиться от нее. Так и встречались вечер за вечером в этих настывших, темных сенях с какими-то бачками, лопатами по стенам и решетками на окне, и когда сгущался холод и тьма – все вокруг, будто обваливалось, распадалось, мир становился чужим, оставалось одно ее мягкое, теплое тело, странно осязавшееся во тьме, влажность поцелуев, ощущением своим сохранившаяся на всю жизнь, и вот вспомнившаяся теперь, в октябре, перед красно-золотым, как в маскарадном одеянии, истаивающим под окном кленом, когда эта девушка, ставшая обрюзгшей, испитой теткой, давно уже лежит в могиле. Николай Николаевич ощутил теперь ту влажность во рту, как землю, которой скоро станет: иную, нездешнюю; такой землей стало уже и тепло ее тела, блеск глаз в темноте, и шероховатость волос под ладонями, жестких, тоже теплых, и молчание, их живое счастливое молчание, которое насыщало, казалось, не только их – передавалось самому воздуху, сумеркам, темневшим в зарешеченное, серое, обмерзшее окно. И плечи, и руки, и тепло их тел под полами пальто, в темноте, счастливо, приглушенно замирали, чтобы слиться с тьмой, не выдать себя чужому миру и так пробыть еще минуту, еще пять, еще три… Вернуться от порога, еще раз обнять, и вдруг оказаться в пустоте, на крыльце, тупо отзывающемуся шагам по ступенькам, у темных сосен, на твердом, пепельно сереющем снегу; и вот уже улица и дом, и свет электрический, и будто не было ее, ее колен, которыми она прижималась, и мягкой груди, и влажного рта… Так и оказалось в один из вечеров, когда он по засинившейся между сугробами, вечерней тропке, пересекая глухие тени сосен, подошел к бараку. Ее уже выписали. Диагноз у нее не подтвердился. И в тот же вечер они гуляли по улице, как обычно… «К чему бы вспомнилось все это? – мечтал Николай Николаевич. – Опять, как в сказке, я забрел в какую-то иную страну… Да и вся наша жизнь с ее закоулками, боковыми норами и бараками, может, и есть иная страна, в тенях и тьме, а настоящая – за ней?»
С тех пор, как он попытался признаться жене в своем любовном раздвоении, у них почти каждую неделю дома случались ссоры; он не ожидал, что она такая ревнивая. Поняв, что про свои чувства к Ире рассказал ей зря, пробовал все обратить в шутку, или, ссылаясь на необходимость творческого воображения, переводил разговор на новую экспозицию, на реконструированный образ мерянки, который ему помогла создать Ира, но яркие, бледно-голубые глаза его выдавали: блистали нежно и лукаво. Любовь Николаевна его таким никогда не видела. Шутки его имели обратный характер. Часто после таких препирательств, когда она его уличала во лжи, они по два дня не разговаривали. А потом, к концу недели, мирились, и снова Любовь Николаевна, гневно сводя высокие брови, узнав, что муж, как она это называла, ходил в параллелку, выговаривала: «Ты целовал руку у уборщицы!» Ира, действительно, в музее подрабатывала на полставки уборщицы. Глаза у Любови Николаевны блестели, ревность молодила и разжигала ее; как это бывает с долго прожившими вместе людьми, она легко догадывалась о его переживаниях и фантазиях. Поуспокоившись, убеждала: «В ней, конечно, много хорошего, но она – не по тебе, лучше с такими людьми не сближаться».
В своем дневнике, который Любовь Николаевна вела лишь в кризисные годы жизни: во время беременности, или когда что-то не заладится в семье у сына – она писала: «Слабая женщина я: муж попросил написать заметку в газету о новой экспозиции. Пошла в музей. Видела И. Манера общаться – искательная, забегает наперед с тем, о чем ее не просят. Может, этим и покорила? Посмотрела выставку, электронную книгу с мерянкой…Вложил в эту экспозицию все, чем дорожил…»
И опять, через неделю: «Вчера старательно рассматривала И. Надо обладать сверхбогатым воображением, чтобы увидеть в этой тихой, усталой и уже немолодой женщине отражение какой-то «незнакомки», мерянки, повторившейся вновь через тысячелетие и так далее… Желание быть незаметной. Не от того, что много внутри, а от страха перед жизнью, от ущербности? Недостаток жизненных сил. И ему такое нравится?..»
У Николая Николаевича был выходной, с утра, пока он ездил в сосновую рощу на прогулку, погода несколько раз переменялась. Ледяной ветер пригнал настоящую зимнюю, снеговую тучу, разродившуюся, правда, обычной слякотью и моросью; два раза выглядывало солнце, а потом небо опять низко, болезненно засерело. Так же стало и у Николая Николаевича на душе. После обеда он никуда не хотел выходить из дома, но позвонили из бухгалтерии – получать деньги. Он пошел, с тоской вспоминая, как когда-то Ира ему улыбалась просто так, она изменила свое отношение после того, как он открылся ей. Куда девалась та приветливая, ласковая улыбка, в которой вся душа ее отворялась? Теперь она чаще непроницаема, иронична или рассержена, а улыбка ее стала осторожно насмешливой. А то вдруг сказала ему, усмехнувшись: «Вы еще меня не знаете!» Рот у нее детский, капризный, и вот что он рассмотрел недавно – озорной… А жена?.. Но не успел он подумать о жене, как тут, за этими мыслями, в узкой улочке у департамента культуры увидел – Иру с Людмилой Михайловной. Он смешался даже: в последнее время сколько раз думал встретить ее на улице, всего раза два встретил, а сейчас, когда не хотел бы ее видеть – сама идет. В синей курточке, бледная, с непокрытой головой, волосы раскиданы. Даже жалко стало, подумал: «Стоит ли обижаться, совсем девчонка». Что-то объясняла Людмиле Михайловне и его окликнула высоким своим голосом, чтобы приходил за фотографиями варяга и мерянки. Она давно уже сделала для него копии. Затея с фотографиями была лишь поводом, чтобы лишний раз увидеть Иру. Поэтому Николай Николаевич и не спешил их забирать. Николай Николаевич пробормотал «спасибо». Когда он вышел из бухгалтерии, посыпался из набежавшей тучи мелкий, холодный дождь, но тут же глянуло солнце, и серое небо за ярко желтыми березами, отозвавшись лучам, засияло сталью. А все тяжелое настроение, мысли тоскливые сразу отхлынули. Так всегда бывает после встречи с Ирой.
Вчера, увидев Иру, охладился, даже удивлялся, за что ее так полюбил? Сегодня же утром проснулся Николай Николаевич – опять другой человек, точнее прежний, первые мысли – о ней: опять хочется идти в библиотеку. Ходит, сидит, читает ли, дома ли, в музее – все она на уме. Он и молиться в последнее время почти перестал, потому что все время находился, как бы в молитвенном, размягченном состоянии. Встанет перед иконой, начнет, а в сердце – полоска белого тела, выглянувшая из-под блузки, когда Ира нагибалась у книжной полки. Или ее губы, голос, волосы, нежное, плотное тепло ее образа, который постоянно, как свеча, топился и не растапливался в нем… «Только позапрошлым летом, – вспоминал он, – я на два или три месяца потерял к ней интерес, так удалось увернуться, перебороть себя… Или я это выдумываю сам себе? Иногда, впрочем, мне кажется, что и любовь моя – большая выдумка, сон, засосавший меня до смерти»…
Он испытывал странное, рассеянное чувство жизни, почти такое же, как в новой экспозиции. Копья, луки, щиты и тулы – все расписано глазастыми красками. Эстетика оружия: тонкое, веселое, женственно коварное. Действительно ли, такими, игрушечно раскрашенными палочками люди кололи и резали друг друга? Муляж щита, как трактирный поднос: круглый, расписной – зеленое с красным. Рядом глупая, мертвая железная маска – боевая личина. Мысли начинали укорять: «Неужели и жизнь наша такой же бутафорский призрак-карнавал, как вот эти пестрые, зеленые и красные щиты и колчаны, луки и копья, сделанные на заказ московскими художниками? Говорят, каждое наше деяние, и каждая даже мысль имеет отношение к отошедшей жизни и приближает или отдаляет встречу с ней. Или мы никогда не узнаем, как выглядело прошлое? А если не узнаем, почему тогда томит эта тоска по нему, и так насмешливо смотрит эта бутафория?.. Не от того ли, что импрессионизм её ведет к мнимости: от внешней, ложной яркости – к пустоте. Это – оборотень: зайдешь, а со спины у него ничего нет. Предметы подлинные четки и крепки, как цветные камешки твердые. А мнимые впечатления?.. Если мир – только сумма впечатлений, то и человека целого тоже – нет: одно впечатление»…
Так привычно, безотчетно множились мысли, и он переходил к мерянке. На электронной картинке мерцало раскопанное захоронение. Вперемежку с перержавевшими остатками железа и глиняных сосудов раскинулся большой обгоревший скелет с огромным черепом. А рядом, будто мальчишеский костячок, только тазовые кости – широкие, женские. Фотография раскопа особенно его поразила: крупный скелет, судя по остаткам снаряжения, мужа-варяга, и маленький – его жены, скорее всего из местных, мерянки. Аккуратный, круглый череп, точно прильнул к витязю, закатившись ему под мышку. Она Николаю Николаевичу и во снах снилась в праздничном наряде, височных кольцах, в привесках с золотыми коньками, какой была изображена на реконструированных картинах погребального обряда. Только место лодки, по совету специалиста, за стеклом светился «срубец мал», в каких чаще сжигали покойников – «избушка на курьих ножках».
Николаю Николаевичу тогда, в его влюбленном состоянии ни разу не пришло на ум, что, возможно, рядом с варягом захоронена какая-либо из захудалых рабынь-наложниц, щуплая девчонка, заменившая на смертном ложе жену, как это часто или не часто, но все же бывало в те далекие, темные для нас времена. Лишь много позднее, во время тяжелой болезни он подумал об этом.
Он, увлекаясь, ласково говорил Ире:
– Вы чем-то напоминаете мне древнерусскую женщину из двенадцатого века. Муж ее, сборщик податей, уйдя в монастырь, стал святым подвижником. По летописцам и разным археологическим находкам, насколько это возможно, я даже составил их родословную. Вот как раз у нее, как подсказывает мне чутье, одна из пращурок и могла быть ославянившейся мерянкой, а муж у той мерянки – варягом. И когда он умер, мерянка, по скандинавскому обычаю, пошла провожать его в небесное царство. Выпила растворенное в меду коренье, зелье лютое. – И он так же, вполусерьез продолжал туманно толковать Ире, что взял у нее для своей реконструкции мерянки глаза, волосы, круглые скулы: – Образ этот, опираясь о случайное как бы, то есть о схожесть с Ирой – потому что абсолютно случайных событий не бывает – окреп. Также был рубеж, момент, когда та древняя мерянка, сама по себе, встретилась там уже с моей воспринимающей мыслью о ней, и теперь все время осязает ее. То есть встретились Доброшка с Ирой, ставшей лицом моей мысли. Доброшка глядит там – и в вечном зеркале иного мира видит Ирин образ…
«Фантастично, – продолжал растолковывать он это темное место уже самому себе, дома, – но не от того ли вокруг Ириного образа столько цепкого, живого света? Не от того ли не только эта безнадежность: вдруг Ира исчезнет? – но и тонизна, блаженство… и, слышишь, как веет от нее нездешним ветерком оттуда?..» И Николай Николаевич еще убедительнее почувствовал, как образ мерянки, после разговоров с Ирой об этом – уплотнился. «Так же и вы, Ира, как будто встретились с его смыслом, с этим вечным светом своих праматерей, – волнуясь, рассуждал он, – и приняли его»… Ира, услышав это, промолчала, не поняла… Он тоже умолк, осекся, запутываясь в словах…
Он так часто внутренне терялся перед ней и в не таких, а в самых обычных разговорах. Жизнь – откровение, за каждой встречей, каждым человеком – стоит ангел, дающий смысл, соединяющий прошлое и настоящее и, как вспышками молнии, озаряющий тьму. Теперь все время он только и делал, что намечал ей рассказать о таких откровениях, ангелах, смыслах и образах, но лишь войдет, увидит ее – все исчезает из головы. Да и зачем все эти бесплотные ангелы, когда перед ним ангел во плоти? Николай Николаевич сильно волновался, забывал даты, фамилии, у него пересыхали губы, как это обычно бывает у пожилых, нелепо влюбленных людей.
Но это самосозерцание, в котором он тонул – становится, в конце концов, невыносимым… Как застойная вода, зацветая, неподвижно стояла вокруг жизнь, томя ожиданием чего-то, и ни во что не разрешалась, хотя все что-то вдалбливала в тебя своим немым языком, или криком цветным вещества, для которого слух наш воздушный – глух. Закрывал глаза на ночь – так же образ за образом вытягивались в вялом стремлении появиться и уйти куда-то навсегда. Но иногда, казалось, образ поглощает тебя. И вот смутный человек в темноте у какого-то забора, дальше – товарный вагон. Этот смутный человек и есть ты, Николай Николаевич, теперешний. Тебя будто вывернули наизнанку. А сам ты, предыдущий ты – стал всем: ночью, вагоном, сном – и любопытно следить за всем этим, играющим тебя, и еще любопытнее от того, что тебе все это, оказывается, очень знакомо, ты здесь, таким был всегда – это твое подлинное бытие. И хочется остаться в нем, не возвращаться в то, что ты считал своей обычной жизнью; но все вдруг, как вспышки комнатной молнии, исчезает в черноте сна, обрывая твое изумленное узнавание… Теперь, когда возникают такие грезы, он стремился подальше продержаться в них и запомнить: и опять плутал по каким-то боковым ходам сознания, и там находил объяснения, находил какие-то иные причины разным будничным происшествиям, связанным с Ирой. И там не было тех причин и тех затруднений, что представали здесь. Здешнее – вдруг пустело… Но просыпался, и это понимание уходило от него, как призрачный поезд, в черный туннель. Опять все здешнее обжимало. Вся тайна жизни в полуожидании, в полусне, подмечал он…
Николай Николаевич любил рассказывать… Смешные случаи из своей жизни, книги, вчерашнее, сегодняшнее; слова, слова – не важно, о чем, но которыми две души начинали осязать, видеть друг друга. Она, наклонив голову, внимательно, ласково слушает, два света ясных уютных глаз, втягивающих в свое тепло и нежность – зовут и не зовут его. Но он чувствовал, как жизнь его в них преображается: то загадочно зеленые, как берега далекие – а то, как пасмурное и теплое небо над Волгой – они превращают его слова в витражи, где все снова твердо, неподвижно озарено, зернисто радуется всеми бликами и цветами. И уже нет этого постоянного ожиданья, тревоги, бесконечных явлений жизни, не во что не завершающихся. Вселенная образов вздрагивает, быстро выстраивается в хороводы, голоса их радугой отдаются в сердце. Жизнь обретает голос… Это любовь, Ира. Она хочет выстроить жизнь, довершить, заключить в своем свете… Ира, ты стала мне, как окно, в которое глянул Бог… Он рассказывает ей – слова лучиками гаснут в двух больших светах ее глаз. Все ее лицо чудесно простое, милое, в такие минуты преображается: иногда становится таким ясным и нездешне светлым, что у Николая Николаевича пересыхают губы, и он чувствует, что его баловство не стоит таких минут, таких глаз. Надо замолчать и глядеть – они сами что-то сердцу внятно глаголют – с этим он уходил от нее всякий раз потрясенный… Дома уже обдумывал, и начинался новый прилив счастья, словно такие же внятные глаголы обретал весь мир: камни, сосны, Волга, деревня Ивушкино, где она родилась…
«Ты каждый день уходишь от меня, Ира, являешься, но не до конца являешься, и в самих явлениях своих – недостижима, я кричу тебе: не уходи! – повторял, грезя, он. – Слейся со мной в одном тонком душевном свете… Проводи меня в небесное царство, мне уже немного осталось… Я зову тебя – прискачи ко мне мой белый конь, вынеси меня из болота – белый конь – бледный… Вынеси меня…Ведь каждая любовь на земле – это тропка в небесное царство. Во всяком случае, начинается всегда именно с этого. Сами по себе, без любви, люди держатся лишь механическим притяжением. Есть души, как сказано в одном апокрифе – из кусков: что душа отъела у другой – тем она и стала. Люди-руки, люди-челюсти, люди-камни и какие-то белые мешки… Божественная любовь устала. Мир едва держится. Так слаба любовь в мнимой жизни. Стоит в него вспрыгнуть какому-нибудь дьяволу извне, влететь черному лайнеру – мир разорвется на куски. Вот перейду я это поле, раздваиваясь на меже: любви и смерти ангел что ли, стоит и ждет меня уже?»…
Так сжился Николай Николаевич с ее образом, он для Николая Николаевича – страсть, должность, утеха, совесть, словом – она ему все. С образом, в который всегда включено было что-то непостижимое – безнадежное. Хотя тебе и мнится, что ты овладел образом, но нет – это обман, он опять исчез, растворился в благостной бездне света. До конца с ним не соединиться, не совладеть. Наверно, похоже это на первую, и на последнюю любовь: тыи блаженство, и безнадежность.
«Я всегда была такой же, потребовалось двадцать лет, чтобы вы меня заметили», – как-то сказала ему Ира с укором. И он стал вспоминать, как впервые увидал ее в библиотеке. Тогда он удивился и почувствовал какое-то странное против нее любопытство: откуда она? Это не передать, такое же чувство он испытал, когда впервые увидел свою будущую жену. Оно скорее отстраняет, а потом, как в последние годы, обращается в притяжение. Девушка двадцати двух лет с русыми, в желтый оттенок волосами, крепенькая, коренастенькая, в юбке и вязаной кофте стояла, насильственно, чтобы занять руку, держась за кромку стола, точно боясь шагнуть, с опущенными глазами, настолько скованная, с такой изнутри проступавшей неуверенностью во всей позе, что нельзя было сказать, красива она или нет. Как будто не хотела себя казать-выказывать. Вспоминает Николай Николаевич с усилием лицо, но оно скрывается, уходит, не дается даже свету памяти. У нее был неуверенный, как бы растерянный взгляд, который не смеет или не хочет на чем-либо остановиться, чтобы не застали его врасплох. Однажды он на какой-то вечеринке музейной, усевшись с ней рядом за столом, пошутил гостям: «А это – Ирина, моя жена!» – и на него посмотрела она таким недоуменным, именно застигнутым врасплох взглядом, что стало неловко.
Выросла в деревне, с шестнадцати лет, четыре года – у конвейера на часовом заводе. Жила под присмотром, в общежитии, вместе со старшей сестрой в комнате. Тосковала по маме и больному папе, колхозному механизатору. Ира вернулась в деревню, ухаживала за ним до самой смерти, помогала матери. С мужем развелась. «Почему?» – спросил однажды Николай Николаевич. В голосе ее задрожали слезы, губы затряслись… Николай Николаевич смутился, никогда больше о муже не спрашивал. После развода она переменилась, расцвела. «Как одуванчик сияющий, июньский, который хочется поднести к губам и затаить дыхание», – любил вспоминать Николай Николаевич. Сначала он даже подумал, что она с кем-нибудь сошлась на стороне…
Вспоминает, а в душе у него – невнятная музыка, одна и та же изо дня в день мелодия. Как из кино, пошлая, знакомая… И вдруг узнал – это еще один ангел, небесный гость прилетел. Просто он – под будничной личиной. Нездешний звук, прикрытый пошлой мелодией. Жизнь – откровение… Николай Николаевич, вслушиваясь, идет по примелькавшейся давно улице, но он далеко от дождя, от серой слякоти, уходит все дальше отсюда под какой-то теплой, цветной метелью, ласковой, музыкальной, прощальной. Все время с Ирой, все время – чувствуя тепло ее голоса. Ее образ, как какой-то сказочный цветок, обволакивал солнечным теплом в серости, незначительности или мелкой зависти и злобе, составляющих основной фон буден: «Ведь живешь большей частью – будто упав в яму собственного перегноя страстей, – каялся он. – Я недавно заметил: в мире не стало далей. Вместо них по горизонту – обрывы… Серый, тусклый туман за окном. Не знаю, что делать, работу забросил, дома не сидится»…И опять, когда в библиотеке подходил к белой двери, останавливался, и дыхание замирало: «Почему мне кажется, что сейчас войду – а ее нет? Вообще нет, только тень на стене, на прогоревшей до иного мира стене»… Но снова совершалось чудо – его встречали ее глаза…
Она сидела за библиотекарской кафедрой, Николай Николаевич – за газетным столиком. Читателей не было. Он подождал и подошел, продолжил то, на чем оборвать разговор пришлось в прошлый раз – о своей юношеской любви. О том, как обнимал рыжую, полную девушку в бараке инфекционного отделения и как диагноз не подтвердился… «
– Вы и обо мне так будете рассказывать, – упрекнула она его, – вот если бы она вас услышала!
– Она давно в могиле, – сказал он и, облокотившись о кафедру, наклонился к Ире.
Глаза у нее вблизи – большие, милые и беззащитные – выпуклые, как у зависшей над прудом стрекозы. Ясные, ласковые, внимательные – соскользнешь в них – и забудешь все. Эти минуты сладкого забвения – самые счастливые для него. Говорил и говорил. В зале холодно, на столе у Иры лампа под матовым колпаком, она, слушая, по своей привычке, греется от нее, то плечом и щекой к ней прильнет, то подбородком, то начнет гладить стекло, прикладывая к нему руки с просвечивающими нежно пальцами. Но вот глаза ее остановились, затемнели тревожно. Она стала прислушиваться и спросила:
– Там ветер открыл дверь, в библиографическом отделе?..
Николай Николаевич глянул в коридор: нет, дверь была закрыта. Здесь, в старинном доме, часто так бывало: рамы большие, ветхие, и в щели их просачивается ветер, ходит между книжными полками, шевелит чем-то, издает странные звуки, может, и в замурованных в стенах дымоходах печного отопления…
– Нет, там кто-то стоит, посмотрите, – прошептал она, испугавшись, и как-то просительно поглядев на Николая Николаевича… Он, оборвавшись на самом занимательном месте, вышел в коридор и увидел там чернявого парня. Присев на корточки, пристально разглядывает в стеклянной витрине глиняные горшки, выставленные завхозом. Странный вид у парня: не вставая, черно, сонно посмотрел снизу вверх. Николая Николаевича сначала обдало стыдом: он подслушивает наш разговор! Николай Николаевич даже засобирался уйти, так ему стало неприятно. А Ира испугалась почему-то и вдруг впервые попросила:
– Вы не уходите пока от меня.
Он опять вышел в коридор к чернявому парню. Спросил, что ему надо, тот медленно, чужим голосом ответил, что только что прочитал в газете заметку про эту выставку и сразу же пришел посмотреть.
Николай Николаевич сказал, что заметка была не об этой выставке – та выставка не здесь, а в соседнем здании. Потом появилась Людмила Михайловна. «Что за парень приходил, вы не знаете?» – спросила ее Ира. «Знаю, он и сейчас внизу, под лестницей стоит, – отозвалась беззаботно Людмила Михайловна. – Это человек очень хороший… Он учился в университете, да сошел с ума»… Но что-то суеверное в этом случае все не давало покоя, особенно то, что парень, наверняка, подслушивал: «Этот ветерок нездешний… этот бес-углан…» – бормотал Николай Николаевич про себя. Он не мог избавиться от какого-то тревожного, хотя и безотчетного предчувствия, и думал, что не случайно ему снится, уже не впервые умерший два года назад старый друг, которого все знакомые называли просто Валерой.
…Когда парень ушел по коридору, так же беззвучно, как и появился, смущение поулеглось: «Ну и пусть подслушивал… Во-первых, эта женщина уже в могиле. Во-вторых, что он поймет?» – думал Николай Николаевич. А Ира все не могла успокоиться. Она в последнее время похудела: бледное, милое лицо ее точно прочертилось вглубь. Она была в белом, с высоким воротом свитере, разогретом светом от настольной лампы. Она опять беспокойно льнула к лампе, гладила ее стеклянный колпак, руки, наливаясь светом, матово просвечивали. Он нагнулся и поцеловал ее в русый локон возле ушка, там, где у прямой, белой раковины темнела маленькая родинка, а она даже не отмахнулась, как обычно… Это сегодня был уже третий такой поцелуй… И он подумал счастливо и устало, с тем зыбким беспокойством, с каким мы обычно заглядываем в будущее, что теперь он так будет целовать ее, когда захочет. Но он ошибался.
III.
Осень все не приходила, затягивалась, и вдруг установилась внезапно. Вечером, уже часов в семь, темно, и все заволочено сухим, дымным туманом, будто где-то запалили большой костер, и мир вот-вот исчезнет, сгорит, да так оно и бывает каждый год: солнечный мир проваливается, обугливается, сереет. С утра выглянуло солнце, осветило бледным светом, и снова все погрузилось в осеннюю задумчивость. Николай Николаевич сидел за книгой – в ум не шли материалы для экспозиции. «В ум не идут, или я сам – не очень иду в этот ум? Зачем все это нужно? И нищенский заработок в том числе? – вяло вопрошал он. – Каждый день я не живу, а сталкиваюсь с проходящим днем. Куда-то спешу, суечусь, день разваливается, крушится… Глядь, уже и обед прошел… Вот и спать пора».
…Он лежал на высокой, как будто больничной, железной койке в голой комнате, а она сидела у него в ногах и ласково выговаривала своим тихим голосом за какие-то пустяки: «Надо и самому готовить»… Он лежал поверх холодного, серого одеяла, в трикотажных старых штанах и клетчатой рубашке, закинув руки за голову. Вдруг вскочил, чтобы поцеловать ее, а она увильнула и быстро, с улыбкой, юркнула под кровать, как это делают разыгравшиеся дети. Встав на колени, выставила из-под свесившегося одеяла светловолосую голову с ясными, веселыми глазами. Он тоже встал перед ней на колени, придерживая ее за щеки легко, поцеловал три раза: сперва слабым поцелуем попробовав губы, потом крепко, но поцелуй сорвался; и еще раз прикоснулся слегка, будто закрепляя всё действо. До этого он никогда не целовал ее в губы… И проснулся в своей квартире. Долго лежал в темноте, ждал утра… До этого, на прошлой неделе, она приснилась больная, постаревшая, кашляла. Николай Николаевич затревожился. А Ира, как оказалось, действительно, в тот день была в больнице – только у зубного врача…
Пришел Николай Николаевич в библиотеку, но Людмила Михайловна сказала, что Ира ушла сдавать начальству какие-то отчеты… Он постоял у белой, толстой стены бывшего монастыря, спустился с холма к ручью. Там в сыром, сером небе под мокрыми, черными ветками ив – кирпичные, алые развалины – сиротливая античная арочка на высоте, и треугольник кладки, оставшийся от разобранной крыши. Нарушил легкую печаль черный автомобиль с утробной, глухой музыкой в салоне, спрятавшийся за развалинами.
Под молодыми дубками в парке Николай Николаевич подобрал большой, разлапистый лист, на его желто-коричневом пергаменте написал: «Сон. 8 октября, 200… года. Ира». Положил ей на кафедру в библиографическом отделе… И так прошел весь день. И на другой день он искал, ждал ее, и опять томил неотступный страх, что она вернулась к мужу или любезничает с отставным прапорщиком. Его пристроили завхозом или «заведующим технической частью музея-заповедника», как он сам себя называет. Николаю Николаевичу он с первого же разговора стал неприятен: кривоногий, косопузый, с откляченным задом. На лысине просвечивают бурые пятна, старательно прикрытые серыми, вязкими прядями, поэтому он не снимает шапку с головы. Что-то в его мнимо простодушном лице есть подленькое, нахальное, готовое, впрочем, моментально испариться, стать пустым и гладким, как доска. В разговорах он внезапно вставляет: «А как Шуберт?» Вообще-то он – человек не бесталанный: сочиняет песни и поет их под гитару на вечеринках. Лепит горшки на гончарном круге, рассуждает про астрологию…
Николай Николаевич заходил хитростью в библиографический отдел, заглядывал на кафедру. Ее все не было. За три дня дубовый листок с ее именем сморщился. Николай Николаевич вспомнил, как она однажды разговаривала с Людмилой Михайловной об именах и сказала: «Смотрите, какое имя у меня мягкое!» – и по слогам произнесла, будто придавливая ладошкой каждый звук к столу: «И-ра-а!» Образовано оно от слова эйрене —мир: в древнегреческом оно женского родаи обозначает состояние противоположное войне: покой. Но Николай Николаевич, увлеченный боковым ходом своих мечтаний, ошибаясь в одной дореволюционной буковке, переводил его как вселенная.
С утра в выходной холодная, цинковая туча съела небо за Волгой, пошел первый снег, потом слякоть, ветер зашумел порывами, с подвыванием в выбитом окне чердака. И после обеда дождик сиротливо стрекотал по стеклам и просительно дребезжал по жестяному карнизу окна. Николаю Николаевичу опять стало страшно, что она вернулась к мужу. Этот навязчивый страх становился все томительней. «Или войду, – тревожился он, – а от нее осталась лишь одна тень на полотне мира, промоина, куда она ушла… И я не увижу ее никогда!» Так прошла неделя…
Николай Николаевич, случайно встретив Иру на улице, заметил, что у нее ссажена кожа на носке сапога. На другой день вечером, в библиотеке, где она, взволнованная, элегантная, на высоких каблучках представляла книгу краеведа, напомнил ей об этих, прятавшихся обычно в бытовой комнате, сапогах: «Давайте, я вам подклею – это же пустяк». «Я сегодня очень злая, не подходите ко мне!» – тихо, с непонятной улыбкой ответила Ира. Сначала он не поверил, заглядывая в ее глаза, в их теплую, зеленоватую глубину – как прогретое песчаное дно в нежных, солнечных пятнах. Только какой-то острый блик играл в них, но лицо от этого стало еще милее. Он даже не обиделся, спросил, может, у нее с детьми что-нибудь случилось? Но она невнятно ответила, что просто настроение такое, и добавила: «Годы уходят». Николай Николаевич не знал еще, что вчера его жена Любовь Николаевна откровенно, с колкими шутками рассказала Ире о его странном любовном признании.
Он весь вечер был в недоумении: ему этот перепад был непонятен. «Под ее чудесной простотой, похоже, целый океан бьется», – раздумывал мечтательно он. Так в недоумении он провел и еще один день. А на третий пришел на работу и принялся через силу за тематический план новой экспозиции. Как это уже и прежде бывало, от обиды хотел не ходить к Ире. Но, как обычно, после обеда уже был в библиотеке. В коридоре заволновался и даже перекрестился, так ему стало тревожно. Ему больших усилий стоило входить в этот небольшой зал с высоким потолком, с ящиками каталогов, с полками словарей и энциклопедий по стенам. Не дошел, свернул в кабинет к заведующей отделом: дверь была открыта.
Говорливая, маленькая, кругленькая, в черном костюме, перехваченном по талии, как кубышечка, на высоких каблуках-шпильках, только что из парка: на каждом каблучке – по пронзенному дубовому листу. Незаметно для Николая Николаевича она закрыла листком какого-то отчета старую фотографию завхоза с подписью в затейливой виньетке: «Привет с Дальнего Востока!» Отдав ей дискету с текстовками о варяге и мирянке, Николай Николаевич попросил передать ее Ирине Петровне. В это время Ира сама вошла, улыбаясь, опять усталая, бледная, с русыми локонами в черном блузоне с высоким воротом и черных брюках. Пошли в пустой читальный зал. В глазах у нее будто какая-то озабоченность. «Видимо, что-то случилось все же», – погрустнел Николай Николаевич и спросил, когда на него записали «Русскую Правду»? Оказалось, что четвертого сентября: «Тогда, значит, я и побоялся поцеловать ее, когда глаза ее улыбались и приободряли: «Можно, попробуйте»…
Он заговорил с ней о заголовках к новой выставке, потом, не утерпел, о мерянке. Она, как обычно, слушая его басни, больше молчала и улыбалась…
– Я давно сделала вам те копии…
– А сегодня подходить можно? – перебил он, радуясь на нее, и напоминая ей тот вечер…Ничего не ответила она. Ей вдруг вспомнилось, как жена Николая Николаевича насмешливо расписывала: «Мой муж поэтично сравнивает ваши глаза, Ирина Петровна… с мельчинками – так называют в деревне мелкие места в реке». Причем, что показалось самым обидным, раза три повторила: «мелкие, мелкие!»..
Пока Николай Николаевич, собираясь уходить, думал в своем оцепенении, счастливом и глупом: «Теперь опять ждать до понедельника», – раздались спорые шаги по коридору, и бравый завхоз уже протягивал ему руку. У него нарочито крепкое рукопожатие, он, видимо, хвастается своей силой. Недавно он сказал Николаю Николаевичу на улице: «Я самый счастливый человек в мире! Если бы я не попал в музей, где бы вы могли еще встретить такого человека?» Кроме напускной, казарменной веселости да этой присказки про счастливого человека у него под личиной ничего нет. Он подлизывается, похоже, и к Ире, и к Людмиле Михайловне. С серьезным видом сел у книжной полки.
Ира вышла из-за кафедры, пошла в библиографический отдел, быстро, безнадежно в дыхании Николая Николаевича отдаваясь стуком каблуков, забивая все мысли. И лишь миновала прикорнувшего с журналом у полки прапорщика – он по-собачьи сторожко повернул голову за ней и вперился в ее обтянутую брюками попку. Не отлип, пока Ира не скрылась в растворе высоких, белых дверей, за ящиком с гигантской тропической осокой в коридоре. Через минуту вернулась – снова утонул кепарем в раскрытом на коленях журнале. Опять зачем-то простучала вызывающе, волнуя – прапорщик опять пристал к ней взглядом. Николай Николаевич не мог забыть, как однажды, навалившись развязно на стойку кафедры, он протягивал ей длинную конфету и, осклабившись, с тем же сощуром и перекосом лица – с каким привык, должно быть, скалиться, толкуя о женщинах с сальными бездельниками в каптерках – сыпал хамскими комплиментами: «Ну что, белая моль?!» – А Ира, чуть пригнувшись, глядя снизу-вверх из-за кафедры, с вкрадчивой внимательностью, сияя своими светами – глубоко, ясно смотревшими глазами, такими милыми, – податливо улыбалась ему…
На большом, стрельчатом окне вешали шторы. Пожилой шофер с запорожскими усами стоял на столе. Высоко под потолком, в черных брюках, стройная, как ласточка, раскинувшая руками по окну, наводила воланы Людмила Михайловна, а маленькая заведующая осторожно спускалась от нее со стремянки, с каждым шагом все выше, будто входя в воду, подымая юбку над круглыми коленями… Вдруг увидала, как смотрит на нее сероволосый завхоз, и засмеялась смущенно и радостно, как девочка.
Николай Николаевич подметил, что цвет глаз у нее был чудесным, фаюмским, а теперь стал, как и у других женщин, обычным, серым. Вчера случайно он увидал, как она в коридоре пустом, привстав на носки, с приторным хихиканьем обнимала заведующего технической частью…
Ира деловито увела его в подвал – передвинуть тяжелые стеллажи. Он прошел, опахнув Николая Николаевича густым парфюмерным духом.
Николай Николаевич узнал, что прапорщик развелся на Дальнем Востоке с женой, уехал, оставив ее с двумя детьми. Шоферил, потом подлег, говоря языком «Русской Правды», к разошедшейся с мужем учительнице, которая была старше его. Учительница прогнала его за пьянку. Теперь он взялся делать пещные горшки, называет себя художником-гончаром. Как все отставники, любит давать нелепые советы и лезет с ними в экспозиционную работу. Для того чтобы незаметно вывести электропроводку, он предложил продолбить дыру в табуретке восемнадцатого века. Людмила Михайловна называет его необыкновенным человеком. Он дарит ей цветы, сорванные с клумб. Она благодарит его своим жеманно-курлыкающим голосом. «Мужчин у нас в музее мало, а женщин одиноких много, и все они по очереди с ними ти-ти-ти»… Не зря на торжественных собраниях заведующая говорит с пафосом: «У нас в музее одна большая семья!» – смеялась Людмила Михайловна. Недавно Николай Николаевич встретил завхоза, сильно подвыпившего, в переулке, у бесконечного забора старого дома, и он после обычных слов о самом счастливом человеке вдруг принялся забавляться поэзией:
– В жизни какая-то мировая несправедливость, – изобразил задумчивую мину он. – Я понял это вдруг, и все рухнуло. Понял, почему мне не удались моя работа, служба и все другое… Я не могу жить с ней – тут все зарыто, – говорил он, раздражая Николая Николаевича, и, что особенно казалось неприятным, делая на своем вогнутом лице рот колечком и брюзгливо уводя его на сторону. – Почему? Не могу понять!.. Вроде ничего не мешает, – намекал он о своем отношении то ли к выгнавшей его учительнице, то ли к заведующей. – А я уже не могу с ней жить… Таков уж мир, – разводил он руками…
А Николай Николаевич усмехнулся, подумав, что прапорщику в эту минуту под словом «мир» представлялись, верно, вечерняя, темнеющая даль горизонта, исчезнувшее небо, темная плоскость сумеречной земли. Словом, весь миропорядок – тоскливо звенела в нем, как муха за стеклом, одна мысль. И только самого себя он не представил, а ведь весь этот миропорядок, будто бы темнеющий и уходящий за заборы, в ночной тупик, и был лишь он сам, подвыпивший прапорщик.
Еще через день пришел он с утра в библиотеку и с порога наткнулся на широкую спину завхоза и на взгляд Иры, устремленный на него снизу-вверх, из-за кафедры, внимательно-податливый, глубоко распахнутый, так хорошо знакомый Николаю Николаевичу взгляд. Прапорщик, припав на локтях к кафедре, наклонив длинную голову к Ире, разглядывал ее, как ворон. По инерции Николай Николаевич еще пролетел прямо к ней, малодушно торопясь поздороваться с завхозом за руку. Но тот лишь кивнул кепарем. Николай Николаевич удивился, устыдился и, глянув на Иру вопросительно, отошел. Завхоз что-то договорил тихо и замолчал, остался наедине с принимающим его молчание, потемневшим Ириным взглядом.
– Ну, ладно, я пошел! – показывая голосом на пережидающего Николая Николаевича и чувствуя его смятение, выстрелил в воздух он и строевым шагом покинул их.
Николай Николаевич не успел еще ничего перечувствовать, а уж Ира торопливо подала ему дискету с фотографиями варяга и мирянки. Он протянул ей записку, свою ночную записку, в которой хотел сказать всё…
Нет, это уже у старого, коричневого стола в библиографическом отделе отдал он свою записку… Заглянула, смигнув ресницами: «Прочитаю потом». Она уже успела сказать ему, что ей надо срочно писать какой-то отчет. Он пошел за ней по коридору, и голову его окинуло туманом, проступила на лице глупая улыбка, как бы тянущаяся за ней. Позднее, со стороны, он со стыдом представлял свое, растягивающееся в этой резиновой улыбке лицо. «А прапорщик… прапорщик… зачем? О чем вы говорили?» Она опять, темным, грешным взглядом улыбалась ему, прикрывающимся жестом к груди прижимая тетрадку, куда было вложено и его письмо, что-то отвечала односложно. А другой рукой уже открывала дверь вниз, на узенькую лестницу, когда-то по ней ходила прислуга, и теперь вдруг из-за двери донеслось – плеск тряпки в тазике. Он замолчал, смотрительница в двух шагах от них мыла лестницу и могла услышать…
Он вышел на улицу. Удивительно, он все видел и слышал, но до него точно не доходила явь случившегося. Николай Николаевич отодвигал ее в яркий, белоснежный мир, в мерцающий, сырой перламутровый туманец. И синева туманная сверху, будто матовая, вбирала боль, ложилась на душу прозрачно, а за Волгой, где-то над деревней Ивушкино, над Ириной родиной, как он уловил, над развалинами затопленного в Волге монастыря – вдруг увидел он – стоит столпом косым радуга в бледном, воздушном небе… Там, где на острове затерялась могила святого подвижника, основавшего когда-то монастырь.
Потом в мастерской Николай Николаевич говорил со старым столяром в шапке-ушанке. У него было спокойное лицо со светло-карими, улыбающимися глазами. Обговаривали размеры циркульных, то есть круглых рам для древнерусского отдела, но, окинутый туманом, Николай Николаевич плохо понимал его слова. Вынул блокнот и стал записывать размеры, количество стекол… Всю ночь он не мог заснуть, лежал, как на плахе, и не чувствовал никакой потребности во сне. Все объяснялся с Ирой: «Я не буду больше вам мешать». Язвил: «Вы зайдите к нему со спины, посмотрите – у него там пустота, как у кукол-манекенов в нашей новой экспозиции!» Потом тошнота, высокое давление… Любовь Николаевна вызвала скорую… «Ситуация очень опасная», – сказал врач. По ночам он тайно плакал, чувствуя, как очищается душа. Тот же мир январский точно осел в ней матово-солнечным блеском, светящимися белыми сугробами. И проел тьму сердца, и ревность, и обиду – он вспоминал, как еще осенью поставил свечку Серафиму Саровскому и молился ему за Иру, и за их любовь, и каялся, сам не зная, в чем. И книжка тогда, будто случайно, подвернулась про Серафима – и он подарил ее Ире. И вот как раз оказалось – пробовал он утешить себя – теперь на день святого Серафима как раз он и получил этот целебный удар… И, снова охладевая, жалел себя, негодовал.
До него дошел и смысл потемневших ее глаз, и грешной улыбки, с которой она открыла дверь на лестницу. Он увидал себя со стороны в темном свете ее глаз какой-то маленькой, безликой фигуркой. В таком унизительном положении он не был перед женщиной уже почти сорок лет. Только тогда, зимой, на крыльце, когда пытал упокоившуюся теперь на кладбище Марину: девушка ты или нет? Потому что хоть и редко, но вылезало холодное и гадкое, словно змея, отвращение к ней. «А, если да, то, что ты тогда со мной сделаешь?» – спросила и призналась: «Да!» Сухие глаза её почти злобно всматривались в него: «Теперь уходи, уходи!» И тут же, вослед: «Куда ты? Вернись!»… «Думал, что изменилась женская природа, нет, она все так же коварна, предательски кокетлива», – отчаивался Николай Николаевич…
«Со мной происходит что-то новое, – стараясь успокоить и отвлечь себя, пытался анализировать он. Часто утром я, проснувшись, еще в темноте, лежу со слезами на глазах и думаю: для чего я полюбил Иру? Для того, чтобы отказаться от нее? Вот это, наверно, и есть моя жертва. Ведь любовь – жертвенна, страсть – корыстна»… Через неделю он вышел из дома, поехал на автобусе до конечной остановки, чтобы прогуляться в сосняке. Небо пухлое, белое, и тихо, пусто во всем мире. Только неожиданно, с сырым, вязким звуком шлепаются подтаявшие плюшки снега с высоких сосновых лап. И сосенка маленькая на задичавшем поле вдруг выпрямится, вскинется вверх, сбросив с себя снежный груз. Все так же, как и сорок лет назад, будто в мире ничего не произошло с его постаревшей душой:
«Думал сначала, что душа у меня – голая: тела, точно не стало – каждое слово, которое прежде пропускал мимо ушей, как стрела, вонзается прямо в нее. Теперь догадываюсь – это не душа голая, может, потерял я ее, души-то как раз и нет. Хватает, бьет из своей темноты плоть, ударяет током в кровь – вот и все переживания. Вот так умрешь, а вместо света, образов и простора – тьма теплая и темное шелестение крови… Иногда приходит жуткая мысль – пойти к Ире, просить за что-то, сам не знаю, прощения, и о чем-то умолять. Только бы она была со мной в каком угодно варианте». Ловя себя на этом странном, канцелярском слове, он понимал всю нелепость своей затеи: «Нет, лучше отвлечься на что-то. Все вокруг учит, что надо терпеть. Все, если захочешь, поможет забыть ее»…
Он часто уезжал за город – уходил бродить в чахлый лесок на заброшенном колхозном поле, опять, уже по-другому успокаивали покрытые снегом сосны: снег на ветках нависал так ровно, будто каждая веточка бережно держала его: иногда совсем непосильный для себя, несоразмерный, кривой ком, а он все равно – не рушится. «Зачем-то он так лежит, как на бутерброде, значит и мне так – терпеть надо, – разглядывая, умилялся Николай Николаевич. – В этих хмурых наплывах, опускающегося на тебя тяжелого неба – что-то живое, какое-то живое выражение, твое же, из того же состава, что и твоя душа. Присели, прилегли, как твои мысли, покорно землисто-коричневые кусты, прикрылись клочьями снега, улеглась на бок серо-желтая трава, все обжато, обжито живым вслушиванием и знает твои такие же нерадостные и вечерние, темные, тусклые, осевшие в душу пласты внутреннего мира».
Поднадоевшая работа тоже помогала ему наполнять пустоту времени и отвлекала от унылого заглядывания в себя. А тут как раз начались судебные разбирательства между музеем-заповедником и торговой фирмой из-за земельных владений, да и старинного «писательского домика». Николай Николаевич консультироваться ходил к родственнице жены, служившей мировым судьей. Она с участьем втолковывала ему все, что надо делать, заставляла записывать. Пристально всматриваясь, раскладывала на столе, разглаживала бумаги: они, как живые, будто чувствовали ее большие, белые руки. Глядя на ее руки, точно ласкавшие белые листы, он все вспоминал, как он гладит свою старую, белую кошку. Стал замечать, что, поговорив с судьей часа два, весь день потом чувствует себя спокойнее.
Судья жаловалась, что ее замучила мелочевка. И все одно и то же: родители – бьют детей, дети – родителей. Находила в своих папках диагнозы психиатрической экспертизы: «Синдром жестокого обращения». Новый этот термин удивил Николая Николаевича, он раз так заинтересовался, что остался и на вынесение очередного приговора. Судили и уже второй раз тридцатидвухлетнюю внучку, выколачивавшую деньги на вино у своей восьмидесяти шестилетней бабушки. Внучка была беременна. И ждала приговора за стенкой, в отделанном заново синтетикой, пустом маленьком зальце: в черной, торчавшей на груди востряками, старой каракулевой шубке, может, перешитой когда-то из допотопной, бабушкиной. Носик тонкий, симпатично задорный, быстрые глазки, все моментально схватывающие, только щеки впалые и кожа уже постаревшая, придававшая лицу желтый, поношенный вид. Судья наедине говорила ему, что, видно, внучка эта занимается проституцией. Потому что деньги у нее есть: девять тысяч сразу в залог по иску внесла: «Притворяется смиренницей, беззубая!» – переходя на шепот, наклонялась судья через стол к Николаю Николаевичу. Он все перебирал в уме ее слова, когда эта, в черной старой шубке, после чтения приговора что-то тоненьким голосом и преувеличенно покорно спросила у судьи, и увидал, что в этом, милом еще личике, в чисто изогнутых губах – мелькнула темная дыра. Он пришел домой изумленный и тем, что увидел, и тем, что Ира вдруг сразу отодвинулась в мерцающий туман. Вечером рассказал о суде жене.
– А ты разве не помнишь ее? Это же Таня, – напомнила жена. Она готовила ужин. – Я же тебе ее когда-то показывала? Она в подъезде у нас часто стояла. Ей тогда было четырнадцать лет, а она уже мужчин поджидала…
Он удивился, вспомнив, действительно, какую-то школьницу на лестничной площадке у окна, кажется, в той же черной шубке, с потупленными глазками. Вспомнил и ее мать, с которой учился в одной школе. Как это было давно… Он не думал о том, как она пинала свою бабушку и кричала: «Давай денег! А то я тебе сделаю!» Стояла в глазах только ее обтертая, с востряками на груди, шубка, носик и какая-то непонятная, необъяснимая жалоба за все на кого-то и неизвестно кому.
– Это же по возрасту наша дочка, – сказала жена со знакомым ему оттенком в голосе. И повторила то, что он слышал уже не раз: «Жаль, что я родила только одного ребенка»…. В толстом свитере, повязав голову светлым шарфом, она резала капусту на щи. Николай Николаевич бездумно загляделся на ее руки, отдавшись внутреннему потоку, все время скользящему сквозь нас и уносящему нас куда-то, хотя нам кажется вся скучная обыденность бесконечной, стоящей на месте. И сквозь эту кофту, платок, ее руки и другие безымянные мелочи кухни вокруг – заглянула ему в душу какая-то таинственная, успокаивающая нежность ко всей милой, убогой жизни с ее обидами, ревностью и любовью.
Разгоняя этот нежный туман в душе, он не скоро возвратился к внешним мыслям. За окном уже потемневшим накатил шум подъехавшего автомобиля с вырвавшейся из кабины музыкой, чуждо вторгшейся в слух. Николай Николаевич вспомнил, как вчера они разговаривали с женой о выставке из музея Пушкина, не пользовавшейся вниманием посетителей.
– Рыцарский век. В городе мало кто его понимает, столько клеветы на него вылито, – заговорил рассеянно Николай Николаевич. – И почти все гравюры знакомые, Люба. Каждая такая гравюра – отдельный рассказ… Языков, Владимир Одоевский, Вельтман, Кукольник… Строго оформленные книги. До-машинная еще «Литература», как тогда писали: с большой буквы и с двумя «т». Знаешь, Люба, в гравировальном деле той эпохи в равных дозах слиты техника и искусство, и одно другое не перевешивает еще. Строгость, покой царствования Николая Павловича представляются даже сквозь безделушки. Табакерка, чернильница, затейливый чубук, перчатки, щипцы для их натягивания, цилиндр, рамы картин, мебель… Посмотрел – обновило душу… «Ушел немного от домашней ревности, передоновских сцен», – чуть не добавил он, но сдержался и вместо этого сказал:
– Только в такую эпоху могли появиться «Очи черные»… Вижу пламя в вас я победное, сожжено на нем сердце бедное… – пропел он и почувствовал, что сентиментально заволновался, и ему стало жалко себя, но это уже было лишь похмельем того нервного опьянения Ирой, которое он испытывал прежде.
Жена, собирая ужин, слушала, не перебивая. Такое молчание, за которым Николаю Николаевичу слышалось будничное равнодушие, все чаще раздражало его. Любовь Николаевна осталась на кухне читать Платона, возвращавшего ей молодое ощущение мира, а Николай Николаевич, разъедаемый своими мыслями, еще просмотрел перед сном детектив по телевизору, и в душе его, как часто случалось после телезрелищ, стало темно и пусто.
А ночью он проснулся в своей комнате в два часа, вспомнил Иру и все, что случилось, и неврастенично, тяжело, неслышно заплакал, закрывшись с головой одеялом. Ворвались кувырком старые мысли, пробежало перед ним такое далекое теперь, счастливое лето, как он просыпался рано, часа в четыре, и ждал, когда можно будет встать и идти к ней. И сиял в душе облик ее, и начинался с ней немой разговор, бесконечный и бессмысленный. В ней, этой женщине, было что-то такое, обо что сокрушалась, разбивалась, чем оканчивалась вся прожитая жизнь. Все завершалось ее образом. Так он тем летом мечтал глупо, растроганно, со слезами на глазах – о ней ли, что она недостижима – или о том жалел, что жизнь прошла?.. Все напрасным казалось перед ее сверкающим сквозь слезы образом. Не то делал, не так… а как надо? Но и «как надо» – стало уже поздно, понимал он. Как он страшно волновался, глядя на ее плечи, мечтая обнять…Весь день ходил, как пьяный, прикоснувшись к ее волосам или поцеловав ей руку. В любовном чаду, повторял, что любит ее, как самого себя… Ему казалось, что перед ним – он сам в ее облике. Он видел в ней отдельно – самого себя мальчишкой, а не смутным зеркальным двойником, зачесывающим виски по утрам. Только руки, ноги чуть другие, да еще одна штучка; и надо прижать к себе нежно это «чуть другое», соединиться с загадочным, лучистым своим вторым «я»…