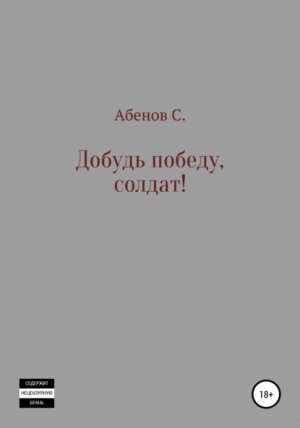
Часть 1 Сталинград
Глава 1
Она никогда не верила в Бога. И никогда не молилась. Смешно было бы обращаться с просьбой к тому, кого нет. И если бы ей сказали, что такое может произойти, она бы ответила, что да, может, но только не с ней! Потому что ей уже почти девятнадцать лет, и она боец Красной Армии. Потому что осенью сорок первого, когда гитлеровцы подошли к Москве, ей еще не исполнилось восемнадцать, и ее не взяли в армию. Она дежурила по ночам на крышах и тушила немецкие зажигательные бомбы, и зимой сорок второго пошла работать в госпиталь медсестрой и занималась на курсах радистов. Потом, когда в мае сорок второго ей исполнилось восемнадцать, она писала рапорт за рапортом об отправке на фронт и после каждого дежурства часами просиживала у кабинета начальника госпиталя, пока тот не рассвирепел вконец от ее упрямства и не подписал приказ о переводе ее в полевой лазарет в действующую армию. Это произошло уже в середине лета сорок второго, и этот ее путь на фронт был очень нелегким. Но она преодолела все трудности благодаря упорству своего характер, который достался ей от отца, так она считала, и никакие высшие силы ей не помогали, просто ей всегда везло. Во всем остальном она была самой обычной девушкой и внешность у нее, так она считала, была самой заурядной. Прямые, густые брови и нос прямой, скулы чуть выдаются и губы припухлые. Глаза серые с несколько удлиненным разрезом – хоть что-то от папы, светло русые, густые волосы она коротко остригла еще в самом начале войны.
В полевом госпитале в поселке Красный Буксир на правом берегу Волги она пробыла чуть больше трех месяцев, с июля, и сейчас уже был конец октября, а ей все никак не удавалось попасть в Сталинград. Раненые прибывали в госпиталь почти каждый день, и работать приходилось много и тяжело. Здесь она насмотрелась такого, о чем не смогла бы рассказать человеческим языком. Нет ни в одном языке таких слов, чтобы можно было это описать. Здесь тоже бомбили, и были убитые и раненые но, по фронтовым меркам, это был тыл, а по сталинградским – глубокий тыл. Там, за Волгой, не смокала канонада ни днем, ни ночью, и немцы уже взяли Сталинградский тракторный завод, разделив 62-ю армию надвое, и над городом все время стоял черный дым. Но ей нужно было в Сталинград и почему именно туда и именно сейчас, она, если бы спросили, не смогла бы объяснить. И ей, как всегда, повезло.
Повезло, потому что в этот день понадобилось отвезти в штаб Сталинградского фронта сопроводительные документы на выздоровевших, принять партию раненых и доставить в госпиталь. Да, ей здорово повезло, потому что старший военфельдшер, горластая тетка, которая всем этим занималась, заболела и Ольга, не раздумывая, сама вызвалась на это дело. Вот тут-то, в штабе Сталинградского фронта, ей еще раз улыбнулась удача. Она уже почти закончила все дела, и оставалось только дождаться и получить подписанные начальством документы, а потом принять очередную партию раненых с правого берега, и доставить ее в госпиталь.
Ольга сидела в полутемном коридоре у кабинета начальника медицинской службы, ждала, когда подпишут документы, и лихорадочно думала о том, что надо что-то делать, к кому-то обратиться, от кого-то потребовать, чтобы ее направили туда, в Сталинград. Но она не знала к кому обратиться и от кого требовать, и не знала, что отвечать, если спросят и как объяснить, почему именно ей можно и нужно в Сталинград. Но этот шанс нельзя было упустить, нужно было использовать фактор везения до конца. Она встала, прошла по коридору, здесь было многолюдно – прибывшие с фронта и убывающие туда офицеры, интенданты и прочие штабные работники сновали из кабинета в кабинет или ожидали решения касающихся их вопросов. Пахло табаком и одеколоном, и кожей от офицерских портупей и ремней. Ольга прижалась к стене у какого-то кабинета, потому что её все толкали, как будто одна она была тут лишней, и прислушалась к голосам, доносившимся из открытой двери. Вот тут-то ей и повезло бесповоротно, и подтвердилась поговорка – кто ищет, тот найдет. Потому что один из говоривших просил другого, нет, не просил, он требовал, громко и напористо:
– Дайте мне радиста, мне нужна рация и радист!
– Капитан! То тебе дай корректировщика, теперь вынь и положи радиста! – отвечал раздраженно второй голос. – Да еще и с рацией! Горин! Где я возьму рацию! Ты же знаешь, какая это волокита – писать заявку, утверждать, выбивать.
– Корректировщик у меня есть, – успокоил второго тот, кого назвали Гориным, – хороший корректировщик, опытный, – и опять стал напирать:
– Мне нужен радист! У меня артиллерия без глаз! Вы понимаете, что такое артиллерия без глаз! Я не могу вести огонь наугад! А с телефонной связью невозможно работать, рвется сразу, как начнется артналет. И нет возможности исправить – кабель-то через Волгу! Да вы и сами прекрасно знаете!
Ольга торопливо переступила порог кабинета и, забыв доложить по уставу, стала лихорадочно расстегивать пуговицу на шинели, где в нагрудном кармане лежали документы, в том числе и та самая синяя «корочка» об окончании радио курсов. Проклятая пуговица, пришивая которую позавчера к новой шинели, Ольга подумала – теперь не оторвется до конца войны, эта проклятая пуговица никак не хотела расстегиваться. Тот, которого звали капитан Горин, оглянулся на мгновение, и опять заговорил требовательно:
– Мне радист нужен до зарезу! У меня артиллерия без глаз!
Сидевший за столом пожилой подполковник не ответил ему, опустил очки на нос и оглядел Ольгу медленно, недоуменно с головы до ног.
– Тебе чего, девочка? – спросил он ее.
Тут Ольга разозлилась – какая я вам девочка! – но не дала волю злости, нельзя было испортить удачу, которая сама шла в руки. Она достала документы, пуговица наконец-то расстегнулась и, подавая Горину, который уже обернулся и смотрел на нее с некоторым ехидством, выпалила:
– Я радист! Я все умею! Знаю немецкий!
Она еще хотела добавить, что у нее второй юношеский разряд по легкой атлетике, но что-то ее остановило, это не к месту, подумала она и вдруг поняла, что дело сделано, что никуда этот Горин не денется – у него артиллерия без глаз – и сразу успокоилась. Что значит – артиллерия без глаз – она не знала, но ясно понимала по интонации капитана, что это очень важно, жизненно важно. Горин, листая документы, прочел в полголоса:
– Ольга Максименко… прошла курс обучения… – и задал один только вопрос. Он спросил, внимательно, испытующе глядя ей в глаза:
– Москвичка?
– Да, из Москвы! – ответила Ольга дерзко и опять разозлилась, потому что все почему-то думают – раз москвичка, то обязательно неженка и неумеха. А у нее второй юношеский по легкой атлетике и она может не спать трое суток и даже однажды ассистировала хирургу при сложной операции. Но ничего этого она не сказала. Потому что это было не важно, потому что эти двое уже обсуждали, как ее поскорее оформить, и кто будет этим заниматься. Подполковник сказал, что ему, Горину, здорово повезло с этой… радисткой, но что ее вряд ли отпустят из госпиталя, на что Горин заявил уверенно:
– Я это улажу, я к Еременко пойду, если потребуется!
Ольга не знала, кто такой Еременко, наверное, очень важный человек, но все случилось очень удачно, как-то само собой, как и бывает при везении, и никакие высшие силы не помогали ей, никаких ангелов и архангелов, или как их там называют, и близко не было. Просто ей всегда везло.
Ближе к вечеру, когда все ее дела были улажены, Горин привел Ольгу к переправе, где и дал ей последние инструкции. Он оказался начальником артиллерии Сто пятнадцатой отдельной стрелковой бригады, которая две недели назад пробилась из Орловки в Сталинград из окружения. Но он, конечно, не мог рассказать ей, что после месяца страшных боев от бригады осталось две неполные роты, и к своим вышло чуть более ста, а если быть точным – сто восемнадцать человек. Что той ночью они пошли на прорыв, используя последние гранаты и поделив последние патроны по двадцать штук на брата. Что о судьбе лейтенанта Коростелева, который вызвался со своим хоз-взводом и тяжелоранеными бойцами прикрывать их отход, ничего не известно, только с той стороны, где они остались, до утра была слышна стрельба и гранатные разрывы. Ни к чему ей это знать.
Ей следует знать только, что по прибытии в штаб Северной группы полковника Горохова, так назывался этот район обороны Сталинграда, нужно будет найти начальника разведки капитана Студеникина, в чьё распоряжение она поступает и выполнять его указания. Еще она должна твердо уяснить, что рацию ни под каким предлогом никому передавать нельзя, даже если прикажет сам полковник Горохов, потому что у него, у Горина – он опять повторил с нажимом те самые слова – артиллерия без глаз! Что разведчик-корректировщик, с которым ей предстоит работать, очень опытный профессионал и ее задача – просто выполнять все, что он скажет. Ещё он добавил, что позывной того корректировщика – “Ястреб”, и она будет выходить в эфир с этим позывным, и когда он всё это говорил, Горин всё вглядывался в её глаза внимательно, и она поняла, что там, куда она так стремилась все это время, там очень тяжело и опасно.
Но она уже знала это из рассказов тяжелораненых, прибывавших из Сталинграда в их госпиталь. Она поняла, что, глядя в её глаза, капитан пытается угадать, выдержит ли она предстоящее испытание и намеренно не посвящает её в подробности тамошнего военного бытия. Ольга хотела сказать, что, несмотря на её, как шутили в медсанбате, «бледный вид и хрупкое сложение», она выносливая и терпеливая, очень выносливая и многое может вытерпеть, но не успела, потому что подали команду к погрузке, и нужно было торопиться.
Уже у самого трапа, ведущего на баржу, по которому уже начал погрузку наспех сформированный стрелковый батальон, Горин вдруг взял её руку, крепко пожал и сказал тепло и как-то по-свойски, как будто они знали друг друга давно:
– Удачи тебе, Максименко!
Это были хорошие слова и к месту, потому что если тебе и везет, то лишними такие слова не будут, они лишь добавят тебе ещё капельку везения. Еще она подумала, пробиваясь в носовую часть судна, как посоветовал ей капитан – там безопасней, что день сегодняшний очень удачно сложился. Таких удачных дней в ее жизни – раз-два и обчёлся. Да, спору нет, очень удачный день!
Один из солдат, долговязый и рыжий, вдруг схватил Ольгу за руку и поинтересовался развязно:
– Куда спешишь, красавица? Не спеши, смерть тебя сама найдет! Но она двинула его локтем в бок и пробилась все-таки в нос баржи, к самым поручням. Уже почти совсем стемнело, когда баржа, а за ней и несколько бронекатеров, отчалили от пристани и сразу же начался артобстрел, и налетели немецкие самолеты, и падали на переправу в пике с душераздирающим воем. Когда у правого борта баржи разорвался первый снаряд и, взметнув в воздух фонтан черной воды, обрушил его на палубу, на людей, и кто-то, раненый, закричал от боли или от страха, Ольга не испугалась. Только крепче ухватилась за поручни. Снаряды и бомбы падали густо и рвались с каким-то противным хлюпаньем, высоко выплевывая в ночь черную, вязкую воду и остро запахло тиной. Баржа накренилась налево, потому что люди после близкого разрыва стали тесниться к левому борту, и кто-то в рупор, страшно матерясь и перекрикивая грохот бомбежки, напрасно требовал, чтобы солдаты переместились обратно.
Вещмешок с тяжелой рацией и запасными батареями к ней, санитарная сумка через плечо, набитая медикаментами, давили вниз, и словно припечатали Ольгу к палубе, и она подумала, что взрывная волна не собьет ее за борт. Еще подумала, что правильно сделала, что не взяла винтовку, которую хотел выдать усатый ефрейтор-украинец на складе, где она получила рацию. Но оружие, как и любому красноармейцу, ей иметь полагалось, и вместо винтовки ефрейтор – как же на войне без “орудия”, так он выразился, выписал на ее имя пистолет. Это был старого, довоенного образца “наган” и непонятно было, как он вообще оказался на складе. Это у вас из какого музея? – съязвила тогда Ольга, на что кладовщик обиделся и перестал с ней разговаривать. “Наган” был великоват для ее руки и указательный палец не доставал до курка, но она подумала, что ей вряд ли придется им воспользоваться и засунула его в вещмешок, где была заботливо обернутая Гориным старой телогрейкой радиостанция. Теперь все это имущество надежно придавило, припечатало ее к палубе, и, если покрепче держаться за поручни, то никакая взрывная волна не сможет сбить ее за борт. О том, что, окажись она в воде, весь этот груз потянет на дно, как-то не пришло ей в голову. Пожалела только, что если такое и случится, то в воде не сможет снять сапоги, как будто это могло бы ей помочь.
Вдруг стало светло, не так, как днем, но все вокруг стало различимо. Она еще не бывала так близко к фронту и не знала, что действия авиации и артиллерии гитлеровцы корректируют при помощи самолетов-разведчиков. Вот и теперь над рекой повисли осветительные бомбы, сброшенные с барражировавшего высоко в небе двух фюзеляжного «Фоке-Вульфа» – «рамы», и в их тусклом свете стала различима вся река до самого правого берега. Он был далеко, и стало понятно, что баржа ползет слишком медленно. Слишком мал был буксир, тянущий их баржу, и слишком широка была Волга, слишком широка. Вот тогда ей стало страшно. Не оттого, что жизнь ее оборвется внезапно, и она перестанет существовать, а оттого, что не успеет сделать главного, к чему стремилась с первого дня войны. Ради чего всю зиму и весну сорок второго терпеливо училась шифровке и “морзянке” на курсах радистов, и ночами зубрила немецкий, и добивалась отправки на фронт. А теперь, когда все так удачно разрешилось, это ее везение могла прервать какая-то тупорылая металлическая болванка, начиненная взрывчаткой, безнаказанно сброшенная с неба. Кто-то сзади дохнул на нее махоркой и сипло и зло прокричал у самого ее уха:
– Пристрелялся, гад!
Ольга не обернулась, но почему-то подумала, что он пожилой и, наверняка, у него обвислые, прокуренные усы. Пожилой и усатый добавил чуть погодя:
– Ну, теперь держись!
С западной окраины Сталинграда, из-за занятых немцами высот, била дальнобойная артиллерия и вода в Волге вся словно кипела, и сквозь эту сплошную сетку разрывов, казалось, невозможно было пробиться. Но баржа, кренясь то на один, то на другой борт, падая в воронки и вновь вздымаясь вверх, упрямо ползла вперед. А тот, правый берег, никак не хотел приближаться. Черная его полоса, едва различимая в сполохах разрывов, казалась недосягаемой. "Что ж ты такая широкая? Что ж ты такая широченная?" – подумала она о Волге, как будто река была виновата своей широтой перед людьми. Ольга смотрела вперед, не оглядываясь, и не видела, как на корме баржи разорвалась бомба, и несколько человек выбросило за борт. Она только почувствовала, как баржа вздрогнула всем корпусом и стала крениться на правый борт, и совсем замедлила ход. Трос между ней и буксиром натянулся струной, и казалось, что баржа пятится, тянет буксир назад.
Впереди, совсем близко, взметнулась вода, и взрывная волна толкнула Ольгу в грудь, едва не оторвав от поручней, и опять запахло тиной и речным илом, но она устояла. Этой волной сбило с головы шапку, и в этот момент Ольга поняла, что везение кончилось, и начинают действовать другие законы. Теперь ей стало страшно по- настоящему! Страшно, что не успеет сделать того, к чему стремилась все это время, что все самое важное на этой войне свершится без нее. Откуда-то из глубины сознания вдруг вырвалась мысль, которой она никогда не давала воли, что-то главное, ради чего она и родилась на свет, еще не случилось. Еще только должно было случиться, теперь именно там, в горящем Сталинграде, а если не свершится, то жизнь будет прожита напрасно, от этой мысли стало страшно вдвойне.
Вот тогда она обратилась к тому, кого, как она считала, не существует. Она накрепко закрыла глаза и постаралась отрешиться от всего, что ее окружало – от этого страшного грохота и от немилосердного воя немецких пикировщиков. От стонов раненых и криков убоявшихся. Ей это удалось, и она как будто осталась наедине с кем-то, кто давно ждал этого разговора. Он был рядом и слышал ее мысли, но она решила, что должна говорить как можно громче, чтобы наверняка, чтобы ему было понятно всё и он не смог бы отказать ей. Она обратилась к нему запросто, как будто знала его давно, с самого своего рождения, подумав мимоходом, что он простит её за долгое ожидание.
– Боженька! – закричала она вверх, с закрытыми глазами – Миленький! Если Ты есть! Я знаю – Ты есть! Пожалуйста! Помоги мне добраться до берега! Мне очень нужно туда, в Сталинград! Очень нужно! Если Ты можешь всё, а Ты можешь всё. – сказала она, признавая Его Всемогущество, – дай мне только добраться до берега! Только до берега! Дальше я уже сама… дальше я сама! Клянусь, больше я ни о чем никогда Тебя не попрошу! Только до берега! И еще, – она уже верила, что он слышит ее, – пусть эти солдаты, те, что еще остались на барже, пусть они тоже доберутся вместе со мной!.
– Ну, вот и добрались! – произнес уже знакомый, сиплый голос и только теперь Ольга услышала, что стало тихо – баржа и бронекатера вышли из зоны обстрела артиллерии и самолеты ушли – отбомбились, а до берега уже было рукой подать. Она оглянулась, но в темноте не разглядела лица говорившего, и все же была уверена, что он пожилой и непременно усатый. Так уж ей показалось тогда.
* * *
Радиограмма штаба 62-й армии: “ГОРОХОВУ Авиация будет сегодня ночью бомбить. Батальона нет, дали 200 человек. При первой возможности поможем еще. ЧУЙКОВ, КРЫЛОВ”.
Ответ полковника Горохова: “ЧУЙКОВУ, КРЫЛОВУ. Получил не 200, а 89 человек. Боезапас подходит к концу. ГОРОХОВ”.
Глава 2
Штаб Северной группы полковника Горохова располагался в неглубоком овраге, врезавшемся в обрывистый волжский берег. Собственно, это был штаб 124-ой стрелковой бригады, командованию которой и была вверена оборона северных окраин Сталинграда. Название этого участка сложилось таким образом – однажды, в начале сентября, И. В. Сталин, выслушав по ВЧ-связи доклад командующего Сталинградским фронтом генерала Еременко об обстановке в осажденном городе, поинтересовался:
– Как там обстоят дела в Северной группе Горохова?
С этого момента такое название ключевого участка обороны было введено в оборот и именно в таком виде фигурировало в сводках Сталинградского фронта и Генерального штаба.
У штаба стояла группа офицеров, и, прислушиваясь к обрывкам разговоров, Ольга поняла, что сегодня здесь произошло что-то серьезное. Надо уходить на левый берег, сказал кто-то громко, и второй что-то отвечал, но она расслышала только конец фразы – сотрут в порошок. Потом заговорили сразу несколько человек, и она слышала только отдельные слова – давит танками… разворотили завод… Горохов… что он возомнил… надо уходить… на левый берег.
Ольга решительно стала пробиваться к входу, но в этот момент из штаба стали выходить люди и она ждала, опустив вещмешок с рацией на землю. Последним из землянки вышел старший лейтенант и она, сразу угадав в нем здешнего, подошла и спросила, где ей найти капитана Студеникина.
– С баржей прибыла? – ответил вопросом на вопрос старший лейтенант. – Кто такая?
– Красноармеец Максименко, радистка. Прибыла в распоряжение капитана Студеникина.
– А-а, разведка!– сказал офицер и, глядя на нее испытующе, представился, – Я Чупров, заместитель начальника штаба. Значит, радистка? Да, Студеникин давно просил радиста. Так вот, боец Максименко, переночуешь в медсанчасти, а завтра определимся, делать тебе на передовой нечего.
– Вы не имеете права! – Ольга выпрямилась и расправила плечи, и Чупров смотрел на нее удивленно. – Вы не имеете права, потому что у меня приказ сдать рацию капитану Студеникину, и я поступаю в его распоряжение.
– Рацию сдай, разве я против, и шагом марш в санчасть! Студеникин все равно не возьмет тебя в свою группу, понимаешь? Ему радист нужен на корректировку, а это дело такое, там больше суток не проживешь. Корректировщики – это смертники, а тебе еще жить и детей рожать!
– Кого мне рожать и когда, это не ваше дело! – Ольга чувствовала, как вспыхнула в ней злость и не могла уже себя сдерживать. – Меня капитан Горин прислал на корректировку, у меня приказ, понимаете! И в санчасть я не пойду, не для того я училась, чтобы в санчасти пропадать. Там любая справится, а я радистка! Отведите меня к полковнику Горохову, я ему все объясню!
– Ишь ты, так сразу и к Горохову! Ему сейчас не до тебя, Максименко, там у него такое творится! Пойдем, – Чупров вдруг смягчился, поднял ее вещмешок и они стали спускаться по оврагу. – Понимаешь, с тех пор, как наши сдали Тракторный завод, не удержали, обстановка сильно усложнилась. Немцы к Волге вышли и разрезали нашу 62-ю армию надвое, так что мы, Северная группа войск, теперь в окружении. Понимаешь?
Они вышли на берег, свернули налево, к лазарету, и остановились у навеса, освещенного тусклой лампой над входом в блиндаж, врытый в основание обрыва. Под лампой белела картонка, на которой крупными, неровными буквами было написано – «Операционная». Чупров поставил вещмешок у ног Ольги и сказал:
– Побудь пока здесь, помоги медсестрам, а Студеникину я передам, он сам тебя найдет.
– Только учтите, – заявила Ольга, – я здесь не останусь! У меня приказ!
– И откуда ты взялась такая настырная? – старший лейтенант засмеялся.
– Ниоткуда я не взялась! Советская власть воспитала! Так что даже не надейтесь, я в санчасти не останусь!
Ольга прошла дальше и, увидев надпись над входом в землянку – «Госпитальная», отодвинула брезентовую занавесь. Военфельдшер Нина Гордеева, первая, с кем Ольга познакомилась в медсанчасти, без всяких формальностей приняла у нее медикаменты. Эта темноволосая, кареглазая девушка сразу расположила к себе еще и тем, что не задавала лишних вопросов. Спросила только, куда ее определили и, узнав, что к Студеникину, сказала в точности, как Чупров:
– А-а, разведка!
Форма на ее крепкой, ладной фигуре сидела, как влитая – наверное, перешивала под себя – подумала Ольга – ей очень идет. И лицо у нее такое, в общем, сразу видно – в обиду себя не даст, да, независимое у нее лицо.
До поздней ночи Ольга помогала перевязывать и переносить раненых. Поначалу она беспокоилась, как бывает, когда человека еще не приставили к какому-то определенному месту, и ему кажется, что о нем забыли. Она все ждала этого таинственного Студеникина, но Нина успокоила ее, сказав, что утро вечера мудренее, утром все уладится. Вскоре Ольгу оставили беспокойные мысли, потому что раненых было много, лазарет был полон, и тяжелых пришлось выносить и укладывать рядком под обрывом, под наспех сооруженным из старых плащ-палаток навесом. Потом они с Ниной и еще одной медсестрой, пили чай в хоз-палатке, устроившись на мешках со стираной формой, оставшейся после умерших, и нарезали из старых простыней бинты и скручивали их тугими рулончиками. Тут они и познакомились поближе.
Нина Гордеева, кареглазая и темноволосая, была родом из Уфы, и там же в феврале сорок второго начала свою службу в 124-ой Гороховской бригаде, которая формировалась в Башкирии. Старше Ольги на два года, она призвалась в армию с третьего курса медицинского института, и эта небольшая разница в возрасте и солидный военный стаж Нины сразу определил характер их взаимоотношений. Это было здорово – иметь такую рассудительную, старшую подругу. Конечно, мне ведь всегда везет! – подумала Ольга и отвечала на расспросы Нины сначала односложно. Потом они разговорились, но что она могла рассказать о себе?
Самая обычная девчонка, с самой заурядной биографией. Да и биографии, считала она, еще не было, все только начиналось, все еще было впереди. Как все, училась в школе, дружила и ссорилась, увлекалась то одним, то другим делом. Много читала, как и все в ее семье, книги окружали ее с самого детства. Поступила в сорок первом на факультет библиотечного дела, может быть, из протеста, потому что мать считала, что дочь должна пойти по ее стопам и стать биологом, но, скорее потому, что любила книги. Тогда, после выпускного, они крупно поссорились, и Ольга настояла на своем, напомнив матери ее слова о том, что Ольга после окончания школы будет сама определять свою судьбу. Отец бы поддержал ее, он всегда укреплял ее уверенность в поступках, в принятии решений. Он не вернулся из последней командировки в Испанию в тридцать шестом году, и только когда началась война, мама сказала ей, что он служил в разведке и выезжал в Испанию со спецзаданием. Когда его не стало, все изменилось, и было трудно, но она всегда соизмеряла свои действия с мнением отца, как будто он был рядом и внимательно наблюдал за ней, и это помогало ей.
Поэтому она считала, что сейчас должна быть там, где труднее всего, потому что так поступил бы ее отец. Нина сказала ей, что можно быть полезной в любом месте, главное – хорошо делать свое дело, и Ольга согласилась с ней, но все-таки возразила, что каждый должен стараться работать сверх своих сил и возможностей. Если ты чувствуешь в себе силы, то должен выбирать самое трудное дело, а если в такой тяжелый для страны момент каждый будет отсиживаться там, где полегче, то мы не победим, потому что самые смелые погибнут и некому будет их заменить. Разве я не права, сказала она, разве не для этого страна столько вкладывала в нас, в молодых, чтобы мы были в первых рядах?
– Конечно, ты права, – сказала Нина, – но все же будь осторожней, ты еще не знаешь, в какое пекло ты попала, здесь здоровенные мужики ломаются, как хвойные иголки, здесь жизнь человеческая… Может быть, останешься, все-таки, в медсанбате?
– Ты меня не запугивай, Нина, ты меня не знаешь, я не для того сюда столько времени стремилась, чтобы промывать гнойные раны и мотать бинты. Я должна заниматься настоящим делом, иначе отец… иначе я себя перестану уважать.
– А ты с характером, – сказала Нина, – хотя с первого взгляда так не скажешь.
– Ты не смотри, что я худая, я выносливая, я терпеливая и очень выносливая – вся в отца. Ольга не заметила, как заснула на полуслове с ножницами в руке и уже не почувствовала, как подруга заботливо укрыла ее шинелью.
* * *
Радиограмма Горохова в штаб Сталинградского фронта:
“27.10 Раненых эвакуировали – 665 человек. Натиск противника не уменьшается. Авиация круглые сутки бомбит боевые порядки частей. Давит танками. Положение исключительно тяжелое. Информация о положении на фронте исключительно плохая. ГОРОХОВ”.
Глава 3
Проснулась Ольга оттого, что продрогла под шинелью, но чувствовала себя отдохнувшей. Она поискала глазами вчерашний чайник и, не найдя, вышла из палатки, умылась холодной водой из фляжки, и тут как раз вернулась Нина. Она была в чистом, белом халате поверх гимнастерки и Ольга удивилась – как она умудряется тут отбелить и отгладить.
– Давай посуду, завтракать будем! – скомандовала Гордеева и налила в кружки, стоящие на снарядном ящике, горячий, дымящийся чай. Потом вынула из кармана халата банку сгущенки и торжественно поставила на середину «стола» – Попируем!
Они не успели открыть банку, потому что оказалось нечем, и Нина хотела идти просить у кого-нибудь нож – народу на берегу ночевало много, но в это время кто-то окликнул снаружи:
– Где тут Максименко, радист?
Ольга вскочила и кинулась к вещмешку с рацией, потом отозвалась громко:
– Здесь! Я Максименко! – Она искала глазами свою санитарную сумку – та оказалась у Нины в руках, и подруга ее строго осадила:
– Что ты засуетилась, как ошпаренная? Никуда он не денется, твой Студеникин. На, вот! Я тебе тут сухарей положила. Еще две наволочки на всякий случай, вдруг бинт закончится. И сгущенку забери, – Нина сунула банку в сумку, – потом поешь. Она обняла подругу одной рукой и сказала, улыбнувшись:
– Ну, давай, прощаться не будем, – и когда Ольга уже вышла из палатки, крикнула вдогонку, приказала, – Ночевать сюда придешь!
Капитан Студеникин всю дорогу от штаба недоумевал, но так и не нашел объяснения, почему это радиста, прибывшего с пополнением, надо искать в лазарете. Кто его туда отправил (неужели сам Горохов?) и какая может быть связь между радиостанцией, и, скажем, фурацилином, пусть бы кто-нибудь попытался ему растолковать. Не было тут никакой связи и уж, тем более, логики. И когда из хоз-палатки вышла хрупкая, светловолосая девушка и, со словами – Боец Максименко прибыла в ваше распоряжение! – шагнула к нему, тут он просто потерял дар речи.
– Тут в документах сказано… – начал было, капитан, но вовремя остановился, поняв, что, продолжив свою мысль, он обидит человека. Вернее, девушку. Он сунул под мышку портфель, который хотел открыть и достать бумагу, в которой черным по белому написано… ну, да, написано все правильно. Кто же мог знать, что под самой обычной фамилией скрывается это вот самое воздушное создание? Ну, Чупров, ну, зам начштаба, спихнул, и глазом не моргнул! Подложил свинью, а преподнес так, будто новогодний подарок под елку положил.
Капитан Ольге как-то не очень понравился, представляла она его совсем не таким – здесь сыграло свою роль слово разведка, которое все сразу употребляли, как только речь заходила о Студеникине. Разведчик в ее представлении должен был быть подтянутым, стройным, даже каким-то героическим. А этот был полноват для военного времени, и форма на нем сидела плохо. Обтягивающая плечи длинная гимнастерка, ниже, на груди и животе, собралась вся складками и топорщилась под ремнем, и офицерская портупея казалась на ней неуместной. Широкие синие галифе свисали на голенища не чищеных сапог, да еще этот неопределенного цвета, потертый бухгалтерский портфель без ручки, который по этой причине всегда держался под мышкой, окончательно портили и без того неказистый вид капитана. Одутловатое лицо его было покрыто надежным загаром, и неожиданно белым казался наметившийся второй подбородок. Под припухшими веками не разглядеть было глаз, к тому же Студеникин имел привычку щуриться, так как был близорук, а очки он берег и доставал их только в особых случаях. Случай-то как раз был особый, но разглядывать было нечего.
Ольга верно поняла настроение и ход мыслей Студеникина, и пружина внутри нее, которую она всегда ощущала в себе, вдруг разжалась и выпрямила спину и глаза ее вспыхнули. Пусть только съязвит! – подумала она, – Пусть только попробует! И обозвала его мысленно – “Студень” какой-то! А капитан вдруг обмяк плечами, густо наморщил лоб и, сдвинув выцветшую фуражку на лоб, почесал затылок. Потом вяло махнул рукой и, буркнув: – Пошли! – двинулся вразвалку вдоль берега, загребая сапогами речной песок. Ольга подхватила тяжелый вещмешок и поспешила за ним, понемногу успокаиваясь и подумала, что все здесь, в Сталинграде, не по уставу. Он должен был, по ее разумению, козырнуть и приказать по-командирски: – Красноармеец Максименко, следуйте за мной! Как-то так. А этот – махнул ручкой – пошли. И побрел. Дура! – сказала она себе, – нельзя так, ведь он все-таки офицер.
Начальник разведки капитан Студеникин мучительно думал, как разрешить неожиданно возникшую проблему, но ничего путного в голову не приходило. Командир подопечной ему разведгруппы старшина Арбенов уже давно просил радиста, и хотя все члены группы умели обращаться с рацией, они не были профессионалами и работать могли только в открытом эфире. Нужен был радист, знающий шифровальное дело и владеющий немецким языком, так как прослушивание радиочастот противника давало дополнительную информацию, иногда очень ценную. Это во-первых, а во-вторых добытые разведданные о расположении огневых точек противника нужно было передавать на левый берег в зашифрованном виде, а шифры абы кому знать не положено. Тут нужен специально подготовленный человек, имеющий допуск к шифрам. Хорошо, думал капитан, это все при ней – но ведь девчонка, черт возьми! Это сейчас мы в обороне, – думал капитан, – а если группа пойдет в поиск, за “языком” или с диверсионным заданием, что делать тогда? Ладно, – решил он, – это когда еще будет, вот именно сейчас как преподнести группе такой подарок? Да и корректировка, как только начинается корректировка, противник вычисляет местоположение наблюдателя и старается всеми средствами уничтожить его. А здесь, на этом пятачке, и НП устроить, кроме здания школы негде, весь участок перед немцами, как на ладони. Как ты ее представишь своим разведчикам, это битые-перебитые волкодавы, и тут такой подарок! И тут нашлось решение.
Под самым обрывом были сложены ящики с боеприпасами, прибывшие накануне с баржой и на ночь укрытые брезентом. Там толпилась группа солдат, получавших боезапас для своих подразделений, и Студеникин направился в их сторону. Там разгорался скандал. Чей-то возмущенный голос несколько раз воскликнул:
– Что за человек, а? Ну, что за человек?
– А куда тебе столько? – ответил кто-то хрипло. – Влез без очереди и еще возмущается тут!
Ольга остановилась и опустила вещмешок, рука совсем одеревенела. Толпа расступилась перед капитаном, и он грозно окликнул возмущавшегося солдата:
– Саватеев! Бегом ко мне!
Солдат обернулся и обрадованно закричал:
– Товарищ капитан! Что за человек, а, поглядите на него! Я битый час тут толкусь… – он зыркнул на окружающих и добавил уверенно, – в очереди! А этот – недодает!
– А куда ему столько!? – ответил тот, который недодает, мужчина в промасленной, рабочей телогрейке и таких же ватных штанах.
– Необходимо мне! – безапелляционно заявил Саватеев, так, чтобы всякие сомнения у окружающих пропали.
– Не унесешь ведь! – возразил кладовщик и вдруг вспомнил, – И еще без документа! Товарищ капитан, ведь документ должен быть, записка от командования! Мне ж отчитываться! А так, жалко, что ли!
– Приказ был боезапас весь раздать немедленно! Горохов приказал! – успокоил Студеникин кладовщика и сказал Саватееву, глядя на стоявший у его ног ящик с патронами и гранатами и туго набитый вещмешок:
– А, ведь и правда, не унесешь, дорогуша! Куда столько набрал?
– Нуждаюсь я, товарищ капитан!
– Нуждается он! Что ж ты один пришел, дорогуша?
– Так командир послал, сказал, что пополнение прибыло, должны дать людей. – И ткнул пальцем капитана в грудь. – Вы должны дать!
– Ты как с начальством… – возмутился было начальник разведки, но тут же успокоился и Саватеев сообразил, что мучает капитана какая-то неувязка, и надо использовать это обстоятельство. Дадут ли пополнение, вилами на воде писано, с этим всегда проблема, и он, как частенько бывало с ним в подобных случаях, обнаглел окончательно.
– Да вы не переживайте, товарищ капитан! Пополнение я уже нашел! – доверительно сообщил Саватеев и кивком показал на сидевших в стороне на пустых ящиках двух солдат.
– Пополнение вам уже дали, Саватеев! – грозно повысил голос капитан и, еще больше прищурившись, показал пальцем назад. – Вот, радистка. Получишь боезапас, отведешь красноармейца Максименко в расположение.
Тут только Саватеев обратил внимание на Ольгу и, оглядев ее с головы до ног, обернулся к капитану и радостно засмеялся:
– Пополнение? Девчонка? Ха, зачем нам девчонка, товарищ капитан? У нас там такое… вы бы сами и отвели ее, товарищ капитан! Мне же от командира влетит за такой подарок!
– Разговорчики! Выполнять, Саватеев! – Студеникин повернулся и, не глядя на Ольгу, буркнул, уходя:
– Командиру скажи, я скоро буду!
– Санька! – парень протянул Ольге руку.
Он был чуть повыше ее ростом, короткие, соломенного цвета волосы топорщились в разные стороны, и он все время приглаживал их ладонью. Кожа на широком носу шелушилась, хотя лето уже прошло, а глаза светлые и веселые. Санька Саватеев был из тех людей, которые всегда в центре внимания, всегда в курсе всех событий и знают все обо всех. Энергии его хватило бы на троих, и в своих действиях он частенько перебарщивал. Как случилось и в этот раз, потому что полученный им боезапас одному ему было не унести.
Он сказал Ольге – Подожди! – и направился к двум новобранцам, которые сидели поодаль на пустых ящиках и участь которых Саватеев решил давно, как только спустился на берег. Санька что-то им втолковывал, размахивая руками, и пожилой, с обвислыми усами солдат в поношенной шинели с готовностью встал, а второй что-то возражал Саньке сидя, и когда он поднялся, оказался выше его на голову, и Ольга узнала в нем того, рыжего, что приставал к ней на барже. Они пошли за Санькой, а долговязый несколько раз обернулся назад, как будто ждал кого-то и сказал громко:
– Я повар, мне сказали здесь ждать!
– Таких тощих поваров не бывает! – парировал новоявленный их командир и добавил, раз уж выпал случай покомандовать, – отставить разговоры! Нам еще две ходки надо сделать!
Слава богу, определились! – сказал пожилой, подходя, и Ольга узнала вчерашний голос – она не ошиблась тогда на барже, усы у него были обвислые и прокуренные до черноты на концах. Санька командовал весело, с прибаутками, и бойцы подняли ящик, и старику достался также вещмешок с запалами для гранат, а долговязому Санька вручил в свободную руку Ольгин мешок с рацией. Он провел их вдоль обрыва, и вскоре они повернули направо и стали подниматься вверх по глубокому оврагу. Пока они шли, Санька говорил без умолку и вскоре Ольга знала о нем все или почти все. Что он из-под Смоленска, а деревня его непонятно куда относится, то ли к Белоруссии, то ли к Смоленской области. Что у него две младшие сестры, а отец воюет где-то на севере, вроде под Ленинградом и писем давно не было.
Солнце поднялось уже высоко и на небе ни облачка, и тихо вокруг и спокойно, как будто и не было никакой войны. Овраг постепенно сужался, и в конце его уже можно было разглядеть вход в блиндаж, завешенный плащ-палаткой, и дальше овраг раздваивался двумя траншеями. Санька сказал радостно:
– Уже скоро, уже почти дошли! Видишь, эта траншея идет вправо, к школе, там у нас НП. – Над краем оврага виднелся верхний, полуразрушенный этаж здания. – А эта, – Санька показал на начало другой траншеи – ведет прямо на передовую, отсюда до передовых окопов метров сто. Так что мы тут почти в тылу!
Но тут впереди грохнул взрыв, и все невольно пригнулись и ускорили шаг. Начался артобстрел, снаряды стали падать густо и в грохоте разрывов Ольга уже не услышала нарастающий в небе гул бомбардировщиков. Бойцы поставили ящики у входа и уселись на них, с тревогой поглядывая в небо. Ольга вслед за Санькой вошла в блиндаж, едва освещенный сделанной из снарядной гильзы лампой. Санька опустился на корточки у низенького, грубо сколоченного столика и о чем-то говорил с пожилым сержантом, но из-за грохота ничего не было слышно. К ним подсел другой, тоже с сержантскими нашивками. Черноволосый и черноглазый, нос с легкой горбинкой, он время от времени поглядывал насмешливо и в то же время оценивающе на Ольгу, которая, не зная, куда себя деть, осталась стоять у входа. Вдруг он встал и подошел к ней, движенья его были легкие, кошачьи, и протянул руку. Приблизился к ее голове и прокричал в ухо:
– Младший сержант Чердынский!
Она приподнялась на цыпочки и также, прямо в ухо, ответила:
– Максименко, радистка!
Санька поднялся и, подмигнув ей ободряюще, ушел, а Ольга подошла к столу. Пожилой сержант подвинулся, и она присела рядом с ним на снарядный ящик. Завыли, падая в пике, “Юнкерсы Ю-87”, и земля вздрогнула и заходила ходуном от взрывов тяжелых бомб. С потолка, в щели между шпал, сыпался песок, и Ольге стало не по себе от мысли, что такая бомба может упасть на крышу блиндажа.
Сержант, который сначала показался ей пожилым, наверное, из-за густых, прокуренных усов, хотя ему было едва за сорок, подал Ольге старую телогрейку и ватные штаны. В шинели будет неудобно – сказал он, надо переодеться, потом пошарил в стоящем у стола вещмешке и, достав оттуда танкистский шлем, протянул ей со словами:
– Хотел Саньке отдать, да этот байпак все равно потеряет!
Он улыбнулся и тяжелое, с крупными чертами лицо потеряло суровость, и она улыбнулась благодарно ему в ответ, и они с Чердынским вышли. Переодевшись, в этой одежде она почувствовала себя как-то ловчее, и шлем был удобен – чуть приглушал грохот и за шиворот не сыпалось.
Вернулись они уже втроем и третий, она это сразу поняла, и есть их, а теперь и ее командир. Был он сосредоточен и серьезен, наверное, и шуток не любит, подумала Ольга. Они были чем-то схожи с Чердынским, только старшина Арбенов был чуть более плотного телосложения, экономен в движениях, и держал спину прямо, как будто вместо позвоночника у него был стальной прут. Чувствовалась в нем особая военная выправка и взгляд его с азиатским разрезом глаз был уверен и тверд, как и подобает командиру, подумала она, а как же иначе, таким и должен быть командир. Ольга встала ему навстречу, а он внимательно, изучающе смотрел в ее глаза. Где-то совсем рядом упала авиабомба, и от взрыва земля качнулась под ногами, она подалась вперед и ухватилась за его руку, и он придержал ее другой рукой за плечо. Глаза его оказались совсем близко, и он вдруг улыбнулся ей и сказал:
– Ничего, привыкнешь! – и подумал, – да, подарок неожиданный, и что ты будешь делать с этой девчонкой и какой от нее толк. Никогда в группе не было женщин, не та у них работа, и теперь надо придумать, как от нее избавиться. Капитан даже не посоветовался, а надо было сразу определить ее куда-нибудь на берегу, теперь это сделать будет сложнее.
Вдруг стало тише – самолеты, отбомбившись, уходили, но артиллерия немецкая еще работала. Старшина был уверен, что ему удалось скрыть свое разочарование от того, что прислали девушку, ему не хотелось обидеть ее, потому что он видел по ее глазам, как она волнуется. Глаза у нее удивительные, удлиненные… что это с тобой, старик, глаза как глаза и не дай бог она сейчас заплачет. Он опять стал серьезным, посмотрел на часы и сказал:
– Я старшина Арбенов. Через десять минут артобстрел закончится, будь готова!
Все трое вышли, а она почему-то пожалела, что не успела посмотреть в зеркальце, идет ли ей этот шлем и тут же укорила себя, мол, нашла время думать о такой ерунде.
Глава 4
Артобстрел закончился также внезапно, как и авиа-бомбежка до этого, и сразу же вспыхнула плотная перестрелка, вперемежку с минными и гранатными разрывами. Ольга подняла вещмешок с рацией и на выходе из блиндажа столкнулась с Чердынским. Он выхватил из ее рук вещмешок и побежал к траншее в конце оврага, только крикнул, не оборачиваясь:
– Будь здесь! Но она побежала за ним, и траншея привела к полуразрушенному, единственному в Спартановке четырехэтажному зданию школы. Она вслед за Чердынским забежала на первый этаж, и он, поднимаясь по лестнице, оглянулся и что-то крикнул, но она не расслышала, видела только раздражение в его глазах.
Вбежав на третий этаж, Ольга остановилась, переводя дыхание, и увидела старшину Арбенова с биноклем у оконного проема, а Чердынский достал рацию и, поставив ее на снарядный ящик у стены, размотал провод антенны и забросил ее конец в пролом в потолке. Ольга присела на второй ящик поменьше, включила радиостанцию и нашла в вещмешке наушники. Чердынский, сверкая глазами, подошел и попытался отобрать их у нее, но она остановила его, отвечая ему таким же злым взглядом.
– Тебе что было сказано? – крикнул сержант. – Сидеть в блиндаже и ждать!
– Пошел ты к черту! – мысленно взорвалась она, но ничего не сказала и стала настраиваться на горинскую волну. Тебе надо, ты и жди! Это моя работа! – подумала Ольга, крутя ручку настройки, – Это мое дело и никто мне не указ! Надо было так и сказать ему, этому сержанту, в следующий раз я так и сделаю!
Старшина Арбенов оглянулся на возглас сержанта и подошел, переводя вопросительный взгляд с одного на другого, и она видела, как Чердынский ухмыльнулся злорадно. Сейчас ты узнаешь, чье это дело, так, наверное, он подумал, догадалась Ольга. Арбенов смотрел на нее вопросительно, и она взглянула на него дерзко, и улыбнулась насмешливо Чердынскому. Чувствуя, как унимается нервная дрожь, охватившая ее еще там, в овраге, прокрутила ручку настройки и стала вызывать – Чибис, Чибис, я – Ястреб! Чибис отозвался сразу – ее выхода в эфир уже ждали, и, хотя были сильные помехи, ей показалось, что она узнала голос Горина.
– Есть связь, Чибис на связи! – доложила Ольга и, увидев недоумение в глазах Чердынского, подумала злорадно, что ее просто так, голыми руками не возьмешь, не на ту напали. Можешь злиться, сколько угодно, и ничего твой старшина со мной не поделает, не имеет права, потому что она боец Красной Армии, такой же, как и вы оба. И у нее приказ, и она обязана его выполнить, и никакие Чердынские не имеют права делать эту работу за нее.
– Давай, обучай! – сказал старшина, отошел к окну и поднес к глазам бинокль, а Чердынский сплюнул с досады себе под ноги и присел у стены с делано-равнодушным взглядом, но было понятно, что он глубоко разочарован поступком командира. Он, как командир, должен был поставить на место эту пигалицу, и то, что произошло, было для Чердынского удивительно. Старшина Арбенов посмотрел наверх и показал Чердынскому рукой на Ольгу, и она услышала гул в небе. Сержант подошел к ней и сказал, показывая на пролом в потолке, где уже были видны высоко в небе немецкие самолеты:
– Вторая волна пошла на левый берег и на остров Спорный. Будут нашу артиллерию подавлять и на нас навалятся. Я буду передавать тебе команды, так будет вернее, а ты передавай слово в слово, поняла?
Началась работа, и она очень старалась, потому что это была очень важная работа, она была в этом уверена, и от нее в этом общем деле многое зависело. Старшина оборачивался и кричал, сообщая координаты, и Чердынский повторял за ним, так, чтобы Ольга передавала в точности и потом она также напряженно вслушивалась в ответ “Чибиса”, который повторял за ней услышанное, и нужно было убедиться, что там ее поняли правильно. Она не видела, как от волны бомбардировщиков отделилась тройка «Юнкерсов», и упала в пике на школу, только слышен был душераздирающий вой сирен, и почувствовала, как заходил ходуном пол под ногами, и здание вздрагивало от взрывов авиабомб. Она не знала, что означают те слова, которые она передавала, повторяя вслед за младшим сержантом – Ориентир 20, левее 0-03, осколочным, 4 орудия, залп! Ориентир 18, правее 0-05, бронебойным, два залпа! И дальше – осколочным, бронебойным, ориентир 17, и она не знала, сколько это длилось, только чувствовала, что охрипла, и не было времени сделать глоток воды.
Бомбежка вдруг прекратилась, сержант бросился к окну, и только тогда Ольга отстегнула фляжку на поясе и пила жадно, чувствуя, как вода, проливаясь мимо, холодила шею под воротом гимнастерки. Старшина что-то сказал Чердынскому и тот, кивнув в ответ, повернулся к Ольге.
– Танки прорвались! Прямо на нас прут! – крикнул сержант и бросился вниз. Ольга подошла к окну, и перед ее глазами был весь поселок, где не осталось ни одного целого здания, только кое-где прямоугольники фундаментов. Слева за широкой балкой, по которой проходило русло речки Мокрой Мечетки, высились цехи Тракторного завода, а прямо на них, на школу, ползли серые коробки тупорылых немецких танков, и их было много, не сосчитать. Немцы ослабили натиск на других участках фронта и, собрав в одном месте все имеющиеся танки, прорвали оборону, и теперь эта танковая армада неумолимо двигалась к обрывистому волжскому берегу.
Когда пошли танки, артиллерия противника перенесла огонь на остров Спорный, где стояли наши батареи, и на здание школы тоже. Первые залпы горинского артдивизиона накрыли голову колонны, и два танка остановились, а третий задымил, кружась на месте. Из новой волны бомбардировщиков отделилась пятерка «Юнкерсов-87» и с душераздирающим воем упала в пике на школу. Две бомбы упали в дальнем крыле здания и одна ближе, казалось, школа рассыплется от такого удара, но она выдержала, а на них зашла еще одна пятерка. Когда танки откатились, опять начался артобстрел по всему фронту и сверху падали бомбы, но это была передышка, и Камал с Ольгой спустились на первый этаж – там было безопасней.
После того как отбили третью атаку, был особенно сильный обстрел, затем немцы снова пустили танки и Арбенов насчитал тридцать танков, а справа, на поселок Рынóк, они бросили еще двадцать. Артиллерия хорошо работала, но танков было слишком много, и в Рынке их остановили, но они маневрировали вдоль линии обороны и били по нашим позициям. Здесь, на западной окраине Спартановки немцам удалось прорвать оборону, и впереди танкового клина они пустили восемь самоходных орудий. Они были квадратные, с толстой лобовой броней и короткими орудийными стволами, и вся эта стальная армада неумолимо двигались прямиком к школе, на ходу ведя стрельбу. Пятерка за пятеркой заходили на школу «Юнкерсы», танки и самоходки уже пристрелялись, и здание сотрясалось, готовое обрушиться. В этом неистовом грохоте Ольга, передавая команды, не слышала своего голоса и поэтому старалась кричать сильнее, но там ее не слышали и тоже в ответ что-то кричали. Старшина Арбенов, видя, что артиллерия замолчала, выхватил у Ольги наушники и, тоже оглохший, кричал Горину, прося огня, а тот отвечал, что стволы накалились, орудия вот-вот выйдут из строя. Хотя бы два залпа бронебойными, и четыре фугасными, просил Арбенов. Ладно, отвечал Горин, будет два, а потом четыре фугасными, и потом закричал, услышав координаты:
– Ястреб, это же твои координаты!
– Давай капитан! Времени нет! – ответил старшина и бросился к окну. Дождался, когда упадет первый снаряд и крикнул Ольге: – Уходим. Он подхватил рацию, и они бросились вниз, и уже не видели, как в землю рядом с первой самоходкой зарылся фугас и, взорвавшись в земле, перевернул ее.
Они спустились в подвал, где старшина стал складывать за пазуху бутылки с зажигательной смесью «КС» и Ольга спросила:
– Почему мы уходим? Мы же можем стрелять по ним!
– Они все танки бросили на этот участок, – сказал Арбенов – там кругом наши, а по своим бить мы не можем.
Когда они выбрались из здания в траншею, он приказал ей отнести рацию в блиндаж.
– Туда! – он показал рукой. – Повернешь налево, помнишь, где наш блиндаж? Сиди и жди там, береги рацию!
Глава 5
До оврага было недалеко, и дорога была уже знакома ей. Она вошла в блиндаж, поставила рацию в угол, и присела к столу. Она решила, что сидеть и ждать неизвестно чего будет неправильно, но что делать и куда бежать, не знала. Ощущение брошенности и ненужности было знакомо ей, и теперь оно было особенно острым.
В тридцать седьмом, в самом начале учебного года они в школе собрали волейбольную команду, потому что к празднику двадцатилетия Великой октябрьской революции должны были проводиться областные соревнования по командным видам спорта. Капитаном команды был девятиклассник Толик Бурмистров, спортсмен и очень красивый парень, и он все время подсказывал Ольге, как лучше принять передачу или как сделать пас. Тебе не хватает прыгучести, сказал он ей, поработай над этим. Ей нравилось быть в команде, быть нужной, выбирать позицию и знать, что и другие действуют также и твой правильный выбор облегчает им задачу, и, следя за мячом, предугадывать действия своих соратников и работать на общий интерес. Команда быстро сыгралась, и они обыграли десятый «Б», у которых были одни мальчики, и завоевали право представлять школу на областных соревнованиях.
Она тогда жила только этим, рассказывала маме в подробностях, как проходят тренировки, а та насмешливо улыбалась – ну какая из тебя волейболистка? Потом произошла катастрофа, потому что за неделю до соревнований Толик отозвал ее в сторонку, когда она пришла в спортзал, и сказал, что принято решение, а кем принято, не сказал, и так было ясно, что принято им. Принято решение, что ты Максименко – у тебя не хватает прыгучести, будешь в запасе. В команде нужны мальчики, иначе даже на второе место рассчитывать нельзя. Она, конечно, возмутилась и обиделась и ушла из спортзала, и на улице встретила свою лучшую подругу, Наташку Лаврову. Она высказала ей свою беду, а та, улыбаясь, сказала, что Толик взял в команду ее, потому что она прыгучая. Мама, когда Ольга рассказала ей об этом, резюмировала – бесхарактерная ты у меня, и Ольга решила, что лучше ни с кем не делиться своими мыслями, а характер у меня папин, и если бы он был жив, то все было бы по-другому.
Вот такая произошла катастрофа в восьмом классе, и она ушла из команды, и когда они взяли третье место, она позлорадствовала, но тут же устыдилась этого, и все-таки она считала, что с ней команда взяла бы, если не первое, то второе место точно. Тогда Ольга ушла в легкую атлетику. Но то ощущение предательства не исчезло, осталось где-то внутри, и теперь оно снова пришло, и она сказала громко – Сволочи! – взяла свою санитарную сумку, и вышла наружу.
Еще плохо ориентируясь, она вспомнила слова Саньки и побежала в левую траншею, туда, где гуще была перестрелка. Стрельба была уже рядом, совсем близко, когда она наткнулась на первого своего раненого – боец сидел на дне траншеи, зажимая обеими руками окровавленный бок, и раскачивался от боли из стороны в сторону. Ольга действовала четко, работа ей была хорошо знакома – разрезать одежду, обработать рану, наложить тампон, бинт. Она справилась быстро и спросила раненого:
– Идти можешь? Он кивнул, и она помогла ему подняться, показала рукой вдоль траншеи – туда, к Волге, и побежала дальше.
Увидела еще одного солдата, который сидел, опустив рыжую голову в колени и Ольга, наклонившись, спросила:
– Ты ранен? – боец, подняв глаза, смотрел на нее тупо и растерянно, она узнала его, это был тот самый долговязый, с баржи. Она разозлилась от этого беспомощного взгляда и заорала на него:
– Ты что сидишь? Ты что тут расселся? Звать тебя как?
– Дура! – ответил солдат зло. – Дура! Беги отсюда! Нас всех убьют! Они нас всех убьют!
В грохоте боя она вдруг явственно расслышала зловещий шелест пролетевшего над головой снаряда и увидела впереди яркую, белую вспышку и облако желто-серого дыма. Побежала туда, потому что ей показалось, что кто-то там закричал, и увидела на дне траншеи человека – левой руки у него не было, вместо плеча кровавое месиво и левая сторона головы была в крови, а в правой руке была зажата граната, и ей показалось, что человек улыбается.
Но тут сзади что-то лопнуло беззвучно, и тугая волна швырнула ее вперед. Она чувствовала, что летит и воздух был плотный, как вода, и она слышала шелест, с которым рассекало ее тело этот горячий воздух. Она летела долго и, когда упала, ничего уже не слышала, только чувствовала, как стучат по спине комья земли. Ольга с трудом поднялась на четвереньки, слух стал возвращаться, и она оглянулась.
Солнце уже было на западе, и в его свете она увидела черный силуэт идущего к ней по траншее человека, лицо его было в тени, и она подумала, что это тот рыжий. Человек был уже близко, и она разглядела сначала немецкую каску на его голове, опустила взгляд и увидела сапоги с короткими, широкими голенищами. Она подняла голову и теперь разглядела лицо человека, широкое и грязное, с мясистым носом и маленькими глазами. Маленькие, бесцветные глазки смеялись и толстая нижняя губа, противно-мокрая, подергивалась, и немец что-то прокричал весело, но Ольга не разобрала его слов. Она хотела встать, но ноги не слушались, она их совсем не чувствовала, и, опершись на руки, отползла назад.
Немец подошел близко, вплотную, и смотрел на нее внимательно и зло, а она подумала, что так ничего не успела и пожалела, что пообещала кому-то больше не просить о помощи. Боже, я ведь ничего не успела! – подумала Ольга и вдруг вспомнила о пистолете, сунула руку в карман и торопливо выдернула оружие. Навела двумя руками на фашиста и видела, как сузились его и без того маленькие глаза и тут с ужасом поняла, что палец ее не достает до курка. А немец засмеялся, запрокинув широкое, мясистое лицо и она разглядела на его подбородке и на торчащем кадыке редкую, рыжую щетину. Она отползла еще, и немец тоже сделал шаг вперед, и правой рукой отомкнул штык на своей винтовке. Широкое, стальное лезвие тускло блеснуло и Ольга, сразу все поняв, подумала, что это ведь больно, лучше бы он выстрелил. Тогда будет не больно и все произойдет мгновенно и теперь уже все равно, что она ничего не успела. Сволочь, лучше бы он выстрелил. Наверное, это не больно. Теперь уже ничего не исправить, и, может быть, она встретится с отцом, и они будут долго говорить обо всем, что было в ее жизни и о том, что должно было быть и теперь уже не случится. Вдруг немец попятился и опустил голову, как будто разглядывал что-то у себя на животе и потом мешком повалился на землю, словно сложился пополам. Кто-то наклонился над ней, и она, подняв голову, увидела близко внимательные глаза, и узнала их. Это был старшина Арбенов и он, закинув автомат за плечо, подал ей обе руки, и помог встать.
– Ты ранена? Нет? – она покачала головой, и он спросил с укором, – Что ж ты не стреляла? Испугалась?
– Понимаешь… – Ольга подняла руку с пистолетом, – мне это «орудие» выдали там, на левом берегу. Понимаешь, у меня палец до курка не достает. Хочу выстрелить, а палец не достает!
Он смотрел внимательно, не понимая, на нее и револьвер в ее руке и она засмеялась, и он тоже вдруг засмеялся. Это было очень смешно, и она хохотала, и он с улыбкой покачал головой, но глаза его были какие-то невеселые, и Ольга протянула ему «наган» и сказала:
– Держи. Мне он не нужен. У тебя-то палец наверняка достанет!
И она снова засмеялась, и вдруг она услышала, что бой закончился, что вокруг тихо и уже стемнело. Она держалась за его руку, и кровь возвращалась в онемевшие ноги, покалывая тысячами иголок, и она поморщилась, а он ждал и смотрел поверх бруствера, потом спросил участливо:
– Ну, как ты? Идти можешь? Тебе нужен автомат, здесь без оружия никак нельзя.
Он пошел впереди, держа ее за руку, и она вдруг почувствовала себя маленькой девочкой, которую переводят через дорогу, и выдернула руку, но он не оглянулся.
* * *
Из сводки Генштаба 28.10.42
"Части Северной группы Горохова отразили многочисленные атаки противника силою до полка пехоты с 40 танками на юго-зап. окраину пос. Спартановка. Противник в 13.00 ввел в бой дополнительно 30 танков а также пехоту, атаковал зап. окраину пос. Спартановка. Также 20 танков и до батальона пехоты атаковали пос. Рынок. К исходу дня бой продолжался в траншеях”.
Глава 6
Когда они пришли в блиндаж, освещенный лампой, сделанной из гильзы 76-ти миллиметрового снаряда, разведчики сидели на патронных ящиках у стола, и Николай Парфеныч, так звали усатого сержанта, который утром дал ей одежду, освободил для девушки место рядом с собой и поставил перед ней котелок с кашей. Каша была чуть теплая, но ей она показалась необыкновенно вкусной и она ела с удовольствием и недоумевала, почему Санька, сидевший напротив, так ругает этот пшенный концентрат.
Николай Парфеныч вышел и вскоре вернулся с чайником в руках, пофыркивающим паром и черным от копоти. Он поставил чайник на стол, нагнулся и достал из вещмешка прямоугольный предмет, обернутый фольгой. Разломил его пополам, потом одну из половинок еще пополам и, сняв фольгу, опустил в чайник темно-коричневый, как будто обугленный квадратик. Из носика чайника заструился тонкий, терпкий аромат и становился все гуще и, когда Загвоздин налил чай в кружку и вылил обратно в чайник, аромат напитка, густой и горький, заполнил весь блиндаж. Сначала он заглушил, а вскоре вытеснил все другие запахи – запах солдатского пота и махорки, запах пороховой гари и тротила, горящего металла и машинного масла, и запах крови.
Сержант, подмигнув, поставил перед Ольгой кружку и терпкий аромат ударил в нос, и уже от одного запаха она взбодрилась, а когда сделала первый глоток, то в голове вдруг прояснилось, и исчезла усталость. Она сделала еще один глоток и улыбнулась сержанту благодарно и он, погладив густые, прокуренные усы, сказал:
– Это азербайджанский чай. Плиточный. Пей, не торопись.
Старшина Арбенов даже не присел и сказал Чердынскому:
– Пойдем, Феликс, надо выяснить обстановку, – и они ушли.
Очень редкое имя, Феликс, и ему очень подходит, – подумала Ольга, и уже через несколько минут она знала, что зовут его, на самом деле Федор, а прозвище ему дал он, Санька, потому что тогда, в сорок первом – в первый день войны, случилось вот что. Чердынский, он ведь пограничник, остался из всей заставы один в живых, и вышел уже к вечеру к своим контуженый, но не раненый, весь обвешанный трофейным оружием и злой, как черт. В зубах у него, пробив щеку, Санька показал пальцем – вот тут, застрял осколок, рот полон крови, и на вопрос, кто такой, пограничник ответил:
– Шежант Жи-жи-ский. А всем послышалось – Дзержинский! – и Санька, разумеется, не мог упустить такой случай, и конечно, съязвил:
– А, зовут тебя, случайно, не Феликс Эдмундович? Так он и стал с той поры Феликсом. Теперь и командир его так называет.
Вернулись Арбенов с Чердынским, присели к столу и стали просматривать собранные у убитых немцев документы. Ольгу вдруг разморило и глаза стали слипаться, все тело налилось свинцовой тяжестью, и она встала – испугалась, что может уснуть и вслушалась в разговор разведчиков. Обстановка была исключительно плохая, потому что, хотя танковый удар отбили и немцы откатились, им удалось вклиниться в нашу оборону и закрепиться в траншеях и сейчас они готовят новый удар. По документам убитых выходило, что у немцев появилась новая дивизия, и, наверняка, завтра они подтянут дополнительные силы и снова попытаются прорвать нашу оборону.
– Поэтому, давайте, поднесите сейчас побольше бутылок «КС», противотанковые гранаты! Завтра будет жарко! А я пойду, доложу начальству! – старшина сложил документы в свой командирский планшет и встал, собираясь уходить. Ольге стало обидно, что он даже не взглянул на нее ни разу, как будто ее здесь на было, и она шагнула к нему.
– Товарищ старшина! А мне что делать?
– Так, Максименко! – он как будто только теперь заметил ее, и задумался на секунду, потирая подбородок, – Ну, как, привыкаешь? – Не дожидаясь ответа, он продолжил:
– Нашей с тобой работы завтра не предвидится. Артиллерия помогать не будет, не то своих положим. Так что, завтра останешься в лазарете, там работы хватает.
Она разозлилась и хотела сказать, что не для того училась радиоделу и переправлялась через Волгу, чтобы торчать в лазарете, там любая санитарка справится, и что она не позволит никому обращаться с ней как с маленькой девочкой, какая ни есть, она боец Красной Армии. Нет, надо говорить еще резче, еще убедительнее – подумала Ольга, но ничего этого не сказала, потому что он смотрел на нее как-то не так, а как, она не смогла бы объяснить. Да, поняла она, такой взгляд был у отца, когда они с мамой провожали его в последнюю командировку в Испанию. Последнюю, потому что он обещал маме, что потом никаких командировок не будет. А она оказалась последней, потому что он из нее уже не вернулся. При чем тут это? – спросила она себя, и еще, – О чем он думает сейчас, глядя так на нее? И все время трет подбородок.
А он думал о том, что ночью будет жестокий бой, и немногие доживут до рассвета, и что ей тут не место. Медсанчасть и весь берег тоже бомбят, но там есть шанс выжить, потому что немцев мы туда не допустим, не имеем права, и там тоже падают бомбы, но там не так много убитых. Там у нее будет шанс выжить. Еще он вдруг подумал, что у нее красивые брови, никогда не знал, что брови могут быть красивыми, густые и золотистые. И глаза у нее серые и длинные, никогда не встречал таких глаз! Да, не место ей тут, совсем девчонка!
Он сказал, что они могут пойти вместе, потому что ему нужно найти капитана Студеникина, но она отказалась, ответив, что пойдет в медсанчасть утром, хотя уже секунду назад решила, что ни в какую санчасть она не пойдет, а пойдет утром с группой и будет там вместе со всеми. Старшина раскусил ее хитрость, не очень-то она умела врать, и решил, что завтра он что-нибудь придумает, в крайнем случае, подключит Студеникина. Она ждала и, волнуясь, потрогала двумя пальцами кончик носа, за эту привычку ее всегда ругала мать, а отец в таких случаях смеялся – его эта ее привычка смешила. Камал улыбнулся, заметив ее жест, и Ольга смутилась, а он сказал ей:
– Ну, хорошо, оставайся! Завтра что-нибудь придумаем!.
Что это он собрался придумывать, подумала Ольга, уж не по моему ли поводу, так это он зря старается. Николай Парфеныч придвинул к стене два снарядных ящика, положил на них шинель, и Ольга уснула в одно мгновение, как только легла, и уже не слышала, как выходили и, возвратившись, разговаривали разведчики.
* * *
Радиограмма полковника Горохова в штаб 62 армии:
“ЧУЙКОВУ Авиация противника усиленно бомбила боевые позиции. За день отмечено 1036 самолето-вылетов противника. Давит танками. Боеприпасов нет. Связи с соседями нет. Положение на других участках неизвестно. ГОРОХОВ”.
Глава 7
Из дневника лейтенанта Герберта Крауса:
“Сегодня мы прорвали оборону русских в поселке Спартановка, вбили клин и дошли почти до Волги, правда потом пришлось немного оттянуться назад. Здесь осталась горстка солдат, но завтра мы их уничтожим. Моя рота шла в прорыв первой, следом за танками. Эти варвары сожгли несколько танков, они не жалеют жизней, я думаю, это результат большевистской пропаганды. Надеюсь, что буду отмечен наградой. У нас большие потери, но пополнение приходит регулярно.
Завтра очень важный день. Мы должны расширить плацдарм, а если удастся, захватить весь поселок Спартановка. Тогда Сталинград будет обречен. Говорят, нашим танкистам сделали инъекцию какого-то лекарства для храбрости, но я думаю, что это просто слухи. Немецкому солдату не нужно никаких лекарств, мы и так лучшая армия в мире.
Здесь опять появился майор Гейер фон Хохенштауф из Абвергрупп-104, думаю, готовит какую-то операцию. У него свои задачи. Говорят, он любимчик фюрера, но такое положение надо завоевать, а он профессионал. С ним этот неприятный тип, кажется, его зовут Раупах.
Лаура в письме просила прислать ей что-нибудь из России. Она пишет, что все девушки получают посылки от своих женихов с восточного фронта. Попрошу Гюнтера подыскать для нее что-нибудь стоящее, шубу или что-то еще. Надо бы и домой отправить посылку, не то старики обидятся.
Об отпуске пока думать нечего. В этой, северной части Сталинграда осталась еще полоса шириной меньше километра и длиной в два километра. Эти собаки засели в ней, но мы выкурим их. Они превратили эту местность в линию Мажино. Наши инженеры-саперы подсчитали по кадрам аэрофотосъемки, что коммунисты вырыли больше двадцати километров траншей и ходов сообщения. Изрыли весь пятачок, так, что могут без опаски из южной части плацдарма пробраться в северную, в поселок Рынóк”.
Глава 8
Старшина Арбенов спустился по оврагу к берегу Волги, остановился у воды и достал из сумки пачку папирос. Что-то с тобой не так, парень, сказал он себе, прикуривая. Это все неправильно, то, чем сейчас занята твоя голова. Не самое подходящее время. Выбрось всякую ерунду из своей головы. Завтра будет тяжелый бой. А когда они были легкими? Завтра нужно выбить немцев из клина, и командование бригады, наверняка, готовит план. Ты доложишь свои соображения по поводу ночной атаки, надавишь на фактор внезапности, а решать будут они. А какие глаза у Ирмы? Карие, кажется, да, светло-карие. К черту все глаза – карие, голубые серые. Особенно серые. Это хорошо, что Ирма подала на развод в самом начале войны, и хорошо, что мы не успели привыкнуть к тому, что мы муж и жена. И ее можно понять – ты ушел в армию в тридцать девятом, потом началась война, финская война не в счет – ты не писал ей, что ты в Финляндии, и неизвестно было, сколько это продлится. Это неизвестно и сейчас, но война будет долгой, и она сделала все правильно. Все-таки хорошо быть одному. Может быть, в этом есть и минусы, но я их не знаю, пока одни только плюсы. Плюс уже в том, что нет минусов. Да, хорошо, когда некому тебя ждать. Ты замечательно, здраво рассуждаешь. Теперь подумай, как отправить эту радистку в тыл. Иначе дисциплина в группе разладится, ты видел, как у Чердынского загорелись глаза, когда речь зашла о ней. Да, удивительные у нее глаза. Опять ты о своем. Странно, почему именно сейчас ты перестал ощущать чувство обиды, которое не покидало тебя с самого начала войны. С самого начала развода, поправил он себя, и теперь он закончился, и хватит уже об этом.
Арбенов остановился перед дверью, именно перед дверью, потому что утром вход в землянку штаба был завешен плащ-палаткой, а теперь тут красовалась самая настоящая дверь. Филенчатая, крытая лаком, с блестящей никелированной ручкой. Ну, дела! Штаб был полон людей, тут были все комбаты и политруки, переговаривались вполголоса. Камал подошел к Студеникину и протянул немецкие документы и свой рапорт, но тот не просматривая, сунул их в свой потрепанный портфель без ручки и, сощурившись в улыбке, спросил шепотом:
– Ты дверь видел? То-то! Саперы нашли в школе, в подвале. Хорошо, что пришел.
– Надо обсудить кое-что. Есть соображения по поводу этого чертова клина.
– Потом, – сказал Студеникин, – говорят, какой-то приказ пришел из штаба фронта. А, может, еще свыше!
Полковник Горохов, о чем-то говоривший с комиссаром Липкиндом, встал, и наступила тишина. Он потер рукой небритое лицо с крупными чертами, оглядел всех усталым взглядом и начал говорить:
– Товарищи офицеры и политработники! Все вы знаете, что положение очень тяжелое, подкрепления давно нет и, когда дадут, неизвестно. Убыль не восполняется и оборона нашего участка сильно поредела. Солдат стоит насмерть, но и от нас, командиров, сейчас зависит многое, если не все. Потому что, если кто-то из командиров дрогнет хоть на секунду… – он замолчал и взял в руки карту Сталинграда, такая была только в штабе, у других офицеров были карты боевого участка. Горохов поискал что-то на столе глазами, потом поднял взгляд на стоящего у стола зам начштаба:
– Чупров! Усы свои чем подстригаешь? Давай ножницы!
Старший лейтенант Чупров, не скрывая удивления, достал из командирской сумки ножницы и подал полковнику. Горохов примерился и начал резать, прямо по линии правого берега Волги, отсекая Северный боевой участок от реки. Половинка карты, с широкой синей ленты Волги упала к его ногам, и Чупров поднял ее, аккуратно сложил и убрал в сумку. Полковник положил обрезанную карту на стол и всем стало не по себе, потому что Волга за их спиной питала их уверенностью, была связью со все страной и оттуда, из-за Волги приходила помощь. Сергей Федорович положил тяжелые руки на стол, оперся на них, словно вдавил осиротевшую карту в столешницу и сказал, чеканя каждое слово:
– Приказ будет такой! За Волгой для нас земли нет!
* * *
Арбенов вернулся в полночь, и Саватеев поставил у стола помятое ведро, перевернув его вверх дном, и он, сняв через голову планшет, положил его на ведро и сел. Загвоздин пододвинул Арбенову кружку с чаем и спросил:
– Ну, что, есть хорошие новости, командир?
Новости были только плохие, потому что предположение о появлении новой немецкой дивизии подтвердилось, а у нас много убитых и пополнения не дали – бронекатера не смогли пробиться, продовольствие на исходе и в кухню угодила бомба, и придется затянуть пояса.
– Приказ командования такой, – сказал старшина, посмотрев на часы, – на сегодня на 4-00 назначена атака. Горохов выделил из своего резерва двенадцать человек. Мы пойдем первыми, снимем охранение, и надо будет поджечь как можно больше танков, пока немцы опомнятся. Саватеев пойдет в паре с Загвоздиным, Чердынский действует самостоятельно.
– Все ясно! – сказал Чердынский, и указал на спящую девушку, – а с ней что делать?
– Черт, совсем забыл, – сказал Арбенов, и секунду помедлил, в раздумье потирая подбородок. – Ладно, с ней так сделаем. Перед атакой не будите ее, пусть спит, намаялась с непривычки – до обеда проспит. Потом, дело сделаем, отправлю ее в санчасть или на узел связи.
– Я считаю, надо ее оставить, командир? – возразил Чердынский. – радистка нам нужна, и у меня руки развяжутся. Я на передовой больше пользы принесу.
– Та-ак, – протянул старшина, – может, и остальные так считают?
– А что, пусть остается, – сказал Санька, – когда девчонка в коллективе, веселей как-то!
– Александр, ты сам слышал, что сказал? Девчонка в коллективе! Ну, а ты что скажешь, Николай Парфеныч?
– Девка она шустрая, только не место ей тут, – сказал Загвоздин, поглаживая усы, – на берегу целее будет. Решать тебе, командир!
– Хоть один разумный человек в коллективе! – похвалил сержанта Арбенов. – Голосования не будет, ребята! Не было в группе женщин и впредь не будет! Все, точка!
– Чревато истерикой, командир! Да и радист нам нужен. Мы не можем передавать наши развед-данные артиллеристам, так? Ты это прекрасно знаешь! Радистки в штабе передают в первую очередь то, что прикажет командование. А наши данные иногда просто забывают передать, или передают с опозданием и они устаревают. Я ведь прав, командир?
– Прав ты, прав сержант? Но ей здесь не место, как ты не можешь понять! – Арбенов с силой потер подбородок. Оглядел всех. – Ладно, я подумаю.
– А ты что, опять на НП будешь обдумывать? – поинтересовался Чердынский. – Холодновато уже.
– Не замерзну, понаблюдаю за охранением. К тому же и место мое занято.
Глава 9
Старшина Арбенов привел с собой пятерых моряков во главе с мичманом. Они были вооружены новенькими автоматами ППШ, наверное, они из гороховского резерва, подумал Феликс, и, наверное, они опытные бойцы, других бы старшина не взял на такое задание. Мичман назвался Михаилом, и он сразу понравился Чердынскому – плотно сбитый, с уверенным взглядом, и бескозырка его не была залихватски сбита набок, как у других моряков, а плотно и низко надвинута на лоб.
Все было уже готово, и они поползли вперед, и нужно было бесшумно снять часовых в охранении, но Чердынскому предстояло взять “языка”, желательно танкиста. Он всегда гордился тем, что командир уважает его и самые сложные задания поручает ему, но сейчас он почему-то был зол на весь белый свет, и не хотел признаться себе, что это чувство вызвано тем взглядом, каким смотрела прибывшая вчера радистка на их командира. Ничего особенного, самый обычный взгляд, изучающий, так всегда люди смотрят друг на друга при знакомстве. Но что-то в этом взгляде вызвало в его душе вспышку раздражения, и он долго не мог уснуть ночью и поднялся утром злой, и теперь эта злость поможет ему в предстоящем бою.
Немец, которого взял Чердынский, был смертельно напуган, это был пехотинец, он мало что смог рассказать, знал только, что готовится танковый удар, что пока здесь двенадцать танков PZ-4, а остальные ушли на ремонт и заправку, но к утру вернутся. Чердынский спросил его, зачем он пришел на нашу землю, и немец заплакал и ответил, что не знает, и тогда сержант вынул нож и ударил его в сердце. Вытер лезвие о его китель и пополз к своему первому танку.
Нужно было бросать бутылки с зажигательной смесью «КС» на мотор в задней части машины, иначе эту чертову железку не взять. Когда младший сержант поджег первый танк и пополз ко второму, увидел в начинающем редеть воздухе черные фигуры немецких танкистов, бегущих к машине, и срезал их длинной очередью, но один успел запрыгнуть в люк. Чердынский бросил на решетку мотора одну за другой две бутылки, и отполз подальше. Он видел первые слабые язычки пламени, но мотор еще не был поврежден и немец-танкист завел машину и тронул ее с места. Ему надо было осмотреться, было еще темно, и он начал медленно поворачивать башню, одновременно разворачивая машину. Феликс отполз еще назад, в воронку, и бросил гранату, целясь под гусеницу танка. Бросил удачно и танк резко развернулся, и разорванная гусеница расстелилась по земле беспомощной змеей. Феликс немного погордился собой, совсем чуть-чуть, и подумал, что хорошо бы, если брат его, погибший в финскую войну, видит все происходящее, а если верить Парфенычу, то так оно и есть. Бабка его говорила о том же, но я и тогда не верил ей, хотя и был маленький, и сейчас мне не очень-то верится в эти сказки. Сказки все это, что наши умершие не уходят в небытие, что они где-то рядом и помогают нам. Чем они могут помочь в своем бестелесном состоянии? Выходит, ты веришь, что они пребывают в бестелесном состоянии? Из курса физики известно, что даже вакуум, это, какая-никакая, а материя? Ерунда и бабушкины сказки.
Он мысленно поблагодарил командира за то, что тот дает ему самые сложные, ответственные задания, ценит его мастерство и, чего уж скромничать, отвагу. Это было ему по душе, по характеру – быть там, где опасней всего, где требуется выдержка и, вместе с тем – дерзость, и он подумал, что хорошо было бы, если брат его, и покойный отец, и все его предки видели, как он воюет. Наверное, они простили бы ему эту малую толику тщеславия, и если верить Парфенычу, непременно помогли бы ему победить и в этом бою, а Загвоздину можно верить, но я в эти сказки не верю, уж прости, старина.
Чердынский подождал, пока едкий дым заполнит кабину танка, и, когда немец высунулся по пояс из люка машины, снял его короткой очередью и побежал по траншее, отыскивая себе следующую мишень. Густо пахло горящим машинным маслом и железом, но сержант не посмотрел, много ли танков горит, там теперь справятся без него. Он знал, что скоро паника уляжется и немцы бросят в прорыв новые силы, а если не получится, а у них это точно не получится, потому что мы им этого не позволим, подумал Чердынский. Я им этого не позволю, я – Федор Чердынский, по прозвищу «железный Феликс» и другие русские солдаты, мы их вышибем из этого чертова клина и не пустим к Волге. И тогда они, эти чертовы немцы, будут прорываться назад, к своим, и надо будет отсечь пехоту, а потом уничтожить ее.
Как он и предполагал, гитлеровцы пошли в атаку, пустив впереди танки, и Чердынский насчитал девятнадцать, но, наверное, их было больше. Пехоту удалось отсечь, и нужно было жечь танки, и Феликс бросился назад, в балку, за зажигательными бутылками. Он побежал обратно и за пазухой позвякивало стекло – бутылки бились друг о друга и жидкость могла вспыхнуть – она загоралась от взаимодействия с воздухом, но он не думал об этом и на бегу отметил, что в траншее появились бронебойщики с ПТР-ми, это хорошо, подумал он. Ему не удалось больше поджечь хотя бы один танк, потому что немцы стали отходить, и оставшиеся машины стали медленно отползать назад, стреляя на ходу, и подобраться к ним не было возможности. Теперь надо было выбивать пехоту, засевшую в траншеях, и завязался ближний, гранатный бой.
Когда начался артобстрел и в небе загудели приближающиеся бомбардировщики, Чердынский понял, что немцы отходят, они не стали бы бомбить своих, а если кто-то и остался в этих траншеях, то они все равно были обречены. В каком-то переходе он увидел Ольгу, она перевязывала раненого, и он остановился. Она коротко и зло взглянула на него и продолжила делать свое дело, но Феликс не знал, что сказать ей, да и времени не было, и он побежал дальше.
Ольга посмотрела ему вслед и прошептала: – Давай, беги, гад! Это я не тебе, – сказала она раненому, у которого было раздроблено колено, и он вскрикивал от боли и скрипел зубами, пока она обрабатывала рану. Она была зла на всю группу, и когда увидела Чердынского, обида, испытанная утром, опять вспыхнула в ней с прежней силой. Потому что проснулась она, когда бой был в разгаре, и где-то совсем близко хлопали гранатные разрывы и трещали пулеметные очереди, и она разозлилась на разведчиков, за то, что они не разбудили ее, но тут же обругала себя – сама виновата. Выскочила из блиндажа и побежала в школу, поднялась на третий этаж, но на НП никого не было, и она помчалась вниз, ругая себя за то, что потеряла столько времени. Конечно, сама виновата, подумала она, но и они хороши, проявили заботу. И этот их командир, индюк надутый, конечно, это он приказал не будить ее. Не нуждаюсь я ни в какой заботе, я вам не девочка, я такой же боец, подумаешь, разведчики выискались. Ей пришлось вернуться в блиндаж за санитарной сумкой, и на сумке лежал новенький автомат ППШ и сначала ремень все время съезжал с плеча, но потом она перекинула его наискось, через грудь, и теперь он не мешал ей.
Глава 10
Раненых все несли и несли, и уже негде их было складывать, под навесом не осталось места. Тяжелые кричали и стонали, но большая часть терпеливо ожидала своей очереди на операцию и перевязку. Ольга уже валилась с ног, когда Нина отозвала ее в хоз-палатку и спросила участливо:
– Что, намаялась, подруга? Ты хоть ела сегодня? – Нина наклонилась и достала из мешка с бинтами сверток. – На, вот, тут крупа и еще кое-что, кухню то разбомбило, и нам выдали сухой паек. Отдашь этому, сержанту усатому, как его?
– Николай Парфеныч!
– Вот, он дядька хозяйственный, сообразит какой-нибудь ужин. Тебе надо горячего поесть, не то опадешь с лица, замуж никто не возьмет! А у нас раненых кормить нечем.
– Причем тут замуж? – возразила Ольга. – Не собираюсь я замуж!
– Давай, иди, все так говорят, а потом раз, и в дамках! Ночуй там, а то здесь загоняют тебя насмерть! Сегодня бронекатера должны прийти, будем раненых отправлять. Давай, беги, некогда мне тут с тобой!
Ольга вошла в блиндаж разведчиков, и все поднялись ей навстречу, и она поняла, что ее ждали. Она передала Загвоздину продукты и без сил опустилась на ящик. В блиндаже терпко пахло чаем, и Николай Парфеныч налил полную кружку и поставил перед ней. Она отхлебнула и закрыла глаза, и ей показалось, что именно этого ей не хватало. Вдруг она, вспомнив, спросила сержанта:
– А где моя сумка санитарная?
Парфеныч подал ей сумку и она, пошарив, вынула банку сгущенки, и Санька радостно потер руки.
– Вот, забыла совсем, Нина еще вчера угостила.
Чердынский пробил ножом две дырки в крышке банки и протянул Ольге. Она наклонила банку и смотрела, как густая струя молока складывается аккуратными волнами и опускается на дно кружки. Она передала банку нетерпеливо ожидавшему Саньке и стала мешать алюминиевой ложкой и чай сначала помутнел, потом посветлел и стал светло-коричневый. Ольга отхлебнула и сказала:
– Мамочка моя, как вкусно! Как какао! Молоко смягчило горечь, и запахло корой самшитового дерева, такой запах был у трубки, которую отец привез из Испании. Она пила небольшими глотками и думала, что ей, как всегда, повезло, и блиндаж их – самый уютный блиндаж на свете, и люди вокруг свои, родные. Николай Парфеныч, поглаживая усы, спросил:
– Нравится? Азербайджанский, плиточный! Я, видишь ли, в Азербайджане служил долгое время, там и пристрастился к этому напитку.
– И где же вы берете такой чай?
– Да это старый запас, уже к концу подходит, всего две плитки осталось. Когда в Орловке стояли, отбили один домишко, магазин, там-то случайно и наткнулся в подвале, ну и прихватил. Немцы все растащили, а чай бросили. Они чай, ёфты-кофты, не пьют, все больше кофе.
– Как вы пьете эту гадость? – вмешался в разговор Санька. – Во рту вяжет, хуже столярного клея!
– Ну, да! – сказал Чердынский. – чего ты только не пробовал! Для тебя хуже смерти, когда язык склеенный!
– Не-е, – сказал Санька, не обратив внимания на замечание. – При таком питании много не навоюешь! Голодаю я!
– Ты же полведра пшенки смолотил, Саня! Другой бы помер от заворота!
– А что пшенка? Ты же сам говорил, что у меня сильная мета-болезнь! Когда все время жрать хочется!
– Не болезнь, а усиленный метаболизм! Это когда пища в организме быстро усваивается. А у тебя, даже не успевает усваиваться! Сразу вылетает!
– Зато я самый энергичный на всем участке! – сказал Саватеев и Чердынский махнул рукой и обратился к Загвоздину:
– Ну, старина Парфенон, что насчет ужина? Сухари да чай опять? Трофеев последнее время не густо.
– Нет, – сказал Загвоздин, – ёфты-кофты, сегодня знатно поужинаем. Вот, девонька наша продуктами нас снабдила, даже луковица имеется. Я тут припрятал тушенку трофейную от нашего байпака, да и командир свой офицерский паек подбросил, так что полный порядок! Ну что стоишь, – прикрикнул сержант на Саватеева, – воды принеси!
– Принес уже! – огрызнулся Санька. – на улице полная канистра!
Санька на выходе столкнулся с Арбеновым, а следом вошел мичман Михаил, и Парфеныч, отвечая на вопросительный взгляд командира, сказал:
– Да не пьяный он, мы еще не начинали, тебя ждали!
– А что, будем начинать? – обрадовался Чердынский. – Ты же клялся, Парфенон, что НЗ весь вышел!
– Так ведь командир паек получил, ну, и… разрешил.
Мичман, присаживаясь к столу и продолжая прерванный разговор, обратился к Камалу:
– Так значит ты из Гурьева? Знаю я этот город.
Он подождал, пока Парфеныч разольет по кружкам водку и сказал:
– Я с Черного моря, а ты с Каспийского! А в этом самом Гурьев-городке я в госпитале отлеживался после Севастополя! Получается, братишки мы с тобой!
– А я, кстати, – сказал Камал, – бывал в твоем Севастополе. Давно, правда, в двадцать седьмом году, пятый класс тогда закончил. Направили меня в пионерский лагерь, в Артек, он только открылся в тот год. Ну и там наш отряд занял второе место в военной игре и нас, звеньевых, в виде поощрения послали в Севастополь на флот, на военные корабли. Я там даже отстоял боевую вахту на крейсере.
– Ну, тем более братишка! А ты говоришь! – мичман почему-то смотрел укоризненно на Ольгу.
В это время Санька, стоявший за их спинами с канистрой в руках, вставил пренебрежительно:
– Ха, братишка! Где Черное море, а где Каспийское?! Два лаптя на карте!
Мичман поставил кружку на стол и сказал сурово и осуждающе:
– Чтоб ты понимал в морской географии?! – посмотрел, обернувшись, на парня уничтожающим взглядом и добавил с презрением:
– Чукотка!
– Вот это в точку, – с радостью подхватил Чердынский, – Чукотка, он и есть Чукотка!
– Ну, – мичман поднял свою кружку, – за победу, и за тебя, братишка!
Мичман не стал закусывать и сразу засобирался и всем по очереди пожал руки, пообещал прислать старшине в подарок тельняшку, как же морскому человеку без тельняшки и, пожимая руку Саньке, сказал с улыбкой:
– Пока, Чукотка! Изучай географию!
Глава 11
Гитлеровцы закрепились на занятых ими позициях накрепко, и второй день не удавалось выбить их оттуда, потому что, ослабив натиск на других участках, они под прикрытием танков все время подтягивали сюда подкрепление и пытались прорваться вглубь обороны. Прошлой ночью удалось отбить одну боковую траншею, но потом пришлось оставить ее, так как людей было мало, а с других участков снять даже десяток бойцов было невозможно.
Раненых было не много, наверное, потому что ранить уже было почти некого, подумала Ольга, пробираясь по траншее, иногда наступая на убитых, никак нельзя было их обойти. Близился уже вечер и перестрелка поредела, но бой еще продолжался, нельзя было предугадать, сколько он еще продлится, может быть, до утра. Она свернула вправо и услышала, как где-то рядом взорвалась граната, прошла через короткий проход и вышла в траншею, но тут же отпрянула назад. Осторожно выглянула из-за поворота и убедилась, что не ошиблась. Впереди, метрах в восьми у бокового прохода сидел на корточках немец, винтовка его лежала рядом на земле, а он держал в руке гранату и достал из подсумка длинную ручку с запалом.
Сердце бешено колотилось, и она оглянулась, как будто ожидала чьей-то поддержки, но в проходе сзади никого не было, и не слышно было голосов. Она сняла висевший наискось, через грудь, автомат. Передернула затвор и, сделав два глубоких вдоха, вышла в траншею. Немец достал запал и, ввинчивая его в гранату, выглядывал в проход. Ольга крикнула – Эй, ты, сволочь! – и немец оглянулся. Он смотрел удивленно и через секунду взгляд его стал сосредоточенным и злым. Он опустил руку к лежащей на земле винтовке и привстал, и тогда Ольга нажала на курок. Автомат запрыгал в ее руке, и она ухватилась крепче, а немец, успев шагнуть навстречу, упал лицом в землю и граната выпала из его рук. Только теперь, сняв палец с курка, она почувствовала злость, пошла вперед и, наступив на спину убитого без всякого сожаления, перепрыгнула через его ноги. Она выглянула в проход, увидела вход в блиндаж и тело красноармейца, лежащее поперек входа и над ним ствол пулемета. Эй, там, – крикнула Ольга, – не стреляйте! Свои! Никто не ответил и она, крикнув еще раз, – Эй, тут свои! – вышла в проход.
Спина лежащего поперек входа бойца вся была изрешечена, и Ольга хотела уже уйти, но там, в блиндаже, кто-то громко застонал. Ольга перешагнула через убитого и увидела бойца, который лежал, уткнувшись лицом в пулемет в его руках, а ноги его были в крови и под ними натекла большая, черная лужа. Она нашла в углу шинель и расстелила рядом с раненым. С трудом, но все-таки перевалила его на шинель и, ухватившись за ноги, оттянула убитого, освободив проход. Немного отдохнула и сняла с убитого ремень, и ей удалось просунуть его под шинель. Она застегнула ремень на груди солдата, чтобы он не сползал с подстилки и еще немного отдохнула. Потом вздохнула поглубже, взялась за ворот шинели обеими руками и стала пятиться на четвереньках. Солдат оказался тяжелый, и Ольга, повернувшись лицом вперед, клонилась почти до самой земли, а сапоги скользили по каменно-твердой волжской земле. Надо было оставить этот дурацкий автомат в блиндаже. Раненый что-то бормотал и вдруг закричал громко:
– Куда? Куда ты меня? – он очнулся, а она все тянула, надрывая жилы. Не было сил оглянуться, да и незачем, но она все-таки оглянулась, а солдат выворачивал лицо, пытаясь увидеть тащившего его человека, матерился и кричал:
– Куда? Неси меня назад! Неси назад!
И тут Ольга увидела, как он, выпростав руки из под ремня, цепляется за землю, ища уступ или выбоину и пытается вонзить свои пальцы в окаменевшую глину. Она выпустила из рук ворот шинели, упала на колени и заплакала от бессилия, от вспыхнувшей в груди злости и отчаяния. А он все не унимался, и тогда она повернулась, не вставая с колен, и, собрав силы, рванула шинель к себе, так, голова солдата мотнулась резко и оказалась рядом с ней. Он увидел перед собой девушку, и взгляд его стал растерянным, но он повторил уже тише:
– Неси меня назад, пигалица!
Тут уж она разозлилась и ударила его кулаком по груди и закричала:
–Что ты заладил, назад, назад!
– Там блиндаж! Там друг мой Вася!
– Видела я твоего Васю! Решето это, а не Вася!
– Он защищал меня, я его положил и он защищал меня!
– Кабан ты упитанный, вот ты кто!
– Неси меня назад! – не унимался раненый. – Не имеешь права!
– И как ты умудрился отъесться на сухарях, да на пшенке!
– Неси меня назад, или брось тут, я сам доползу!
– Отползался уже! Сволочь, кабан колхозный! Будешь цепляться еще – я врежу тебе! – она замахнулась кулаком. – Я так врежу тебе, что забудешь свой блиндаж! И Васю своего забудешь!
Ольга откинулась назад, спиной к стенке траншеи и заплакала без звука, а солдат смотрел на нее испуганно, но не кулака ее девичьего он испугался, а этих слез, беззвучного плача, хотя не понимал своей вины в этом. Она потащила его дальше, и боец больше не упирался, наоборот, помогал ей, отталкиваясь руками, только, когда она останавливалась для передышки, тихо бормотал: – Ну, девка, ну что ж ты наделала!
Траншея вывела их в глубокий овраг, где уже лежали раненые, и тут только Ольга вспомнила, что не наложила жгут, и, когда она делала это, к ним подошла девочка лет девяти и подала воды в солдатском котелке.
– Откуда здесь гражданские? – удивился солдат. Ольга не знала, она сама наткнулась на них сегодня случайно, когда выносила первого раненого. У него был разворочен живот и сейчас он кричал беспрестанно в землянке, где Пелагея, мать девочки, пыталась ему помочь.
– Что ж ты заладил-то! Блиндаж, блиндаж! Дался тебе этот блиндаж!
Ольга сидела возле раненого, сил совсем не осталось, а надо было возвращаться. Сейчас, полминутки посижу или минутку и пойду. Солдат приподнялся на локте.
– Понимаешь! – заговорил он с жаром. – Я два дня держал наш блиндаж! А ты меня… и теперь немец войдет туда просто так, без выстрела! Понимаешь?! Без выстрела!
– Да отобьем мы твой блиндаж! – попыталась успокоить его девушка.
– Да дело ж не в этом! – раненый опять приподнялся. – Без выстрела войдет! Понимаешь? Просто так!
– Понимаю, еще как понимаю! Ладно, мне пора, а блиндаж твой отобьем!
– Кто отобьет-то! Отбивать уже некому! – засомневался солдат.
– Я скажу нашим – разведчикам, Феликсу скажу Чердынскому!
– А, этот-то да! – сказал солдат с надеждой. – Этот отобьет! Смотри, девка, не забудь, пусть отобьет…
Он уже привык к боли, только почему-то боялся потерять сознание, и обрадовался, когда к нему опять подошла девочка. С ней была женщина, ее мама, но в сумерках лица было не разглядеть. Она подложила под его голову что-то мягкое, а он спросил:
– Что ж вы тут делаете? Что ж не эвакуировались? С ребенком-то!
Женщина ничего не ответила, спросила девочку, напоила ли раненого и повернулась, чтобы уйти, а солдат сказал зло:
– Скажи, этому… пусть не орет, и так тошно!
– Орет, не орет! Тяжелый он, не жилец! А ты… Сердца в тебе нет!
– Какое сердце? – отвечал солдат. – Какое тут сердце, мать? По мясу ходим!
– Какая я тебе мать! – разъярилась вдруг женщина. – Мать! Мне и тридцати еще нет! А скажи ка мне ты, русский солдат, как ты немца до Волги допустил? До самой Волги! Мать я ему! По мясу он ходит, герой! А мы тут по коврам персидским ступаем…
Зря держался, подумал солдат, лучше бы быть без сознания, чтоб не слышать таких слов и закрыл глаза. Чертова баба! Лучше бы эта пигалица врезала мне так, чтобы я… нет, кулачок у нее чуть больше воробья. Лучше б мне прострелило оба уха, чем эти чертовы ноги, только б не слышать эти слова. Лучше б мне лежать рядом с Васей… И эта чертова пигалица, и как она умудрилась меня дотащить, во мне шесть пудов, не считая сапог, да две гранаты в карманах. Куда она дела мои гранаты, чертова девчонка? Пошвыряет в немцев, а что, с нее станется.
Девочка присела рядом с ним, и он еще попил из котелка – про запас, а она стала рассказывать, как бы отвечая на его вопрос:
– Просто мама боится через Волгу переправляться. Она раньше, до войны на пристани работала, я к ней приходила, там интересно было. Когда город стали бомбить, такое стало твориться! – девочка как-то по-взрослому приложила ладонь к щеке. – Беженцев наехало, просто тьма тьмущая. Сначала брали только детей, а потом всех без разбору. По тыще человек на пароход! А немцы как начали бомбить, как налетели! Вот! И пароходы и баржи все стали тонуть, ну и люди тоже. Мама тогда стала бояться. А вода в Волге красная стала. Вот и решила остаться тут, и меня не отпустила.
– А тебя-то почему?
– Ну, она говорит, что если я погибну на переправе, то ей тоже не жить. А если она погибнет, то я не выживу. Поэтому надо вместе выживать или погибать.
– Как так? Нельзя тебе погибать! Дети не должны погибать!
– Так ведь война! – ответила девочка, и подумала, что все-таки взрослые люди не такие умные, как стараются казаться. – На войне все погибают, и дети, и взрослые. На, попей еще, а то вода кончается. Я за водой только ночью пойду.
– Так ты и за водой ходишь? А почему ж мать не ходит?
– Я же маленькая, – сказала девочка, – меня в траншее снайпер не видит.
Было уже темно, когда закончился бой, и Ольга спустилась в овраг к землянке. Раненого там уже не было, и дочка Пелагеи сказала ей, что его унесли санитары, и он сильно матерился, когда они уронили его. Она держала за руку девочку лет четырех-пяти и когда Ольга присела к ней, малышка спряталась за спину старшей девочки и смотрела оттуда испуганно.
– Сестренка твоя? – спросила Ольга.
– Нет! Это соседкина дочка, Наденька. Когда немцы пришли, они остались там, в Верхнем поселке, а потом они прятались на Тракторном заводе. А когда начались бои на заводе, ее немцы поставили в окне перед пулеметом, ну, чтоб наши в них не стреляли. У нее ножки обожжены, пулемет ведь нагревается, когда стреляет. Надю наши солдаты отбили у немцев, а маму ее немцы убили.
– Девочка моя! – сказала Ольга, и притянула ребенка к себе. – Скоро все закончится! Война не будет идти долго! Скоро все закончится и мы с тобой уедем! В Москву! Хочешь в Москву?
– Она не разговаривает теперь, – сказала старшая девочка, – разучилась. Потом это пройдет, она же понимает все. Это называется шок!
– И откуда ты все знаешь? Зовут то тебя как, знайка?
– Аня меня зовут. Я тут всех знаю, и меня все знают, а ты новенькая, с баржой прибыла, больше баржи не будет, хорошо, если бронекатера будут приходить, а ты живешь у разведчиков и у тебя есть радио. Видишь, я все знаю.
– Я тебя заберу!– сказала Ольга Наде, – Ты мне веришь? – и девочка кивнула головой. – Скоро все кончится, и я тебя заберу!
Глава 12
Он очнулся от боли, когда его укладывали на операционный стол. Нина Гордеева разрезала его сапоги и аккуратно сняла их, так, что он и не почувствовал, потом разрезала ватные брюки и ему было стыдно, и он рукой натягивал вниз исподнее. Медсестра засмеялась и стала обрабатывать раны, было больно, но терпимо. Она выбросила использованные тампоны в ведро и сказала:
– Сейчас, солдатик, потерпи! Софья Михайловна! – сестра посмотрела в сторону и замолчала, а он, приподнявшись на локтях, проследил за ее взглядом, и увидел женщину в белом, забрызганном кровью халате, сидевшую на стуле у стены. Военврач третьего ранга Пащенко Софья Михайловна спала, склонив голову набок, меж длинных пальцев дымилась папироса, а в уголке открытого рта скопилась слюна и стекала по подбородку тоненькой струйкой.
– Третьи сутки на ногах, шестьдесят две операции! – сказала Нина, и направилась было к ней, но солдат остановил ее громким шепотом:
– Не буди, пусть поспит! – и уважительно покачал головой.
Через несколько минут Пащенко проснулась сама, укорила медсестер, что не разбудили, и подошла к операционному столу. Она стала ощупывать ноги раненого, не глядя на него, а он напрягся, и следил за выражением ее лица. Потом она снова вымыла руки и стояла у стола, подняв их, ждала, когда они высохнут окончательно.
– Доктор! – спросил солдат, волнуясь. – А вы мне ноги выше колена отрежете или ниже?
Софья Михайловна взглянула на него непонимающе, и сказала с улыбкой:
– Не выше и не ниже! Кости не задеты, а железо мы сейчас вытащим!
Боец выдохнул облегченно и, когда она спросила, не налить ли ему спирту, он отказался.
– Мы, сибиряки, терпеливые!
Он попросил что-нибудь вставить ему в зубы, и Нина Гордеева скрутила бинт в тугой жгут, и он крепко сжал его зубами. Ухватился за края стола, чувствуя сквозь простыню шероховатость не струганных досок, и кивнул Софье Михайловне, мол, готов, можете начинать. Он перенес операцию молча, только вздрагивал всем телом, когда было особенно больно, и когда все закончилось, почувствовал, что уже не сможет удержать сознание. Медсестры закончили перевязку, и Нина Гордеева сказала, вытирая пот с его лба:
–Ну, что, солдат! Всё, на левый берег. Там тебя поставят на ноги!
– Как на левый берег? – он силился приподняться, – нельзя мне на левый берег!
– Что ж, без тебя Сталинград не отстоим?
– Отстоим! – ему казалось, что он кричит, а Нина наклонилась, чтобы разобрать шёпот. – Отстоим! Но как же без меня? Без меня никак нельзя!
* * *
29.10.42 г. 18.15 Радиограмма ЧУЙКОВУ, ГУРОВУ, ЕРЁМЕНКО Потери большие. Сил нет. Положение безвыходное. Срочно шлите живую силу или укажите вариант действий. Бой продолжается в траншеях. ГОРОХОВ”.
“30.10.42 10.30 Радиограмма ГОРОХОВУ Приказываю: организовать жесткую оборону и прочно удерживать занимаемый рубеж. Мобилизовать для обороны, уничтожения группировки противника все имеющиеся силы на месте. Примите самые решительные меры по наведению и поддержанию железной боевой дисциплины и порядка. На пополнение в ближайшее время не рассчитывайте. ЧУЙКОВ, ГУРОВ”.
Глава 13
Из дневника лейтенанта Герберта Крауса
“Сегодня был очень тяжелый день. Восемь раз мы ходили в атаку и почти безрезультатно. Танки прорвали оборону русских, но они почти все их сожгли. Пленных мы теперь больше не берем, ибо эти субъекты до последнего стреляют из своих укрытий. Так что тут помогают только ручные гранаты и огнеметы. Всего только еще две маленькие частицы города в руках русских, но и оттуда они будут выкурены.
Наш полк тает, как кусок сахара в кипятке. Большие потери офицерского состава, нет уже ни Отто, ни Курта, ни Эрнста, – никого из "стаи неистовых", их зарыли где-то здесь, в этой каменной земле. До сих пор нам не удалось поднять бокал за Волгу, который Отто хотел выпить еще в августе. Рядовой состав также сменился почти полностью. Тех солдат, с кем я вступил в этот проклятый город, осталось четырнадцать человек.
Мы закрепились в русских траншеях, но солдаты боятся спать. Эти собаки могут напасть в любое время.
Сталинград – это ад на земле. Русский здесь, на северной окраине города, очень крепко держится и защищается упорно и ожесточенно. Если нам удается днем продвинуться вперед на десять метров, ночью они отбивают их обратно. Впрочем, скоро и этот последний кусочек земли будет взят, хотя русский солдат очень упорен и вынослив.
Сегодня утром опять обнаружили двоих солдат с перерезанным горлом. Дело рук русских диверсантов, конечно. Но это не повод для паники, просто плохо поставлена служба – солдаты спят на посту. Кто-то распространяет слухи о появлении какого-то черного призрака. Чушь!
Опять приходил Хохенштауф и с ним этот неприятный тип – Раупах. У него шрам на щеке и я все время смотрел на этот шрам, чтобы не видеть его глаз. Бесцветные и как будто стеклянные. По-моему, ему убить человека проще, чем таракана раздавить.
Мы выпили коньяку, и когда Хохенштауф доставал бутылку из чемодана, я видел там русскую форму. Конечно, у них своя работа. Он обмолвился, что скоро они пойдут к русским с диверсионным заданием, и что если обезглавить командование «егерской группы Горохова», то русские долго не продержатся. Что-то слишком он откровенен со мной. Хотя, не думаю, что он может замышлять против меня какую-то подлость, ведь он аристократ. У него какое-то птичье лицо, вернее, глаза. Да и имя у него птичье – Гейер! ( по-немецки – коршун, стервятник). Ему здесь не с кем общаться, мало образованных людей. Думаю, мы с ним подружимся”.
Лейтенант Краус убрал тетрадь в ранец, потому что в дверь постучали, и кто-то вошел в тамбур, отделенный дощатой перегородкой. Гюнтер возражал кому-то, и Краус крикнул денщику, чтобы тот пропустил гостя. Вошел Хохенштауф и Краус поднялся с кровати.
Гюнтер подал им ужин и лейтенант отпустил его проведать земляков в саперном батальоне, сказав, что тот может не спешить с возвращением. Хохенштауф достал из оставленного накануне чемодана початую бутылку коньяка, вытащил пробку и налил в стаканы. Они выпили без тоста, и граф сказал:
– Слушай, Герберт, давай перейдем на ты, мы ведь почти ровесники, и забудь, что я старше тебя по званию. Договорились?
– Хорошо! – согласился Герберт. – Тебя что-то тревожит? У тебя вид очень озабоченный.
– К черту все заботы! Давай еще выпьем! За победу! Ты веришь в победу?
– Конечно, верю! Да, есть трудности, но мы преодолеем их. Ничто не устоит перед силой немецкого оружия!
– А я не верю! – заявил вдруг Хохенштауф, когда они выпили, чем поверг Крауса в замешательство. – Да, Герберт, не верю.
– Почему же ты воюешь? Почему ты здесь?
– Наверное, ты ждешь, что я отвечу, что я солдат и это мой долг! И что я дал присягу фюреру! Все это чушь собачья! Есть у меня свои причины, но о них как-нибудь потом.
– Для меня все ясно! – лейтенант разволновался. – Мы выполняем великую миссию! Мы несем цивилизацию варварским народам!
– Чушь! – сказал граф. – Мы несем смерть и разрушение! Вот в этом-то и состоит наша миссия.
– И все-таки, Гейер, почему ты не веришь в нашу победу?
– Если хочешь, я объясню тебе. Но тогда слушай внимательно и не перебивай. Да, мы выполняем некую миссию. Да, немецкий солдат – лучший в мире. Но русский солдат не менее храбр, я думаю, ты убедился в этом на личном опыте.
– Не отрицаю, это так. Мне непонятно их упорство, даже фанатизм.
Хохенштауф наполнил стаканы и продолжил: – За что воюет немецкий солдат? Если отбросить всю эту пропагандистскую чушь, то ответ будет короткий. За кусок земли, который он надеется получить после победы. За рабов, которые будут работать на этой земле, кормить и развлекать его. То есть, за большой, жирный кусок свинины. А за что воюет русский солдат? Он защищает свою родину! Давай, выпьем!
– Идем дальше! Что такое родина для немца? Это земля, территория, на которой находится его дом, кирха и мэрия. Для немца родина – понятие географическое! Так вот! – продолжил Хохенштауф, закуривая. – Что такое родина для русского? Родина для русского – это живое существо. Ты видел русские листовки? Там изображена женщина в красном платке и рабочей телогрейке и надпись! Ты ведь неплохо знаешь русский язык и читал эти слова. Напомнить, Герберт! Там написано – Родина-мать зовет! Мать – понимаешь? Так вот, сейчас эта суровая женщина стоит за спиной каждого русского солдата! И поэтому они не уйдут отсюда!
– Но мы их всех уничтожим! Их осталась горстка на этом пятачке, там едва наберется тысяча солдат.
– Да, может и того меньше. Против пяти наших полнокровных дивизий. Уничтожим одних – придут другие. Вырастут из земли.
– У русских уже нет резервов. Я слушаю радио, об этом говорят все радиостанции. Они истощены, и последние из них держатся на фанатизме, на большевистской пропаганде.
– Слушай радио, но знай! То, что говорят Геббельс и Гитлер – вранье. Они оба врут! Но это необходимое вранье, это нужно, чтобы поддержать в немецком солдате его веру в победу. И еще совет – слушай русское радио. Сейчас только большевики говорят правду.
– Конечно, Гейер, ты имеешь право на свою точку зрения. Но ты слишком откровенен и это опасно. Сейчас в каждое подразделение прислали СС-овцев. Они вынюхивают и доносят, уже даже расстреливают неблагонадежных.
– Не бойся за меня! То же самое я говорил фюреру, и он во многом согласен со мной. Не удивляйся. Я, конечно, не являюсь его личным другом, но пользуюсь его полным доверием, и я это доверие оправдываю. Правда, его последнее задание мне не удалось выполнить. И завтра у меня будет не простой разговор с ним. Скоро придет машина за мной, так что я тебя не задержу.
– Ты можешь остаться у меня, поедешь завтра. – предложил Краус, ему было жаль расставаться с интересным собеседником и, к тому же, он уже чувствовал некое расположение к Хохенштауфу. Такое чувство бывает, когда зарождаются первые ростки дружбы.
– Спасибо, Герберт! С удовольствием принял бы твое предложение, и мы бы крепко выпили и поговорили. Мне надо кое-что выяснить, подготовиться к разговору с фюрером. Если ты не возражаешь, то мой чемодан пока побудет здесь? Кстати, могу оставить тебе бутылку коньяка. Не отказывайся, у меня есть еще.
Хохенштауф поднялся, когда раздался сигнал машины, и Краус вышел проводить его. Прощаясь, Хохенштауф вдруг спросил лейтенанта:
– Ты что-нибудь слышал о русском, которого называют Ястреб? Это его позывной, вы ведь тоже слушаете эфир?
– Да, о нем упоминал как-то гауптман Зидель, командир танкового батальона. И артиллеристы называли этот позывной. По-моему, этот Ястреб доставляет им немало хлопот!
– Не только им, дружище! И вам – пехоте, и мне! Когда будете допрашивать пленных, тех, кто что-то знает об этом Ястребе, отправляй ко мне. Договорились?
Глава 14
Полковник Горохов еще раз перечитал составленное им донесение в штаб Сталинградского фронта и передал комиссару Липкинду:
– Не слишком ли длинно? Как считаешь?
– Да вы что, Сергей Федорович! Наоборот, надо подробнее информировать командование армии и фронта, пусть знают обстановку. Ты бы видел мои рапорты в Политотдел – на два листа иногда выходит.
– Так-то оно так. Но все-таки, мне кажется, длинновато. Не люблю я просить, а тем более жаловаться.
Положение в Северной группе войск было тяжелейшее, немцами были заняты все высоты вокруг обоих поселков, так что весь обороняемый плацдарм был у них как на ладони и простреливался вдоль и поперек. Волга также простреливалась, и переправа работала только в ночное время, но и ночью не всегда удавалось бронекатерам прорваться. Личный состав редеет с каждым днем, с каждой атакой. Боец на передовой должен видеть соседа, должен чувствовать, знать, что он не один, иначе не устоит.
Горохов снова перечитал донесение и, вычеркнув казавшееся ему лишним, переписал набело.
Радиограмма полковника Горохова:
“01.11.42 г. ЕРЁМЕНКО ХРУЩЁВУ ЧУЙКОВУ ГУРОВУ Положение очень тяжелое. Простреливаюсь со всех сторон. Бойцы устали. Убыль не восполняется. Ежедневно отбиваем многократные атаки большим напряжением. Нужна срочная помощь живой силе, технике, боеприпасах. Укажите дальнейшую перспективу. ГОРОХОВ.”
* * *
Командующий Сталинградским фронтом генерал Еременко А. И. просматривал сводки, поступившие за ночь, отмечал на карте изменения в положении 62 армии и мучительно думал о том, где взять резервы? Наспех сформированные в Сибири и на Дальнем востоке части еще были в пути, в Казахстане уже все выбрали – где же взять?
Когда в кабинет вошел член Военного Совета Хрущев, зазвонил телефон правительственной ВЧ связи, как будто ждал его прихода. Хрущев остановился у порога, предоставив командующему ответить на звонок, и в глазах его была надежда – авось, пронесет!
Еременко поднял трубку, встал, услышав голос И. В. Сталина и, отвечая на вопрос в глазах Хрущева, кивнул утвердительно. Сталин коротко поздоровался и прервал доклад генерала вопросом:
– Вы были в 62 армии, в Сталинграде?
– Никак нет, товарищ Сталин! – Еременко смотрел, как засуетился Хрущев, доставая какие-то бумаги из папки, и сказал с заминкой:
– Пока нет возможности, товарищ Сталин!
– Обязательно побывайте, изучите обстановку на месте, товарищ Еременко. Где Хрущев?
Особенностью ВЧ-связи был сильный звук, и все слышавший Никита Сергеевич, при этих словах оглянулся непроизвольно на дверь, подбежал, мелко семеня и, взяв трубку из рук генерала, вытянулся по стойке смирно, насколько это было возможно при его оплывшей фигуре. Еременко, невольно отметив во взгляде Хрущева некую затравленность, какая бывает у загнанного в угол зверька, отошел от стола, но все-таки слышал весь дальнейший разговор.
– Слушаю, товарищ Сталин! – лицо Хрущева расплылось в подобострастной улыбке, как будто он был уверен, что Верховный видит его в этот момент. Он бодро начал было доклад:
– Обстановка на Сталинградском фронте…, – но Сталин прервал его и спросил жестко:
– Почему плохо снабжаете Северную группу полковника Горохова?
– Товарищ Сталин! – Хрущев растерялся, не зная, что ответить, потом выдавил, оглядываясь на Еременко – слышит ли? – продовольствие сегодня же отправим! Но людей нет, все резервы выбрали!
– Северная группа войск задыхается без должного снабжения! Трубка замолчала, и командующий фронтом видел, как по спине Хрущева, по ткани пиджака расползается темное пятно пота.
– Ты коммунист! – сказал Сталин, и Еременко похолодел от стали в голосе вождя. – Ты коммунист! – повторил Верховный после паузы. – Найди, где хочешь!
Никита попятился и, нашарив сзади рукой спинку стула, упал на него, но тут же вскочил на ослабевшие ноги, услышав в трубке потрескивание.
– Ты нам еще за сына не ответил! – сказал Сталин и связь прервалась.
Хрущев протянул трубку генералу, хотя сам стоял у аппарата, и Еременко поразился его взгляду, столько в нем было ненависти. Был слух, что сын Хрущева перелетел на своем самолете к немцам и теперь сотрудничает с ними. Никита вытер лысину, выжал пропитанный потом платок себе под ноги и забегал по кабинету, бормоча трясущимися губами:
– Где взять? Где же взять людей, а?
– Да успокойся ты, Никита! – Еременко старался не смотреть на Хрущева, чтобы не видеть его истекающую потом лысину, трясущиеся руки и панический ужас в глазах. – Ты иди, я сам проведу совещание. Придумаем что-нибудь!
– Что придумаем? Сейчас надо думать!
– Есть одна мысль! – сказал командующий фронтом и Никита остановился, в глазах его загорелась надежда, и он подбежал к Еременко.
– Надо звонить соседям, в обкомы. – командующий имел ввиду обкомы партии соседних областей. – Пусть помогут! Хрущев махнул безнадежно рукой, – Уже помогали! Ничего не дадут!
– Знаю! – сказал Еременко. – Партийный резерв.
Никита смотрел непонимающе.
– Пусть мобилизуют коммунистов и комсомольцев в райкомах, горкомах! И еще. Пусть снимут бронь на заводах! Добровольцев будет много!
– Все! Так и сделаем! – появилась надежда, и Никита оживился, лысина высохла и щеки зарумянились. – Проводи совещание без меня! А я пойду звонить!
* * *
Поздним вечером, когда отгремела последняя атака, и начштаба подполковник Черноус готовил сводку за истекший день, изучая донесения командиров подразделений, узел связи Северной группы получил ответ на отправленную утром радиограмму.
Радиограмма в штаб 124-й дивизии: “ГОРОХОВУ По приказу Ставки вашим обеспечением занимаюсь лично. ХРУЩЕВ.”
После короткого совещания штаб Северной группы принял решение ознакомить с содержанием радиограммы весь личный состав боевого участка, и комиссар Липкинд, прихватив с собой капитана Студеникина и старшего лейтенанта Чупрова, отправился на передовую.
Глава 15
В тот вечер Нина Гордеева решила развеяться, и пошла с Ольгой, когда та собралась к разведчикам.
– С утра до ночи кровь да кровь, бинты да шприцы, надо же мне отвлечься! Воздухом подышать! – сказала она подруге и, когда они шли вдоль обрыва, Нина все никак не могла надышаться свежим, без запаха крови, волжским воздухом. Ночь была безлунной, и тишина кругом была удивительная, даже в центре Сталинграда, где бои не прекращались и ночью, установилось на короткое время затишье.
– Что-то ты, подруга, не вылезаешь от разведчиков, а? – Нина обняла Ольгу за плечи. – И в санчасти редко появляешься? Признавайся!
– Так ведь мое место там, я же радистка, я к разведгруппе приписана.
– Кого ты обмануть хочешь! Ладно, он человек надежный, только суровый уж очень, твой старшина!
– Так ведь война! Ты вот тоже суровая с ранеными. И с чего ты взяла, что он мой? Я вообще не думаю о нем! Он же старый, да и женатый, наверное!
– С ранеными я не суровая, я строгая! С ними нельзя по-другому, а не то разнюнькаются, возись потом с ними. А старшина твой не старый, для тебя в самый раз. И не женатый. Был женат, да она развелась с ним, как только война началась.
– Откуда ты знаешь? Он, что, сам тебе рассказал?
– Такой расскажет! Из такого клещами не вытянешь! А знаю я по профессии своей. Раненые под скальпелем всякое рассказывают, как на исповеди, и про себя и про других!
– Что ж она так, не могла до конца войны подождать? – удивилась Ольга.
– Это она тебе, дурочке, подарок сделала! Смотри, не проворонь свое счастье! Война когда еще кончится, неизвестно, а жить надо сейчас!
– Да ну тебя, – сказала Ольга смущенно, – и вообще, ему, наверное, другие девушки нравятся. Такие, как ты! Ты такая видная, и такая, – Ольга показала сжатый кулак, – с хар-р-рактером! А что я, я неприметная, все у меня самое обычное, и глаза и нос, и брови и все другое.
– Эх, подруга, ничего-то ты не понимаешь в мужской психологии. А ты… я тебе скажу. Запомни и вбей в свою головку! – Нина остановилась и положила руку на плечо подруги. – Мужики действуют в одиночку, а умная женщина, как целая дивизия. Дивизия особого назначения! Твои глаза – это дальнобойная артиллерия, а брови – штурмовая авиация!
– Ага, а нос? Куда денешь такой нос?
– А носик твой, это танковый батальон, но всем этим надо уметь пользоваться. Вводить в бой в нужное время и в соответствующей обстановке. Стратегия. Понимаешь?
– Не очень, – призналась Ольга. – А веснушки, они не очень заметные, но их-то куда я дену? Они не выводятся, хоть тресни вдребезги!
– Эх, дурочка, – тяжело вздохнула Нина, – веснушки – это твой медсанбат. Ты его подбила дальнобойной артиллерией, ударила по флангам танками, и у него другого выхода нет, только в медсанбат – сердечные раны залечивать. И тут вступает в бой кавалерия! – Нина приподняла руками свою высокую грудь.
– Ну, с кавалерией в моей дивизии совсем беда, – засмеялась Ольга.
– Ничего ты не понимаешь, детка, – сказала Нина, – если твоя дальнобойная артиллерия бьет точно и авиация при поддержке танков действует умело, то твои два жеребеночка для побежденного неприятеля становятся, как Первая конная армия Буденного! Понимаешь?
– Это все интересно, но я в такой стратегии ничего не понимаю, – сказала Ольга, – я такому вряд ли научусь. У меня нет таких данных, как у тебя.
– Эх, учить тебя еще да учить, – вздохнула Нина. – Ладно, это потом, а сейчас меня другое интересует. Есть там у вас сержантик, чернявый такой!
– А, железный Феликс! – обрадовалась Ольга, – он тебе нравится? Ты поэтому со мной напросилась?
– А почему – железный? – удивилась Нина. – и вообще, его, по-моему, Федором зовут?
– Железный, потому что, Санька говорит…
– Санька, это белявый, у которого лицо – Лев Толстой в молодости?
– Да, точно. Так вот, он говорит, что с Чердынским в бою или в разведке – надежней нету. Потому и железный!
– А надо, чтоб в семье надежней не было! Пойдем, будем брать вашего железного Феликса с помощью артиллерии и кавалерии.
Теперь они сидели за столом, в тепло-натопленном блиндаже, в начале ноября уже по ночам было холодно, и Ольга подивилась солдатской смекалке – в спрессованной волжской земле, в стене блиндажа Николай Парфеныч вырубил прямоугольную нишу и, неизвестно каким образом, умудрился вставить железную трубу, и на огне пофыркивал закопченный чайник. Нина выставила на стол фляжку с медицинским спиртом и, когда села рядом с Чердынским, тот повел плечами вперед-назад, и весь напружинился, подобрался, как легкоатлет перед стартом, подумала Ольга.
Хотя Чердынский был категорически против, сержант Загвоздин разбавил спирт водой, разлил по кружкам, и все выпили, а Ольга лишь чуть пригубила. Испортил напиток, сказал Чердынский, но для Чукотки в самый раз.
Разведчики не сразу заметили, когда в блиндаж вошли офицеры, и встали, когда старший лейтенант Чупров, нарочито громко покашляв, сказал:
– Так, пьянку организовали на боевом участке!
– Да какая пьянка, товарищ старший лейтенант! – сказал Чердынский. – Водочное довольствие уже забыли, когда выдавали!
Капитан Студеникин, стоявший за спинами Чупрова и комиссара Липкинда, погрозил ему кулаком, а комиссар поздоровался со всеми, сделав шаг вперед, и, оглянувшись на Чупрова, сказал:
– Ладно, ребята боевые, порядок знают! – он собирался сказать что-нибудь торжественное, значительное, но Санька не дал ему такой возможности.
– Товарищ комиссар, когда же помощь будет? Ни жратвы, ни пополнения, как воевать-то?
– Ну, Саватеев! Ну, дорогуша! – Студеникин протиснулся бочком между офицерами и собрался уже отчитать солдата, но Чупров опередил его.
– Да, старшина Арбенов, совсем разболтались у тебя люди! Раздисциплинировались! – сказал он Камалу. – Ну, ничего, вот отобьемся, я вам устрою службу, будете на площади Дзержинского перед Тракторным заводом строевой шаг отрабатывать!
– Так Тракторный еще взять надо! – сказал Чердынский. Студеникин при таких словах отступил на свое прежнее место и оттуда подавал знаки Арбенову, чтобы он унял своих людей.
– Вопрос правильный, товарищ комиссар! – сказал старшина. – Снабжения нет, пополнения не даете, и, главное, боезапас на исходе! Как прикажете воевать? Немцы собирают силы для удара, люди могут не выдержать!
– Ну, что ты панику разводишь, старшина? Будет помощь, будет, товарищи! – сказал Липкинд, расстегнул висевший на боку планшет, достал тетрадь, полистал ее, вынул оттуда листок с радиограммой и протянул Арбенову. Тот быстро пробежал глазами и передал Загвоздину. Офицеры ждали, когда все прочтут, и, когда очередь дошла до Саньки, он поднял радиограмму над головой и закричал:
– Не-е, вы видите? По приказу Ставки! Занимаюсь вашим снабжением лично! Сам Сталин приказал! Я же говорил, что он был здесь!
– Да-а! – протянул Чердынский, передавал листок Ольге, и сказал громко и зло, глядя комиссару в глаза:
– Пока Сталин не пнет под зад, ни одна сука не пошевелится!
Комиссар растерянно оглянулся на Чупрова, и тот шагнул к сержанту вплотную.
– Младший сержант Чердынский! Да за такие слова!
Младший сержант не отвел взгляда и под смуглой кожей на его щеках взбугрились желваки, и старшина Арбенов, отодвинув Чердынского плечом, положил руку на плечо Чупрову и сказал примирительно:
– Да, ладно, Степан! Выпил немного парень, погорячился, с кем не бывает! Сам понимаешь, устали люди!
– Выпил, говоришь! Кстати, военфельдшер Гордеева, думаете, я не понял, что это вы их спиртом снабдили? Разбазариваете военное имущество!
Нина встала, расправила плечи, и все замолчали, а она подошла к зам начштаба и сказала, глядя ему в глаза и разделяя каждое слово:
– У тебя своя работа, Чупров, а у меня своя, и ты в мои медицинские дела нос не суй, я там сама разберусь. И пусть товарищ комиссар ответит на вопрос, – Нина переела взгляд на Липкинда, – когда помощь будет? Если помощи нет, почему бы вам не переправиться на левый берег и не стукнуть по столу в этом чертовом штабе фронта!? Или кишка тонка?
– И вообще, по какому поводу праздник? – сменил тему Липкинд, не найдясь, что ответить, и Ольга снова восхитилась своей подругой, ее несгибаемым хар-р-рактером. Вот бы и мне так!