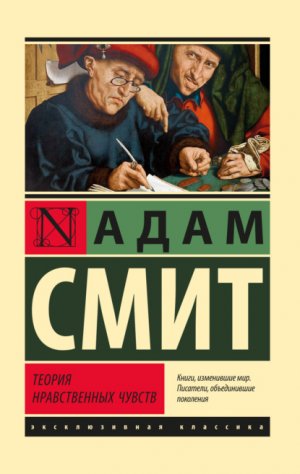
© ООО «Издательство АСТ», 2022
Предуведомление автора
Со времени первого издания «Теории нравственных чувств» в начале 1759 года я увидел необходимость множества исправлений и более подробного развития положений, высказанных в этом сочинении. Но до настоящей минуты я не мог пересмотреть его с той внимательностью и заботливостью, с какой я хотел сделать это, вследствие различных обстоятельств моей жизни. Главные изменения в этом новом издании сделаны мною в последней главе третьего отдела первой части и в четырех первых главах третьей части. Шестая часть, в том виде, в каком она представлена в этом издании, написана мною заново. В седьмой части я соединил почти все о стоической философии, что было разбросано в различных местах первого издания. Я старался также изложить с большей подробностью и подвергнуть более глубокому исследованию некоторые части учения этой знаменитой школы. В последнем отделе седьмой части я собрал многие замечания, относящиеся к обязанности быть правдивым. В остальных частях сочинения читатель найдет немного изменений.
В последнем параграфе первого издания я обещал публике изложение общих оснований законодательства, правительственного управления и исторический взгляд на изменения, сделанные в различные периоды общественного состояния в основаниях как относительно финансов и военных сил, так и относительно управления вообще, и всего, что составляет предмет собственно законодательства. Обещание мое я стараюсь исполнить в «Исследовании о природе и причинах богатства народов», по крайней мере, что касается управления, финансов и военного устройства. Что же касается теории юриспруденции, то до настоящей минуты я не мог исполнить моего обещания по тем же причинам, которые не дозволяли мне пересмотреть и «Теорию нравственных чувств». Хотя, в силу моего преклонного возраста, я имею только слабую надежду на исполнение такой важной работы в том виде, как я задумал ее, тем не менее, так как я не отказался от этого намерения и так как я желаю посвятить все свои силы его исполнению, то я оставил параграф в том виде, в котором я заявил об этом тридцать лет тому назад, когда я нисколько не сомневался, что исполню все обещания, сделанные мною публике.
Часть I. О Приличии, свойственном нашим поступкам
Отдел I. О чувстве приличия
Глава I. О симпатии
Какую бы степень эгоизма мы ни предположили в человеке, природе его, очевидно, свойственно участие к тому, что случается с другими, участие, вследствие которого счастье их необходимо для него, даже если бы оно состояло только в удовольствии быть его свидетелем. Оно-то и служит источником жалости или сострадания и различных ощущений, возбуждаемых в нас несчастьем посторонних, увидим ли мы его собственными глазами или же представим его себе. Нам слишком часто приходится страдать страданиями другого, чтобы такая истина требовала доказательств. Чувство это, подобно прочим страстям, присущим нашей природе, обнаруживается не только в людях, отличающихся особенным человеколюбием и добродетелью, хотя, без всякого сомнения, они и наиболее восприимчивы к нему.
Оно существует, до известной степени, в сердцах самых великих злодеев, людей, дерзким образом нарушивших общественные законы.
Так как никакое непосредственное наблюдение не в силах познакомить нас с тем, что чувствуют другие люди, то мы и не можем составить себе понятия об их ощущениях иначе, как представив себя в их положении. Вообразим, что такой же человек, как и мы, вздернут на дыбу, – чувства наши никогда не доставили бы нам понятия о том, что он страдает, если бы мы не знали ничего другого, кроме своего благого состояния. Чувства наши ни в коем случае не могут представить нам ничего, кроме того, что есть в нас самих, поэтому только посредством воображения мы сможем представить себе ощущения этого страдающего человека. Но и само воображение доставляет нам это понятие только потому, что при его содействии мы представляем себе, что бы мы испытывали на его месте. Оно предупреждает нас в таком случае об ощущениях, которые родились бы в нас, а не о тех, которые испытываются им. Оно переносит нас в его положение: мы чувствуем страдание от его мук, мы как бы ставим себя на его место, мы составляем с ним нечто единое.
Составляя себе понятие о его ощущениях, мы сами испытываем их, и, хотя ощущения эти менее сильны, все же они до некоторой степени сходны с теми, которые испытываются им. Когда его муки станут таким путем свойственны нам, мы сами начинаем ощущать страдания и содрогаемся при одной мысли о том, что он испытывает, ибо, подобно тому как в нас возбуждается тягостное ощущение действительным страданием или несчастьем, таким же точно образом и представление, созданное нашим воображением о каком-нибудь страдании или несчастье, вызывает в нас такое же ощущение, более или менее тягостное в зависимости от живости или слабости нашего воображения.
Очевидно, стало быть, что источник нашей чувствительности к страданиям посторонних людей лежит в нашей способности переноситься воображением на их место, в способности, которая доставляет нам возможность представлять себе то, что они чувствуют, и испытывать те же ощущения. Когда мы видим направленный против кого-нибудь удар, готовый поразить его руку или ногу, мы естественно отдергиваем собственную руку или ногу; а когда удар нанесен, то мы в некотором роде сами ощущаем его и получаем это ощущение одновременно с тем, кто действительно получил его. Когда простой народ смотрит на канатного плясуна, то поворачивает и наклоняет свое тело из стороны в сторону вместе с плясуном, как бы чувствуя, что он должен бы был поступать подобным образом, если бы был вместо него на канате. Впечатлительные люди слабого сложения при взгляде на раны, выставляемые напоказ некоторыми нищими на улице, жалуются, что испытывают болезненное ощущение в части своего тела, соответствующей пораженной части этих несчастных. Сочувствие обнаруживается у них такой отзывчивостью, и это сочувствие возбуждается в них вследствие того, что они мгновенно представляют себе, что они сами испытывали бы на месте этих страдальцев, если бы у них была поражена таким же точно образом та же часть тела. Силы этого впечатления на их нежные органы достаточно для вызова того тягостного ощущения, на которое они жалуются. Самые крепкие люди заметили, что они ощущают весьма чувствительную боль в глазах при взгляде на глаза, пораженные страданием, и это потому, что данный орган отличается более нежным устройством у самых крепких людей, чем самый сильный орган у людей, одаренных самой слабой организацией.
В душе нашей возбуждается сочувствие не одними только обстоятельствами, вызывающими страдание или тягостное ощущение. Какое бы впечатление ни испытывал человек в известном положении, внимательный свидетель при взгляде на него будет возбужден сходным с ним образом.
Герои романа или трагедии вызывают в нас одинаковое участие как успехами, так и неудачами; симпатия наша не менее действенна как к тем, так и к другим. Мы разделяем с ними их благодарность к друзьям, остающимся им верными среди опасностей и несчастий; мы проникаемся негодованием к злодеям, оскорбляющим или обманывающим их. Итак, какие бы ощущения ни испытывал человек, такие же ощущения присутствующего непременно предполагают воображаемое представление о том, что он переносит себя на его место.
Под словами «жалость» и «сострадание» мы разумеем ощущение, возбуждаемое в нас страданием другого человека: хотя слова «сочувствие» или «симпатия» тоже ограничивались первоначально тем же значением, тем не менее можно без неудобства употреблять их для обозначения способности разделять какие бы то ни было чувствования других людей.
Симпатия пробуждается иногда непосредственно при одном только взгляде на ощущения других людей. Нередко страсти передаются мгновенно от одного человека к другому, без всякого предварительного осознания того, что изначально вызвало их. Например, достаточно бывает выразительного проявления во взгляде и во внешнем виде человека печали или радости, чтобы возбудить в нас тягостное или приятное ощущение. Смеющееся лицо вызывает в нас веселое душевное состояние; напротив, угрюмое и грустное лицо рождает в нас печальное и задумчивое настроение.
Впрочем, подобное действие не является безусловно всеобщим и не вызывается любыми страстями: среди последних есть такие, внешние выражения которых не только не вызывают у нас никакой симпатии (если мы не знаем возбудившей их причины), но даже возбуждают в нас отвращение и противодействие. Яростный вид разгневанного человека вызывает в нас предубеждение скорее против него, чем против его противника. Так как нам неизвестно, что вызвало его гнев, то мы не можем ни представить себя на его месте, ни возбудить в себе чувство, сходное с тем, что он испытывает. Но мы ясно видим положение человека, против которого направлено его чувство, и насилие, которому тот подвергается со стороны разгневанного человека. Вот почему мы сочувствуем его страху или его негодованию и готовы принять его сторону против того, кто, по-видимому, поставил его в опасное положение.
Если достаточно даже внешних проявлений печали или радости, чтобы мы сами испытали до некоторой степени то или другое, то это объясняется тем, что они возбуждают в нас общее представление о добре или зле, испытываемом человеком, находящимся перед нашими глазами; одного этого уже хватает, чтобы мы разделяли их в большей или меньшей степени. Выражения печали и радости относятся только к испытывающему эти чувства человеку, они не возбуждают в нас, к примеру, возмущения кем-нибудь другим, чьи интересы находились бы в противоречии с интересами этого человека. Стало быть, общего представления о каком бы то ни было добре или зле уже достаточно для возбуждения в нас известной симпатии к человеку, который испытывает их, между тем как общее представление об обиде не возбуждает в нас никакой симпатии к гневу обиженного. Природа как будто научает нас бежать от этой опасной страсти и возбуждает нас против нее, пока мы не узнаем причины, которая ее вызвала.
Само наше сочувствие к чужому горю или к чужой радости весьма слабо, пока нам неизвестно, чем они вызваны: неопределенные жалобы, выражающие одну только грусть страдающего человека, скорее возбуждают наше любопытство к его положению и смутное расположение к нему, чем действительную симпатию. Первый вопрос, с которым мы обращаемся к нему, бывает обыкновенно: «Что с вами?» И хотя до получения ответа мы и испытываем некоторое тягостное ощущение вследствие неопределенного представления о его несчастье, а еще более вследствие беспокойного желания угадать его причину, но собственно наша симпатия почти незаметна.
Итак, симпатия рождается в нас гораздо менее созерцанием страстей, нежели созерцанием ситуации, их возбуждающей. Нередко даже, переносясь мыслью в положение других, мы испытываем чувства, к которым сами они неспособны: в таком случае эти чувства вызываются скорее нашим воображением, чем какой-нибудь симпатией, основанной на действительности.
Бесстыдство, например, или грубость человека заставляют нас краснеть за него, хотя бы сам он и не был в состоянии чувствовать неприличность своих поступков, потому что мы не в силах удержаться от представления, как стыдно было бы нам, если бы мы поступили подобным же образом.
Потеря рассудка представляется нам самым ужасным из всех бедствий, каким подвергается род человеческий.
Даже бесчувственные люди не могут не испытывать самого глубокого сочувствия при взгляде на это величайшее из человеческих несчастий, но пораженный им человек смеется и поет, он остается бесчувственным к собственной участи. Страдания, испытываемые человеком при взгляде на такого несчастного, стало быть, вовсе не возбуждаются мыслью, что безумный может иметь какое-нибудь сознание о своем положении: сострадание вызывается в таком случае одним только представлением, что почувствовал бы наблюдатель, если бы, очутившись в таком несчастном положении, он в то же самое время мог взглянуть на него тем здравым рассудком, каким обладает в настоящую минуту.
Посмотрите на беспокойство матери, встревоженной криками своего ребенка, который внешними проявлениями страдания не умеет еще выразить того, что он чувствует! К мысли, что ребенок ее страдает, что он находится в беспомощном состоянии, она присоединяет собственное сознание о последнем и собственный страх за неизвестный исход болезни. Из всего этого, в силу собственного беспокойства, она создает самое преувеличенное представление о его беспомощности и страдании. А между тем ребенок ощущает только тягостное состояние настоящей минуты, которое ни в коем случае не может быть особенно велико, а в отсутствие предвидения он находит несомненное средство против страха и опасений, которые чаще всего мучают душу человека, так что против них, быть может, окажутся бессильны доводы здравого рассудка и вся его философия, когда он сделается взрослым человеком.
Мы проникаемся сочувствием даже к мертвым и при этом не обращаем внимания на действительно важную сторону их положения: на страшную вечность, ожидающую их.
Напротив, нас занимают исключительно какие-нибудь особенные обстоятельства, поражающие наши чувства, но не имеющие никакого отношения к мертвым. Мы сожалеем, что они лишены солнечного света, что они не видят людей и не могут уже общаться с ними, что они заключены в холодную могилу и предоставлены в добычу червям и разложению; что они будут забыты людьми и мало-помалу изгладятся из воспоминания даже родных, самых близких и дорогих друзей. Мы сожалеем, что недостаточно интересуемся давно уже умершими людьми, мы считаем себя даже обязанными тем большим сочувствием к ним, чем скорее они могут быть забыты.
Пустыми почестями, воздаваемыми памяти их, мы стремимся пробуждать и, так сказать, поддерживать в самих себе печальное воспоминание об их погибели.
Бессилие нашего сочувствия для их облегчения, кажется нам, должно еще более увеличивать их несчастье, а сознание того, что мы ничего не можем сделать для них, бесполезность всего, что обыкновенно облегчает страдания – утешений, любви, дружеских слез, – еще более возбуждает наше чувство о воображаемом их несчастье. А между тем представления эти, разумеется, не имеют никакого отношения к умершим людям и не в силах нарушить глубокого могильного сна их. Грустные и мрачные мысли о судьбе их, создаваемые нашим воображением, объясняются тем, что к постигшей их участи мы присоединяем их сознание о случившейся с ними перемене. На самом деле мы переносимся мыслью в их положение; одушевив, если можно так выразиться, их бездушное тело собственным нашим духом, мы представляем себе ощущения, какие мы испытали бы в таком положении. Все ужасное, вытекающее из нашего предвидения собственного разрушения, создается таким же точно образом химерами нашего воображения: мы томимся всю нашу жизнь несчастьем, которое обратится в ничто, когда нас не станет. Отсюда рождается одна из самых сильных страстей человеческих – страх смерти, отравляющий наше счастье, но зато и полагающий предел людской несправедливости; страх – если и мучающий каждого отдельного человека, то охраняющий и оберегающий общество.
Глава II. Об удовольствии взаимной симпатии
В чем бы ни состояла причина симпатии и каким бы образом ни вызывалась она, ничто не доставляет нам такого удовольствия, как сочувствие к нам, если мы его встречаем в других людях, и ничто так не оскорбляет нас, когда мы не встречаем его. Люди, принимающие себялюбие и утонченные его видоизменения за единственный источник всех наших чувствований, стараются объяснить себялюбием как это удовольствие, так и это оскорбление. Они говорят: так как человек чувствует собственную слабость и необходимость в посторонней помощи, то он и радуется или негодует, когда другие разделяют или не разделяют его чувство, потому что он надеется тогда на их поддержку или страшится встретить с их стороны противодействие.
Однако же в обоих случаях ощущения удовольствия или неудовольствия возникают в нем до того быстро и вызываются таким ничтожным поводом, что, по-видимому, ни те ни другие не возбуждаются личными выгодами.
Человек испытывает неприятное чувство, если, желая позабавить других, замечает, что он один смеется своей шутке. Напротив, если он возбуждает всеобщую веселость, то принимает это согласие между ощущениями прочих людей и своими собственными за весьма лестное для себя одобрение.
Тем не менее удовольствие или нерасположение других людей, усиливающее или ослабляющее его собственное удовольствие, представляет не единственную причину того очарования, которое доставляет симпатия к нему посторонних людей, или того тягостного чувства, которое возбуждается ее отсутствием. Нередко, прочитав какое-нибудь стихотворение, мы не находим никакого удовлетворения, а между тем мы испытываем большое удовольствие, когда читаем это стихотворение другому.
Если последнего оно интересует только как новость, то мы разделяем возбуждаемое стихами любопытство, хотя сами собой мы и неспособны уже на это чувство. Мы смотрим на произведение преимущественно с тех сторон, с которых оно представляется слушателю, а не с тех, с которых сами смотрели на него, и мы радуемся возбужденным им интересом и этим возбуждаем самих себя. Напротив, если стихотворение не удовлетворяет слушателя, то мы недовольны этим и теряем охоту продолжать чтение. То же самое следует сказать о том случае, когда веселое настроение окружающего нас общества усиливает нашу собственную веселость или когда молчание его давит и на нас. Хотя в таком случае приятное или тягостное чувство вызывается в нас, по-видимому, согласием наших ощущений с ощущениями прочих людей, тем не менее одного этого согласия недостаточно для объяснения того, что мы чувствуем. Сочувствие друга в минуту счастья увеличивает мою радость, но его сочувствие в минуту горя не доставило бы мне никакого утешения, если сочувствие это только усиливало бы мое тягостное чувство. А между тем симпатия увеличивает радость и облегчает горе. Она увеличивает радость, открывая для нее новый источник, она облегчает горе возбуждением в нашем сердце единственного приятного ощущения, к которому она тогда способна.
Вследствие этого можно заметить, что мы всегда охотнее поверяем своим друзьям тягостные чувства, чем наши радости, что сочувствие их к первым доставляет нам больше счастья, чем сочувствие ко вторым, и нам гораздо обиднее, если они не разделяют наши страдания, чем если они не разделяют наши радости. Сколько несчастных получают облегчение, если могут найти кого-нибудь, кому они могли бы поверить свои страдания.
Часть их несчастий как будто исчезает в таком случае, и это отмечено выражением «делить горести». Мы не только испытываем тягостное ощущение страдающего человека, сходное с его чувством, но и облегчаем его, как будто берем на себя часть его. Однако же, облегчая его страдание, мы в некотором роде и возобновляем его.
Мы пробуждаем в нем воспоминание об обстоятельствах, причинивших несчастье; мы вызываем в нем более обильные слезы и самые жестокие выражения страдания.
Но это в то же время служит для него утешением и облегчением. Приятное чувство, доставляемое ему тем, что его страдания разделяют, с избытком вознаграждает его за то, что для достижения сочувствия ему пришлось возобновлять и переносить снова свои мучения. Самая жестокая обида, какую только можно нанести человеку, испытывающему горе, – это отказать ему в сочувствии его страданиям. Мы бываем только невежливы, когда не разделяем радости другого человека, но поступаем негуманно, когда бесстрастно выслушиваем рассказ о его страданиях.
Любовь приятна, ненависть же принадлежит к неприятным страстям, а между тем мы охотнее желаем, чтобы наши друзья разделяли нашу ненависть, чем наше расположение к другим людям. Мы легко прощаем их, если они остаются бесчувственны к оказанному нам благодеянию, но мы не переносим их равнодушия к нанесенным нам обидам. Мы меньше оскорбляемся, когда они не разделяют нашей благодарности, чем когда они не сочувствуют нашему негодованию. Мы не сердимся на них, когда они не любят наших друзей, и не очень жалуемся, когда они находятся в дурных отношениях с ними, но нас возмущает, если они находятся в добром согласии с нашими врагами, если они не разделяют нашей ненависти. Любовь и радость удовлетворяют нас и наполняют наше сердце, не требуя посторонней поддержки, между тем как горестные и раздражающие сердце ощущения ненависти и несчастья нуждаются и ищут утешений в нежном сочувствии.
Как человек, лично заинтересованный в каком-нибудь событии, ощущает удовольствие при нашем сочувствии к нему или неудовольствие в случае его отсутствия, так и мы сами бываем довольны, когда можем ему сочувствовать, или недовольны, в случае если не можем разделить его чувств. Мы спешим с выражением симпатии к тому, кто испытывает удачу, и с утешениями к тому, кого посещает несчастье; а удовольствие, доставляемое нам возможностью разделить горе несчастного человека, вознаграждает нас за тягостное ощущение при виде его страданий. Напротив, нам бывает неприятно, когда мы не можем сочувствовать его горю, а возможность не отзываться на человеческие страдания не только не представляется нам привлекательной, но возбуждает в нас недовольство самим собой. Если мы слышим жалобы на несчастья, которые находим преувеличенными, то, переносясь мыслью в положение жалующегося, мы возмущаемся его страданиями, и так как мы не можем сочувствовать им, то смотрим на них как на слабость и малодушие. Таким же образом чрезмерная чужая удача, безграничное счастье возбуждают в нас презрение; так как сочувствие наше не простирается до столь высокой степени, то мы принимаем за безумие или за самообольщение те блага, которые не возбуждают нашего сочувствия. Ничто не вызывает в нас такого неприятного чувства, как шутка, возбуждающая больший смех, чем она того заслуживает по нашему мнению, и если смеются над ней больше, чем мы сами смеемся.
Глава III. Наше одобрение чувствований прочих людей, в зависимости от согласия или противоречия их с нашими собственными чувствованиями
Когда страсти, возникающие в человеке, находятся в полном согласии с нашими собственными страстями, то нам кажется, что они соответствуют вызвавшему их предмету: мы находим их законными и основательными.
Напротив, если, представив себя в положении другого человека, мы не ощущаем в себе его чувствований, то последние кажутся нам несправедливыми и неуместными.
Стало быть, одобрять или не одобрять страсти других людей, находить их уместными или неуместными – для нас то же, что признавать наше сочувствие к ним или несочувствие. Человек, сочувствующий полученным мной обидам и замечающий, что я чувствую их одинаковым с ним образом, непременно признает справедливым мое негодование, а человек, сочувствующий моему страданию, не может не найти его основательным. Если он любуется вместе со мной картиной и делает это сходным со мною образом, то мое восхищение должно показаться ему совершенно естественным и справедливым; если он смеется, как и я, той же шутке, которая забавляет его так же, как и меня, то мой смех должен ему казаться совершенно естественным. Но человек, в котором при подобных обстоятельствах будут возбуждены иные чувства или в иной степени, не одобрит моих чувствований, и это неодобрение будет пропорционально различию между его и моими чувствами. Если мое негодование, мое страдание, мое восхищение, моя радость превосходят то, что испытывает мой друг, то я могу заключить, что он порицает меня, смотря по большему или меньшему несогласию его ощущений с моими ощущениями, но судить обо мне он будет постоянно на основании своих личных ощущений. Поэтому одобрять мнения других людей – значит принимать их, а принимать их – значит одобрять эти мнения. Если какой-нибудь довод убеждает как вас, так и меня, то я необходимо должен быть одинакового с вами мнения, так как оба явления не могут быть мыслимы и существовать один без другого. Итак, не может подлежать сомнению, что одобрять или не одобрять мнения других людей – значит замечать согласие или несходство их мнений с нашими мнениями. То, что мы сказали о мнениях, должно сказать и о чувствованиях или страстях других.
Впрочем, иногда случается, что мы одобряем людей вовсе не вследствие нашей симпатии к их чувствам. Но при внимательном исследовании подобного случая нетрудно увидеть, что и тогда одобрение наше непременно вызывается каким-нибудь сходством в наших чувствованиях. Я специально приведу в пример обстоятельство, не имеющее важного значения, потому что в нем суждение наше реже искажается ложными представлениями. Итак, случается, что мы одобряем шутку и находим возбуждаемый ею смех естественным, хотя сами мы не смеемся вследствие серьезного в ту минуту расположения нашего духа или вследствие сосредоточения нашего внимания на другом предмете, но мы знаем по опыту, что подобная же шутка часто вызывала в нас смех и что настоящая относится к тому же роду. Если, стало быть, мы находим в таком случае основательным и уместным ощущение, не разделяемое нами по причине нашего временного настроения, то это потому, что мы припоминаем случаи, когда мы без всякого затруднения испытывали его.
То же самое случается иногда и относительно прочих чувствований. Мы встречаем на улице незнакомого человека, на лице которого написано самое глубокое огорчение, и мы узнаем, что он только что получил известие о смерти отца. Скорбь его не может не быть признана нами естественной, а между тем может случиться, что, нисколько не нарушая человеколюбия, мы вовсе не станем разделять его жестокого горя и даже не обратим особенного внимания на первые его проявления.
Быть может, мы вовсе не знали ни отца его, ни его самого; занятые другими предметами, мы не имеем досуга дать волю нашему воображению, чтобы оно охватило различные обстоятельства поразившего его несчастья.
Однако же подобная потеря ознакомила нас с глубоким горем, какое вызывается ею: если бы у нас было достаточно времени оценить всю горечь подобной утраты, то мы прониклись бы самой живой симпатией. На этом чувстве основывается признание нами тех страданий, свидетелями которых мы бываем, хотя бы даже симпатия эта и не успела развиться в нас; а общие законы, выведенные нами путем опыта из наших симпатических чувствований, восполняют то, что эти чувствования имеют иногда ложного или неполного.
Чувство, из которого вытекает поступок и которое делает последний добрым или злым, можно рассматривать с двух различных точек зрения: по отношению к вызвавшей его причине и обусловившему его побуждению или по отношению к цели, к которой оно стремится, и к результату, какой будет им достигнут.
В согласии или несогласии между нашими стремлениями и вызывающей их причиной (или предметом) состоит оправдание или осуждение обусловливаемого ими проступка.
Философы последнего времени обращали свое внимание главным образом на цель наших стремлений и упускали из виду зависимость их от вызывающей их причины. Когда мы осуждаем в ком-нибудь чрезмерную любовь, горе или злобу, мы принимаем в расчет не только пагубные последствия чрезмерного чувства, но и недостаточные побуждения, вызывающие его. Мы говорим, что избранный предмет не заслуживает такой любви, что несчастье человека не до такой степени велико или что обида не так жестока, чтобы породить такое сильное чувство. Но мы извинили бы последнее, мы даже одобрили бы его, если бы нашли его соответствующим вызвавшему его побуждению.
Когда мы судим таким образом о чувстве по отношению к вызвавшей его причине, то у нас не имеется другого средства для этого, кроме сходства его с соответствующим ему нашим собственным стремлением.
Если, вообразив себя в таких же обстоятельствах, мы найдем, что они вызвали бы в нас подобные же чувства, то мы признаем их законными и уместными; в противном же случае мы осуждаем их, потому что они не имеют для нас достаточного основания и причины.
Мы судим о способностях других людей по нашим собственным способностям. Я составляю себе понятие о вашем зрении на основании моего зрения, о вашем слухе – по моему слуху, о вашем рассудке – по моему рассудку, о вашей злобе – по моей собственной, о вашей любви – по той, какую я сам ощущаю. Я не имею и не могу иметь другого средства судить о них.
Глава IV. Продолжение того же вопроса
Мы можем одобрять или осуждать чувства другого человека на основании согласия их с нашими собственными чувствами при двух различных обстоятельствах: во-первых, когда мы смотрим на предметы, возбуждающие их совершенно независимо от нас самих и от человека, о чувствах которого мы выражаем наше мнение; во-вторых, когда мы смотрим на них со стороны возбуждаемого ими чувства как в этом человеке, так и в нас самих.
1. Что касается предметов, которые не относятся ни к нам самим, ни к человеку, о чувствах которого мы судим, то, если существует симпатия между его и нашими чувствами, мы одобряем его вкусы и находим его суждения верными. На красоту местоположения, на высоту горы, на роскошное здание, на выразительность картины, на план речи, на поступки постороннего нам человека, на отношения между различными количествами и числами, на разнообразные явления, представляемые нам миром, на вызывающие их причины и скрытые их пружины, на все общие предметы наук и искусств все люди смотрят как на вещи, не имеющие прямого к ним отношения. Каждый из нас смотрит на них одними и теми же глазами; они не служат поводом ни к какому симпатическому движению, ни к воображаемой перемене в нашем положении, пробуждающей симпатию и вызывающей в людях одинаковые чувствования и страсти.
Если некоторые из этих предметов вызывают в нас неодинаковое впечатление, то это бывает вследствие того, что неодинаковые привычки наши не дозволяют нам вникнуть с равной внимательностью в их составные части, или же вследствие того, что не всякий из нас смотрит на них с одинаковой проницательностью.
Если чувствования нашего друга совпадают с нашими собственными по предметам, свойства которых вполне ясны и очевидны, в отношении которых, быть может, никогда еще не расходились мнения, то мы разделяем его убеждения, вовсе не находя, впрочем, чтобы он заслуживал от нас за это похвалы или восхищения.
Напротив, если суждения его не только согласуются с нашими, но еще просвещают нас и дают нам должное направление, если при составлении их он обратил внимание на такие черты, которые ускользали от нашего внимания, и взглянул на них со всевозможных сторон, то мы не только признаем его суждения, но, пораженные и изумленные его умом и проницательностью, мы находим его достойным похвалы и одобрения. Одобрение, усиленное изумлением и неожиданностью, порождает в таком случае чувство восхищения, естественным проявлением которого бывает похвала. Мнение человека, признающего, что безукоризненная красота выше чудовищного безобразия или что два и два составляют четыре, никем не будет оспариваться, но, разумеется, оно и не вызовет ни в ком восхищения. Но тонкое и острое чувство человека, отличающего бесчисленные и неуловимые черты, лежащие на границе между красотой и безобразием; глубокомысленное исследование искусного математика, без всякого труда распутывающего самые сложные отношения; ученый и человек, одаренный высоким вкусом; люди, просветляющие и развивающие наши чувства и наши понятия, – обширные и превосходные сведения их поражают и изумляют нас, возбуждают наше восхищение и вызывают похвалу. Вот особенная причина, вызывающая всеобщее восхищение интеллектуальными достоинствами.
Полагают, что чувство нашего уважения к ним обусловливается главным образом доставляемой ими пользой. Без всякого сомнения, если мы поразмыслим над этим, то окажется, что польза эта придает им большую ценность в наших глазах. Тем не менее, когда мы одобряем чье-либо мнение, то мы делаем это не столько вследствие вытекающей из него пользы, сколько вследствие справедливости, точности этого мнения, его согласия с истиной; и мы, очевидно, приписываем ему эти свойства, потому что разделяем его. Таким же образом мы восхваляем и вкус людей, потому что он здоров, тонок и соответствует своему предмету: мысль о полезности такого рода талантов находится на втором плане, она никогда не составляет главного побуждения нашего одобрения.
2. Что же касается предметов, имеющих ближайшее и прямое отношение или к нам, или к человеку, о чувствах которого мы судим, то наша симпатия к ним и труднее дается, и гораздо важнее для нас. Мой товарищ, естественно, смотрит другими глазами, чем я, на случившееся со мною несчастье или полученную мною обиду. Обстоятельства моего несчастья больше касаются меня: он принимает их иначе, чем я, потому что не смотрит на них с моей точки зрения, как он смотрел бы на картину, на поэму, на философское рассуждение. Но я легче перенесу отсутствие симпатии относительно предметов, которые для нас обоих не имеют значения, чем относительно поразившего меня несчастья или нанесенной мне обиды. Он может презирать эту картину, это сочинение, эту систему, а я восхищаться ими, и это не вызовет никакой размолвки между нами, ибо ни он, ни я не принимаем в них особенно живого участия. Наши мнения могут не сходиться на этом безразличном предмете, и взаимные отношения между нами нисколько не изменятся от этого, но совсем иное происходит в отношении предметов, лично нас касающихся. Я могу находить удовольствие в беседе с человеком, вкусы и мнения которого о различных умозрительных вопросах расходятся с моими, но если он остается бесчувственным к испытываемым мною страданиям, если он не возмущается нанесенными мне обидами, если его негодование не соответствует моему негодованию, то мы не можем вести разговор об этом предмете; ему покажутся дикими мои страстные жалобы, меня же будет возмущать его холодность и бесчувственность.
Во всяком случае, когда может существовать согласие в чувствах между наблюдателем и взволнованным человеком, первый, насколько возможно, должен вообразить себе, что находится на месте второго, и представить себе все испытываемые им ощущения; он должен в некотором роде отнести к себе до малейших подробностей положение, в котором тот находится, и по возможности представить себе всю воображаемую перемену, которая и служит источником симпатии.
Тем не менее ощущения наблюдателя всегда будут слабее ощущений лично заинтересованного человека. Хотя сострадание есть естественное чувство человека, все же мы никогда так живо не чувствуем за другого, как за самих себя: воображаемое перемещение в чужое положение, следствием чего является симпатия, длится всего лишь одно мгновение – чувство нашей собственной безопасности, мысль о том, что действительно страдает другой, не могут покинуть нас. Если они и допускают в нас известное симпатическое движение, то не позволяют нам испытать то, что близко походило бы на страдания постороннего человека. Человек, пораженный горем, замечает это, он горячо желает более живого сочувствия, ему необходимо это облегчение, которое может быть доставлено ему только полным согласием между ощущениями прочих людей и его собственными. В случае тягостных ощущений человек не знает другого утешения, кроме сознания, что сердце других людей бьется одинаково с его сердцем, но, чтобы достигнуть этого, ему необходимо умерить движения своего собственного. Он должен, так сказать, уменьшить силу своих собственных ощущений, чтобы появилось согласие между ним и прочими людьми, но даже и после этого чувства посторонних все-таки не сравняются с его собственными, их сострадание не будет его страданием, ибо мы всегда сознаем, что перемещение в чужое положение, вызывающее симпатию, существует только в воображении, и это сознание не только ослабляет силу сочувствия, но изменяет его природу, вызывая в нем множество видоизменений. Несмотря на такое несовершенство, симпатии этой все-таки достаточно для установления в обществе гармонии и для поддержания возможной связи между несчастным человеком и свидетелем его страданий.
Для теснейшего сближения между ними природа научает постороннего человека воображать себя на месте несчастного, а последнего – представлять себя в положении свидетеля. Они постоянно переносятся мыслью один на место другого и таким образом взаимно испытывают вытекающие из такой перемены чувства. Вот таким образом один взирает на положение другого. Между тем как один взвешивает то, что он испытывал бы, если бы находился на месте страдающего человека, последний, в свою очередь, воображает, что он чувствовал бы, если бы был только свидетелем собственного несчастья. Таким образом, положение это рассматривается в некотором роде двойной симпатией: свидетеля к страдающему человеку и симпатией страдающего человека – к свидетелю его несчастия. А так как ощущения, испытываемые последним, несравненно менее живы, чем ощущения первого, то свидетельством этого является то, что в присутствии свидетеля ощущения страдающего человека становятся гораздо слабее, чем они казались ему, когда они не могли еще быть беспристрастно взвешены.
Мы редко бываем взволнованы до такой степени, чтобы присутствие друга хоть несколько не успокоило бы нас.
Наши страдания немного да утихают при взгляде на него: мы тотчас же замечаем позицию, с которой он смотрит на наше положение, и до некоторой степени начинаем разделять его воззрение, ибо действие симпатии происходит мгновенно. Мы ожидаем меньшего сочувствия со стороны простого знакомого, чем со стороны друга.
Мы не можем доверить первому такие подробности, какие сообщаем последнему. Мы находимся в более спокойном состоянии в присутствии друга и стараемся вместе с ним сосредоточиться на общих чертах нашего положения, на которые только он и может обратить свое внимание. Еще меньшего сочувствия ожидаем мы от посторонних людей, но, успокаивая себя более и более, мы приводим страсти наши к тому, что может быть близко им, и мы умеряем свое волнение не только с виду, потому что, по крайней мере, если нам удастся совладать с самим собой, присутствие простого знакомого успокаивает нас вернее, чем присутствие друга, а присутствие незнакомых людей еще вернее, чем присутствие знакомых.
Вследствие этого общество и беседа представляются самым могущественным средством для возвращения нашему духу спокойствия, равно как и лучшим средством для сохранения ровного и просветленного состояния, столь необходимого, чтобы быть веселым и довольным собою.
Люди, живущие в уединении и постоянно занимающиеся своими страданиями или своим горем, быть может, и одарены более тонким чувством человеколюбия, великодушия и добродетели, но они редко бывают одарены тем ровным характером, которым отличаются все светские люди.
Глава V. О добродетелях благожелательных и почтенных
Эти различные усилия – одно со стороны свидетеля, чтобы войти в положение человека, испытывающего некоторые ощущения, другое – со стороны последнего, чтобы стать на точку зрения свидетеля его чувствований, – порождают два рода добродетелей: добродетели кроткие, отзывчивые, благожелательные, чистосердечного и снисходительного человеколюбия получают свое начало от одного; строгие добродетели, внушающие уважение, беспристрастие, воздержанность, то самообладание, с которым мы подчиняем всякое движение нашей природы требованиям нашего достоинства и нашей чести, получают свое происхождение от другого.
Какое благожелательное ощущение расположенности вызывает в нас человек с нежной и сострадальной душой, отзывающейся на все переживания людей, с которыми он вступает в отношения, страдающий их несчастьями, разделяющий нанесенные им обиды и радующийся их благополучию! Когда мы переносимся на место людей, которых он любит, то разделяем их благодарность и сладостное утешение, доставляемое сочувствием такого нежного друга. Напротив, мы презираем эгоиста, очерствелая душа которого занята исключительно только собой и относится бесстрастно как к счастью, так и к несчастью своих ближних. Мы разделяем тогда тягостное чувство, необходимо вызываемое его столкновением с людьми, в особенности с несчастными и страдающими, которые преимущественно заслуживают нашего сочувствия к себе.
С другой стороны, какое достоинство, какое воспитание находим мы в поведении человека, сохраняющего при самых важных для него обстоятельствах то благоразумие и самообладание, которые более всего облагораживают всякую страсть, в поведении человека, выказывающего только такие устремления, которые могут встретить сочувствие в посторонних! Нас быстро утомляют громкие выражения страдания, которое для привлечения к себе нашего внимания прибегает к жалобам, слезам и воплям; но мы сохраняем все наше внимание и уважение к молчаливой и благородной горести, хотя и скрываемой, но очевидной для нас в измененных чертах лица и в унылом взгляде. Такое горе вызывает у нас глубокое благоговение, и мы всеми силами стараемся следить за собою, чтобы не возмутить этого кажущегося спокойствия, которое так трудно сохранить среди страданий.
Ничто не возбуждает в нас такого неприятного чувства, как ничем не сдерживаемые, оскорбительные, грубые выражения гнева. Но мы восхищаемся гордым, мужественным проявлением неприязненного чувства в человеке, который не теряет самообладания, несмотря ни на какое жестокое оскорбление; который, напротив, ограничивает свою ярость такими проявлениями, которые оправдываются негодованием, испытываемым посторонним беспристрастным зрителем; который не обнаруживает ни словом, ни поступком ничего более, кроме того, что признается самой справедливостью; который, наконец, даже в затаенной мысли не имеет против обидчика ничего, что не было бы оправдано непричастным к его оскорблению человеком.
Из всего сказанного нами следует, что выражать свое сочувствие другим и забывать самого себя, ограничивать насколько возможно личный эгоизм и отдаваться снисходительной симпатии к другим представляет высшую степень нравственного совершенства, на какую только способна человеческая природа. Только таким путем мы можем достигнуть того господства согласия в чувствованиях людей, при котором страсти наши оказываются законными и приносят нам счастье. Главный христианский закон повелевает нам любить ближнего, как самого себя, а великий закон природы состоит в том, чтобы мы любили себя не более, чем мы любим других, или, что то же самое, не более, чем могут любить нас наши ближние.
Подобно тому, как вкус и здравое суждение, если качества эти доведены до такой степени, что они возбуждают к себе похвалу и восхищение, должны отличаться особенной тонкостью и необыкновенной проницательностью, таким же точно образом и добродетели, получающие свое происхождение из чувствительности и самообладания, могут существовать только в таком случае, когда они доведены до самой высокой степени. Кроткое человеколюбие, если оно настолько деятельно и глубоко, что заслуживает названия добродетели, без сомнения, обусловливается такой чувствительностью, какая вообще редко встречается среди людей. Великодушие, эта высокая и героическая добродетель, требует такой степени самообладания, к какой по своей слабости редко бывает способен человек. Как дарования не составляют обычной степени умственных способностей, так и добродетель не принадлежит к ежедневно встречающейся степени нравственных свойств человека. Добродетель сама по себе есть совершенство, нечто прекрасное и высокое, выходящее из ряда обыденного и обыкновенного.
Благожелательные добродетели порождаются той степенью чувствительности, которая чарует нас нежностью, мягкостью, так сказать, изысканностью. Добродетели, вызывающие наше уважение, исходят из того постоянного самообладания, которое восхищает нас несомненным господством его над самыми неукротимыми страстями.
С этой точки зрения существует огромное различие между добродетелью и простым приличием, между свойствами и поступками, вызывающими восхищение и прославление, и свойствами и поступками, заслуживающими только одобрения. Чтобы поступить прилично, нередко бывает достаточно обыкновенной чувствительности и самообладания, на которые способны самые обыкновенные люди; иногда же не требуется даже таковых. Таким образом, например, наши обыкновенные житейские поступки хотя и приличны, но вовсе не заслуживают названия добродетели.
И, наоборот, может быть много добродетельного в поступках, по-видимому, нарушающих приличие, потому что поступки эти приближаются к совершенству более, чем можно ожидать в тех случаях, в которых так трудно бывает его достигнуть, а это-то и встречается при обстоятельствах, требующих особенного самообладания.
Встречаются иногда положения, вызывающие такие страдания, что самая высокая степень самообладания оказывается бессильной, чтобы заглушить голос человеческой немощи и привести наши душевные движения к такой сдержанности, которая вызвала бы сочувствие в постороннем свидетеле. В таком случае поведение человека, находящегося в подобном положении, хотя бы и нарушило правила благопристойности, тем не менее может заслужить нашу похвалу и быть признано добродетелью; оно может обнаружить такую степень великодушия и благородства, на которую бывают способны только немногие люди; вовсе не достигая совершенства, оно может к нему приблизиться больше, чем это случается обыкновенно в трудных обстоятельствах.
Во всех такого рода случаях при определении степени одобрения или осуждения человеческих поступков мы пользуемся обыкновенно двумя различными мерилами: во-первых, представлением, какое мы имеем о том безусловном совершенстве, которого при затруднительных обстоятельствах человек никогда не достигает и не в силах достигнуть, так что в сравнении с подобным совершенством все наши поступки не выдерживают критики и даже заслуживают порицания; во-вторых, представлением о большей или меньшей близости поступков большинства людей к такому совершенству.
Все, что лежит по одну сторону этой границы, хотя и далеко еще до совершенства, тем не менее кажется нам заслуживающим похвалы, а то, что лежит по другую сторону, заслуживает нашего порицания.
На основании тех же правил мы судим и о произведениях искусства, действующих на наше воображение. Когда критик рассматривает произведение великого поэта или великого живописца, то он судит о них сначала по отношению их к тому совершенному идеалу, который он носит в своем уме и которого, может быть, никто не может достигнуть. При таком сравнении создания эти могут оказаться только несовершенными. Но если он посмотрит на них по отношению к месту, какое они должны занимать среди произведений того же рода, то он необходимо оценит их на другом основании, ибо он судит о них уже по той степени совершенства, какой обыкновенно достигают в каждом виде искусства. И если судить о них, исходя из последнего основания, то нам часто может казаться, что они заслуживают большой похвалы как ближе подходящие к совершенству, чем большая часть тех произведений, которые могут быть сравнимы с ними.
Отдел II. О степени различных страстей, согласных с приличием
Введение
Уместность любой страсти, имеющей близкое отношение к нам, степень возбуждаемого ею в постороннем человеке сочувствия, очевидно, находятся в зависимости от ее особенностей. Если страсть чрезмерно сильна или слишком слаба, то она производит слабое впечатление на присутствующего человека. В частных отношениях между людьми страдание и негодование в случае несчастья и обиды гораздо чаще оказываются слишком сильными, чем слишком слабыми: если они доводятся до крайности, то мы называем их бешенством и подлостью; если они слишком слабы, то мы называем их тупостью, бесчувственностью или малодушием. В том и другом случае, если мы и разделяем их, то с некоторым удивлением и смущением.
Умеренность, вследствие которой страсти получают характер приличия или естественности, не должна быть одинакова для всех страстей: в проявлении одних она должна быть больше, в других меньше. Существуют страсти, сильное выражение которых неприлично, хотя всеми признается, что мы ощущаем их в самой высокой степени. И, наоборот, существуют другие, крайнее проявление которых очаровывает, несмотря на то что сами по себе страсти эти не возникают с необходимостью. Первые, по некоторым причинам, с трудом возбуждают сочувствие к себе; вторые, напротив, по другим причинам вызывают особенную симпатию. Если разобрать все страсти человеческой природы, то можно заметить, что мы считаем их приличными или неприличными в зависимости от большей или меньшей естественности вызываемой ими в нас симпатии.
Глава I. О страстях
1. Сильное выражение страстей, основанных на определенном состоянии или расположении нашего тела, считается неприличным, ибо мы не можем рассчитывать на сочувствие к нам присутствующих, не испытывающих тех же самых ощущений. Сильные проявления голода, страсти самой естественной и неизбежной, кажутся нам переходящими границы приличия; есть с большой жадностью кажется нам неблагопристойным и неприличным.
А между тем голод возбуждает в нас некоторую степень симпатии, ибо мы ощущаем удовольствие при виде человека, который ест с аппетитом, и, напротив, нам неприятно смотреть на человека, который ест с отвращением. Обычное состояние желудка здорового человека, так сказать, отзывается с удовольствием на аппетит постороннего человека, а отвращение вызывает в нем неприятное ощущение. Мы сочувствуем страданиям осажденного города или бедствию моряков, израсходовавших все свое продовольствие. Мы переносимся в их положение, мы отчасти испытываем их отчаяние, ужас, безвыходное положение. Тем не менее, хотя мы и разделяли бы до некоторой степени волнующие их страсти, нельзя сказать, чтобы мы сострадали их голоду, потому что мы не можем заставить себя ощущать его при рассказе о тех страданиях, которые им вызваны в них.
То же самое следует сказать и о страсти, которой природа соединила оба пола. Хотя эта страсть сильнее всех остальных, тем не менее даже люди, среди которых по божественным и человеческим законам она считается законной и невинной, нарушают приличия, если слишком выразительно проявляют ее. А между тем мы до некоторой степени сочувствуем этой страсти. Считается неприличным даже говорить с женщиной таким же образом, как говорят между собою мужчины. Женское общество, по-видимому, возбуждает в нас более светлое расположение духа, мы становимся веселее и в то же самое время более осмотрительны; ничто так не роняет в наших глазах человека, как его равнодушие к женщинам.
Наше отвращение к животным склонностям до такой степени сильно, что в чрезмерном их выражении мы всегда находим нечто оскорбляющее и неприятное.
Некоторые древние философы полагали, что так как страсти такого рода суть склонности, общие нам с животными, ибо они не составляют отличительных свойств нашей природы, то поэтому они и оскорбляют наше достоинство. Однако же нам свойственны и другие страсти, общие нам и животным, как, например, негодование, привязанность и даже благодарность, которые вовсе не вызывают нашего презрения. Настоящая причина особенного отвращения, возбуждаемого в нас животными склонностями, состоит в невозможности с нашей стороны разделять их. И даже лично для нас, как только мы удовлетворим подобного рода желания, возбудивший их предмет теряет в наших глазах недавнюю свою привлекательность: присутствие его нам не нравится, мы бесполезно силимся объяснить себе ту прелесть, которую он имел для нас за минуту до того; наше недавнее состояние так же мало понятно нам, как и постороннему человеку. По удовлетворении голода, например, мы удаляем с наших глаз пищу. То же самое было бы с предметами самых страстных наших желаний, если бы они вызывали в нас одни только животные склонности.
Власть наша над такими побуждениями называется умеренностью. Держать эти склонности в границах, требуемых нашим здоровьем и благополучием, есть дело нашего благоразумия; но умение управлять ими согласно с требованиями скромности, благопристойности и приличия принадлежит умеренности.
2. По той же самой причине мы считаем неприличным и недостойным человека прибегать к крику для выражения физической боли. Однако же мы сильно сочувствуем таким страданиям. Выше мы видели, что удар, направленный на руку или на ногу постороннего человека, побуждает нас отдернуть нашу руку или ногу; если же человек получает такой удар, то мы ощущаем долю его страданий, хотя, без сомнения, в слабой степени. Но если бы человек закричал при этом, то, может быть, наше сочувствие было бы ослаблено и его слабость вызвала бы наше презрение. Так бывает со всеми страстями, получающими свое происхождение из физических свойств нашего тела: они либо вовсе не возбуждают к себе нашего сочувствия, либо вызывают его в весьма слабой степени сравнительно со страданиями, испытываемыми другими.
Совсем иное бывает со страстями, возникающими в воображении. Моя физическая организация только в слабой степени поражается изменениями, происходящими в теле постороннего человека, но мое воображение более гибко и, так сказать, легче усваивает состояние и расположение воображения сколько-нибудь близкого мне человека. Несчастья, причиняемые любовью, честолюбием, пробуждают к себе несравненно более сильное сочувствие, чем самые жестокие физические страдания.
Страсти эти целиком рождаются воображением. Человек, потерявший все свое состояние, если он здоров и не испытывает от этого никакой физической боли, страдает от одного только воображения, рисующего перед его глазами утрату благосостояния, слишком вероятное забвение друзей, оскорбительную радость врагов, зависимость, нужду, нищету, следующие за его разорением; мы живо сочувствуем ему при таких обстоятельствах, ибо воображение наше в некотором роде вторит его воображению, между тем как при его физических страданиях тело наше не может отвечать ему с такою же отзывчивостью.
Потеря ноги считается вообще несравненно большим несчастьем, нежели потеря любовницы, однако же потеря ноги была бы весьма нелепым сюжетом для трагедии, между тем как утрата любовницы составляет предмет многих превосходных драматических произведений.
Ничто так легко не забывается, как физические страдания. Как только боль прекратилась, то представление о том, что мы испытывали, более не возмущает нас: мы с трудом припоминаем беспокойство и страдания, которые причинялись ею. Неосторожное слово друга поражает нас на более продолжительное время: возбужденное им страдание не исчезает тотчас. И боль, причиненная нам в таком случае, вызывается вовсе не предметом, действующим на наши органы чувств, но представлением, вошедшим в наше воображение. Это представление, причиняющее нам страдание, пока оно не будет изглажено временем или какими-либо обстоятельствами, волнует и терзает нас каждый раз, как мы припомним его.
Физические страдания никогда не вызывают особенно живого сочувствия, если только они не сопровождаются какой-либо опасностью. Мы более сочувствуем боязни, чем страданиям больного. Боязнь есть страсть, порождаемая воображением, рисующим перед нами с томительной неизвестностью усиление не действительно испытываемых нами, но возможных страданий. Подагра или зубная боль возбуждают в нас весьма слабое сочувствие, между тем как мы горячо сочувствуем опасным болезням, не сопровождающимся особенно сильными страданиями.
Есть люди, которые делаются больны или которым делается дурно при виде хирургической операции; страдания, причиняемые разрывом плоти, кажется, труднее всего переносятся присутствующим. Мы легче и живее сознаем страдания, возбуждаемые внешней причиной, чем страдания, вытекающие из внутреннего беспорядка. Мне трудно составить себе точное понятие о страданиях, вызываемых в человеке подагрой или каменной болезнью, но мне совершенно понятно то, что он ощущает при операции, ране или при переломе кости.
Тем не менее главная причина действия последних явлений на присутствующего состоит в незнакомстве с ними: человек, бывший свидетелем нескольких операций, впоследствии привыкает к ним, остается спокойным, и они не производят на него никакого воздействия.
Но хотя бы мы сто раз видели в театре одну и ту же трагедию, чувствительность наша не может ослабеть до такой степени, чтобы на нас совсем не оказывало воздействия ее содержание.
Некоторые греческие трагики пытались вызвать сочувствие изображением физических страданий. Филоктет вскрикивает и падает в изнеможении от невыносимых страданий. На сцену выведены были Ипполит и Геркулес, умирающие в ужасных муках, превышавших, по-видимому, мужество самого Геркулеса. В таком случае мы увлекаемся не собственно физическими страданиями, но какими-нибудь сопровождающими их обстоятельствами.
Филоктет занимает нас не раною, но своим одиночеством и тем, что всеми оставлен; обстоятельства эти придают трогательной трагедии непосредственную романтическую прелесть, очаровывающую воображение. Страдания Геркулеса и Ипполита интересуют нас только потому, что за ними следует смерть, но они показались бы нам даже смешными, если бы герои эти возвратились к жизни.
Может ли быть предметом трагедии человек, страдающий резью в животе? А между тем страдания эти сопровождаются невыносимыми муками. Одна из возмущающих сторон греческой трагедии состоит в попытках вызвать наше сочувствие изображением физических страданий.
Слабая симпатия, возбуждаемая в нас физическими страданиями, обусловливает мужество и терпение, с которыми мы должны переносить их. Человек, среди самых жестоких страданий не обнаруживающий никакого признака слабости, не обращающийся для облегчения страданий ни к стонам, ни к жалобам, вызывает в нас не только сочувствие, но даже восхищение. Мы восхищаемся и разделяем его мужественное самообладание. Мы одобряем его поведение, а так как мы по опыту знаем, что люди вообще отличаются слабостью, то удивляемся и изумляемся его мужеству, то есть мы проникаемся чувством одобрения, которое естественно сопровождается нашими похвалами.
Глава II. О страстях, основанных на какой-либо особенной привычке нашего воображения
Среди страстей, основанных на воображении, страсти, обусловливаемые исключительным направлением или особенной привычкой нашего воображения, вызывают в нас весьма слабую симпатию, как бы сами они ни были естественны. Мы не можем разделять их, ибо воображение наше не приняло того же направления; такого рода страсти, хотя они и встречаются в жизни каждого человека, в глазах других людей выглядят несколько нелепо. К этому числу относится привязанность, возбуждаемая природой в лицах различного пола, как бы она сильна ни была. Если наше воображение не настроено, например, на один лад с любимым человеком, то мы не можем разделять его живых ощущений. Но если наш друг обижен или облагодетельствован, то мы разделяем его озлобление и гнев против врага или его благодарность и уважение к благодетелю. Если сердце его обуревает любовь, то, нисколько не находя этого чувства неосновательным, мы, однако, не расположены разделять его. Страсть эта, кроме испытывающего ее человека, всему миру кажется совершенно несоразмерной с вызывающим ее предметом. Хотя любовь кажется естественной страстью для всех возрастов человеческой жизни, но так как она не может разделяться всеми присутствующими, то они и не могут смотреть на нее так же серьезно. Самый выразительный язык ее кажется смешным для постороннего наблюдателя. Влюбленный человек может быть мил только для любящей его женщины; он сам замечает это, и, если страсть не оглушила совсем его рассудка, он старается говорить о ней с некоторым легкомыслием. Это единственное отношение к чувству, какое может нам нравиться, ибо оно одно только возможно для нас. Нас быстро утомляют мелочные любовные жалобы Каули и Петрарки, на каждой странице преувеличивающих силу своей страсти, между тем как нам всегда будут нравиться веселость Овидия и изящное чувство Горация.
Хотя любовь и не вызывает к себе сильной симпатии, но так как мы испытали или можем испытать это чувство, то живо сочувствуем надеждам на счастье, которыми она питается, и страданиям, причиняемым несчастной любовью. Мы интересуемся, впрочем, меньше самой страстью, чем сопровождающими ее обстоятельствами, вызывающими прочие страсти – страх, надежду, различного рода страдания. Таким же образом в рассказах морских путешественников мы интересуемся не голодом, который они иногда испытывают, но несчастьями, непременно им вызываемыми. Хотя мы и не разделяем чувств, переполняющих сильно влюбленного человека, романтическое счастье, о котором он мечтает, нравится нам и интересует нас: мы легко сознаем, стало быть, что душа наша, утомленная равнодушием, измученная сильными желаниями, жаждет счастья или спокойствия и надеется встретить то и другое в удовлетворенной любви. Перед нами рисуется та спокойная и уединенная сельская жизнь, которая с такой теплотой и с таким изяществом описана Тибуллом, жизнь, какую, по уверениям поэтов, ведут на Островах Счастья, на которых люди проводят свои дни среди дружбы, свободы и покоя, не знают ни труда, ни тяжких забот, ни мятежных страстей. Эти светлые картины в особенности нравятся нам, если они начертаны тем, кто мечтает о них, а не тем, кто уже пользуется ими.
Наслаждения, которые следует скрывать, хотя бы они и составляли главное побуждение любви, теряют то, что в них есть неприличного, если они рисуются в будущем и, так сказать, в отдаленной перспективе. Но если бы кто вздумал остановить наше внимание именно на их изображении и сосредоточить его на подробностях, то наслаждения эти перестали бы нам нравиться и стали бы оскорбительны для нашего чувства. Вот почему счастливая любовь менее интересует нас, чем любовь, исполненная опасностей и страданий, и мы скорее разделяем вызываемые последней беспокойства и волнения.
Этим же объясняется успех многих новейших романов и трагедий, изображающих подобные страсти. В «Сироте» нас интересует не любовь Касталии или Монимы, а вызываемые ею мучения. Писатель, который вывел бы на сцену двух любовников, говорящих о своей любви в ситуации полной безопасности, не только не вызвал бы к себе сочувствия, но даже вызвал бы смех. Подобная сцена кажется нам неприличной в пьесе, и если она допускается иногда, то не столько по симпатии к изображаемой в ней страсти, сколько потому, что зритель предвидит в то же самое время затруднения и опасности, которые нужно будет преодолеть для ее удовлетворения.
Стеснения в деле любви, налагаемые законами общества на прекрасный пол, делают эту страсть более опасной для него и потому возбуждают в нас большее сочувствие. Нас глубоко потрясает любовь Федры в трагедии Расина того же названия, несмотря на безрассудство и преступление, к которому она ведет ее, хотя, быть может, это и составляет главный предмет нашего внимания. Страх, стыд, угрызения совести, ужас, отчаяние, которым поочередно предается Федра, кажутся нам более верными и более трогательными: все эти второстепенные страсти (если есть такие, которым можно дать подобное название), вытекающие из положения, в которое поставлена преступная любовь Федры, необходимо становятся более сильными и неодолимыми; они-то преимущественно и вызывают наше сочувствие.
Впрочем, из всех страстей, которые силою своей самым безрассудным образом не соответствуют вызывающему их предмету, любовь есть единственная страсть, представляющая собой нечто милое и прелестное. Какой бы мы ни находили ее смешной, в ней нет ничего одиозного, хотя последствия ее часто бывают пагубны и ужасны, но намерения и желания ее редко бывают преступны. Сверх того, хотя сама по себе она не имеет никаких особенных достоинств, тем не менее она нередко сопровождается самыми похвальными чувствами. В любви постоянно переплетаются человеколюбие, доброта, дружба, уважение – чувства, которые, как мы увидим ниже, легко возбуждают наше сочувствие, хотя бы они и казались нам до некоторой степени преувеличенными.
Вызываемая ими симпатия подкупает наше сочувствие и к той страсти, которую они сопровождают: они, так сказать, воспитывают ее в нашем воображении, несмотря на почти неизбежно сопровождающие ее заблуждения. И хотя любовь нередко приводит женщину к стыду и бесчестию, а в мужчине, для которого она менее пагубна, она сопровождается обыкновенно отвращением от труда, забвением своих обязанностей, пренебрежением к славе и даже к доброму имени, тем не менее так как мы предполагаем, что ее сопровождают чувствительность и великодушие, то для многих людей она составляет предмет тщеславия. Но ведь нелепо было бы предположить, что человек желает казаться способным к чувству, которое, в сущности, он не находит заслуживающим уважения.
Те же побудительные причины, которые заставляют нас быть сдержанными, когда мы говорим о нашей любви, прилагаются и к разговорам о нашем учении или о наших личных занятиях. Подобные предметы ни для кого не могут быть так же интересны, как для нас: вследствие того что упускается из виду это соображение, одна половина рода человеческого так мало подходит к другой его половине. По той же причине мыслитель чувствует себя на месте только в беседе с другим мыслителем, а член какого-нибудь клуба – среди людей, одинаково с ним настроенных.
Глава III. О страстях антиобщественных
Существует другой разряд страстей, которые хотя и порождаются воображением, тем не менее могут вызвать наше сочувствие и заслужить наше одобрение только в таком случае, когда они доведены до более слабой степени, чем та, какую они получили бы, если бы человек отдался на произвол своей природы. К их числу относятся разные виды ненависти и злобы. В таких страстях симпатия наша разделяется между тем, кто испытывает, и тем, кто вызывает их. Интересы их диаметрально противоположны. То, что мы желаем по сочувствию к одному, того же и опасаемся мы по сочувствию к другому. Так как тот и другой такие же люди, как и мы, то мы интересуемся обоими, и наше опасение за страдания, грозящие одному, ослабляет наше озлобление за страдания, переносимые другим. Симпатия наша к обиженному человеку гораздо слабее испытываемого им негодования как по общему закону, по которому страсти, порождаемые сочувствием, гораздо слабее действительно испытываемых, так и по особенной причине, вызываемой в настоящем случае чувством, совершенно противоположным возбуждаемым в нас обидчиком. Поэтому негодование может показаться нам справедливым и уместным, не иначе как если оно будет сдержано и доведено до гораздо меньшей степени, чем какую получила бы эта страсть, естественно возбуждающая более всякой другой.
Нельзя, однако же, отрицать, что сочувствие обиде, нанесенной постороннему нам человеку, может быть весьма сильно. Злодей, выводимый в трагедии или романе, вызывает в нас такое же негодование, как противопоставляемый ему герой возбуждает к себе наше расположение и симпатию. Мы ненавидим Яго настолько же, насколько уважаем Отелло; мы радуемся погибели одного и сострадаем несчастьям другого. Но как бы сильна ни была наша симпатия, все-таки мы не можем так же живо чувствовать обиду, как чувствуют ее люди, которым она нанесена. Поэтому чем больше они выказывают терпения, кротости, человеколюбия, тем сильнее сочувствуем мы их негодованию; если сдержанность их вытекает не из малодушия и не из глупости, то мы тем сильнее возмущаемся несправедливо нанесенной им обидой.
А между тем негодование принимается за одну из страстей, прирожденных человеческой природе. Человек, равнодушно переносящий оскорбление, не дающий отпора ему и не думающий об отмщении, вызывает наше презрение. Мы не можем разделять ни его равнодушия, ни его бесчувственности; мы объясняем его поведение малодушием, которое возмущает нас не менее, чем оскорбление его противника. Даже простые люди не прощают тому, кто терпеливо переносит оскорбления и дурное обращение. Им нравится, когда обида принимается близко к сердцу, в особенности лицом, которому она нанесена. Они возбуждают его к отпору и подбивают его к мщению яростными подстрекательствами. Когда же негодование его наконец разразится, то это вызывает их сочувствие и громкое одобрение; они негодуют против обидчика и радуются нападению на него. И если мщение не перейдет за известные пределы, то они сочувствуют ему так же живо, как если бы оскорбление касалось их лично.
Несмотря на несомненную пользу, доставляемую этими страстями как каждому отдельному лицу, вследствие того что обидеть его становится опасно, так и всему обществу, вследствие того что страсти эти становятся в некотором роде охранителями справедливости и доставляют ручательство в беспристрастном ее приложении, тем не менее в них есть нечто неприятное, что возбуждает в нас естественное отвращение к внешним их проявлениям. Гнев, выраженный против присутствующего человека, если он переходит за границы простого недовольства дурным обращением, принимается нами за оскорбление не только человека, вызвавшего в нас это чувство, но и всех присутствующих. Уважение к последним требует, чтобы человек сдерживал такие оскорбительные и неумеренные выражения гнева. На такого рода страсти следует смотреть только по их последствиям в будущем: непосредственное проявление их всегда причиняет вред человеку, против которого они направлены. Сами предметы, наоборот, действуют приятно или неприятно на наше воображение непосредственным впечатлением. Например, тюрьма приносит обществу больше пользы, чем дворец, а человек, строивший первую, действовал под влиянием более просвещенного патриотизма, нежели человек, воздвигавший дворец. Но непосредственный взгляд на тюрьму, на рабство несчастных заключенных в ней вызывает в нас тягостные впечатления; воображению или нет времени обратиться к более отдаленным последствиям, или оно смотрит на них со слишком далекого расстояния, чтобы они могли поразить его. Вот почему тюрьма составляет для нас предмет неприятный и тем более грустный, чем вернее она достигает предназначенной ей цели. Дворец, наоборот, производит на нас всегда приятное впечатление, хотя отдаленное его действие нередко состоит во вреде, приносимом обществу, так как он может содействовать развитию роскоши и развращению нравов. Непосредственный взгляд на него – удобства, удовольствие, богатство живущих в нем людей – всегда очаровывает наше воображение, вызывает в нем множество светлых образов, на которых оно охотно останавливается, но за последствиями которых редко следит в отдаленном будущем. Нам приятно смотреть на скульптурные или живописные изображения музыкальных инструментов и земледельческих орудий, украшающие стены наших жилищ, но такие же изображения хирургических инструментов, ножей, черепных буравов показались бы нам нелепыми и неприятными. А между тем хирургические инструменты делаются с большим искусством и вообще ближе соответствуют предназначенной им цели, чем земледельческие орудия. Отдаленное назначение их доставить здоровье страдающим людям возбуждает в нас только отрадные представления, тем не менее вид их производит всегда неприятное впечатление, ибо непосредственное их действие вызывает обыкновенно страдания. Однако же мы любим смотреть на орудия войны, хотя непосредственное их действие тоже производит страдания и боль, но последние наносятся нашим врагам, к которым мы не чувствуем никакого сострадания; что же касается лично нас, то мы связываем с этими орудиями приятные представления о победе, храбрости, чести. Они даже составляют самую благородную часть нашей одежды, а изображения их служат лучшими архитектурными украшениями.
Мы судим на тех же основаниях об отдаленном действии душевных свойств человека. Стоики придерживались мнения, что так как мир управляется высоким промыслом всемогущего Бога, мудрого и благого, то и на ничтожнейшее явление следует смотреть как на необходимую часть всего мира, содействующую порядку и благополучию; что преступления и безумства человека составляют такую же существенную часть всего творения, как добродетель и благоразумие, и равно стремятся к благосостоянию и совершенствованию вселенной вследствие того неизменного закона, по которому самое зло служит источником для добра. Подобная теория, если бы она укоренилась в людях так глубоко, как только она в состоянии укорениться, уменьшила бы естественное отвращение к пороку, непосредственные действия которого столь гибельны, а отдаленные действия находятся от нас на слишком далеком расстоянии, чтобы оказывать сильное влияние на наше воображение.
То же самое следует сказать и обо всех антиобщественных страстях, о которых мы до сих пор упоминали: непосредственное проявление их до того неприятно, что мы находим в них нечто отталкивающее, даже если бы они были явно спровоцированы. Они представляются единственными страстями, проявление которых не располагает и не приготовляет нас к симпатии, пока мы не узнаем возбудившей их причины.
Жалобный голос нищего, услышанный нами даже издали, не позволяет нам оставаться равнодушным к человеку, из груди которого он раздается. Как только он коснется нашего слуха, мы немедленно интересуемся судьбою этого человека, а если он будет продолжителен, то мы невольно спешим к нему на помощь. По той же причине вид веселого человека направляет наши мысли к тем светлым и радостным представлениям, которые естественно располагают нас к сочувствию, а если сердце наше встревожено и убито заботой или грустью, то силы и состояние его восстанавливаются. Совсем иное бывает с проявлениями ненависти и злобы. Неприятный и резкий голос разгневанного человека, раздающийся даже вдали от нас, возбуждает в нас или страх, или отвращение; мы не спешим на него, как спешим на голос боли и страдания. Женщины и мужчины со слабыми нервами теряются и трепещут от страха при проявлении гнева, хотя бы обращенного и не на них; они переносятся тогда в положение человека, которому угрожают, и разделяют его страх. Самые твердые люди теряют спокойное состояние души и проникаются если не страхом, то таким же гневом, а между тем если бы они находились в положении разгневанного человека, то, может быть, испытывали бы одинаковое с ним чувство. То же самое бывает и с ненавистью. Самые сильные ее ощущения возможны только для охваченного этой страстью человека, и это потому, что ненависть, подобно гневу, вызывает в нас естественное отвращение. Яростные и отталкивающие проявления ее никогда не возбуждают и не привлекают к себе нашего сочувствия, а часто даже возмущают и прерывают нашу симпатию. Эти страсти, если мы не знаем их причины, отталкивают и отвращают нас с такой же силой, с какой направляет и влечет нас сострадание к страждущим людям. Природа как бы желает, чтобы такие грубые и неприятные душевные движения сообщались только с трудом и в редких случаях.
Когда музыка подражает звукам скорби или радости, то она возбуждает в нас эти страсти, или, по крайней мере, она располагает нас к принятию таких ощущений, но она вызывает в нас страх, когда подражает звукам разгневанного голоса. Радость, скорбь, любовь, поклонение, сострадание суть в некотором роде музыкальные страсти; выражения их нежны, звучны, мелодичны; они естественно разбиваются на периоды, разграниченные правильными паузами, которые поэтому легко приспосабливаются к повторению звуков, переходящих в один и тот же тон. Звуки гнева и других подобных страстей резки и негармоничны. Периоды их неправильны – то слишком длинны, то слишком коротки – и не разделяются никакими определенными паузами.
Музыка с трудом подражает этим страстям и доставляет меньше удовольствия, когда передает их. Концерт может состоять из подражания кротким и человеколюбивым страстям; он был бы невыносим, если бы был составлен из подражания страстям ненавистным и гневным.
Если последние страсти вызывают отвращение в посторонних, то они не менее тягостны и для человека, испытывающего их: ненависть и гнев как бы отравляют сердце доброго человека. В вызываемых ими ощущениях есть что-то жесткое, судорожное, возмущающее и раздирающее душу, разрушающее тихое, спокойное состояние духа, необходимое для счастья человека, для его блага – состояния, к которому, по-видимому, располагают нас страсти противоположные, а именно любовь и признательность. Люди чувствительные и великодушные не сожалеют о благе, которого они лишаются неблагодарностью и вероломством ближних: они умеют и без него быть счастливыми, но они страдают и возмущаются от одной мысли о неблагодарности и вероломстве. Страдания, возбуждаемые в них последними, составляют самую тяжелую долю наносимого им оскорбления.
Какое множество условий необходимо, чтобы посторонний человек одобрительно и сочувственно отнесся к нашему негодованию! Прежде всего, обида должна быть такова, чтобы мы заслуживали презрение и чтобы мы подвергали себя постоянным оскорблениям, если не дадим ей отпора: к легким обидам мы должны относиться с пренебрежением.
Ничего не может быть смешнее щепетильности и обидчивости человека, вспыхивающего при малейшем поводе к ссоре. Мы должны в таком случае сообразовывать свое поведение не с силой нашего негодования, а с чувством, которое требуется или которое будет оправдано посторонними людьми. Нет страсти, справедливость которой подлежала бы большему сомнению, предаваться которой следовало бы с большей осмотрительностью, которая, наконец, побуждала бы нас обращать большее внимание на чувство, какое она вызовет в постороннем человеке, спокойном и беспристрастном. Только мужество и забота о сохранении собственного достоинства и уважения к нам окружающих могут быть побудительными причинами, извиняющими или облагораживающими проявления этой неприятной страсти.
Побуждения эти должны руководить нашими словами и поступками; поведение наше должно быть просто, откровенно, благородно; в нем не только не должно быть насилия или низости, но, напротив, оно должно быть проникнуто великодушием, искренностью, даже внимательностью к оскорбившему нас человеку. Образ наших действий должен обнаруживать – без всякого к тому же притворства с нашей стороны, – что страсть не заглушила нашего человеколюбия, что если мы уступаем голосу негодования, то делаем это с сожалением, по необходимости, вследствие неоднократного вызова нас на такие поступки. Только когда негодование отличается таким характером и когда оно признается законным, то кажется нам страстью благородной и великодушной.
Глава IV. О страстях общественных
Если нам неприятно и тягостно бывает разделять вышеупомянутые страсти вследствие того, что симпатия наша раздваивается между лицами, интересы которых находятся в полном противоречии, то тем более приятными и заслуживающими одобрения кажутся нам противоположные страсти по причине возбуждаемого ими в нас двойного сочувствия. Великодушие, человеколюбие, доброта, сострадание, дружба, взаимное уважение, если ими запечатлеваются наши поступки и наш образ действий даже относительно неблизких нам людей, почти всегда производят приятное ощущение в самом равнодушном свидетеле. Симпатия постороннего к человеку, испытывающему такие чувства, совпадает с благорасположением его к лицу, вызвавшему их.
Сочувствие же его к последнему как к своему ближнему живее побуждает его разделять чувства первого, запечатленные тем же характером. Итак, мы всегда охотно отзываемся на добрые чувства. Они производят на нас во всех отношениях приятное впечатление. Мы радуемся счастью, которое они создают как в испытывающем их человеке, так и в том, кто вызывает их. Подобно тому как мужественное сердце более страдает от того, что составляет предмет ненависти и негодования, чем от тех несчастий, которые могут быть причинены ими, таким же точно образом нежное и чувствительное сердце находит больше счастья в сладостной уверенности быть любимым, чем во всевозможных выгодах, которые может ожидать от вызванных им чувств. Мы не можем указать более ненавистный характер, чем характер человека, находящего удовольствие в том, чтобы вызывать несогласие между людьми, находящимися в дружеских отношениях, и обращать их нежное расположение друг к другу в смертельную злобу. А между тем в чем же состоят злостные намерения, вызывающие к себе такое справедливое отвращение? Разве в том, чтобы лишить поссорившихся людей помощи и поддержки, на которую они имели бы право рассчитывать, если бы дружба их не прекращалась? Нет, они состоят в лишении их самой этой дружбы, разрушении той взаимной привязанности между ними, которая составляла источник стольких радостей для них, в нарушении того согласия, которое существовало между ними и которое доставляло им счастье. Но эти чувства, эти нежные отношения, это согласие возможны не только между особо чувствительными душами, но и между самыми обыкновенными людьми. По-видимому, сами чувства эти более необходимы для нашего счастья, чем те выгоды, на которые можно от них рассчитывать.
Чувство любви приятно само по себе для испытывающего его человека. Оно нежит и ласкает сердце; оно способствует всем жизненным проявлениям и наиболее здоровому состоянию, какое только свойственно человеческому организму; оно становится все приятнее от осознания счастья и взаимности, внушаемой в том, на кого обращено оно. Уже одни взгляды друг на друга двух любящих доставляют им счастье, а сочувствие, возбуждаемое этими взглядами в посторонних, делает влюбленных интересными для всякого человека. С каким сочувствием, с каким удовольствием смотрим мы на семейство, связанное нежными чувствами и взаимным уважением; семейство, в котором родители и дети суть как бы товарищи без всякого различия, кроме почтительного уважения со стороны одних и трогательной снисходительности со стороны других; на семейство, в котором нежные, свободные и добрые отношения, веселое расположение духа говорят, что никакие противоположные интересы не разделяют в нем братьев, что никакой зависти не существует между сестрами; в котором, наконец, все вызывает в нас представления о мире, о любви, о взаимности, о счастье! И, наоборот, с каким неудовольствием входим мы в дом, в котором ссоры и разлад поддерживают, так сказать, постоянную войну между живущими в нем людьми, в котором из-под внешних выражений любезности и благодушия прорываются подозрительные взгляды, обнаруживаются неприязненные чувства, свидетельствующие о пожирающей их тайной вражде, ежеминутно готовой разразиться, несмотря на присутствие посторонних!