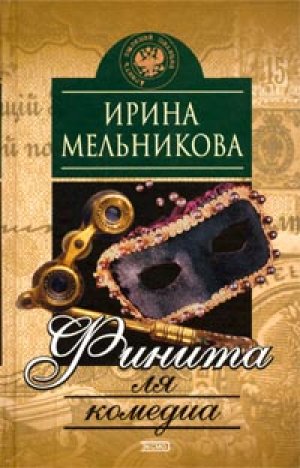
Пролог
шепчут ее губы, как молитву, слова романса, которым она заканчивает каждый свой бенефис. Это ее добрый талисман, добрая примета, по-детски наивная вера в исполнение желаний, обычай, от которого она никогда не отказывается. И публика знает об этом, равно как и о том, что надо непременно попросить ее исполнить «Огни заката». Первыми начинают вызывать самые восторженные поклонники – студенты. К ним присоединяется бельэтаж, затем – партер, а потом уже и ложи, сверкающие бриллиантами и золотым шитьем мундиров. «Огни! Огни! Огни!» – скандируют студенты, а зал рукоплещет. Она ждет несколько секунд, прижимая ладони к пылающим щекам. Все в зале знают, что этот романс для него … Но лишь единожды она остановит взгляд на его лице и уведет его в сторону, потому что рядом с ним, на своемзаконном месте, жена – желтая, раньше времени увядшая женщина с длинным носом, морщинистой шеей и выпуклыми черными глазами.
И все знают, что их связь длится уже пять лет, но Perdrix,[1] так с ее же легкой руки прозвали в свете законную супругу богатейшего сибирского промышленника, владельца Центрально-Азиатской компании Саввы Андреевича Булавина, ни в какую не дает ему развода. Кроме того, она постоянно устраивает ему сцены ревности, с истериками, упреками, слезами и обмороками.
«Как вам не стыдно… Вам пятьдесят два года… У вас дочь на выданье… Весь город над вами смеется…»
Perdrix бьет посуду и швыряет в мужа свечными шандалами. В городе это тоже знают и действительно посмеиваются за его спиной, потому что сказать ему о том в лицо, а тем более рассмеяться, не позволит себе даже губернатор.
Но все сцены происходят наедине дома, а на людях, в театре, за кулисами, куда Васса, или Виви Булавина, исправно заходит вместе с мужем поблагодарить актрису за доставленное удовольствие, на балах и гуляниях она первой приветствует соперницу. Иногда они даже обменивались поцелуями, если можно так назвать касание холодными губами щеки той, кого ненавидишь всеми фибрами своей души…
К услугам Виви – целый арсенал шпилек, намеков, булавочных уколов и даже змеиных укусов, но она опасается ими пользоваться, потому что знает, у ее соперницы острый, безжалостный язык. Она уже поплатилась, однажды заявив en petit comite,[2] что прощает шалости своему мужу, ведь после этого он так нежен и горяч в супружеской постели. И уже на следующий день ей передали это мерзкое слово perdrix. Его произнесла в сердцах эта негодяйка, которая мнит себя чуть ли не королевой. И прозвище это мигом приклеилось к Виви, доставляя ей несомненные огорчения.
Она была неглупой женщиной и в конце концов поняла, что муж не просто влюблен, он любит, и любит по-настоящему, и против этого уже ничего не могла поделать. И даже губернаторша, женщина недалекая и бестактная, вынуждена была как-то признать: «Виви – сильная женщина. Elle fait bonne mine au mauvais jeu!»[3]
А что в конце концов ей оставалось делать?
Ее муж не просто безумно богат. Он еще меценат и страстный театрал. Его слово – закон, не только в городе, но и в театре. Он помогает средствами прогорающим антрепренерам, охотно подкармливает нуждающихся актеров, поддерживает дебютантов и дебютанток. Он – истинный знаток и ценитель искусства. И режиссер знает, что его предложения всегда к месту (равно как и деньги), когда речь заходит о подписании контрактов с актерами, выборе репертуара, декорациях, костюмах, характере персонажей, обстановке и нравах представляемого на сцене общества. Он частенько приезжает на рядовые репетиции, а уж на генеральных и вовсе – первое лицо.
Полжизни они с Виви провели за границей. Ей было не привыкать, что муж тратится на кокоток и актрис, пропадает в музеях и картинных галереях, играет в бильярд и на скачках, собирает старинное оружие и средневековые гравюры. А здесь, в Сибири, увлекся вдруг орхидеями, для чего выстроил огромную оранжерею, содержит дюжину садовников и даже выписал из Франции мосье Дежана, как говорят, известного знатока и мастера по разведению редкостных тропических растений.
Но кем бы Савва Андреевич ни увлекался, чем бы он ни занимался, он неизменно возвращался к своей Виви. Поэтому, когда ей донесли, что у него роман с первой красавицей Североеланска – примадонной местного казенного театра Полиной Муромцевой, она не слишком расстроилась. В то время мужу было сорок семь. Он страдал одышкой, и хотя был высок и плечист, но уже заметно погрузнел и поседел.
Здесь Виви несколько кривила душой, не желая замечать, что при всей видимой тяжести своей фигуры Савва Андреевич по-прежнему статен и очень подвижен, обладает живой мимикой, приятным голосом и манерами, которые способны очаровать кого угодно. Чувство юмора у него поразительное! Он никогда не допускает скабрезностей и сальных шуток, но ирония пропитывает каждое его слово. Она тонка и изящна, а его глаза так выразительны и излучают столько энергии, что ему не составляет великого труда влюбить в себя любую женщину.
Он далеко не красавец. И нос толстоват, и веки тяжеловаты. Высокий лоб кажется еще больше за счет глубоких залысин, но у него твердый, решительный подбородок и красивые чувственные губы, которые выдают некоторую слабость характера, но так нравятся женщинам. И это сочетание слабости и решительности, жесткости и доброты, честности и прямоты делает его привлекательным не только для женщин, но и для его многочисленных друзей, партнеров и даже конкурентов.
Встреча его и Муромцевой не была неожиданностью для обоих. Казалось, они всю жизнь стремились друг к другу. Он только что вернулся в Североеланск после долгого пребывания за границей, а она дебютировала в роли Офелии в «Гамлете» Шекспира. До этого у нее было несколько успешных сезонов в Самаре и Киеве, но развод с мужем и смерть семилетней дочери заставили ее принять предложение антрепренера и забиться в несусветную глушь, где она мечтала обрести долгожданный покой для своей истерзанной страданиями души.
А вместо этого встретила любовь, о которой не смела даже помышлять. Но поначалу она увидела его глаза. Удивленные и растерянные после первого акта спектакля и полные обожания и любви после его окончания, когда он прошел за кулисы, чтобы поздравить ее с грандиозным успехом. Утром в номер, который она снимала в гостинице, принесли шесть огромных корзин с орхидеями, а в городе зашептались, что Булавин полностью опустошил свою оранжерею ради новой актрисы.
Поначалу она всячески сопротивлялась его напору, и для этого у нее были свои причины. Но когда все-таки сдалась, действительность превзошла все ее ожидания.
Конечно же, все, что случилось с ними, напоминало скорее взрыв, внезапно налетевший ураган! Безумное влечение с обеих сторон, угар, стремительная страсть, водоворот, из которого они не пожелали выбраться. Их взаимное притяжение было настолько сильным, что она чувствовала, как начинает колотиться ее сердце и дрожать руки, задолго до того, как его экипаж останавливался около подъезда дома, где она снимала квартиру на первом этаже. При его приближении она буквально теряла сознание от одного предчувствия близости с ним, тело ее горело и трепетало в его руках.
А он совершенно забыл не только об обязанностях, но и о приличиях, теперь он мог заявиться домой в два-три часа ночи, причем возвращался через весь город пешком или на извозчике, отсылая собственный экипаж с вечера, а то вовсе, и все чаще, оставался ночевать у любовницы. А на все обвинения Виви и ее требования объясниться отвечал молчанием, запирался в своем кабинете или уезжал в контору компании, а оттуда уже – к Полине или в театр, что, по сути дела, было одно и то же.
А теперь вот вздумал построить и подарить городу новое здание театра, и, как стало известно, об этом его просила Муромцева. И разве он мог ей отказать? Здание уже возвели под крышу, а Савва Андреевич сам закупал для него мебель. И всякие модные нововведения для сцены выписал из Парижа, и музыкальные инструменты для оркестра из Дрездена и Палермо. А в Санкт-Петербурге уже изготовили по эскизу знаменитого художника Сухарева занавес для сцены, на который ушла прорва золотых и серебряных нитей. И по слухам, красоты он неимоверной, перед которой померкнут занавесы Большого театра и Мариинки. Нет, что бы там ни говорили, но новый театр – это не подарок городу, это прежде всего подарок его обожаемой Полине… Храм, который он строит для своей богини, самой неподражаемой женщины, встреченной им когда-либо!
Любовницей она была крайне деспотичной и ранимой, трепетной и ревнивой. И жесткой к малейшим проявлениям лжи и необязательности. И что греха скрывать, Савве Андреевичу, привыкшему к легким интрижкам и ни к чему не обязывающим связям, поначалу пришлось несладко. Она разоблачала его моментально. И, конечно же, понимала, что, заставляя Булавина оправдываться, тем самым его унижает. И столь же быстро его прощала, потому что не переносила унижения даже в мельчайших его проявлениях.
Да, любить ее было нелегко, поэтому многие предпочитали делать это на расстоянии. Тайное обожание давалось гораздо легче, чем укрощение этой гордячки и недотроги, несравненной красавицы, но одновременно и большой умницы.
Очень богатый и по этой причине облеченный почти безграничной властью, в душе Савва Андреевич не был честолюбив и никогда не жаждал власти над другими людьми. Романтичный и душевно неустойчивый, он сознавал свое безволие, хотя порой бывал очень упрям и крайне обидчив, но Полине он подчинился с радостью.
Она держала в вечном напряжении его нервы и сама глубоко страдала от своей, как ей казалось, непомерной жесткости во всем, что касалось его отношений с внешним миром, где не было места для нее. Там, где существовала его семья, его обязанности перед женой и дочерью, его компания, которая также отнимала его у нее порой на несколько дней, а то и на месяц, и на два, когда он вынужден был уезжать по делам за границу, в Москву или в Санкт-Петербург.
Но Булавин не только любил свою Полюшку, он обожал свои мучения. Он искал этого рабства всю жизнь, и он его нашел!
И она привязалась к нему всем сердцем. Это была уже настоящая любовь, с заботой и непомерной нежностью, которая возобладала над безумной страстью, сжигавшей их первое время. Радость обладания друг другом не утихала, но рядом с ней жили глубокая, присущая истинной любви печаль и предчувствие неизбежного расставания. Это была одновременно сладкая и горькая любовь-жалость и вместе с тем любовь-страдание, любовь, которая возносит, а не опускает человека. Такая любовь дается лишь исключительно сильным и по-особому талантливым людям.
Ни он, ни она не хотели стариться. Оба были настолько деятельны и молоды душой, что, казалось, только помани пальцем, и у ног обоих улягутся в штабеля все, на ком остановится их взгляд. Но они были заняты друг другом… А потом неожиданно свалилась эта болезнь, сильнейшая простуда, которая не выпускала ее из постели больше месяца. Но ведь и раньше они разлучались, и даже на большие сроки. Да и была ли это разлука в истинном понимании этого слова? Булавин навещал ее ежедневно, трогательно заботился, присылал лучших врачей, сам поил ее микстурами и делал теплые компрессы.
И вдруг эти странные слухи по городу. Она возвратилась в театр после болезни похудевшая, слегка побледневшая, но не утратившая ни капли прежней красоты, ни доли обаяния. Ее удивительные зеленые глаза, за которые еще в детстве ее прозвали Дикой Кошкой, стали еще глубже и выразительнее и настолько завораживали и манили, что даже главный режиссер театра Турумин, отъявленный сквернослов и бабник, несколько поубавил свой темперамент и даже не противился, когда она выбрала для своего бенефиса шекспировскую трагедию «Ромео и Джульетта» в переводе Каткова.
Муромцева усиленно репетировала, а Савва Андреевич искренне переживал, что она не жалеет себя, не бережется после столь тяжелой болезни.
Но за ее спиной уже вовсю шептались. Ехидный смех звучал за кулисами и в уборных. Имя Булавина уже в открытую связывали с именем молоденькой Кати Луневской, дочери богатого меховщика, подарившего Муромцевой в ее предыдущий бенефис двухтысячный палантин из баргузинских соболей.
Говорят, что Катенька необыкновенно хороша. Она получила блестящее образование за границей, свободно говорит на французском, английском и немецком языках. Она высокомерна и изысканна, умна и честолюбива, но, главное, уже знает себе цену, и у нее все еще впереди… По слухам, на последнем балу у нее не было отбоя от кавалеров, но она отдавала явное предпочтение Булавину. И хотя дома ей устроили по этому поводу грандиозный скандал, она, кажется, не слишком обратила на него внимание.
Их уже не раз видели вместе. Катенька, то ли в силу своей неопытности, то ли ранней изощренности ума поделилась некоторыми подробностями этих свиданий с близкими подругами, и вскоре они стали всеобщим достоянием. Никому нет дела, что в этих рассказах больше хвастовства и самолюбования пустоголовой еще девчонки, польщенной вниманием столь неординарного человека, который на добрый десяток лет старше ее родителей.
– Какая Муромцева все-таки дура! Воображает, что он никогда не изменял ей. И даже сейчас корчит из себя королеву! – исходит змеиным ядом Каневская, высокая кокетка, чьи роли по большей части постепенно и плавно перетекли к Муромцевой. Она до сих пор не может пережить подобного конфуза и потому особенно рада унижению Полины. – Вы знакомы с Катенькой Луневской? – спрашивает она у Полины на генеральной репетиции, и глаза ее так невинны, а голос столь безмятежен, что можно было бы обмануться, не знай Полина, что перед ней актриса, хотя и не слишком великого таланта, но все ж одна из лучших на сцене Североеланского театра.
– Нет, мы с ней незнакомы! – подчеркнуто сухо отвечает Муромцева и хочет уйти в костюмерную, чтобы примерить платье, в котором Джульетта впервые встретит своего Ромео. Но ей не дают уйти. Каневская заступает ей дорогу уже на пару со своим любовником, сыном директора театра, Сергеем Зараевым. Он намного ее младше, довольно успешен в ролях второго, иногда первого плана, но предпочитает находиться под каблуком своей вздорной возлюбленной. По обычаю он больше молчит, но для Каневской главное, что говорит она, потому что знает, вскорости этот диалог станет известен Зараеву-старшему, а ведь известно: капля камень точит…
– Стран-но, – произносит она слегка нараспев и пожимает плечиками. И эти высоко поднятые плечи, злой блеск глаз, кривая многозначительная ухмылка договаривают остальное и воспринимаются Муромцевой крайне болезненно, но она – великая актриса, и потому остается внешне бесстрастной и даже равнодушной. Только после втихомолку плачет в своей гримерной, потом долго пудрится, чтобы скрыть красные припухшие веки, но на людях она все та же Полина Муромцева: слегка надменная и отстраненная с врагами и радушная и приветливая с друзьями.
В ее доме постоянно обедают пять-шесть «маленьких» артистов, которые получают не больше двадцати рублей в месяц и ютятся на жалких квартирках и в убогих номерах с раздавленными по стенам клопами. По этой причине тоже находятся любители позлословить. Дескать, ей ничего не стоит держать открытый стол при том содержании, которое ей положил Савва Андреевич.
И никому невдомек, а она это не афиширует, что с первых мгновений их связи она твердо заявила, что не будет содержанкой. И отказывалась от любой помощи деньгами, даже когда в них нуждалась во время болезни. Да и к подаркам Булавина относилась крайне щепетильно, принимая лишь те, которые он ей дарил на бенефисах.
– Что странно? – Савва Андреевич неслышно подошел к ним сзади и подхватил последнюю фразу Каневской. Муромцева быстро оглянулась, и ей показалось, что она видит тревожный блеск в его глазах.
А Каневская торжествует.
– Ах, это вы? – Она очень умело изображает растерянность при виде Булавина, но тут же наносит по-змеиному молниеносный и беспощадный удар: – Удивительно, но Полина до сих пор незнакома с Катенькой Луневской. Говорят, она обещает вырасти в необыкновенную красавицу. Почему бы вам не познакомить их? Ведь вы сами так часто с ней катаетесь и даже обедаете в ресторане «Бела-Вю»…
Савва Андреевич ловит быстрый, пронзительный взгляд Полины и неожиданно для себя краснеет, как нашкодивший мальчишка. И тогда она молча поворачивается и уходит на сцену.
А потом получает это письмо. И слезы весь день напролет. А вечером – бенефис, где она первый раз умерла, увидев своего Ромео мертвым. А потом она умерла вторично, когда после спектакля Савва Андреевич пришел к ней в гримерную с огромной корзиной ее любимых белых орхидей и она тихим, равнодушным голосом попросила его больше не тревожить ее своим вниманием и не появляться впредь ни здесь, ни в ее доме.
И он ушел, потому что она наотрез отказалась выслушать его объяснения, и не показался ни на традиционном банкете, ни позже, когда она вернулась домой.
В эту ночь она многое передумала. И прежде всего старалась быть безжалостной к самой себе, а потом уж к нему.
Да, он был романтиком в душе, но всю жизнь он только тем и занимался, что легко заводил связи и нарушал клятвы, поэтому не верил в добродетель и тайно ревновал ее ко всем поклонникам и артистам театра. Савва Андреевич не был отъявленным циником по натуре, но все ж его смущал огневой темперамент любовницы. И он почти бессознательно выработал своеобразную тактику: лишь только на горизонте возникала хотя бы тень предполагаемого соперника, он удваивал свое внимание и ласки и как бы старался утомить любимую женщину, насытить ее любовью, усыпить ее любопытство и жажду новизны, которые он исправно приписывал ей, но никогда не смел заявить об этом вслух. Задача была не из легких в его годы.
И самое печальное было в том, что он никак не мог или не хотел понять, что она никогда не была чувственной, она была только страстной. И способна была прожить без любовных утех и год, и два, если сердце ее молчало, и отдавалась мужчине только любя…
К утру, уткнувшись носом в промокшую подушку, она поняла, что окончательно потеряла его любовь, но не уважение к себе. И теперь с ней остались лишь громкая и заслуженная слава да сорок лет жизни за спиной.
Слава! Что в этом слове для нее? Она добилась признания, удача не обошла ее стороной. Она получает самое высокое жалованье в театре – триста рублей ежемесячно. Но кто знает, какой ценой все это доставалось! Кому, кроме нее самой, известно о тех бесконечных бессонных ночах, болях в сердце, жутких мигренях, когда кажется, весь мир насквозь пропитан уксусом, которым горничная смачивает полотенце и прикладывает к ее вискам.
Да, она заняла в театре высшее, признанное всеми место. Она ездит на гастроли. Имя ее, отпечатанное на афишах крупным жирным шрифтом, дает полные сборы по всей Сибири. Публика встречает и провожает ее овациями, и за кулисами она держится гордо и надменно, как истинная королева. Дружбу с женщинами она почти не признает. И всем без исключения говорит «ты», кроме губернатора и директора театра, а ей все говорят «вы», кроме, пожалуй, двух-трех друзей, которых она знает по совместной работе еще там, в России…
Для североеланцев все, что за Уралом, – Россия, а здесь словно другое государство – Сибирь, – огромное и дикое, богатое и бедное одновременно. И здесь она почувствовала себя еще более несчастной и одинокой, чем там, в далекой и теперь уже недосягаемой России.
Она почти богата благодаря гастролям, бенефисам и подношениям. Первейшие толстосумы губернии готовы целовать пол, по которому она ходит. Никому из актрис не подносят столько дорогих подарков во время бенефиса, сколько приходится их на долю Полины Муромцевой.
Купцы раскошеливаются на ценные сервизы, меха, драгоценности, промышленники щеголяют друг перед другом оригинальностью подношений и их баснословными ценами. И те и другие платят по пятьсот и более рублей за ложу. Дом у нее – полная чаша, свои лошади, своя дача, где она отдыхает летом, семь человек прислуги. Ей завидуют, ее боятся. Ее боготворят и ее ненавидят. Но никто даже не подозревает, что ее съедает одиночество. Она – одинокий остров в бурном море. В море обожания, лести, цветов, любовных посланий, злобных перешептываний и лицемерного сочувствия.
Все знают, Полина Муромцева – известная покровительница молоденьких актрис, всех дебютанток, которых травят и преследуют мужчины. Чтобы получить приличную роль, они должны переспать или с антрепренером, или с режиссером, или с «первым любовником», а часто со всеми тремя по очереди… Она всегда горячо вступается и яростно защищает женщин, будь то актриса или простая гримерша. У нее редкая черта, вернее, признак истинного таланта: она просто не способна к зависти и радуется каждому свежему дарованию и помогает ему, чем может, усердно и настойчиво расчищая ему дорогу на сцену. Ее кошелек и дом всегда открыты для желающих.
Но с врагами Муромцева беспощадна. Обид она никогда не забывает и не прощает. Она давно уже поняла, сколь сильна и убийственна сила смеха. И за кулисами, и в обществе она не скупится на язвительные характеристики и прозвища тем, кто ненавидит ее или откровенно, по-черному завидует ее красоте, славе, успеху у мужчин, и потому нет-нет да и бросит гаденькое словечко вслед или пустит злобный слушок за ее спиной.
Но грязь не липнет к ней, хотя – ох! – сколько раз пытались ее измазать дегтем и даже обвалять в перьях. Из любой переделки она всегда выходила с гордо поднятой головой и становилась еще красивее и соблазнительнее.
Сцена всегда была для нее жертвенным алтарем, на котором сгорают в два раза быстрее, потому что здесь успевают за одну жизнь прожить десятки, а то и сотни других. Сюда поднимаются умирать и возрождаться, любить и ненавидеть, радоваться и страдать, терпеть и надеяться, верить и ждать. И раз за разом воплощаться в своих героев, отдавая им часть своего тепла, души, здоровья.
И так из года в год – только дарить, дарить всю себя без остатка, без всякого снисхождения к самой себе… Забыть про собственное горе, слезы, болезни… Забыть, что печаль съедает и сушит сердце… Забыть о том злобном письме, подброшенном в гримерную незадолго до ее бенефиса, всего за несколько часов до ее небывалого триумфа, к которому она шла все эти долгие годы…
Муромцева зябко поводит плечами под тонкой турецкой шалью. Она хорошо понимает, что ее время безвозвратно уходит. Еще два-три года, от силы пять, и она будет вынуждена передать многие свои роли другим, может, не столь талантливым, но молодым актрисам.
Она подходит к окну. На дворе вовсю бушует весна, и оно открыто. Недавно распустилась сирень, и все вазы в доме и здесь, в гримерной, заполнили огромные бело-сиреневые букеты, издающие тонкий, будоражащий душу аромат. В клетке за ее спиной заливаются канарейки. Но даже весна ее не радует. Лицо ее враз осунулось, пожелтело, в глазах угрюмая, почти смертельная тоска.
Утром у нее в доме побывал ее старинный приятель, актер Шапарев. Он спрашивал у нее ответа: согласна ли поехать на гастроли по уже известному маршруту – Иркутск, Томск, Омск… Тогда она сомневалась, выспрашивала подробности и условия.
– Труппа подобралась неплохая, – объяснял Шапарев. – А примадонны нету. Откажешь, все рассыплется.
– Возьмите Палинецкую, – советует она равнодушно.
Но Шапарев удрученно качает головой.
– Таланта нету, милая. И имени нет.
– Зато как хороша, молода, стремительна! Куда нам, старухам, с такими кобылками тягаться?
Шапарев громко сморкается в огромный клетчатый платок. Его разбирает смех. Но какова? Впервые он видит, чтобы Муромцева ревновала к молодости.
– Для сцены, красавица, молодость – вещь дешевая, – говорит он назидательно. – И годы при таланте значения не имеют. До известной границы, конечно. Ну, а тебе до подобных границ еще ой как далеко! Хе-хе!.. Знаешь поговорку: в сорок лет – маков цвет! В сорок пять – баба ягодка…
Но она жестко смотрит на него и не дает закончить фразу.
– Я устала. Я хочу уйти.
Шапарев делает преувеличенно большие глаза, приподнимается с кресла и начинает мелко крестить воздух.
– Очнись, Поленька! В твои-то годы на покой? Твое же имя единственное, которое дает полные сборы по всей Сибири! Ты бы уж сразу тогда напрямки в монастырь.
Муромцева хмурит тонкие брови. Пальцы ее нервно перебирают и накручивают на палец бахрому шали.
Шапарев наблюдает за ней и мысленно сетует. Неужто и впрямь безумно влюблена в Булавина? Но почему ж так решительно дала ему отставку? Да и что, спрашивается, она нашла в этом славянском шкафе? Так он слегка презрительно называет Савву Андреевича про себя, потому что один из немногих знает: Муромцева никогда не была его содержанкой.
Шапарев вздыхает и вновь оглушительно сморкается в свой безразмерный платок. Э-хе-хе, хе-хе! Молодости свойственно заблуждаться, а старости – сомневаться. И это один из законов подлой жизни! Но чего, спрашивается, страдать? Кругом одни воздыхатели: купцы, промышленники, офицеры… И свой брат-актер. Выбирай любого! Но она запала на этого грузного, стареющего ловеласа, и, кажется, даже свет померк в ее глазах после столь непонятного ему, Шапареву, разрыва?
И он действительно многого не понимает! Булавин увлекся девчонкой… Тридцать пять лет разницы! Нет, это не поддается ее разумению, и от этого она страдает еще больше, а обида и унижение чуть ли не убивают ее. Ведь он выбрал не душу, не ум, не талант, он выбрал юное тело… Но она ни за что не станет бороться за свое место в его сердце. Она знает на собственном опыте, что насильно мил никогда не будешь!..
Но вслух говорит:
– Брошу года на два сцену. Уеду за границу, отдохну, подлечусь, мир посмотрю. Я так устала от этой мишуры и злословия. Мне так хочется отдохнуть.
– Ты в своем уме, Поленька? – Лицо Шапарева вытянулось. Он соскочил с кресла и принялся нервно ходить по комнате и даже заламывать руки от отчаяния. Она внешне спокойно следила за ним взглядом.
– Ты ведь умрешь без сцены, – в голосе его слышны неподдельные слезы. – Ты ведь сама себя не знаешь, Полюшка. Ты за этой границей будешь задыхаться, как рыба на песке. И еще больше будешь мучиться, страдать, изнывать от тоски и ностальгии. – Он опять плюхается в кресло и страдальчески прикрывает глаза ладонью.
– Я все прекрасно понимаю, – отвечает она. – Но потом я вернусь…
– Потом? Шутка сказать! Потом уже старость, Полюшка!
– Ну что ж! Я ведь не «простушка». Перейду прямо на старух. Только не здесь, где всяк меня знает и видел на первых ролях. Уеду в тот же Тесинск. Там, говорят, неплохой театр, и режиссер молодой, но большой умница. Ты меня знаешь, я и в роли старух кого угодно переплюну. А тут мне все постыло! Пойми, дорогой, куда ни гляну здесь, куда ни выйду – тоска! Североеланск мне уже могилой кажется…
Ее голос срывается. Она подходит к окну, долго смотрит в него, потом тихо говорит:
– Как пахнет! – Она, кажется, не может надышаться ароматом сирени. Крылья ее тонкого носа чувственно подрагивают. – Божественный запах! – Голос ее звучит скорбно, и Шапарев чувствует, что она еле сдерживает слезы.
Он встает с кресла, кряхтя и отдуваясь, берет ее маленькие руки в свои большие.
– Не откажи, Полюшка, старому товарищу. Конечно, такая примадонна, как ты, нам не по зубам. Но львиная доля доходов – твоя! А без тебя мы зубы на полку положим, ей-богу, не вру! Да ты и сама это прекрасно понимаешь! Слышала, какие убытки в этом году все антрепризы понесли? Воют, матушка, с голоду!
Муромцева знает, что Шапарев даже не посмел бы подойти к ней с подобным предложением, будь у них все ладно с Саввой Андреевичем. А теперь их разрыв развязал руки многим, и ему в том числе.
Она не отнимает руки и вяло интересуется:
– А кто еще едет?
Шапарев быстро перечисляет имена. Некоторые ей интересны, некоторым она помогала, но есть два или три имени, которые она на дух не переносит. Но вынуждена признать, что труппа действительно подобралась недурная, правда, все ж не дает Шапареву окончательного согласия, обещая подумать. И он уходит ободренный, ведь не отказала же…
Сегодня суббота, в театре нет представления. Муромцева отдыхает, но уже по традиции приезжает в гримуборную. Следующая неделя – последняя, когда театр дает свои лучшие спектакли, прежде чем актеры разъедутся на гастроли. Поэтому она решила посвятить этот день тому, чтобы разобрать вещички и рассмотреть, что лишнего скопилось в комодах и в столах. Что-то выбросить, что-то отвезти домой.
Она непременно заберет с собой комнатные цветы и клетку с канарейками. И, пожалуй, примет предложение Шапарева. Лучше два месяца скитаться по гостиницам, чем просидеть их на даче в окружении кошек, собак и прислуги. Конечно, она будет кататься верхом и в коляске, съездит на пасеку, где у нее с десяток ульев, опять попробует доить корову…
Но она всегда будет помнить, что в полусотне верст от ее дачи – Североеланск, и для Саввы Андреевича никогда не составляло особого труда прискакать к ней хоть в ночь-полночь…
За ее спиной что-то упало и покатилось по полу. Она вздрогнула и стремительно оглянулась. И увидела эти огромные темные глаза… Господи, она же не одна! Совсем забыла, что пригласила прийти кого-нибудь из костюмерной и привести в порядок несколько ее театральных костюмов, до которых раньше не доходили руки.
Девушка в скромном ситцевом платье с кружевной косынкой на плечах испуганно смотрит на нее, ее пальцы сжимают наперсток. Вероятно, это он стал источником шума, который на время отвлек Муромцеву от горьких размышлений.
Муромцева вглядывается в девушку и пытается вспомнить, где она видела эти скорбные глаза, это точеное личико, смуглое, с нежным, едва заметным румянцем на скулах, отчего кажется, что кожа ее излучает какой-то особый свет. Но ничто не может затмить сияние этих очаровательных глаз! А мимика-то, мимика! Боже, насколько она богата и выразительна! Мгновенный испуг, и тут же – удивление, восторг, растерянность… и обожание! Непомерное! Всеобъемлющее! Завораживающее! Девочка смотрит на нее, как на чудо, как на богиню, спустившуюся на грешную землю… Ее глаза полны благоговения.
И Муромцева вспоминает! Эти глаза провожают и встречают ее за кулисами все пять лет, что она пребывает в Североеланске. Она настолько привыкла к ним, что не замечает их, но если б они исчезли, почувствовала бы растерянность и беспокойство. Как хорошо встретить такие глаза в этом жестоком мире, полном лжи, предательства, клеветы!.. Встретить такое яркое, такое непосредственное чувство, найти душу, не исковерканную, не изуродованную еще жестокими реалиями бытия, серостью будней и сумятицей жизни…
– Ты кто? – спрашивает она и опускается в кресло. Ее взгляд охватывает всю фигурку девушки с ног до головы. Она определенно хороша собой. Высокая шея, изящная линия плеча. Глаза – самое большое ее достоинство, губы полноваты, рот, возможно, несколько великоват. Но именно эта несоразмерность и является той изюминкой, которая выделяет эту девчушку из числа записных красавиц, лица которых идеальны, но забываются в первую же минуту после знакомства.
– Ты кто? – опять, но уже более ласково, повторяет Муромцева, желая ободрить эту чудную девушку, от одного взгляда на которую у нее странно заныло сердце.
– Вера… Вероника Соболева, – отвечает девушка. Она не опускает ресниц и смотрит на нее, как верующая на образ. – Я здесь в ученицах… Блонды пришиваю…
И голос у нее хорош… Грудной, глубокий, гибкий…
Мгновение молча они смотрят в глаза друг другу. Всего мгновение, но зрачок в зрачок.
«Удивительные глаза, – опять думает Муромцева. – Длинные, горячие, сверкающие. Они все говорят без слов». И снова спрашивает:
– Сколько тебе лет? Ты замужем?
– Семнадцать минуло, сударыня. Я сирота и девица.
– Ты одна живешь?
– Нет, у меня брат на руках. Ему двенадцать всего. Своим трудом живу. – И уже тише добавляет: – Бабушка у меня всю жизнь при театре… Костюмершей… Потому и меня взяли, когда она в прошлом году померла.
– Грамоте знаешь?
– Знаю, сударыня, – кивает она.
И тут Муромцева не выдерживает. Придвигает к ней свое кресло и заглядывает в эти удивительные глаза.
– Любишь театр? – спрашивает она быстро и шепотом, слегка задыхаясь. Ей не надо ответа. Она уже знает его, но все ж удивляется тому потоку огня, который выплескивает на нее эта девочка.
– Люблю, – столь же тихо и страстно звучит в ответ.
И вдруг ее словно прорывает. Девичий голос дрожит, его хозяйке надо успеть слишком много сказать, пока Муромцева не оттолкнула ее, не сослалась на недостаток времени.
– Я выросла в театре. Бабушка приносила меня сюда еще в корзине. Я все роли знаю. И мужские, и женские… Я помню ваш дебют пять лет назад. Это была Офелия, и вы так замечательно пели…
Муромцева машинально произносит слова королевы Гертруды:
– Ах, бедная Офелия!.. Что ты поешь?
Вероника смотрит на нее безмятежно-отрешенным взглядом, на лице улыбка, робкая, слегка растерянная. Она словно не понимает, чего от нее хотят, что с ней происходит.
– Что я пою? – спрашивает она. Нет, не она… Офелия. – Послушайте, какая песня… – И, потрясая сердце великой актрисы, на всю гримерную зазвенел, зарыдал богатый девичий голос…
Муромцева потрясена. Откуда в этой девочке столько страсти? Откуда ей знать, что испытывает женщина, чьим смыслом существования была любовь? Откуда в ней подобные метания души, гибнущей оттого, что любовь не просто уходит, ее безжалостно отнимают?..
Схватившись за голову, Вероника рыдает. А Муромцева обнимает ее и рыдает вместе с ней. Но это слезы очищения. Она опять деятельна и энергична. И вновь свет горит в ее прекрасных глазах, а лицо сияет восторгом. Теперь она знает, кому передаст со временем свои роли.
В течение часа она утрясает все дела. Конечно же, Верочка едет с ней на гастроли. Конечно же, ее братишка поживет это время у нее на даче под присмотром молочницы. Конечно же, они сейчас же поедут по магазинам и приобретут все необходимое из одежды, обуви, белья и всего прочего, в чем нуждается всякая красивая девушка ее возраста.
Муромцева буквально летает по театру, она оживлена и улыбчива. И все несказанно удивлены столь чудесному превращению уставшей от жизни женщины с потухшими глазами в богиню с пылающим взором. И никому не дано понять, что у нее появился смысл жизни. Она не желает расставаться с Верой ни на минуту. И уже вечером девушка вместе с братом переезжают к ней на квартиру. Она больше не чувствует себя одинокой. Только где-то далеко-далеко, в самом потаенном уголке ее сердца, осталась еще крошечная точка, которая по-прежнему саднит и ноет, но это уже не та боль, которая свивала все ее чувства и разум в тугую спираль. Теперь эта боль всего лишь напоминание о человеческой низости. Напоминание о том, как похоть победила любовь…
Этой ночью она впервые не вспоминала Савву Андреевича. Но о Вере тоже не думала. За нее она была спокойна. Девочка попала в более чем надежные руки. В ее руки.
А в памяти неожиданно всплыло другое лицо. Лицо девушки, которая столь же глубоко ненавидела театр, сколь Вероника и сама Муромцева его любили. Девушка, которая тоже выросла рядом со сценой, но мечтала вырваться из театра, как мечтает вырваться на свободу дикая птица, попавшая в силки птицелова…
За несколько дней до болезни в гримерную к Муромцевой постучался театральный суфлер Гузеев и попросил посмотреть его дочь. Помнится, она очень удивилась, что у него есть дочь. Он казался ей очень старым. Угрюмый, с лицом, сморщенным, как печеная картофелина, чуть выше среднего роста, сутулый, с одной ногой короче другой, он вызывал в ней чувство жалости и, одновременно с этим, неосознанный, почти животный страх.
Позже она, конечно, узнала, что лет двадцать назад он был великолепным трагиком, но пил и, по пьяному делу свалившись в оркестровую яму, повредил ногу. Поначалу его жалели, давали роли лакеев или те, где не требовалось передвигаться по сцене. Но он пил все больше и дебоширил все чаще. Жена его была несравненной красавицей и очень талантливой актрисой. Он ее безумно любил и столь же безумно ревновал ко всем без исключения. Были безобразные сцены, которые он закатывал на людях, на репетициях, в гримерной, дрался с ее поклонниками и, по слухам, пытался вызвать на дуэль нынешнего вице-губернатора Хворостьянова, тогда еще молодого чиновника…
Но жена его вскоре умерла, а Гузеев неожиданно остепенился, и его охотно взяли суфлером, потому что голос у него был замечательный. Он четко и проникновенно выговаривал слова, знал все мизансцены.
И Муромцева хорошо помнила, как он «водил» ее по сцене, когда она впервые сыграла Корделию в «Короле Лире». Этот спектакль пришлось готовить на скорую руку только потому, что какому-то высокопоставленному столичному чиновнику, пребывавшему в Североеланске с ревизией, вздумалось его посмотреть…
Дочь его оказалась очаровательной девушкой, столь же красивой, сколь и бестолковой. Она запиналась почти на каждом слове в монологах, перепутала все на свете в басне, пыталась танцевать, но была настолько неуклюжа, что чуть не свалила на пол вешалку с одеждой, и безбожно врала мелодию, когда Полина попросила ее спеть пару песенок. Лицо Гузеева исказили отчаяние и какая-то мрачная озлобленность, когда Муромцева удрученно развела руками и произнесла с искренним огорчением:
– Я очень сожалею, но ваша дочь не рождена актрисой! – И заметила, как в это мгновение изменилось лицо девушки. Ее глаза сверкнули торжеством, и этот огонь сказочно преобразил ее лицо, чтобы тут же уступить место прежнему выражению, слегка туповатому и равнодушному. И тогда Муромцева попросила Гузеева оставить их наедине.
Старик вышел, а она приказала девушке немедленно признаться, в чем дело, зачем она строит из себя непроходимую дуру и бездарь, когда отец с такой силой желает видеть ее актрисой. И тогда эта паршивка упала на колени, умоляя ее простить и не выдавать отцу, потому что она всей силою своей души ненавидит театр. Ведь сколько она себя помнит, вокруг нее был только театр, театр и снова театр. Отец изводил ее многочасовыми репетициями: ставил голос, учил двигаться по сцене и танцевать. Она днями напролет зубрила сложнейшие роли из классических пьес, порой понимая в них не более десятка слов. Но отцу и этого было мало. Он ставил ее на колени в угол на всю ночь, если она не могла осилить роль в отведенные им сроки. С настойчивостью маньяка он пытался привить дочери любовь к театру, но добился обратного – она его люто возненавидела.
Девушка призналась Муромцевой, что с детства мечтала стать художницей. Много рисовала, но отец уничтожал все ее рисунки. Месяц назад она встретилась с замечательным человеком – художником Василием Сухаревым. Ему тридцать пять лет, но он уже знаменит и богат. Он окончил Академию художеств с золотой медалью. У него дом в Москве и дача в Италии. Его картина «Нападение разбойников на купеческий обоз» выставлялась в Париже и получила высшую награду – Золотую медаль Французской академии. Но он каждое лето приезжает на родину, в Североеланск, в гости к родителям. Живет почти все лето, ведет бесплатные классы для желающих, а с некоторыми учениками занимается индивидуально. С ней тоже. И теперь она тайком бегает на его занятия, оставляет в мастерской у Сухарева свои работы, мольберт, этюдник, а запачканные в краске руки оттирает керосином и только тогда возвращается домой.
В этой девушке Полина почувствовала такую же несгибаемую силу духа, которую знала в себе, поэтому отпустила ее с богом и не выдала отцу. После этого они стали раскланиваться с суфлером, только Гузеев постарел еще больше, а по театру ходил и вовсе не поднимая головы. Она очень жалела старика, но что она могла поделать, если его дочь уже выбрала свою судьбу…
Полина Аркадьевна Муромцева прочитала шепотом молитву, перекрестилась на образа и потушила лампу. И впервые за последние дни заснула, чувствуя себя спокойной и почти счастливой…
Глава 1
Алексей проснулся от непонятного шума за дверями спальни. За окнами было темно, а когда он бросил взгляд на часы, оказалось, что они показывают десятый час вечера. Выходит, он поспал не больше двух часов, но кому вздумалось ломиться в его спальню? Он прислушался. Несомненно, кто-то ругается и, несомненно, голосом няньки.
– Не пушшу! Дай дитю выспаться! Он же только прилег! – Ненила пыталась говорить шепотом, но эти звуки в тишине сонного дома слышны были очень отчетливо, равно как и бурчание, издаваемое явно мужчиной.
Делать нечего! Придется подниматься. Скорее всего, за ним прислал Тартищев. Но что, интересно, успело случиться за столь короткий срок, если Федор Михайлович нарушил свой же приказ, по которому предоставил ему и Ивану короткий отпуск «за особые заслуги в задержании опасных преступников»? Кажется, так звучала эта строчка в приказе? Они действительно поработали на славу! Целую неделю весь состав уголовного сыска находился на ногах. Ели чаще всухомятку, где придется и что придется, урывками дремали на жестких казенных столах и стульях. Но усилия увенчались успехом. Шайка головорезов осетина Махмута, несколько месяцев подряд наводившая ужас на жителей города и ближайших уездов, была захвачена в полном составе на засаде, а сам предводитель тяжело ранен. И сегодня в тюремной больнице ему отняли ногу.
Алексей оделся, достал из-под подушки и положил во внутренний карман сюртука свой «смит-вессон», проверил, на месте ли амулет, и вышел из спальни. Ну, так и есть! А он еще сомневался! Иван Вавилов, красный как рак, пытался в чем-то убедить няньку, а она, не смотри, что старая, уперлась в его грудь руками и настойчиво выталкивала из гостиной. Алексея она не видела, потому что находилась к нему спиной. И продолжала шипеть на Ивана, словно рассерженная гусыня:
– Иди ужо! А то барыню позову! Никакого продыха дитю от вашей работы!
– Ненила Карповна! – Иван тщетно пытался отвести ее руки от себя, но тут заметил Алексея и расплылся в радостной улыбке. – Да вот же оно! Дитё! Малыш наш дорогой! И не спит вовсе!
– Что случилось? – спросил Алексей, демонстративно не замечая, что Иван вновь назвал его Малышом, кличкой, которая прочно прилипла к нему чуть ли не с первых дней его службы в уголовном сыске. Он уже держал в руках шинель, потому что понимал – просто так Иван среди ночи не примчится. Видно, новая тревога, если Тартищев прервал их двухдневный отпуск, который продлился не более трех часов.
Нянька махнула обреченно рукой и деловито справилась:
– Чаю попьете?
– Некогда, Ненилушка Карповна, некогда, голубушка! – пропел ласково Вавилов, прижимая руку к сердцу. И тут же быстро проговорил, обращаясь уже к Алексею: – Коляска у крыльца. Тартищев велел немедленно гнать на Толмачевку, там перебита вся семья лесозаводчика Ушакова. Сам он остался жив, но, говорят, чуть ли не помешался от горя. Федор Михайлович уже там…
До Толмачевки, района города, где размещались особняки известных богатеев и дом вице-губернатора Хворостьянова, добрались за полчаса. И за это время Иван, которого поднял с постели сам Тартищев, успел вкратце рассказать Алексею о трагедии, случившейся в доме одного из самых влиятельных и известных в городе людей, Богдана Арефьевича Ушакова.
Сегодня – четверг второй недели Великого поста. Жена Ушакова Анна Владимировна вместе с младшим сыном Темой в сопровождении горничной Глафиры Молчановой отправилась после обеда на коляске, которой управлял кучер Никифор Бильден, на именины к послушнице Вознесенского девичьего монастыря Евдокии Голубевой. От дома Ушаковых до монастыря четверть часа езды. Анна Владимировна приехала в монастырь в три часа пополудни и осталась там вместе с сыном, отправив горничную и кучера обратно.
В это время сам Ушаков, его шестидесятилетняя мать Евдокия Макаровна и старший сын Николай, гимназист третьего класса, оставались дома.
В пять часов вечера Ушаков собрался в город по делам и велел горничной ехать за женой. Анна Владимировна была известной актрисой, но после того, как вышла замуж, на сцену выходила редко, больше для удовольствия. После внезапной смерти примадонны театра Муромцевой некоторые роли Полины Аркадьевны перешли к ней, и сегодня она играла в спектакле по пьесе Полевого «Нино». Муж обещал подъехать к началу спектакля, а после него они должны были еще побывать на музыкальном салоне у губернаторши, где предполагалось, что Анна Владимировна споет пару романсов, на которые была великая мастерица.
Нянька Темы Василина Кулешова часа в четыре пополудни отправилась к вечерне и зашла по пути к своей давней приятельнице вдове коллежского секретаря Сорокина. Вдвоем они погуляли на бульваре, прошлись по галантерейным лавкам, побывали в церкви, разговелись, вдоволь посплетничали и сговорились встретиться в субботу, чтобы сходить к Всенощной. Нянька вернулась домой, когда уже начало смеркаться, и увидела во дворе кучера Бильдена, который с самым растерянным видом разглядывал что-то на деревянном тротуарчике рядом с крыльцом черного хода.
Нянька, подивившись тому, что ворота до сей поры не заперты на засов, а дворник непонятно куда запропастился, закрыла за собой калитку и окликнула кучера:
– Что ты там увидел, Никиша? Неужто золотой нашел?
Никифор как-то странно посмотрел на нее:
– Иди сюда, Василина! Кажись, кровь! И будто кто ее заметал…
– Что ты городишь? – рассердилась Василина. – Небось на кухне петухам головы рубили! – И поперхнулась. С чего бы это? Пост ведь ноне.
Она торопливо перекрестилась и подошла к крыльцу. Никифор не ошибся, пятна крови на тротуаре были свежими, хотя их явно заметали метлой. Да вот и метла валяется. Василина взяла ее в руки, провела по прутьям рукой. На пальцах остались бурые пятна… Она испуганно посмотрела на Никифора, он не менее испуганно на нее. И тут нянька заметила башмак кухарки, который, оказывается, прикрывала метла. Она подняла его, он тоже был в крови. Совершенно новый башмак. Василина знала, что эти башмаки подарила кухарке хозяйка. И Катерина накануне вечером хвасталась в кухне обновкой и говорила, что Анна Владимировна очень довольна, как она стряпает, и обещала ей за это еще и полушалок к Троице…
– Света в доме нет, – почему-то шепотом сказал Никифор и боязливо оглянулся на окна. – Я как подошел, сразу заметил. Дома старуха должна остаться и парнишки… Почему свет-то не зажгли?
– А ты что ж, не повез хозяйку в теантер? – удивилась нянька.
– Да нет, – поскреб в затылке Никифор. – У Незабудки бабки на задних ногах воспалились, и Анна Владимировна распорядились поберечь ее пока. Сказали-с, что извозчика возьмут, а обратно, мол, с Богданом Арефьичем вернутся.
– Ты дверь-то смотрел, открыта али нет? – поинтересовалась нянька, не решаясь сама подняться на крыльцо. Слишком уж напугал ее вид Катиного башмака…
Кучер поднялся на крыльцо и подергал за ручку двери, которая вела на кухню. Она была заперта. И заперта на крючок изнутри.
Тогда они прошли к парадному входу, стараясь не смотреть на темные окна дома. Там было не только темно, но и необычайно тихо, потому что дом Ушаковых всегда был полон шума и голосов: звонких детских, ворчливого – их бабушки, пронзительного – горничной Глаши… А теперь дом замер и молча пялился на мир темными провалами окон, отчего стал сильно смахивать на огромный многоглазый череп. Представив это, Василина и вовсе принялась дрожать мелкой дрожью, хотя была тепло одета и не замерзла, и раз за разом осенять себя крестом.
Она все еще надеялась, что по какой-то причине хозяйка решила вывезти всех своих домочадцев в театр. И в то же время понимала, что вряд ли такое могло случиться. К подобным выездам в доме готовились задолго, как к великому празднику, и ее известили бы в первую очередь. Но в последние дни о поездке в театр даже речи не заходило, к тому же хозяйка ни за что бы не повезла мальчиков туда на извозчике. Наверняка заложили бы парадный выезд или наняли лихача. Бильден по этому поводу молчит, значит, его тоже ни о чем подобном не предупреждали… Но что ж эдакое могло случиться, чтобы дом внезапно, словно в одночасье, опустел?
Нянька и кучер потоптались около крыльца. Дверь была слегка приоткрыта, но они не решались преодолеть несколько ступенек и распахнуть ее… Наконец Никифор сбегал на конюшню за фонарем. Перекрестившись, они поднялись на крыльцо, потянули дверь на себя и завопили как резаные. У порога кто-то лежал в огромной луже крови, а в глубь сеней вела цепочка кровавых следов…
Ни нянька, ни кучер не помнили, как очутились на улице, и, подвывая на два голоса от ужаса, добежали до ближайшего будочника[5]… Через полчаса стало известно, что в доме убиты абсолютно все, кто в нем находился: жена хозяина, его мать, оба сына, дворник, кухарка и горничная. Семь человек! Часть из них застрелили, похоже, из револьвера, у других проломлены черепа. Младший сын Ушакова, четырехлетний Тема, был еще жив, когда приехали полиция и доктор, но состояние его было крайне тяжелым, и врач опасался, что его не довезут до Сухопутного госпиталя, куда мальчика отправили сразу же, как только полицейский врач оказал ему первую помощь.
Сам Ушаков, обеспокоенный тем, что жена не приехала к началу спектакля (из-за чего там сотворился форменный переполох и срочно пришлось вызывать дублершу), отправился домой и, обнаружив, что света в окнах нет, решил, что семья рано легла спать, и запер ворота на задвижку. Затем подошел к задней двери, принялся в нее стучать, но никто не ответил. Почувствовав неладное, он бросился к парадному входу и тут заметил, что в ворота входят двое городовых, околоточный надзиратель, нянька и кучер.
Боясь спросить, что случилось, бледный от ужаса Ушаков опередил их и вбежал на крыльцо. Околоточный настоятельно просил его не входить, пока не зажгут свет, но заводчик не послушался и тут же наткнулся на труп у порога. «Убиты!» – закричал он диким голосом и бросился по коридору в чайную и в столовую в поисках своих домашних. В это время внесли огонь. Богдан Арефьевич увидел трупы дворника и кухарки и упал в обморок… А полицейские продолжали осматривать комнаты. И воистину кошмарное зрелище открылось их взору!
Мать Ушакова убили выстрелом в голову в гостиной. Старшего сына – в детской за столом, где он готовился к урокам. В столовой, как известно, лежали дворник и кухарка. В сенях – горничная Глаша. Это на нее чуть было не наступили нянька и кучер. А на кухне, в углу, с опущенной на грудь головой сидела Анна Владимировна и плавал в луже крови четырехлетний Тема в расстегнутой шубке. Мальчик был без сознания и едва слышно стонал.
Горничная и хозяйка так и не успели раздеться. Обе остались в теплых салопах, только Глаша, в отличие от хозяйки, была простоволосой. Ее косынку нашли на полу кухни. Видно, убийца гнался за девушкой через комнаты и бил ее поленом по голове. Об этом говорили кровавые следы на полу и брызги крови на стенах. В сенях он нанес последний, смертельный удар и здесь же, рядом с трупом своей жертвы, бросил окровавленное полено. Тему он тоже убивал поленом, только меньших размеров.
На полу в зале обнаружили несколько разбитых пистонов от детского пистолета и три свинцовые картечи. На столе старшего мальчика также валялось несколько лент от использованных пистонов, но как ни старались полицейские найти детский пистолет, так его и не отыскали. Лишь в кухне нашли две пули неправильной конической формы, явно револьверные, закатившиеся под лавку и, судя по всему, утерянные убийцей…
Полицейский врач Олябьев переходил из комнаты в комнату, осматривал убитых и совершенно бесстрастно пояснял причины смерти. Евдокия Макаровна Ушакова лежала лицом вниз у входа в зал. Преступник выстрелил ей прямо в лицо. Может, потому, что она сразу узнала его и могла поднять крик? Но поначалу он расправился со старшим сыном Ушакова, иначе тот бы услышал первый выстрел, который убил его бабушку, и соскочил бы со своего места. Однако мальчик, судя по его позе, спокойно сидел за столом, когда убийца подкрался сзади, ударил его по голове тяжелым предметом, вероятно кистенем, и проломил ему череп. Стол, лежащие на нем книги, аспидная доска и грифель – все было в крови. Огромная лужа натекла под стулом…
Дворника убили выстрелом в шею, в кухарку выстрелили дважды, а потом проломили череп тем же кистенем. Анну Владимировну тоже застрелили в упор… Алексей ходил следом и записывал за Олябьевым скорбные сведения. И одновременно завидовал Ивану, который в это время рыскал вокруг дома и на пару с Корнеевым опрашивал соседей, их прислугу, дворников, будочника, околоточного надзирателя Хохлакова: не видели ли кого? Не заметили ли чего подозрительного в период с шести до восьми часов вечера, когда предположительно совершилось убийство?
Правда, Олябьев, осмотрев трупы, уже назвал более точное время: с шести до семи вечера.
Тартищев расположился в кабинете хозяина и беседовал с Ушаковым. По правде, ему досталась самая тяжелая обязанность. Богдан Арефьевич, потрясенный гибелью семьи, не таясь, плакал навзрыд и все порывался ехать к Теме в Сухопутный госпиталь. От него пока скрывали, что мальчик умер, как только санитарная карета отъехала от дома. Все понимали, что эту весть надо пока придержать, чтобы не довести Ушакова до безумия. Его показания были очень важны для сыска и могли сыграть существенную роль в раскрытии этого преступления. В первую очередь необходимо было понять его мотивы. Пока их напрашивалось два: месть и ограбление.
Версию мести Тартищев, подумав, на время отодвинул в сторону. При осмотре комнат его агенты обнаружили ключ, торчащий в выдвинутом на вершок ящике комода, который находился в супружеской спальне. Ушаков пояснил, что это ключ Анны Владимировны, который она всегда носила с собой, и не было случая, чтобы она оставила его без присмотра. Именно в этом ящике хранились в небольшой шкатулке деньги на хозяйство. И, похоже, из шкатулки исчезли полторы тысячи рублей, которые он сегодня утром передал жене на расходы.
Итак, грабеж! Но почему ж тогда убийца не забрал драгоценности, хранящиеся в этом же ящике, только в другой шкатулке, но больших размеров? Жемчуга, бриллианты, сапфиры… Богдан Арефьевич любил свою жену и не скупился на подарки. Добра этого скопилось никак не меньше, чем на сто тысяч рублей. Допустим, в спешке грабитель не обратил внимания на эту шкатулку, но он не мог не заметить, забирая у Анны Владимировны ключи, что на ней бриллиантовые серьги, колье и дорогие кольца, на горничной – золотое колечко и крестик, а старуха увешана камнями и золотом, точно рождественская елка игрушками. Но он взял только ключ, оставив драгоценности без внимания.
Непонятный какой-то грабитель оказался. Уложил столько людей, чтобы завладеть совершенно ничтожной суммой денег по сравнению с той, что он сумел бы выручить, продай даже за треть цены те драгоценности, которые хранились в одном лишь комоде?
Опять же сам по себе напрашивался вывод, что убийца бывал в доме Ушаковых и раньше. Он хорошо знал расположение комнат, не рылся в вещах, а целенаправленно снял со связки нужный ключ и открыл им нужный ящик. Свой, непременно свой мерзавец порезвился на всю катушку в этом доме…
Но все его действия словно нарочно подводили к одной-единственной версии: убийца пришел в дом, чтобы намеренно расправиться с его жильцами, а грабеж всего лишь умелая инсценировка! Тартищев все больше и больше склонялся к этой мысли, но Ушаков упрямо отрицал версию мести. Никто ему не угрожал, и он твердо знал, что за всю свою сорокалетнюю жизнь не причинял никому великих обид, которые смогли бы вынудить кого-то на столь жестокую месть!
Так и не добившись от Ушакова вразумительных объяснений случившемуся и заметив, что он готов вот-вот опять впасть в истерику, Федор Михайлович вручил его в руки доктору, и бедного заводчика тотчас увезли в госпиталь.
Глава 2
На смену заводчику появился Вавилов и доложил, что все ближние и дальние соседи Ушаковых в один голос заявляют, что выстрелов не слышали, подозрительных людей вблизи дома не видели. Околоточный надзиратель тоже утверждает, что его околоток самый спокойный в округе: ни тебе дебошей, ни тебе пьянства. А про воровство и грабежи и вовсе никто не помнит. С момента его заступления на службу, а это уже, почитай, с десяток лет прошло, отродясь ничего подобного не случалось на Толмачевке, и он ума не приложит, откуда такая напасть свалилась на Ушаковых. Можно было выбрать более богатые дома и семейства, если уж кому-то сильно захотелось погреть руки на чужом добре.
– Странные дела получаются, Федор Михайлович, – развел руками Иван, заканчивая докладывать о результатах опроса соседей. – Похоже, грабитель себе цель поставил непременно всех укокошить, а финажки взял, чтобы глаза нам отвести.
– Все к тому сводится, – вздохнул Тартищев, прикидывая в уме, что ему завтра утром скажет полицмейстер, если он не сумеет толково изложить более или менее правдоподобную версию преступления. Видимо, Батьянов уже успел доложить о случившемся происшествии и губернатору, и Хворостьянову. И утром надо непременно ждать вызова на ковер с отчетом о результатах первичного дознания. Ушаков – человек в городе известный, наверняка создадут по этому делу особую следственную комиссию, но предварительно ему, как начальнику уголовного сыска, тоже хорошенько расчешут гриву!
Впрочем, иначе и не должно быть. Столь дикого преступления в городе еще не случалось, по крайней мере, за время его службы в сыскной полиции, подумал тоскливо Федор Михайлович. Конечно, бывало, и не раз, что заезжие шайки вырезали семьи целиком, но там и добро чуть ли не возами вывозили, так что мотив был яснее ясного… Обычно подобные преступления совершались ночью, по наводке, а тут почитай среди бела дня. И действовал убийца не просто нагло, а просто до безобразия хладнокровно и цинично, похоже, нисколько не страшась, что кто-то застигнет его на месте преступления… Тартищев снова тяжело вздохнул и с остервенением потер многострадальный шрам на лбу. Правда, даже эта стародавняя привычка, с помощью которой он собирал в кучу разбежавшиеся мысли, пока не очень помогала… Слишком много уже набралось вопросов, но пока не нашлось ни одного вразумительного ответа…
– Чем Алексей занимается? – спросил он Ивана.
– Только что закончил с нянькой беседовать и кучером занялся.
– А что Корнеев?
– С Олябьевым отправились в мертвецкую. Доктор обещал к утру пули извлечь.
– Ладно, – Тартищев прихлопнул ладонью лежащие перед ним бумаги, – зови Алексея, если он закончил с кучером.
Через десять минут Алексей появился на пороге. Глаза его блестели, и Тартищев понял, что дело, кажется, сдвинулось с мертвой точки. Алексей прошел к столу, опустился на стоящий рядом стул, разложил бумаги и посмотрел на Федора Михайловича.
– Позвольте начать с кучера?
– Если считаешь нужным, валяй с кучера, – согласился Тартищев.
– Кучер – Никифор Петров Бильден, обрусевший немец, сорока двух лет от роду, уроженец Кузнецкого уезда Томской губернии, православного вероисповедания, в услужении у Ушаковых уже восемь лет. В пьянстве замечен не был, по словам няньки Василины Кулешовой, исключительно добросовестный и работящий мужик. Очень любит лошадей, пропадает на конюшне день и ночь, о детях так не заботятся, как он о лошадях. Хозяйку и мальчика в поездке в монастырь и обратно, как известно, сопровождала горничная. Туда она ехала вместе с барыней и мальчиком в коляске, а при возвращении забралась к кучеру на облучок, и всю дорогу назад подшучивали над ним вместе с Анной Владимировной, дескать, когда на его, Никифора, свадьбе гулять будут. Он ответил, как только она, Глаша, согласится за него выйти, так, мол, и погуляют. Глаша долго смеялась, а потом вдруг сказала, что она не против, только ведь он тут же после свадьбы опять на конюшню сбежит к своим лошадям. – Алексей поднял глаза от бумаг. – Кажется, девушка и впрямь нравилась Никифору. Он мне об этом разговоре рассказал и тут же принялся шмыгать носом и тереть глаза кулаком.
– А этот Никифор не мог ее приревновать к кому-нибудь, к тому же дворнику, например, и свести с ней и с ним счеты, а попутно и остальных приветить? – поинтересовался Иван.
– Нет, это исключено, – Алексей покачал головой. – Кучер на Отелло никак не тянет. Нянька говорит, что он очень спокойный человек, а мне он показался даже чересчур медлительным. Эдакий добродушный и несколько сентиментальный толстячок. Он о лошадиных болячках рассказывает и то носом хлюпает…
– Знавал я одного такого слюнявого портняжку, во-о-от с таким носом, – вытянул Вавилов перед собой руку чуть ли не на аршин, – так он, говорят, мух давил и плакал, а потом соседу горло бритвой р-раз! И всего-то за два вшивых рулона мануфактуры и паровой утюг. Причем этим же утюгом Корнееву череп чуть не проломил, когда мы его брали. А потом так уж на допросах плакал, так плакал…
– Иван, помолчи! – прервал его Тартищев. – Тебя я уже слушал.
– Одним словом, – продолжал свой доклад Алексей, – где-то около шести часов вечера Никифор подвез Ушакову, мальчика и горничную к дому. Он сам открывал ворота, потому что дворник куда-то запропастился. Коляска въехала во двор. Женщины и мальчик сошли с нее, и Никифор видел, как они задержались на некоторое время у заднего крыльца, а потом поднялись по его ступеням. Дворник, я думаю, незадолго до возвращения хозяйки зашел в дом с охапкой дров, потому что топил в доме печи. Отсюда, видимо, поленья, которые попали под руку убийце. И наверняка он их прихватил не на кухне, а в столовой, где дворник собирался растопить печь. Он успел сбросить дрова и тут же был убит выстрелом сзади.
– Не отвлекайся на дворника, – перебил его Тартищев, – продолжай по Никифору.
– Никифор распряг лошадей, поставил их в стойло. Затем сходил в кандейку, так он называет комнатку при конюшне, где живет все время, пока служит у Ушаковых, взял банку с мазью, тряпки и наложил повязки на бабки одной из лошадей. Второй конюх, Елисей Каштанов, утверждает, что Никифор все это время был у него на глазах и никуда из конюшни не отлучался.
– Каштанов тоже при конюшне живет?
– Нет, он семейный. Имеет свой дом на пенкозаводе. На субботу и воскресенье обычно уезжает к семье.
– Выстрелы они наверняка не слышали?
– Нет, конюшня находится на задах усадьбы, довольно далеко от дома.
– А вы не рассматриваете такой вариант, что, прежде чем вернуться на конюшню, наш кучер прошел в дом, хлопнул все семейство и прислугу, а потом спокойненько отправился лечить свою разлюбезную лошадку? – полюбопытствовал Иван.
– Тебе прямо вынь и положь не конюха, а монстра какого-то, – рассердился Алексей. – Я очень тщательно его одежду осмотрел и обувь. На подошвах есть следы крови вперемешку с песком. Но это он наступил, по его словам, на лужу крови в сенях, которая натекла с горничной. Нянька это подтверждает, как и то, что он с того крыльца, как кролик, сиганул с перепугу. И на одежде у него ни единого даже похожего на кровь пятна. Я проверил его руки, под ногтями ничего подозрительного. А ведь убийца хлестал и кистенем, и поленом направо и налево. Кроме того, я дал ему намеренно свой револьвер подержать, естественно, не заряженный. Так он, похоже, вообще первый раз в жизни оружие в руки взял. Не смог даже объяснить, как выстрел производится и как патроны в барабан вставляются.
– Ну, это я тебе совершенно бесплатно могу изобразить, и столько раз, сколько потребуется, – опять влез со своими подковырками Иван, – я таких артистов встречал… Им бы не у параши гнить, а арии на сцене исполнять!
– Если я завтра перед полицмейстером не отчитаюсь должным образом, арии ты у меня вопить будешь, – пригрозил Тартищев. – Покуда только языком хорош трепаться, а парню слова сказать не даешь.
– А что я? – обиделся Иван. – Я ж по ходу дела детали уточняю. Я ж не виноват, что при этом всякое вспоминается…
– А воспоминания тоже пока отложи. Вот как определю тебя на гауптвахту, там всласть почешешь языком. Вспоминай хоть сутки, хоть десять напролет о чем угодно, благо что недалеко от параши, – не выдержал и ухмыльнулся Тартищев. Но тут же опять посерьезнел и посмотрел вопросительно на Алексея: – Что, все у тебя о кучере?
– Я у него поинтересовался, кто в день убийства и накануне его побывал в доме из посторонних. Вот тут список, – передал он листок с фамилиями Тартищеву. – Партнеры Богдана Арефьевича, его племянник, подруга Анны Владимировны по театру, репетитор старшего мальчика, молочник, возчик с дровяного склада, посыльные, почтальон. Все хорошо известные в доме люди. Все они побывали до пяти вечера. Был ли кто после этого, он уже не видел.
– Хорошо, с кучером все понятно! Переходи к няньке.
Алексей придвинул следующую порцию листов бумаги.
– Нянька – Василина Акимова Кулешова. Тридцати двух лет от роду. Девица. Приехала в Североеланск из деревни Богуславка Каинского уезда. Нянькой ее приняли в дом Ушаковых по рекомендации давней знакомой Анны Владимировны, жены купца Мячина, у которого жила в няньках старшая сестра Василины Варвара. Лет восемь назад Варвара вышла замуж за одного из приказчиков купца и уехала с ним в Томск, где у Мячина торговые склады и крупяная фабрика.
– У этого Мячина… – опять открыл было рот Вавилов, но поперхнулся, поймав грозный взгляд Тартищева. И тогда Иван с вызывающим видом развалился на диване, заложил ногу на ногу и закурил.
Алексей продолжал свой доклад:
– В доме Ушаковых Василина живет с момента рождения старшего сына Николая, то есть более десяти лет. Тогда еще Анна Владимировна вовсю играла в театре, и мальчик вырос полностью на руках няньки. Младшим мальчиком, по ее словам, хозяйка занималась больше, чем старшим, но няньке тоже забот хватало. Тема был крайне болезненным мальчиком, избалованным и капризным.
– Не уходи в ненужные подробности, – предупредил его Тартищев. – Говори конкретно, что еще занятного нянька рассказала?
– По большей части то же самое, что и конюх. Правда, вспомнила гораздо больше имен посетителей, но это также все обычные в доме люди. По ее словам, что хозяин, что хозяйка известны в городе как люди добрые, не жадные, отзывчивые. Многим помогали, и изрядно, поэтому некоторые людишки, как Василина их называет, их добротой частенько пользовались, но резона убивать всю семью ни у кого из них не было. Кто ж будет убивать курицу, которая несет золотые яйца? А напоследок она рассказала мне, что… – Алексей сделал паузу и окинул Тартищева и Ивана многозначительным взглядом, – часа за два до отъезда хозяйки и Темы в монастырь в доме появился ученик шестого класса частной мужской гимназии Рейница Витольд Журайский, который три или четыре раза в неделю давал уроки старшему сыну Ушаковых. Николай был не слишком прилежным учеником и даже имел летнюю переэкзаменовку по арифметике и географии. Так вот, вместо того чтобы заниматься уроками, учитель и ученик принялись стрелять пистонами из детского свинцового пистолетика, который принес с собой Журайский, сначала в комнате у Николая, потом перешли в гостиную, появлялись на кухне, в столовой. Причем громко хохотали, когда кто-нибудь из прислуги пугался выстрелов. Горничная при этом тоже хохотала и всякий раз взвизгивала, когда Журайский направлял на нее пистолет и кричал: «Руки вверх!» или «Сдавайся!».
Маленький Тема бегал за озорниками хвостиком и умолял их дать ему хотя бы разок выстрелить из пистолетика. Мать хозяина пыталась их урезонить, но Журайский положил на стол в гостиной ленту с пистонами и ударил по ним рукоятью пистолета. Хлопок получился громкий, как при настоящем выстреле. Евдокия Макаровна даже подскочила на стуле от испуга и подняла крик на весь дом, особенно когда заметила на скатерти прожженные порохом дырки. За такие пакости мне в детстве тоже изрядно попадало, – усмехнулся Алексей и уточнил: – После этого за озорников взялась Анна Владимировна, отругала их и выдворила из комнат. Николая, кажется, оттрепала за ухо, а Витольду пригрозила, что откажет ему в репетиторстве, потому что он не умеет вести себя прилично в чужом доме. Мальчишки ушли в комнату Николая. Хозяйка в это время велела Василине собирать Тему в гости, а горничной приказала предупредить Никифора, чтобы он заложил экипаж для поездки в монастырь… – Алексей перевернул последний лист бумаги и накрыл его ладонью. – Вот, в принципе, и все, что мне рассказала нянька. Думаю, нам следует навестить этого Журайского, и немедленно. Хотя пистолет у него был игрушечный, но стрелять-то он стрелял… И потом, никто не знает, когда он ушел от Ушаковых.
– Сам Ушаков вообще про него не вспомнил, – уточнил Тартищев. – Вполне возможно, он об этом Журайском вовсе не знает.
– Да, детьми полностью занималась Анна Владимировна, – согласился с ним Алексей. – Василина говорит, что учителей она многих перебрала, пока не остановилась на Журайском. Дескать, молод еще, но не пьет, не сквернословит, и тем пяти рублям, что она ему платила в месяц, рад будет, так как вынужден сам зарабатывать, чтобы оплачивать учебу в гимназии. Мать у него старая, больная женщина.
– Про выстрелы Ушаков тоже не упомянул, вероятно, работал в кабинете, а здесь, насколько вы заметили, двойные двери, так что шум извне не пробивается. – Тартищев посмотрел на часы. – Четвертый час ночи. Самое собачье время, но делать нечего. Придется ехать к Журайскому. Пока этот гимназист – единственная зацепка в нашем гнилом деле.
Глава 3
– Итак, потрудитесь объяснить, милейший, с какой целью хранились в вашем доме охотничья дробь, порох и пули? – уже третий раз подряд задавал один и тот же вопрос Федор Михайлович Тартищев, но высокий молодой человек, широкоплечий, светловолосый и голубоглазый, про таких говорят: «кровь с молоком», по-прежнему молчал и лишь таращился на него круглыми от испуга глазами. Прежде розовые щеки юноши побледнели, лицо осунулось, а глаза то и дело косили в сторону нескольких человек в штатском, перетрясших и обыскавших все в доме, где он жил вместе с матерью и кухаркой. Ему уже объяснили, что это агенты сыскной полиции, а он сам подозревается в совершении тяжелейшего преступления. В соседней комнате приводили в чувство его мать, упавшую в обморок, стоило полиции переступить порог их скромного домишки на окраине Североеланска.
Во время обыска Витольд Журайский, сын отставного коллежского асессора, происходившего из дворян Виленской губернии, римско-католического вероисповедания, восемнадцати лет от роду, сидел, забившись в угол, под присмотром одного из городовых и с неподдельным ужасом на лице наблюдал, как сыщики выносят и складывают на столике в крошечной гостиной несомненные улики его злодеяния: мелкую дробь в двух жестяных банках, более крупную в матерчатых, а порох – в бумажных мешочках, а также четыре конические и две круглые пули.
Затем на чердаке в груде старой рухляди обнаружили пятизарядный револьвер с надставленным курком и испорченным барабаном, который при взведенном курке не прокручивался, а из-под крыльца извлекли металлический кистень. Его более тяжелая часть была покрыта засохшей кровью с прилипшими к ней волосами.
Увидев револьвер, Журайский тут же упал в обморок и, когда его попытались привести в чувство с помощью нашатыря, все равно ничего вразумительного пояснить не смог, только плакал и утверждал, что последний раз держал револьвер в руках два дня назад на Кузнецком лугу. Там он в компании с двумя приятелями-гимназистами пятого и седьмого классов Григорьевым и Есиковым стрелял по самодельным бумажным мишеням.
Вернувшись домой, Журайский оставил револьвер в кармане гимназической шинели, но на следующий день его там не обнаружил. И решил, что его забрала матушка, которая давно грозилась его выбросить. Матушка ни в какую не признавалась, и он, крепко с ней поссорившись, отправился на уроки к Ушаковым. С собой Журайский прихватил игрушечный пистолет, так как считал себя человеком слова и давно уже обещал Николаю показать настоящее боевое оружие, но из-за происков матушки пришлось ограничиться стрельбой пистонами. Для этих целей он приобрел на две копейки десять бумажных лент пистонов в галантерейной лавке купца Мохнатова.
Про кистень, смахивающий по форме на большой пестик, Журайский пояснял, что заказал кузнецу Алексееву сделать ему по рисунку балласт из сломанного безмена для занятий гимнастикой. Но кузнец отступил от рисунка и сделал одну из шишек на концах балласта больше другой. Журайский работу не принял и оплатить ее тоже отказался. Кузнец в сердцах бросил балласт в сенках и ушел, пообещав Журайскому при случае накостылять по шее. Сам Журайский не слишком обращал внимание на то, остался ли испорченный балласт в сенях или его куда-то убрали, чтобы не мешал под ногами. Но несколько дней он точно валялся в углу, потому что кухарка все время об него спотыкалась и по этому случаю громко ругалась.
Куда подевался из сеней этот балласт, действительно напоминавший по форме большой пестик, ни кухарка, ни мать Журайского вспомнить не смогли. Ну, валялась себе и валялась какая-то железяка под ногами, потом исчезла. Они подумали, что это Витоша прибрал ее в конце концов для своих надобностей, и тут же про нее забыли.
Что касается револьвера, мать Журайского рассказала, что сын принес его две недели назад. На ее вопрос, откуда он взялся, сын объяснил, что револьвер ему подарили, но он неисправный, и поэтому взял у матери сорок копеек на починку. Дня через два или три он установил на кухне толстую доску и упражнялся в стрельбе, выковыривая из нее стреляные пули ножом. Кухарка при этом чуть не оглохла от выстрелов и жаловалась матушке Журайского, что кухню теперь надо непременно белить, потому что Витоша всю ее закоптил и завонял сгоревшим дымным порохом.
Но револьвера из кармана Журайского ни та, ни другая не брали, опасаясь его гнева. И были очень обижены его подозрениями. А рассердился он сильно, ругался и кричал, а после на самом деле отыскал детский пистолетик и отправился на уроки. Матушка не знала, к кому именно, потому что Витольд помимо Ушаковых давал еще уроки сыновьям городского архитектора Мейснера и регистратора губернской больницы Ноговицына.
Но все ж самым существенным доказательством преступления стала одежда, обнаруженная все на том же чердаке. Форменные гимназические брюки, шинель и сапоги были в свежих пятнах и брызгах крови, а к подошвам прилипли ошметки грязи, также пропитанные кровью.
Увидев одежду, Журайский замотал головой и принялся яростно доказывать, что давно уже эту одежду не носит, она ему мала, а у сапог отстала подошва, и он просто не мог отправиться на уроки в такой одежде. Матушка и кухарка были также крайне потрясены видом окровавленной одежды и принялись рыдать в голос. Матушку опять пришлось приводить в чувство, а кухарка подтвердила слова Журайского, что это его старая гимназическая форма, которую он не носит с прошлого года, а находилась она в узле на чердаке по той причине, что хозяйка решила отнести старые вещи в богадельню, но все как-то руки не доходили.
– У сынка зато дошли, – вздохнул Тартищев, отодвигая от себя протоколы допроса Журайского и показания свидетелей. Гимназиста увезли в острог, а сыщики вернулись в управление и теперь пытались свести воедино все детали преступления. – Какой резон ему было идти на убийство в новой одежде? Он к преступлению готовился заранее, продумал все до мелочей… Ведь даже эта стрельба из пистолетика затеяна была им неспроста. Наверняка хотел приучить всех к выстрелам. Он же понимал, что ему надо расправиться с каждым поодиночке…
– Но зачем ему потребовалось убивать всех, даже детей? Ведь он свободно мог проникнуть в спальню, вскрыть ящик простым гвоздем и похитить деньги, когда Ушакова уехала в монастырь. И притом, эти деньги мы так и не нашли. Не мог же он их за один вечер растратить? – вступил в разговор Алексей.
– Особого ума не надо, чтоб финажки припрятать, – ответил вместо Тартищева Иван, – но мне интересно другое. С виду гимназист далеко не дурак, наверняка начитался «Пещер Лихтвейса» и прочей дребедени и должен вроде понимать, что в первую очередь нужно было избавиться от очевидных улик: кистеня, револьвера и одежды. Но почему-то не сделал этого. Или до того уверился, что убийство семерых человек сойдет ему с рук, что и прятать особо ничего не стал? Положил поближе, чтобы скорее достать. Тогда, выходит, он затевал еще одно ограбление, а то и несколько?
– Гимназисту, вероятнее всего, светит 632-я статья Военно-уголовного устава, – пояснил Тартищев, – столь тяжкие преступления подлежат суду по полевому уложению.
– Значит, виселица? – уточнил Вавилов.
– Виселица, тут уж ничего не изменишь. Грохнуть семерых человек, притом двух детей… Нет, виселицы ему определенно не миновать, – вздохнул Тартищев. – Но повесят не сразу, позволят, ввиду молодости, подать прошение на имя Государя. А там, пока суд да дело, еще месяц, а то и два пройдет.
– К чему вы, Федор Михайлович, – удивился Алексей, – или тоже сомневаетесь в его виновности?
– Сомневаюсь, – ответил с вызовом Тартищев, – даже самый отъявленный негодяй не может быть несправедливо осужден, тем более на смерть. Мальчишке восемнадцать лет, только жить начал, поэтому землю носом рыть будем, но достанем свидетельства его исключительной вины или, наоборот, невиновности. Не хочу я грех на душу брать, – пробормотал он и отвел взгляд в сторону. – Револьвер и кистень, конечно, улики серьезные, но сапоги-то мы ему не примерили, а вдруг и впрямь они ему малы?
– Так я сей момент сапоги эти прихвачу и в тюрьму съезжу, – вскочил на ноги Иван.
– Подожди, – остановил его Тартищев, – не спеши. Поступим таким образом. Алексей опросит соседей и приятелей Журайского, а также побывает в тех семействах, в которых гимназист давал уроки. Ты ж, Иван, найдешь мастерские, где он револьвер ремонтировал, побеседуешь с учителями в гимназии. И попутно же старайтесь разузнать, где Журайский доставал пули, хотя, скорее всего, он их сам мастерил. – Тартищев посмотрел на часы. – Вечером в девятнадцать ноль-ноль ко мне с докладом, а сейчас даю вам пару часов поспать, и за дело, господа сыщики! И дай бог, чтобы день у нас не прошел вхолостую.
Он потер ладонью заросший густой щетиной подбородок. По настоянию Анастасии Васильевны Тартищев сбрил к Рождеству свою бороду. И хотя помолодел при этом на добрый десяток лет, каждое утро начинал с непременного ворчания. Его щетину с трудом брали лезвия даже из золингеновской стали.
А сейчас ему требовалось крайне быстро привести себя в порядок. К девяти утра его ждал к себе на доклад Хворостьянов…
В кабинете было очень душно и накурено, но окна не открывали. На улице бушевал сильный ветер, и тучи песка тут же врывались в комнаты, стоило приоткрыть форточки даже на несколько секунд.
Хворостьянов с красным рассерженным лицом сидел во главе длинного стола, а напротив него в самом торце – набычившийся Тартищев. Начальник сыскной полиции опять осмелился перечить вице-губернатору и спорить с полицмейстером. Но атмосфера в комнате была накаленной еще и потому, что через час Хворостьянова приглашал к себе губернатор, и там помимо разговора о текущих губернских делах непременно всплывет история, о которой Хворостьянов не мог вспоминать без содрогания. Одна из певиц цыганского хора забеременела неизвестно от кого, что было неслыханным позором и вызвало переполох среди цыган. Барон быстро учинил расследование и без особых трудов выяснил, что она не раз бывала за городом на даче Хворостьянова…
Барон потребовал с него пять тысяч рублей и обещал замять скандал. У вице-губернатора в данный момент с деньгами было туговато, он только что выдал замуж дочь, и просил барона повременить, но цыган настаивал, говорил, что вскорости живот у девки нос подопрет, надо ее срочно увозить из города. И тогда Хворостьянов плюнул на свои принципы и помог оформить выгодный подряд купеческому товариществу «Седов и K°» на строительство узкоколейной железной дороги к одному из приисков, получив в конверте соответствующее вознаграждение.
От притязаний цыганского барона удалось избавиться. Но вчера губернатор неожиданно поинтересовался, с какой стати именно компании Седова было отдано предпочтение при оформлении подряда? И сегодня Хворостьянову предстояло дать правдоподобное объяснение такому выбору. В душе он надеялся, что удастся переключить внимание губернатора на это громкое преступление – убийство семи домочадцев лесозаводчика Ушакова, и обрадовать его тем, что преступление полностью раскрыто и убийца задержан. Но этот чертов упрямец Тартищев отказывается заявить об этом подобающим образом, дескать, розыскные дела только еще начались, имеется много неясных и сомнительных моментов, и хотя найдены кое-какие улики, все-таки нужны более убедительные и весомые доказательства виновности Журайского. А что, позвольте, может быть убедительнее и весомее найденных орудий убийства и испачканной в крови одежды?
Но Федор Михайлович по обычаю крутит носом и не слишком спешит раскрывать карты и вводить в курс дела Хворостьянова, а через него и самого губернатора!
Здесь же, в кабинете вице-губернатора, находятся начальник охранного отделения Ольховский и штаб-офицер Лямпе. У каждого из них свой интерес, и они весьма усердно наседают на Тартищева, пытаясь перетянуть одеяло на себя.
Хворостьянов хорошо их понимает. И от Ольховского, и от жандарма столица требует громких политических дел, вот и прицепились оба к Тартищеву, как блоха к собачьей сиське. Только и губернатору, и Хворостьянову как раз громких политических дел не требуется. Студенты бузят помаленьку, так пусть бузят, на то они и студенты, евреи головы сроду не поднимут, бывшие ссыльнокаторжные все на учете, пикнуть не смеют… Но этим двум прохвостам непременно вынь да положь подготовку к государственному перевороту или, по меньшей мере, бунт сродни восстанию Гарибальди…
Хворостьянов вздохнул и поймал на слух заключительную фразу Ольховского:
– …участник польских событий.
Но Тартищев упрямо покачал головой, не сдавая позиций в изрядно затянувшемся споре.
– Это его отец участвовал в польском восстании, а не Журайский. Поэтому нечего клеить к этому делу то, чего нет на самом деле. Никакого заговора здесь нет и в помине, Бронислав Карлович. Призывать к топору никто не помышляет.
– Но он католик, – подал голос Лямпе, – и это может вызвать определенный резонанс в обществе. Мои агенты уже доложили, что по городу поползли слухи, будто Журайский входил в какую-то секту, которая совершала человеческие жертвоприношения. И семья Ушакова первая в череде будущих ритуальных убийств.
– Эка ты накрутил, Александр Георгиевич, – не выдержал и проворчал сердито Хворостьянов. – Нашего обывателя хлебом не корми, а дай посудачить. От лености ума и скудости фантазии он в такую чушь готов поверить! Ваша служба в том и состоит, господа, – окинул он строгим взглядом всех сидящих за столом в его кабинете, – чтобы подобные слухи прекращать и не давать им проникнуть в сознание жителей.
– Фамилия у него… такая, – покрутил у себя перед лицом растопыренной ладонью Ольховский, – как бы евреев не пошли громить под горячую руку. Вон что в Киеве да в Кишиневе творится. Дай бог, чтобы у нас не началось!
«Ишь ты, фамилия, – подумал про себя с ехидством Тартищев, – что у тебя, что у Лямпе фамилии тоже явно подкачали, а кое у кого и имя-отчество…» – но вслух сказал:
– Не будем строить прогнозы и превращать уголовного преступника в заговорщика. И общественное мнение надо непременно успокоить, а не возбуждать его излишними подробностями…
– Как вы это представляете? – скривился Ольховский. – Прокламации на театральных тумбах развесить? Так с эти делом не заржавеет. Мои агенты на прошлой неделе задержали двух типов в студенческой столовой с грязными книжонками да прокламациями того же содержания. Ни много ни мало требуют мерзавцы свержения самодержавия. Вот такие пироги, господин Тартищев, а вы все остерегаетесь, прячете голову в песок, не хотите рассмотреть эту проблему глубже.
– Ради бога, валяйте, – усмехнулся Федор Михайлович, – ищите все, что вам заблагорассудится, но откровенно скажу, зря только время потеряете. Нет здесь ни римско-католического, ни жидомасонского заговора. Парнишке захотелось в разбойников поиграть, только не подумал, что таким вонючим образом все повернется. Так что, если требуется, ведите свое расследование, но параллельно моему, и под ноги моим агентам советую не лезть, а я обещаю, что не буду чинить препятствий вашим филерам.
– Но вы даете слово делиться информацией? – быстро спросил Лямпе.
– Только взаимным образом.
– Но я не могу обещать того, что касается особо конфиденциальных сведений… – начал было Ольховский.
И Тартищев не удержался и съязвил:
– Так их еще надо добыть, эти сведения, – и натянул фуражку на бритую голову.
В этот момент открылась дверь и в кабинет Хворостьянова скользнул его секретарь, длинный и тощий молодой человек в мундире. Склонившись к уху вице-губернатора, он что-то быстро и нервно зашептал, то и дело кивая на окна. Хворостьянов недовольно скривился и пробрюзжал:
– Ну, вот, допрыгались с выяснением отношений, господа хорошие. У крыльца стая газетчиков собралась. Сейчас как собаки на вас накинутся. Кого-то надо выпустить первым, чтобы дал толковое разъяснение по поводу убийства и предварительных результатов дознания, и прекратить, наконец, слухи! Кто это сделает?
Ольховский и Лямпе мгновенно переглянулись и в один голос выпалили:
– Тартищев!
Федор Михайлович крякнул, но, поймав злорадный взгляд Ольховского, мило ему улыбнулся, затем щелкнул каблуками, прощаясь с вице-губернатором, учтиво склонил голову в поклоне перед остальными:
– Честь имею, господа! – и вышел из кабинета. По правде сказать, встречи с репортерами он не слишком опасался, потому что за годы службы выработал несколько приемов общения с этой наглой и дерзкой братией и умело осаживал даже самых оголтелых и беспардонных. Таких, например, как репортер по кличке Желток. Происходила она от фамилии Желтовский, но полностью соответствовала качеству тех материалов, что выдавала ежедневно на-гора его довольно паскудная газетенка «Взор».
Тартищев вышел на крыльцо, натянул перчатки и повел взглядом поверх голов отчаянно галдевшей, но вмиг замолчавшей при его появлении доброй дюжины местных газетчиков. Отыскав глазами коляску, он сделал знак рукой сидевшему на облучке унтер-офицеру, чтобы тот подавал ее к крыльцу. И, изобразив на лице полную отрешенность от всего земного, принялся спускаться по ступеням прямо в эпицентр небольшой свалки, затеянной неугомонным Желтком и его конкурентом, пожилым и неряшливым репортером «Североеланских ведомостей» Куроедовым. Победили молодость и наглость. Желток, ловко орудуя локтями, оттеснил ослабевшего от хронического похмелья Куроедова на второй план и чуть не влетел лобастой головой в живот Тартищеву.
Федор Михайлович умело уклонился в сторону, но Желток столь же умело восстановил равновесие и заступил ему дорогу.
– Господин Тартищев, – он вздернул руку, привлекая к себе внимание, – как вы расцениваете убийство семьи Ушаковых?
– Расцениваю как убийство, – быстро ответил Федор Михайлович, следуя за унтер-офицером, который прокладывал ему дорогу сквозь возбужденную толпу репортеров.
– Но говорят… – прорвался из-за его спины голос Куроедова.
– Говорят, в Москве кур доят, а петухам бороды бреют, – очень вежливо ответил Тартищев, не оглядываясь.
– А правда, что Журайский еврей? – вылез опять Желток.
– Ваша фамилия тоже начинается с буквы Ж, но я ведь не утверждаю, что вы еврей, господин Желтовский, – Тартищев любезно улыбнулся, заметив, что Желток побагровел. Но позиций, негодяй, не сдавал.
– Найдены орудия убийства. Этого достаточно, чтобы предъявить Журайскому обвинение в убийстве? – Желтовский занял прочную позицию его визави и, пятясь назад, ловко отшвыривал плечом чрезмерно настырных собратьев по перу.
– Нет, недостаточно! – До коляски оставалось не больше пяти шагов, и Тартищев несколько замедлил движение. – Разыскание по этому делу только началось. И чтобы предъявить обвинение, необходимо добыть более существенные доказательства вины Журайского.
– Вы предполагаете, что револьвер и кистень не являются прямыми уликами и могли быть подброшены?
– Я не гадалка, чтобы гадать на кофейной гуще. Эти улики должны быть подтверждены показаниями свидетелей или самим Журайским. Следами пальцев, наконец, и только тогда можно считать их прямыми. Пока же ничего подобного не имеется.
– Федор Михайлович, – заблажил под его рукой Куроедов, – как вы считаете, каковы мотивы этого преступления?
– Это мы сейчас выясняем.
– Но хотя бы пяток слов…
– Пока мотивы не совсем понятны … Достаточно?
Куроедов развел руками, но не нашелся, что ответить.
– Действительно ли, что Журайский – главарь шайки, которая замышляла не меньше десятка убийств? – это опять вылез Желток.
– С вашей фантазией, молодой человек, – посмотрел на него в упор Тартищев, – полицейские романы следует писать. Я вам ответственно заявляю: Журайский пока задержан, но это еще не значит, что он убийца. Расследование покажет, в какой степени он причастен к данному преступлению, а степень его вины определит суд.
– Но его будут судить военно-полевым судом! А это верная виселица! – бросился вслед за ним щуплый, с заметной проплешиной на затылке репортер «Губернского листка».
Стоя уже одной ногой на приступке коляски, Тартищев долю секунды смотрел на него немигающим взглядом, потом жестко произнес:
– Обвинение Журайскому до сих пор не предъявлено, господа! И пока мои агенты не найдут существенных, я повторяю, существенных доказательств вины Витольда Журайского, никто не смеет называть его убийцей. Виновным его может назвать только суд! И я предупреждаю, если кто-то из ваших редакторов вздумает вынести подобное заявление на страницы газет, ждите крупных неприятностей. Вы меня знаете! – Поднявшись в коляску, он уселся на сиденье и приложил руку к козырьку фуражки: – Приятно было пообщаться, господа!
Коляска умчала начальника уголовного сыска в направлении Тобольской улицы. Репортер Желтовский проводил ее мрачным взглядом и смачно сплюнул на мостовую.
– Ну, сусло поганое! Опять выкрутился! – И кивнул Куроедову: – Ты как хочешь, а я помчусь на Толмачевку, а потом к матушке Журайского. Редактор меня по стенке размажет, если к вечеру не выдам репортаж.
Глава 4
Архитектор Мейснер слушал его, не прерывая ни единым словом, ни единым жестом. Его лицо было мрачным, выпуклые глаза с набрякшими веками уставились в столешницу. Он их поднял лишь тогда, когда Алексей замолчал.
– Да, – сказал он печально и вытер лоб носовым платком, – Журайского я пригласил для уроков по рекомендации учителя гимназии Левицкого. Он отзывался о нем, как о порядочном, добросовестном человеке, а что получилось на самом деле? Я спрашиваю вас, что получилось на самом деле? – воскликнул архитектор с трагическим пафосом и закатил глаза в потолок. Его кудрявая шевелюра вздрогнула и распалась, явив миру обширную лысину на темени. – Витольд приходил пять раз в неделю и занимался с Левой по два часа в день, но мальчик как имел хвосты по немецкому и латыни, так до сих пор их и имеет, и, не поверите, в том же самом количестве. Оказывается, вместо того чтобы заниматься, они читали всякую ерунду: какого-то «Иванхоу»,[6] потом Фенимора Купера или этого, как его, Майн Рида… Индейцы, ковбои, звероловы, креолки… Вы понимаете, они не зубрили грамматику, они рисовали какие-то карты, а Лева вздумал даже спать зимой на террасе под тулупом. Видите ли, готовил себя к каким-то несусветным трудностям. Но заработал сильнейший насморк и кашель. Тогда я ему эти трудности предоставил, надрал как следует уши, а Витольду пригрозил отказать от места…
– В этом возрасте все мальчики мечтают о приключениях. Непременно метят в пираты, разбойники, на худой конец, в путешественники, – заметил осторожно Алексей.
– Я в этом возрасте мечтал о том, о чем мечтал мой папа, – возразил ему Мейснер. – Иначе он бы выдрал меня как сидорову козу. Но благодаря папе я стал человеком. Согласитесь, бедному еврейскому мальчику очень трудно стать человеком. – Он скривил губы почти в страдальческой усмешке. – У Левы все есть для хорошей жизни, но он мечтает сбежать из дому и шляться где попало…
– Скажите, Семен Наумович, вы ничего странного в поведении Журайского не замечали? Помимо его увлечения авантюрной литературой, естественно.
Мейснер заерзал в кресле, потом бросил быстрый взгляд на окно, на дверь за спиной Алексея и, слегка приглушив голос, скороговоркой произнес:
– Он был буквально помешан на оружии. Я видел его гимназические тетради. Все они изрисованы пистолетами, арбалетами, саблями и прочей чепухой. И потом… – Он замялся, но, видимо, все-таки решился и промямлил, стараясь не смотреть Алексею в глаза: – Я, конечно, понимаю, что поступил опрометчиво, но из стакана в моем кабинете однажды исчезли восемь пуль к револьверу. Я не сразу заметил пропажу, но после опросил всех домашних, никто не признался. Но я всегда был склонен подозревать Журайского…
– У вас что ж, имеется револьвер?
Мейснер с явным испугом замахал на него руками:
– Что вы, что вы! Они остались после моего брата. Он известный доктор, живет в Томске и имеет официальное разрешение на ношение оружие. Он гостил у нас некоторое время, потом уехал, а горничная обнаружила в тумбочке спальни, где он спал, эти пули. Я их не стал выбрасывать. Сами понимаете, брат может в любой момент вернуться…
– А если вам предъявят пули, вы их сумеете опознать? – спросил Алексей.
Архитектор пожал плечами:
– Сомневаюсь, как я могу сказать определенно, мои это пули или не мои. Они же похожи как две капли воды.
«Осторожничает, старый лис», – подумал Алексей, но вслух согласился с архитектором:
– В том-то и дело, что похожи. – И тут же поинтересовался: – Почему вы не отказали Журайскому от места, хотя подозревали его в краже?
Архитектор отвел глаза и нервно забарабанил пальцами по столешнице.
– Сами понимаете, я не мог ему сказать прямо в глаза, что он вор… Я ждал удобного случая… Да, – он встрепенулся, – на днях со мной поделился своими подозрениями Ноговицын, он служит в губернской больнице. Журайский давал уроки его сыновьям два раза в неделю. Так вот у него исчез старый револьвер. Он валялся у Кириллы Андреевича под бумагами на окне. Он совершенно о нем забыл, потому что револьвер требовал ремонта, а у него все как-то руки не доходили. А недели две назад вдруг надумал отнести его в мастерскую, все вокруг обыскал, револьвер исчез. Я тогда рассказал ему про пули и что подозреваю в краже Журайского. Тогда и он вспомнил, что Журайский ему говорил, что хочет якобы приобрести себе оружие и форму для отливки пуль, чтобы без опаски ходить по улицам вечерами. Вот, видимо, и приобрел…
– А Ноговицын случайно не упоминал, в каком ремонте нуждался револьвер?
– Кажется, что-то с курком… Да вы сами у него спросите, – оживился Мейснер, – он вам непременно расскажет…
– Уже спрашивал, – усмехнулся Алексей, – только про револьвер он вообще не вспомнил…
– О господи, я ведь только из добрых побуждений! – побледнел Мейснер и умоляюще посмотрел на Алексея. – Простите, но тогда я тоже вам ничего не говорил. Поклянитесь, юноша, что не выдадите меня, я ведь не хотел Кириллу Андреевича подводить…
– Не тревожьтесь! Я знаю, как с ним поговорить и что сказать. – Алексей поблагодарил архитектора и поднялся со стула. Мейснер проводил его до дверей кабинета. Алексей вежливо попрощался с ним, попросил не отказывать в помощи, если таковая понадобится и придется приехать на Тобольскую в управление сыскной полиции. Архитектор клятвенно его заверил, что всегда готов служить благому делу, но, когда визитер ушел, печально вздохнул и вытер шею и лоб носовым платком…
Вечером того же дня агенты сыскной полиции Алексей Поляков и Иван Вавилов докладывали Федору Михайловичу о том, что им удалось разузнать по делу Витольда Журайского.
Первым в этой очереди был Алексей:
– Гимназист шестого класса Витольд Журайский проживает вместе с матушкой Аглаей Демьяновной, вдовой коллежского асессора, в двухэтажном доходном доме Шарова. Весь второй этаж занимает сам владелец дома, а на первом этаже находятся четыре квартиры: Журайских, чиновника Семенова с семейством, третью занимает провизор Сухобузимов с женой, а четвертая несколько месяцев пустует, по причине того, что требует ремонта. Проникнуть на чердак с первого этажа проще простого по черной лестнице. Жильцы первого этажа ею не пользуются, но по ней на второй этаж доставляют уголь и дрова. Я проверил, люк, ведущий на чердак, хотя и закрывается на замок, но пробой легко выходит из гнезда и точно так же вставляется на место вместе с замком.
Теперь что касается алиби Журайского. Жена Сухобузимова подтверждает, что видела, как он возвращался домой в начале шестого вечера, выходил ли после этого из дома, она не заметила. Никто из соседей этого не видел. Матушка Журайского и кухарка подтвердили, что он вернулся в четверть шестого и больше из дома не выходил вплоть до ареста. До самого ужина он находился в своей комнате и, по словам его матушки, что-то писал. Сам Журайский утверждает, что весь вечер готовился к контрольной работе по математике, решал уравнения и задачи. Я просмотрел его черновики. Если судить по количеству выполненных заданий, то на это ушло несколько часов, не меньше пяти-шести, я думаю. Но записи эти не убедительны в том плане, что матушка и кухарка – близкие люди Журайского и могли утаить, что он выходил из дома вечером. К тому же он мог выполнить решения накануне убийства, потому что человек даже со стальной волей вряд ли способен спокойно производить математические расчеты, уложив перед этим семерых человек. Хотя, если он не убивал…
– Ты захватил эти тетради? – спросил Тартищев.
– Да, они приобщены к протоколу.
– Хорошо, продолжай дальше, – кивнул головой Тартищев.
– Теперь об оружии. Архитектор Мейснер заявил, что у него в середине февраля пропали восемь револьверных пуль, а Ноговицын, регистратор больницы, пояснил, правда, не сразу, что у него украли испорченный револьвер примерно в тех же числах. Естественно, ни тот, ни другой о фактах пропажи в полицию не сообщали. Ноговицын поначалу вообще отказывался признать, что у него было оружие, хотя и неисправное. Он еще утром узнал, что убийца стрелял из револьвера, и перепугался, что его тоже загребут в полицию или, того хуже, заподозрят в убийстве. Вот их показания, – Алексей передал бумаги Тартищеву. – Обратите внимание, Федор Михайлович, что оба свидетеля утверждают, что Журайский увлекался чтением авантюрных романов. Я просмотрел его формуляр в народной библиотеке. Действительно, пираты, индейцы, разбойники… То же самое дома. Две книжные полки забиты трехкопеечными книжонками. Иван не ошибся. Преобладают выпуски «Пещеры Лихтвейса» и похождения Арсена Люпена и Ната Пинкертона. Дешевый мусор, но Журайский весьма усердно забивал им голову! Очень много рисунков и иллюстраций с изображением оружия. Он их вырывал из журналов и книг. – Алексей перевел дыхание, сделал несколько глотков воды из стоящего рядом стакана и продолжал свой рассказ: – Его близкие приятели по гимназии Есиков и Григорьев подтверждают, что Журайский постоянно носился с разными бредовыми затеями: то отправиться на охоту в Африку или в Южную Азию, то создать шайку разбойников наподобие Робин Гуда, а то пробраться в трюм корабля, который идет в Америку или в Индию. Правда, не объяснял, каким образом они сумеют добраться до этого корабля. Словом, идей у него было предостаточно. И он всячески готовил себя к грядущим испытаниям: обливался зимой и летом холодной водой, делал гимнастику, приучал себя к холоду, даже в мороз ходил без башлыка и перчаток. Есиков и Григорьев также показали, что они действительно два дня назад стреляли на Кузнецком лугу из револьвера, который принес с собой Журайский. Но он оказался неисправным, пули из барабана постоянно выпадали, а то он и вовсе прекращал вращаться. Журайский ругался и говорил, что непременно скоро разбогатеет и купит новый револьвер.
Но те же Есиков и Григорьев, а также учителя гимназии Левицкий, Ромашов и Стратонов, которые хорошо знают Журайского, утверждают, что при всем его желании казаться твердым и даже жестким, на самом деле он мягкий и нерешительный юноша. Все его идеи так идеями и остаются, потому что он очень любит свою матушку, жалеет ее и вряд ли оставит ее одну. И категорически заявляют, что он вообще не способен причинить кому-либо боль, а не то чтобы убить. Месяц назад он порезал палец и упал в обморок от одного вида крови…
– Так это он свой палец порезал, а не чужой, – вздохнул Тартищев и замахал рукой, заметив, что Алексей выжидательно смотрит на него. – Продолжай, продолжай…
– А неделю назад с Журайским случилась чуть ли не истерика, когда на его глазах лихач задавил собачонку. Свидетелем этого был учитель истории Стратонов…
– Истерика Журайского не доказательство, – опять вздохнул Тартищев, – знавал я нескольких негодяев, которые изо рта голубков кормили, кошечек да собачек нянчили. Не знал бы, за ангелов принял, только на этих «ангелах» порой до десятка убийств висело, и это тех, что удалось доказать.
– А помните, Федор Михайлович, того булочника, что мальчишке-посыльному кипятком в лицо плеснул за то, что его котяру пнул? – спросил Вавилов. – Тоже животное пожалел, а мальчишку ослепил…
– Помню, чего ж не помнить, – прокряхтел удрученно Тартищев. – Я ж из-за него чуть на гауптвахту не загремел. Спасибо Хворостьянову, отстоял перед губернатором. Убедил его, что булочника не я о шкаф приветил, а шкаф сам на него свалился по причине сотрясения от проезда пожарной команды. Говорят, губернатор очень веселился по этому поводу, только разве вернешь мальчишке глаза парой даже крепких оплеух? – И посмотрел на Алексея. – Все у тебя?
– Пока все, – тот подвинул ему оставшиеся листы бумаги. – Все показания свидетелей занесены в протоколы, собственноручно ими прочитаны и подписаны.
– Молодец, нечего сказать, – ухмыльнулся Иван, – смотрю, по бумажной части ты у нас великий мастер. Только в чрезмерного зануду не превратись со своей дотошностью.
Тартищев строго посмотрел на него и покачал головой. Иван развел руками и тяжело вздохнул. Алексей уже знал, Вавилову легче двадцать раз обежать весь город по периметру и диаметру, чем составить об этом письменный отчет. Грамотей он был еще тот и долго порой мучился над словами типа «вооруженный», «охранение», «разыскание» и «вышеизложенное донесение», а под его пером частенько рождались перлы подобного содержания: «Протокол о забодании мальчика быком, о свирепой дикости которого было известно хозяину, но он по этому поводу только выражался скверной руганью и законных распоряжений старосты не пускать быка в стадо и по улице не исполнял, что и стало причиной забодания мальчика быком, по причине дикости его нравов».
Но его нелюбовь к грамматике полностью оправдывалась теми исключительными по важности сведениями, которые он добывал с поразительной, казалось, легкостью и особой лихостью. Правда, своих священных коров, которых он на сей предмет исправно «доил», никому не открывал и связи свои не афишировал. Вот и сейчас Алексей слушал его доклад Тартищеву и удивлялся умению Ивана работать с людьми, на чьих физиономиях явно читался весь свод уголовных законов. Целая армия мелких жуликов и болдохов всегда была чем-то Ивану обязана и являлась для него неиссякаемым источником информации. И, судя по количеству сведений, добытых Вавиловым за сегодняшний день, этот источник не просто фонтанировал. Иногда в силу особых талантов Ивана он обрушивался настоящим водопадом.
– По свидетельству отставного губернского секретаря Богданова, который в данное время проживает в номерах трактира «Золотой якорь», Журайский носил к мастеру у Брешкова моста револьвер для починки. После он жаловался, что мастер запросил полтора рубля за ремонт револьвера, коих у Журайского на тот момент не водилось. Он попросил Богданова занять ему денег, но тот ему отказал, так как накануне играл в карты и неудачно, – отбарабанил Иван на одном дыхании и с облегчением вытер лоб носовым платком. – По показаниям кухарки Журайских Акулины Горевой, Витольд накануне первой недели поста, как известно, стрелял на кухне в доску и вынимал пули кухонным ножом, который по этому случаю изрядно затупил. Кухарка признала эти пули в тех, которые мы обнаружили у Журайского и на полу кухни в доме Ушаковых, потому что они некоторое время валялись у нее на глазах на кухонном подоконнике, а потом Журайский забрал их к себе в комнату. – Вавилов быстро налил в стакан воды из графина, сделал несколько торопливых глотков и продолжал: – Затем мне удалось выяснить, что Журайский обращался к оружейным мастерам, рядовым 71-го пехотного полка Устинову и Рындину, с просьбой починить ему револьвер, но те отказались. Но двадцать шестого февраля в девять утра он принес унтер-офицеру того же полка Зейдлицу пятизарядный револьвер для починки верхней части курка. Заплатил за ремонт сорок копеек, но первого марта опять пришел к Зейдлицу. Теперь ему требовалось поправить разряженный барабан, который не вертелся при взводе курка. Денег на этот раз он не заплатил, сказал, что скоро закажет Зейдлицу пульную форму. Мастер уверяет, что Журайский очень торопился, говорил, что идет вместе с товарищами пробовать револьвер. И тут же зарядил его. У него был с собой английский порох в бумажном мешочке и четыре явно самодельные, по свидетельству Зейдлица, пули. Две из них высовывались и мешали барабану вертеться. Зейдлиц по просьбе Журайского их подпилил. Гимназист попросил у него пятую пулю, но Зейдлиц не дал. Но когда я предъявил ему пули, которые обнаружили в телах убитых при судебно-медицинском вскрытии, он их опознал. Признал также мешочек с порохом, который мы обнаружили в комнате Журайского.
– Что узнал по поводу кистеня? – поинтересовался Тартищев.
– Квартирующий в одном доме с семейством Журайских чиновник Михаил Семенов показал, что видел, как кузнец Алексеев принес Журайскому нечто, похожее на большой пестик, во вторник или среду первой недели поста и отдал ему в сенях дома. Кузнец, мещанин Петр Алексеев, и его сын Борис подтвердили, что двадцать третьего февраля Журайский заказал им непонятную штуковину с двумя шишками на концах по собственному рисунку. Они сделали ее, как он велел, но Журайский после от нее отказался, потому что они якобы отошли от его рисунка, и денег не заплатил. Предъявленный свидетелям кистень, обнаруженный под крыльцом дома, где проживает Журайский, признан Семеновым и Алексеевым за тот самый предмет. У меня все! – Иван с облегчением вздохнул и передвинул бумаги Тартищеву.
Тот присоединил их к бумагам Алексея, подправил их в аккуратную стопочку и уложил в папку. Редкий случай, но весь его вид говорил о том, что он доволен результатами проведенного дознания, правда, вслух объявить об этом не спешил. И лишь спросил:
– Что там Корнеев? Почему задерживается?
– Он сегодня опрашивает всех, кто побывал в день преступления в доме Ушаковых, а также в течение трех-четырех дней до него. Народу набралось пропасть, поэтому он велел предупредить, что появится никак не раньше девяти вечера, – пояснил Вавилов.
– Хорошо, дождемся еще известий от Корнеева, а сейчас попробуем представить, что произошло в доме Ушаковых в момент преступления согласно тем сведениям, что имеются у нас на сей момент. – Федор Михайлович посмотрел на часы. – Через час привезут Журайского из тюрьмы. Теперь, я думаю, у нас будет, что спросить у него и предъявить достаточно убедительные свидетельства его причастности к этому убийству. Итак, – он вновь открыл папку, – к чему мы пришли на данный момент. Нянька утверждает, что днем Журайский был одет в форму, в которой он обычно приходил на занятия с сыном Ушакова, значит, ему надо было отлучиться из дому, чтобы переодеться в старую одежду, или принести заранее узел с собой. Но узел с одеждой мог привлечь внимание, поэтому он наверняка покидал дом на некоторое время. Но нельзя исключать и тот вариант, что он не выходил из дома и переоделся в старую одежду в комнате старшего мальчика, потому что принес одежду по частям заранее и хранил ее, опять же, в детской. Кроме того, он должен был каким-то образом пронести в дом кистень.
– Не думаю, чтобы он стал рисковать, – произнес с сомнением в голосе Алексей. – У меня сложилось впечатление, что нянька еще та проныра и запросто могла обнаружить чужую одежду. Он однозначно выходил из дома, чтобы переодеться.
– Принимается пока, – кивнул головой Тартищев. – Но все-таки исходим из того, что первым он убивает старшего мальчика. Второй – старуху. Вполне возможно, он ее вызвал из другой комнаты под каким-то предлогом и убил наповал. Третьей его жертвой становится кухарка. Сначала убийца делает по ней два выстрела, ранит ее в руку и в плечо, но та успевает выскочить на улицу, отсюда кровь и башмак на тротуаре. Он догоняет ее на ступеньках заднего крыльца, втаскивает в столовую и добивает кистенем. Затем возвращается на улицу, заметает кровь метлой, но башмак, вероятно, по причине нервного возбуждения не замечает. Это второе. Журайский спешно возвращается в дом, а следом за ним входит дворник с охапкой дров, из-за которой он ничего не видит под ногами. Проходит в столовую. Наш гимназист стоит, допустим, за дверью и стреляет ему в спину. Но попадает в шею, потому что дворник спотыкается о труп кухарки, роняет дрова и, пытаясь их удержать, наклоняется. Пуля убивает его тоже наповал. Это – третье. Четвертое. Журайский заряжает револьвер запасными пулями и ждет Ушакову с ребенком и горничной. Через окно он замечает, что женщины заметили кровь на тротуаре, остановились и о чем-то быстро переговариваются. Он отходит в угол за портьеру. Ушакова входит. Журайский ее пропускает и в тот момент, когда она вошла в кухню, стреляет в нее. Горничная с Темой идут следом. Журайский целится в горничную. Девушка со света, видимо, ничего не успела рассмотреть и, вероятно, расхохоталась, когда увидела, что гимназист прицелился в нее из пистолета. Ведь днем он проделывал это несколько раз. Но револьвер на этот раз не выстрелил. Оба заряда выпадают, тогда он хватает полено и бьет девушку по голове. Она падает. Другим поленом Журайский бьет мальчика. Тот тоже падает, но девушка, очевидно, в этот момент поднялась на ноги и бросилась в комнаты. Там она видит другие трупы и, не помня себя от ужаса, пытается убежать через парадный ход. Но убийца ее настигает и добивает ударом полена. Судя по всему, он нанес ей не менее пяти ударов, мальчику же хватило одного. Вполне возможно, он хотел дождаться няньку и кучера, а то и самого Ушакова, но револьвер оказался безнадежно испорченным. Тогда он забрал ключи у Анны Владимировны, взял деньги из шкатулки. Наверняка она в силу собственной беспечности не раз доставала при нем деньги, чтобы расплатиться за уроки. Задний ход он запер на крючок сразу же после убийства женщин и младшего мальчика, а вышел из дома через парадный ход… Орудия убийства унес с собой. И скажу вам, то ли по причине молодого легкомыслия, то ли исключительной смелости. На моей памяти мало находилось даже отъявленных головорезов, кто бы осмелился идти почти через весь город в окровавленной одежде и с окровавленным кистенем под мышкой. Да и от револьвера тоже прилично несло сгоревшим порохом. Первый же будочник мог остановить его и поинтересоваться документами…
Глава 5
Через полчаса в кабинет к Тартищеву доставили Журайского. Он выглядел еще бледнее, а глаза ввалились и лихорадочно блестели. Он достаточно спокойно выслушал Тартищева. И лишь иногда его лицо страдальчески кривилось, а губы нервно дергались. Сцепив пальцы рук с такой силой, что побелели костяшки, он сидел, опустив взгляд в пол. Но когда Тартищев замолчал, поднял голову и тихо, но твердо произнес.
– Какую вы ересь сейчас несли, господин Тартищев. Я вам уверенно заявляю, я никого не убивал. Я очень любил Анну Владимировну и мальчиков. С Колей мы дружили, а Тема, что скрывать, частенько нам досаждал. Постоянно мешал во время уроков, забегал в комнату, громко кричал, бегал и ябедничал на нас своей матушке. Но, согласитесь, это не повод, чтобы убивать его столь жестоко. Анна Владимировна была очень добра ко мне. В их доме я чувствовал себя свободно. Мы часто играли в шарады, фанты, а Анна Владимировна пела под фортепиано. Право, мне было очень хорошо у них, зачем же, спрашивается, мне было их убивать?
– Но, возможно, вы решили проверить собственную выдержку, смелость, твердость характера, ведь вы желали в будущем стать атаманом разбойников, чье ремесло убивать и грабить? – спросил Тартищев.
Журайский пожал плечами.
– Одно дело мечтать, другое – заняться таким делом по-настоящему. Честно сказать, матушка моя спит и видит меня адвокатом, и я не могу пойти против ее желания, потому что не располагаю собственными средствами и полностью завишу от нее.
– Но вы взяли полторы тысячи рублей из шкатулки?
Журайский яростно блеснул глазами:
– Я вам еще раз заявляю, никого я не убивал, денег не брал. Да, я признаю, что украл револьвер у Ноговицына и пули у Мейснера. Да, я хранил пули и порох дома, но в этом и есть все мое преступление. Я ни в коей мере от него не отказываюсь. Но, уверяю вас, я никого не убивал, как утверждаете вы: ни из револьвера, ни кистенем, ни поленом. И, тем более, не брал никаких денег. И даже не имею представления, кто бы мог меня подобным образом подставить: выкрасть револьвер, подбросить кистень и одежду.
– Допустим, что мы почти верим вам, Журайский, – Тартищев вышел из-за стола. – И готовы даже провести опыт, чтобы проверить, действительно ли так эта одежда вам мала, как вы изволили утверждать ранее. – Он кивнул на тючок, который дожидался своей очереди на диване рядом с Вавиловым. – Вы согласны?
– Согласен, если это каким-то образом поможет мне доказать свою невиновность, – ответил Журайский и перевел настороженный взгляд на Вавилова, который развернул тючок и выложил на диван гимназические брюки, шинель и давно не чищенные сапоги с порыжевшей колодкой. Один из них действительно просил каши.
– Одевайтесь, Журайский, – приказал ему Вавилов, кивая на одежду.
Гимназист подошел к дивану, взял в руки брюки и сюртук и вдруг, скривившись в брезгливой гримасе, отбросил их от себя.
– Как их надевать! Они же в крови! И пахнут отвратительно!
– А вы что ж хотели, – удивился Тартищев, – чтоб они французским одеколоном благоухали? – И приказал: – Не капризничайте! Вы не барышня, чтобы носом крутить! Может, это ваша единственная возможность открутиться от виселицы.
– От виселицы? – Журайский побледнел, и сапоги с громким стуком вывалились из его рук. Он почти упал на стул и обвел сыщиков растерянным взглядом. – Почему от виселицы?
– Потому, милейший, что согласно статье 632 полевого Военно-уголовного уложения убийство жителей наказывается смертью через повешенье, а статья 635 того же уложения гласит, что нападение с оружием на безоружного жителя, жену его и детей также наказывается смертной казнью. Так что ваши преступные деяния, Журайский, вполне под эти две замечательные статьи попадают, – объяснил Вавилов и подал ему одежду. – Поэтому в ваших интересах забыть о фанаберии и всеми силами помогать дознанию. Выбирайте, кусок мыла и веревка или рванина, от которой, может, и смердит, но…
– Хорошо, хорошо, я надену, – не дал договорить ему Журайский и принялся торопливо одеваться. Шинель, как и гимнастерка, была ему узкой в плечах, а обшлага рукавов были вершка на три выше запястья. Брюки доходили до середины голени, но если их заправить в сапоги, то они могли смотреться вполне прилично.
Иван окинул Журайского критическим взглядом.
– Вы что ж, и вправду еще в прошлом году эту форму носили?
Тот смущенно улыбнулся.
– Я за год вырос на полфута. Матушка схватилась за голову. Пришлось не только форму шить заново, но и шинель заказывать. Все это обошлось ей в копеечку.
– Ну-ну, – Вавилов обошел вокруг него, потом подергал за пуговицы на шинели. – А ведь недавно пришивали. Да и пуговицы новехонькие, будто только что из галантерейной лавки. Сами пришивали или матушка?
Журайский с недоумением посмотрел на него и пожал плечами.
– Понятия не имею. – И спохватился: – А зачем их было пришивать? Матушка, я знаю, старые пуговицы еще в прошлом году срезала на тот случай, если какая вдруг на новой форме потеряется. – И убежденно добавил: – Нет, не могла она новые пришить. Если бы понадобилось, она бы непременно старые нашла и пришила.
– Допускаем, что пуговицы вы не пришивали, – сказал Тартищев, – но что ж вы медлите, сапоги не надеваете?
Журайский поднял сапоги за голенища и с большим сомнением оглядел их. Потом опустился на стул и принялся натягивать сапог на правую ногу. Лицо его перекосилось от напряжения, покраснело, но сапог он надел. Второй также натянул с явным усилием, но в носке, где подошва заметно отставала от головки сапога, пальцы вылезли наружу.
– Пройдитесь, – приказал Вавилов.
Журайский сделал несколько шагов по кабинету, но с явным усилием.
– Что такое? – поинтересовался Тартищев.
– Жмут, – скривился Журайский, – да и ссохлись порядком.
– Что ж, разувайтесь, – приказал Вавилов.
Журайский, пытаясь выполнить его приказ, уперся носком правого сапога в задник левого, но безуспешно. Тогда он попытался помочь себе руками, но тоже без особого результата. Он беспомощно посмотрел на Вавилова.
– Не получается. Туго очень.
Тогда Алексей обхватил его под мышки, а Вавилов с трудом, но стянул с Журайского оба сапога. Тартищев молча наблюдал за ними.
Алексей внимательно осмотрел подошву рваного сапога и спросил Журайского:
– Вы носки меняли после того, как пришли от Ушаковых?
– Нет, не успел, – посмотрел он с недоумением на Алексея. – Вы ж меня ночью подняли, какие были рядом, те и надел.
– Снимите носок, – приказал ему Алексей.
Журайский повиновался, но чувствовалось, он не понимает, зачем вдруг самому молодому сыщику вздумалось рассматривать его ноги.
– Ноги на ночь мыли?
– Н-н-нет! – произнес заикаясь Журайский.
– Вот видите, – усмехнулся Вавилов, – оказывается несоблюдение личной гигиены тоже может кой-какую пользу принести.
Он присел на корточки рядом с Алексеем и тоже занялся созерцанием голой ступни гимназиста. Оба сыщика самым внимательным образом осмотрели пальцы, пятку, подошву, потом столь же тщательно исследовали вторую ногу. Тартищев с возросшим интересом наблюдал за манипуляциями своих агентов. Наконец не выдержал:
– Ну что?
– Минутку. – Вавилов взял Журайского под локоть, вызвал конвойного и, передав ему гимназиста, приказал: – Пусть подождет за дверью, пригласим, когда снова потребуется.
Журайский обвел их по-прежнему ничего не понимающим взглядом и, как был, в одних носках вышел из кабинета Тартищева.
Алексей достал из кармана носовой платок, плеснул на него из графина и тщательно протер ладони и каждый палец в отдельности. Потом опустился на стул и кивнул на дверь, за которой скрылся Журайский.
– Парень, похоже, не врет. Не убивал он Ушаковых. Конечно, это слабое доказательство, и суд вряд ли примет его во внимание, но если Журайский в тех же самых носках, в которых был в день убийства, то один из них должен пропитаться кровью сквозь дыру в сапоге. Кроме этого, должны остаться частицы засохшей крови между пальцами и под ногтями. Как показало обследование, таковых следов не наблюдается ни под самим носком, ни на ноге.
– А если он все-таки поменял носки и вымыл ноги? – усмехнулся Тартищев.
– Если бы он поменял носки, то снял бы их сразу с сапогами. И так бы в сапогах их и оставил. Великое удовольствие ходить в носке, насквозь пропитанном кровью, – Вавилов скорчил брезгливую гримасу. – И если Журайский убийца, он бы поступил именно так. Вы заметили, с каким отвращением он смотрел на шинель и штаны?
– Помимо этого еще одно существенное замечание, – сказал Алексей. – Сапоги тесные, ссохшиеся. Журайский с трудом их надел, а снять без посторонней помощи и вовсе был не в состоянии. А ведь ему надо было в них пройти некоторое расстояние, затем уйти, чтобы переобуться, а в промежутке тоже какое-то время находиться в них, бегать, переходить быстро из комнаты в комнату. В таком случае не обошлось бы без потертостей и даже мозолей, а у него ноги чистые, как у младенца.
– Правда ваша, господин хороший, – склонился в шутливом поклоне Вавилов, – но мозоли в нашем деле вещь сомнительная. Военно-полевой суд в мозоли наверняка не поверит.
– В том-то и дело, – вздохнул Тартищев и взглянул на часы. – Корнеев что-то задерживается…
И тут, словно по заказу, распахнулась дверь и на пороге вырос улыбающийся Корнеев. Сняв картуз, он поздоровался со всеми и обратился к Тартищеву:
– Разрешите доложить, Федор Михайлович! Гостей и посетителей Ушаковых, что побывали у них за последние три дня, я проверил. У всех без натяжек – полное алиби, но я все ж попутно одного паренька нашел, подмастерье у сапожника. Он в сторожке у своего дядьки квартирует, дворника соседнего с Ушаковыми дома. В тот день он к сапожнику в будку не пошел по причине того, что порезал палец, и он у него сильно загноился. От нечего делать спал парнишка да на улицу пялился, спал да пялился…
– И чего ж такого хорошего он напялился? – не выдержал Вавилов.
– Ну, во-первых, он видел, что какой-то молодой человек уходил от Ушаковых. Говорит, где-то часов в пять вечера. Сразу же после того, как от дома отъехала коляска, видимо, та самая, с кучером и горничной. В дом больше никто не заходил и не выходил. Вот только около шести часов вновь появился человек в шинельке, но во второй раз парнишка видел его со спины, и поэтому несколько сомневается, тот же самый или другой какой, – пояснил Корнеев и посмотрел на Тартищева: – Может, опознание проведем? Покажем ему человек трех со спины, авось узнает…
Через четверть часа Журайский, Алексей и вестовой унтер-офицер, которого выбрали для опыта по причине сходного роста, стояли лицом к стене и спиной к парнишке-подмастерью. Шинели полицейских были слегка светлее, чем шинель гимназиста, но в то время, когда парень заметил незнакомца, поднимавшегося на заднее крыльцо дома Ушаковых, уже смеркалось, и все шинели в это время, что мыши, одного цвета.
Парень долго к ним приглядывался, шмыгал носом, что-то бормотал, потом попросил всех троих пройтись по комнате и все ж беспомощно посмотрел на Корнеева.
– Не могу понять, что-то не так…
– А пусть он посмотрит, как вы по лестнице поднимаетесь, – неожиданно предложил Вавилов, забракованный по причине маленького роста и в опыте не участвовавший. Вышли в коридор, поднялись друг за другом с первого этажа на второй. И парень уверенно показал на Алексея.
– Кажется, этот. Или тот чуть меньше ростом был и худее? Но я издалека смотрел, мог ошибиться. – Парень отступил на шаг, еще раз окинул Алексея критическим взглядом. И шлепнул себя по лбу. – А, вспомнил! Он немного ногу тянул, когда по ступенькам поднимался, я еще подумал, то ли сапоги жмут, то ли нога больная! И шинель у него, по правде, больше на ту смахивала, – кивнул подмастерье на Журайского, – а так всем на этого походил. – И он опять указал пальцем на Алексея.
– Скажи, есть ли среди этих господ тот, кто уходил от Ушаковых в тот вечер? – спросил Тартищев.
– Этот уходил, – указал подмастерье на Журайского. – Он с крыльца бегом сбежал и шинельку на ходу надевал. И еще рукой извозчику махал, что мимо проезжал. Но мне не видно было, остановился тот или нет.
– Да, да, – торопливо закивал головой Журайский. – Я действительно взял извозчика, чтобы доехать до дома. Вы найдите его, он подтвердит… Я ведь говорил, что к контрольной работе готовился весь вечер.
– А вы его номер запомнили? – спросил Тартищев.
Журайский пожал плечами и виновато улыбнулся:
– Откуда я знал, что это понадобится?
Глава 6
– Вот так свидетеля ты предоставил? – рассмеялся Вавилов и толкнул локтем сконфузившегося Корнеева под ребра, когда подмастерье покинул кабинет. – Это надо же! В полицейском с ходу преступника признал! – И подмигнул Алексею: – А ну колись, Алешка, не ты ли там орудовал под гимназиста?
– Совершенно дурацкие шуточки! – произнес сухо Алексей и обратился к Тартищеву: – Вполне объяснимо, что преступник хромал, это же не сапоги, а истинный «ведьмин башмачок»,[7] но я одного не пойму. Мы с гимназистом похожего телосложения, почему же свидетель указал именно на меня, а не на Журайского? Шинель же он признал? Даже подчеркнул, что тот человек похож на меня, а шинель, дескать, как у Журайского…
– А ты не помнишь, что он еще сказал? – Тартищев пододвинул к себе бумаги. – Человек, которого видел парнишка, ему показался меньше тебя ростом и худее, а это значит…
– …что шинелька эта ему была впору! – выкрикнул весело Иван и возбужденно потер ладони.
А Корнеев радостно добавил:
– И ручки у него не торчали из рукавов, как у гимназиста.
– Таким образом, господа агенты, делаем вывод: убийство, вполне возможно, совершил человек, который посетил Ушаковых в шестом часу вечера. Ростом он немного ниже Журайского и худее его телосложением, поэтому шинель, из которой гимназист вырос, оказалась ему впору. Но этот человек из тех, кто хорошо знает Журайского и вхож в его дом, раз сумел раздобыть его одежду и оружие, но в то же время, без сомнения, бывал и в доме Ушаковых. – Тартищев окинул подчиненных суровым взглядом. – Теперь у нас появились основания сомневаться в причастности Журайского к убийству. Но для суда наши сомнения не доказательства! – Он тяжело вздохнул и покачал головой: – Представляю, что услышу завтра от исправника и вице-губернатора. Наше счастье, если они не успели доложить губернатору, что преступление раскрыто. Поэтому даю вам неделю, нет, три дня, но чтобы преступник был у меня вот здесь! – И он ткнул пальцем в сторону стула, на котором только что сидел Журайский. – Иначе за него возьмутся жандармы и охранное отделение, и тогда парню точно виселицы не миновать.
– А эти господа при чем? – поинтересовался с самым мрачным видом Вавилов. – Или в том плане, что тоже пахали?..
– А ты напряги мозги, – посоветовал Тартищев, – и вспомни, кто и с какими фамилиями по этому делу проходит – Журайский, Зейдлиц, Мейснер, Левицкий, Стратонов…
– Ну, елки точеные! – Иван хлопнул себя по колену. – Ну, чудилы копченые, опять в наш барыш свой гвоздь заколачивают?
– В том-то и дело! И мне это не слишком нравится. Сами понимаете, на открытие театра ждут великого князя Андрея Константиновича, приятеля Булавина. И поэтому раскрыть небольшой заговор накануне его приезда будет кое-кому очень кстати.
– Ага, – ухмыльнулся Иван, – раскрыли, предотвратили, захватили и обезвредили! Именно так будет Лямпе докладывать или чуть-чуть по-другому? Интересно только, если евреев пойдут громить, кто это дерьмо будет после расхлебывать?
В дверь постучали, и на пороге возник вестовой.
– Вашскобродие, разрешите доложить! – Он вытянулся в струнку. – Только что околоточный с Толмачевки Хохлаков доставил две неизвестные личности. Говорит, пачпортов при себе не имеют, назвать себя отказалися, – вестовой перешел на шепот, – но очень живо говорили между собой об убийстве семейства Ушаковых.
– Так об этом все кому не лень судачат, – произнес недовольно Тартищев и взглянул на часы. Скоро полночь. Вторые сутки пошли, как он и его агенты из дома, и еще ни разу толком не поели, а про сон пока и речи не шло… Но тем не менее приказал: – Давай сюда околоточного!
Околоточный надзиратель Хохлаков в длинной серой шинели и черной меховой шапке с козырьком был крепким, высоким полицейским, и форма на нем сидела как влитая. На левом боку у него висела шашка драгунского образца, справа на ремне – револьвер в кобуре, который для страховки крепился на шее на длинном оранжевом шнурке. Вид у околоточного – бравый и решительный. Его знают и побаиваются по всей округе, потому что не было еще случая, чтобы он дал кому-либо спуску. Местные жулики пытались его задобрить, но Хохлаков слишком дорожит своим местом в Толмачевке. Зачем ему подношения от жуликов, если сам вице-губернатор не гнушается подарить пятьдесят рублей к каждому празднику и на именины, а сколько еще богатых домов по соседству. Купцы, промышленники, чиновники… И всем бы хотелось мира и спокойствия на Толмачевке, потому и прикармливают они исправно своего околоточного, а он готов душу положить, но чтобы не лишили его относительно спокойного и хлебного места.
– Что у тебя? – спросил Тартищев.
– Разрешите доложить? – Околоточный чуть ли не ест его глазами от чрезмерного усердия и почитания, лицо его покраснело, а на лбу под шапкой выступили капли пота. Но Хохлаков не решается их смахнуть рукой, тем более полезть в карман за носовым платком. Он ждет, что ответит Тартищев.
Тот молча смерил его взглядом и кивнул головой:
– Валяй!
– Сегодня я весь день обходил свой околоток, с хозяевами разговаривал, с прислугой, дворниками еще… Душа-то болит, что убивца проглядел. – Хохлаков страдальчески сморщился и наконец-то смахнул пот со лба, а после и вовсе снял шапку. – Никто ничего не видел, ни одного подходящего рыла. За двумя я пошел, сильно уж подозрительны показались… сперва думал, что, может, из тех… новые жертвы выискивают… Оне после в трактир «Берендей» шмыг! Я за ними, бумаги проверил, смотрю, нет, ошибочка вышла – это причетник со священником зашли пообедать… Хозяин их хорошо знает… Тогда я за столик присел, чтоб чайком с холоду побаловаться. Смотрю, у буфета пьяный мужик стоит, рюмку одну выпил, другую… Расстегаем закусил…
– Хохлаков, ты короче можешь изъясняться? – не выдержал первым Иван.
– Могу, – с готовностью признался околоточный и продолжал чуть более торопливо, но не менее обстоятельно: – Сижу я, одним словом, чай глотаю, и тут влетает в трактир молодой человек, весь из себя франт, при тросточке, в шляпе, что-то спросил у лакеев и сразу к этому мужику у буфета направился. Тот к нему всем портретом развернулся: «Ты куда это собрался?» А франт отвечает: «Да тут неподалеку дельце есть…» А тот опять: «Все по-крупному промышляешь?» – «А что ж по мелочам размениваться? – отвечает франт и добавляет шепотом так, что не все слова разобрать: – Дельце-то проклюнулось… кистень, револьвер… Все семь человек… Одним ударом… череп вдребезги… крови лужи… полторы тысячи…» Сами понимаете, я насторожился. Приглядываюсь и вижу, что молодого точно где-то видел, а вот тот, что постарше, незнаком. Смотрю, засобирались они. Подхожу и спрашиваю: «Позвольте узнать ваши имена и фамилии?» Тот, что толще да пьянее, закуражился. Дескать, кто такой и на каком основании подобные вопросы задаю, будто не видит, что я в форме. Токмо я спорить не стал, достал свою карточку, показал им. Молодой тем временем пристроился на краю буфетной стойки и стал что-то быстро писать. А старший все ломается: «На каком основании вы к нам привязались?» Я ответить не успел, а молодой закончил писать, положил бумагу в карман и тоже спрашивает: «Что такое?» Я объясняю, что должен их задержать, потому как они вызвали определенное подозрение своими разговорами. Тогда молодой стал хохотать: «Ах, разговорами! – а потом говорит пожилому: – Поехали в участок. Это даже забавно получается!» Ну, я их доставил в участок, только оба наотрез отказались называть свои имена и потребовали незамедлительно отвезти их в уголовную полицию, к вам то есть, – посмотрел он преданно на Тартищева. – Дали мне в помощь городового, мы их и доставили… на извозчике… Да, – спохватился надзиратель, – молодой еще говорит, что вы, определенно, будете рады его видеть.
– Давай их сюда, – вздохнул устало Тартищев, – посмотрим, что это за господа такие? И так ли уж мы им обрадуемся!
Двери кабинета распахнулись, и в них показались два человека. Один – грузный, в коротком пальто и круглой кубанке, с красным одутловатым лицом и потухшей сигарой в толстых губах. В кабинет он прошел осторожно, держась за стенку, и застыл у косяка, видимо, не надеясь на ноги, которые у него подгибались отнюдь не от слабости. Второй был абсолютно трезв и выглядел как записной франт. Его широкие плечи обтягивало длинное модное пальто в талию. Шею захлестнул белый шелковый шарф. В руках он держал шляпу и трость и весело при этом улыбался.
Лицо Тартищева сморщилось, словно он отведал прокисшего пива.
– Желтовский?! Что еще за фокусы себе позволяете?
– Федор Михайлович, – произнес укоризненно газетчик и, не дожидаясь приглашения, опустился на диван рядом с Вавиловым, – поймите, грех было не воспользоваться таким случаем! Когда еще столь легко получилось бы проникнуть в ваши пенаты?
– Ну, вы и проходимец, Желтовский, – покачал головой Тартищев и поинтересовался: – Не меньше червонца небось в лапу кинули, чтобы здесь оказаться?
– Обижаете, Федор Михайлович, – расплылся в улыбке Желтовский, показав ослепительно белые, как на рекламе зубного порошка, зубы. – Исключительно личным обаянием и авторитетом всего добиваемся.
– Слышал, слышал, как этому авторитету да обаянию то в челюсть, то в глаз прилетает, – усмехнулся криво Тартищев и посмотрел на Вавилова: – И что нам делать с этими мошенниками?
– Думаю, до утра отправим их в холодную, пусть клопов подавят, пока их личности будем выяснять.
– Вам, что ж, моя личность не известна? – произнес высокомерно Желтовский и кивнул на своего приятеля, до сей поры подпиравшего дверной косяк, но, кажется, уже из последних сил. – Скажите еще, Куроедов вам незнаком.
– Понятия не имею, кто вы такие! – Иван поднялся с дивана. – Паспортов при себе не имеете, значит, личности для полиции неустановленные! Дай бог, чтобы к утру установили или к обеду… А то к вечеру в арестантской от гангрены можно запросто скончаться. Клопы там зловредные, по-особому газетчиков не любят, обглодают, что твоя собака кость.
– Федор Михайлович, – Желтовский нервно дернул щекой, – я бы не советовал вам связываться с прессой…
– А я бы не советовал вам шутить с полицией, – мягко и почти по-отечески нежно посоветовал Тартищев. – Скажите, бывало ли так, что я вас предупреждал, господин Желтовский, но вы все равно путались под ногами у сыщиков и мешали дознанию? А случалось ли так, что ваши гнусные домыслы или преждевременные выводы помогали преступнику смыться, а нам приходилось потом не спать сутками, чтобы задержать его?
– Не помню такого, – буркнул Желтовский и насупился.
– Зато я помню! – стукнул кулаком по столу Тартищев. – И каюсь, сколько уже раз рука чесалась надраить ваш авторитет так, чтоб блестел, как тот червонец, за который вы готовы не только совесть продать, но и душу заложить!
– Прошу меня не оскорблять! – сквозь зубы и с расстановкой произнес репортер. – Все знают, что Желтовского никто еще не сумел купить. А мои репортажи основаны исключительно на личной интуиции и информации, которую я добываю теми же способами, что и ваши агенты. – Он вскинул голову и с вызовом произнес: – Да, и покупаю ее, если потребуется. Но это не только мой грех! Во всем мире все так делают. Информация – самый дорогой и скоропортящийся товар, знаете ли!
Тартищев хмыкнул и смерил репортера недовольным взглядом:
– Единственное, что я хорошо знаю, господин Желтовский, наглости вы немереной. Это ж надо додуматься – заявиться к начальнику уголовной полиции ночью на пару с пьяным в дымину приятелем, помешать важному совещанию… Вам что, время некуда девать? Так научитесь хотя бы чужое уважать!
– Я и свое, и чужое время очень уважаю, – произнес сквозь зубы Желтовский, – тем более, мне бы не хотелось ночевать в вашем клоповнике. Мне надо срочно сдать репортаж, иначе… – он провел пальцем по горлу, – сами понимаете.
– Позвольте полюбопытствовать, что за репортаж? – вклинился в разговор Вавилов и почти пропел ласковым голосом: – Наверняка со смаком живописуете подробности убийства на Толмачевке?
– Это мой хлеб, господин Вавилов, – усмехнулся краешком губ Желтовский, но даже не повернул головы в сторону Ивана, как бы подчеркивая, что разговор ведет только с Тартищевым. – Но этот репортаж я сдал три часа назад. А сейчас проклюнулись некоторые детали…
– Из чего ж они проклюнулись, интересно знать, господин репортер? – Иван, похоже, не обратил внимания на то пренебрежение, которое так и излучал газетчик, и продолжал допытываться: – Как мне известно, вы сегодня изрядно попыхтели по нашим охвостьям.
– Золото даже по охвостьям моют, – огрызнулся Желтовский, – но вы меня плохо знаете, господа! Вы приказали своим свидетелям молчать, и они исправно молчали, но не на всякий роток накинешь платок… – И он с явным торжеством посмотрел на Тартищева, а потом кивнул на тючок с одеждой Журайского. – Небось примеряли гимназисту его старые портки и шинельку? И они наверняка ему не подошли? – Он усмехнулся. – Что ж, думаете, я такой прожженный злодей, что мальчишке петли желаю? Не-ет, я хоть и проходимец, как вы изволили выразиться, господин Тартищев, но совесть свою по кабакам не пропил и не прогулял. И не совсем доверяю вашему ведомству, потому что по некоторым событиям вы тоже спешите быстро отчитаться. Начальство любит скорые и победные рапорты. Поэтому я решил заняться личным сыском по этому делу.
– Кажется, теперь Журайскому точно от виселицы не открутиться, – вздохнул Вавилов и обреченно махнул рукой.
– Погоди, Иван, – остановил его взглядом Тартищев и строго посмотрел на Желтовского. – Потрудитесь объяснить, что вы имеете в виду, когда заявляете про личный сыск.
– Максимушка, – донеслось тоскливое от дверей, – пошли уже! Пивцо наружу просится…
Косяк уже с трудом поддерживал репортера, который, размякнув в тепле, сполз поначалу на корточки, а потом и вовсе сел на пол.
– Корнеев, проводи его куда полагается, – приказал Тартищев, не спуская пристального взгляда с Желтовского.
Корнеев подхватил Куроедова за шиворот и поставил его на разъехавшиеся в разные стороны ноги. Но идти он был не в состоянии. Так что кабинет репортер покинул, повиснув на крепком плече Корнеева. Желтовский проводил их взглядом и опять перевел его на Тартищева.
– Я сегодня пробежался по некоторым известным мне местам на Хлудовке и Покровке, поговорил кое с кем… Серьезные люди в этом деле не замешаны… «Иваны» в те края ни ногой, знают, себе дороже станет… Гимназист, говорят, наверняка ни при чем… Кишка тонка… Тогда кто же? – Он в упор посмотрел на Тартищева. – Я искренне вас уважаю, Федор Михайлович, иначе здесь бы не появился. – Он бросил быстрый взгляд на Алексея и Ивана, потом на Тартищева, словно спрашивая, можно ли при них вести доверительный разговор.
– Давай! – нетерпеливо кивнул ему Тартищев. – Это мои вернейшие люди!
– В общем, сегодня я наведался к Мейснеру, – сообщил Желтовский и, заметив, как поползли вверх брови сыщиков, довольно усмехнулся. – Совершенно случайно мне стало известно, что именно у него стибрил пули Журайский. Но архитектор молчал, как египетская мумия… Тут мне сказать нечего, господа сыщики, рты вы и без ниток умудряетесь зашивать свидетелям… Но самое главное не в этом. От Мейснера за мной почти в открытую пошли два господина в пальто и в чуйке. Я сел на извозчика, они следом – в пролетку, я в трактир – они за мной, я в редакцию – они не отстают. Так и колбасили почти три часа по городу, пока я в «Берендей» не заглянул и Ваську Куроедова не встретил. А тут несказанное везение – Хохлаков собственной персоной. Когда он нас в пролетку погрузил, те два хмыря нас все ж не отпустили, до самого участка проводили, а после, когда уже к вам нас повезли, я их не заметил. Видно, успокоились, что нас до утра задержат.
– Эка вы накрутили, Желтовский, – усмехнулся Тартищев, – кому вы интересны, чтобы за вами следить? Не иначе каким-нибудь шаромыжникам приглянулись, если таким вот фертом по притонам отирались, – кивнул Тартищев на трость Желтовского. – В ремешок или в наперсток не предлагали сыграть, или в «фортунку»?
– Не держите меня за дурака, Федор Михайлович, – насупился Желтовский. – Я себе цену знаю, и кулак у меня не слабее вашего, и в лобешник кому надо запузырю, если потребуется. У меня есть разрешение на «маузер», но я его на Хлудовку не беру… Чтобы искушения не было. И я вам больше скажу, следили за мной не жулики, а охранка… Их филеров ни с кем не спутаешь… Не иначе политику замышляют?
– Об этом мне неведомо! – преувеличенно тяжело вздохнул Тартищев и развел руками. – Господин Ольховский нас в свои планы не посвящает, равно как и мы своими тоже с ним не делимся. – Он поднялся из-за стола. – У вас все, господин Желтовский? – И повернулся к Ивану: – Так уж и быть, дай господам газетчикам мою коляску. Пусть развезут их по домам…