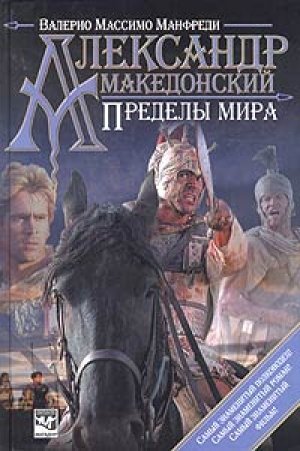
ГЛАВА 1
На исходе весны царь снова пустился в путь через пустыню. Теперь он пошел по другой дороге, которая вела из оазиса Амона прямо к берегам Нила и выходила в окрестности Мемфиса. Александр часами ехал в одиночестве на своем сарматском гнедом, а Букефал шел рядом без сбруи и узды. С тех пор как он осознал, насколько велик тот путь, который ему предстоит пройти, Александр старался беречь своего жеребца от всех ненужных тягот, словно желая продлить жизненную силу его молодости.
Потребовались три недели марша под жгучим солнцем и суровые испытания, пока солдаты не увидели вдалеке тонкую зеленую полоску — плодородные берега Нила. Но царь, погруженный в свои мысли и воспоминания, как будто не подвластен был ни усталости, ни голоду, ни жажде.
Товарищи не нарушали его задумчивости, понимая, что он хочет остаться в этих бескрайних пустынных просторах наедине со своими смутными ощущениями, со своим тревожным предчувствием бессмертия, со своими душевными переживаниями. Возможность поговорить с ним появлялась только вечером, и порой кто-нибудь из друзей заходил к нему в шатер составить компанию, пока Лептина помогала царю принять ванну.
Однажды Птолемей ошеломил Александра вопросом, который давно уже не выходил у него из головы:
— Что тебе сказал бог Амон?
— Он назвал меня сыном, — ответил царь. Птолемей поднял упавшую из рук Лептины губку и положил на край ванны.
— А о чем был твой вопрос?
— Я спросил его, все ли убийцы моего отца мертвы или кто-то еще остался в живых.
Птолемей промолчал. Он подождал, пока царь вылезет из ванны, накрыл его плечи чистой льняной простыней и стал растирать. Когда Александр повернулся, друг заглянул ему в самую глубину души и заговорил снова:
— Стало быть, ты все еще любишь своего отца — теперь, когда стал богом?
Александр вздохнул:
— Если бы не ты задал этот вопрос, я бы сказал, что это слова Каллисфена или Клита Черного… Дай мне твой меч.
Птолемей удивленно посмотрел на него, но возражать не посмел. Он вынул из ножен свое оружие и протянул царю, а Александр надрезал лезвием кожу на руке, так что потекла кровь.
— Что это, разве не кровь?
— Да, действительно.
— Кровь, правда? А не «ихор, что струится по жилам блаженных»? — процитировал Александр гомеровскую строку. — А стало быть, друг мой, постарайся меня понять и не наноси ран попусту, если любишь меня.
Птолемей понял и извинился за то, что повернул беседу таким образом, а Лептина омыла руку царя вином и перевязала.
Александр увидел, что друг расстроен, и пригласил его остаться на ужин. У царя было чем угостить: черствый хлеб, финики и кисловатое пальмовое вино.
— Что будем делать теперь? — спросил Птолемей.
— Вернемся в Тир.
— А потом?
— Не знаю. Надеюсь, Антипатр сообщит мне о том, что происходит в Греции, а наши осведомители в Персии предоставят достаточные сведения о намерениях Дария. Тогда уж и примем решение.
— Я знаю, что Евмен сообщил тебе о судьбе твоего зятя Александра Эпирского.
— Увы, да. Моя сестра Клеопатра убита горем, равно как и моя мать, которая очень его любила.
— Но я почему-то думаю, что самую сильную боль чувствуешь ты. Или я не прав?
— Похоже, прав.
— Что же объединяло вас так тесно, кроме двойного родства?
— Великая мечта. Теперь вся тяжесть этой мечты легла на мои плечи. Когда-нибудь мы пойдем в Италию, Птолемей, и уничтожим варваров, которые убили его.
Александр налил другу немного пальмового вина и проговорил:
— Тебе нравится слушать стихи? Я пригласил Фессала составить мне компанию.
— С превеликим удовольствием послушаю его. Какие стихи ты выбрал?
— Те, где говорится о море. Разных поэтов. Зрелище бескрайних песков напоминает мне морские просторы, а здешний зной заставляет мечтать о море.
Лептина отодвинула в сторону два маленьких столика, и вошел актер. Он был одет как для сцены и загримирован: глаза накрашены бистром, рот подведен суриком, создавая горькую складку, как у трагической маски. Притронувшись к кифаре, Фессал издал несколько приглушенных аккордов и начал:
В глубокой ночной тиши Александр зачарованно слушал актера; царь внимал этому голосу, который был способен на любые интонации и умел заставить ответно вибрировать все человеческие чувства и страсти и даже подражать дыханию ветра и рокоту грома.
До поздней ночи они наслаждались искусством великого актера, а тот стонал женским плачем и гремел криками героев. Когда Фессал закончил декламацию, Александр обнял его.
— Спасибо, — проговорил он с огненным взором. — Ты наяву вызвал сны, приходящие ко мне по ночам. А теперь ступай спать: завтра нас ждет долгий марш.
Птолемей остался еще ненадолго, чтобы выпить с Александром.
— Никогда не вспоминаешь о Пелле? — вдруг спросил он. — Никогда не думаешь о матери, об отце, о том, как мы были детьми и скакали верхом по холмам Македонии? О водах наших рек и озер?
Александр как будто задумался на несколько мгновений, а потом ответил:
— Да, часто, но они мне представляются чем-то отдаленным, как будто все это произошло много-много лет назад. Наша жизнь так наполнена, что каждый час идет за год.
— Это означает, что мы состаримся раньше времени — так, что ли?
— Возможно… А может быть, и нет. Лампе, которая светит в зале ярче всех, суждено и погаснуть раньше всех, но гости запомнят, как прекрасен и приветлив был ее свет во время праздника.
Он отодвинул полог шатра и проводил Птолемея наружу. Небо над пустыней сияло бесконечным множеством звезд, и два молодых друга подняли к нему глаза, любуясь этим великолепием.
— А может быть, такова же и судьба звезд, что ярче других сверкают на небосводе. Да будет твоя ночь спокойна, друг мой.
— И твоя тоже, Александрос, — ответил Птолемей и удалился в свой шатер на окраине лагеря.
Через пять дней они вышли на берега Нила близ Мемфиса, где царя ожидали Парменион и Неарх, и в ту же ночь Александр снова встретился с Барсиной. Она поселилась в роскошном дворце, раньше принадлежавшем какому-то фараону. Ей отвели жилище в верхней части дворца, открытой северному ветру, который вечером приносил приятную прохладу и колыхал голубые виссоновые занавеси, легкие, как крылья бабочки.
Барсина ждала царя. В легкой сорочке ионийского покроя она сидела в кресле, украшенном золотыми и эмалевыми узорами. Ее волосы, черные с фиолетовым отливом, ниспадали на плечи и грудь, а лицо было сильно накрашено в египетском стиле.
Лунное сияние и свет лампы, что сочился из-за гипсовой перегородки, смешивались в воздухе, пропитанном ароматами нарда и алоэ, и мерцали желтоватыми отблесками в ониксовой ванне с водой, где плавали цветы лотоса и лепестки роз. Из-за панно с изображением зарослей плюща и птиц, парящих в воздухе, доносилась приглушенная музыка — нежные звуки флейты и арфы. Стены сплошь покрывали древние египетские фрески, на которых под звуки лютни и бубнов кружились в танце перед восседавшей на троне царственной парой обнаженные девушки. В углу комнаты стояла большая кровать с голубым балдахином на четырех деревянных колоннах, украшенных капителями в форме цветка лотоса.
Александр вошел и направил на Барсину долгий страстный взгляд. В его глазах еще горел палящий свет пустыни, в ушах звучали тайны амонского оракула, и аура магических чар исходила от всей его фигуры: от золотых волос, ниспадавших на плечи, от мускулистой, покрытой шрамами груди, от переливчатых глаз разного цвета, от тонких нервных кистей рук с синеватыми набухшими жилами. Его тело прикрывала лишь легкая хламида, схваченная на левом плече серебряной пряжкой древней работы, которая веками передавалась в его династии по наследству; лоб охватывала золотистая лента.
Барсина встала и тут же ощутила, как утонула в сиянии его взгляда.
— Александрос… — прошептала она.
Он сжал ее в объятиях и стал покрывать поцелуями, влажными и сочными, как спелые финики, а потом уложил на кровать и ласкал теплую надушенную грудь.
Но мгновение спустя царь ощутил, как ее кожа похолодела и роскошное тело напряглось у него в руках. Александр уловил в воздухе неопределенную тревогу, и это пробудило его задремавшие было инстинкты воина. Он резко обернулся и заметил метнувшуюся к нему фигуру, увидел занесенную руку с кинжалом, услышал визгливый дикий крик, прозвучавший в стенах спальни, — и тотчас этому звуку ответил крик Барсины, полный страха и боли.
Александр легко повалил нападавшего и придавил его к полу, выкручивая ему руку, чтобы тот выпустил оружие.
И царь, несомненно, тут же и убил бы его вставленным в лампу тяжелым подсвечником, если бы не узнал пятнадцатилетнего мальчика — это был Этеокл, старший сын Мемнона и Барсины! Мальчик бился, как попавший в капкан львенок, выкрикивая оскорбления, кусаясь и царапаясь.
Привлеченная переполохом, прибежала стража и схватила злоумышленника. Поняв, что здесь произошло, командир воскликнул:
— Покушение на жизнь царя! Отведите его вниз, для пыток и суда.
Но Барсина с плачем бросилась в ноги Александру:
— Спаси его, мой господин, сохрани жизнь моему сыну, умоляю тебя!
Этеокл с презрением посмотрел на нее, а потом повернулся к Александру и проговорил:
— Тебе следует убить меня, потому что иначе я еще тысячу раз попытаюсь сделать то, что пытался совершить сегодня; я буду это делать снова и снова, пока мне не удастся отомстить за жизнь и честь моего отца.
Он все еще дрожал от возбуждения схватки и ненависти, сжигавшей его юное сердце. Царь жестом велел страже удалиться.
— Но, государь… — начал было возражать их командир.
— Уйдите! — приказал царь. — Разве вы не видите, что это мальчик?
Когда начальник стражи повиновался, царь снова обратился к Этеоклу:
— Честь твоего отца не пострадала, а его жизнь унесла роковая болезнь.
— Неправда! — крикнул мальчик. — Ты его отравил, а теперь… а теперь забрал себе его жену. Ты бесчестный человек!
Александр приблизился к пленнику и проговорил твердым голосом:
— Я всегда восхищался твоим отцом. Я считал его единственным соперником, достойным меня, и мечтал когда-нибудь встретиться с ним на поединке. Я бы никогда его не отравил: со своими врагами я встречаюсь лицом к лицу, с копьем и мечом. Что касается твоей матери, то это я — ее жертва. Я думаю о ней каждое мгновение, я потерял сон и покой. Любовь — это божественная сила, сила необоримая. Человек не может ни укрыться от нее, ни избежать ее, как не может он избежать солнца и дождя, рождения и смерти.
Барсина рыдала в углу, закрыв лицо руками.
— Ты ничего не скажешь своей матери? — спросил юношу царь.
— С того самого мгновения, когда твои руки впервые прикоснулись к ней, она больше мне не мать, она для меня ничто. Убей меня, тебе следует это сделать. А не то я убью вас обоих. И посвящу вашу кровь тени моего отца, чтобы он успокоился в царстве Аида.
Александр обратился к Барсине:
— Что мне делать?
Она отерла глаза и взяла себя в руки.
— Отпусти его, прошу тебя. Дай ему коня и провизии и отпусти. Можешь ли ты сделать это для меня?
— Предупреждаю, — снова повторил мальчик, — если ты меня сейчас отпустишь, я отправлюсь к Великому Царю и попрошу у него доспехи и меч, чтобы сражаться против тебя в его войске.
— Если так должно быть, пусть так и будет, — ответил Александр.
Он позвал стражу и, объявив, что отпускает мальчика, велел дать ему коня и провизии.
Этеокл направился к двери, пытаясь скрыть бурные чувства, переполнявшие его душу, но мать окликнула его:
— Погоди.
Мальчик на мгновение задержался, но потом повернулся к ней спиной и шагнул за порог. Барсина снова повторила:
— Погоди, прошу тебя! — Она открыла ящик под скамьей, вынула оттуда блестящий меч в ножнах и протянула сыну. — Это меч твоего отца.
Мальчик взял его и прижал к груди. Из глаз его хлынули горючие слезы, оставляя заметные следы на щеках.
— Прощай, сын мой, — проговорила Барсина полным горя голосом. — Да хранит тебя Ахура-Мазда, да уберегут тебя боги твоего отца.
Этеокл прошел по коридору и спустился по лестнице во двор, где стражники держали под уздцы коня. Но прежде чем вскочить на него, мальчик увидел, как в боковой двери появилась какая-то тень — его брат Фраат.
— Возьми меня с собой, прошу тебя, — взмолился мальчик. — Я не хочу оставаться пленником этих яунов!
Этеокл на мгновение заколебался, а младший брат продолжал настаивать:
— Возьми меня с собой, прошу, прошу тебя! Я не тяжелый, конь вынесет нас обоих, пока мы не достанем второго.
— Не могу, — ответил Этеокл. — Ты еще слишком маленький, да и… кто-то должен остаться с мамой. Прощай, Фраат. Мы увидимся, когда закончится эта война. И я сам приду и освобожу тебя.
Он крепко обнял брата и долго не отпускал его, а тот лил слезы вовсю. Потом Этеокл вскочил на коня и ускакал.
Барсина следила за сыновьями из окна своей комнаты и чувствовала, что сейчас умрет, что сердце ее разорвется при виде этого пятнадцатилетнего мальчика, галопом скачущего в ночь. Она безутешно плакала, думая, как горька бывает судьба земных существ. Еще недавно она ощущала себя одним из олимпийских божеств, чьи изображения видела на картинах и скульптурах великих художников-яунов; теперь же чувствовала себя ниже последней из рабынь.
ГЛАВА 2
Чтобы войско могло перейти на восточный берег Нила, Александр велел построить два моста из лодок. На другом берегу его ждали солдаты и начальники, на чьем попечении оставалась покоренная страна. Теперь, увидев, что они справились со своей задачей хорошо, царь подтвердил полномочия назначенных им ранее правителей, но разделил их при этом так, чтобы вся власть над богатейшей древней страной не сконцентрировалась в руках кого-то одного.
Однако по воле судьбы те дни, когда Египет принимал царя, вернувшегося из святилища Амона, воздавая ему почести, как богу, и короновав его как истинного фараона, оказались омрачены печальными известиями. Почти каждый день перед глазами Александра вставало отчаяние Барсины, а тут обрушилось еще большее несчастье. У Пармениона кроме Филота было еще два сына: Никанор, командир одного отряда гетайров, и Гектор, девятнадцатилетний юноша, которого старый полководец нежно любил. Возбужденный видом войска, форсирующего реку, Гектор взял египетскую папирусную лодку, чтобы полюбоваться великолепным зрелищем с середины реки. Из юношеского тщеславия, облачившись в тяжелые доспехи и яркий парадный плащ, он встал на корме, чтобы покрасоваться перед всеми.
Однако лодка вдруг натолкнулась на что-то — предполагали, что это была спина гиппопотама, всплывшего в это время на поверхность, — и резко накренилась. Юноша упал в воду и тут же утонул, влекомый на дно тяжестью доспехов и мокрого плаща.
Египетские гребцы ныряли без перерыва, равно как и многие молодые македоняне вместе с его братом Никанором, присутствовавшим при несчастье; все они подвергались опасности попасть в водоворот или в пасть крокодилам, особенно многочисленным на этом участке реки; но все оказалось тщетно. Парменион беспомощно взирал на трагедию с восточного берега реки, откуда следил за переправой войска.
Вскоре об этом узнал Александр. Царь немедленно отдал приказ финикийским и кипрским морякам попытаться извлечь из реки хотя бы тело юноши, но и их усилия оказались напрасны. В тот же вечер после долгих часов мучительных поисков, в которых принял участие и сам царь, Александр отправился нанести визит старому военачальнику, который буквально окаменел от горя.
— Как он? — спросил Александр у Филота, стоявшего у шатра, словно оберегая одиночество своего отца.
Друг безутешно покачал головой.
Парменион молча сидел на земле в темноте, и во мраке виднелась лишь его седая голова. Александр ощутил дрожь в коленях; он глубоко сочувствовал этому отважному и преданному человеку, который столь часто раздражал его своими призывами к благоразумию и непрестанными напоминаниями о величии его отца. В этот момент старик напоминал вековой дуб, что долго бросал вызов годам с их непогодами и ураганами и вдруг в одно мгновение был сокрушен ударом молнии.
— Довольно печальный визит, Парменион, — неуверенно начал царь, не в силах отвязаться от звучавшего в голове стишка, который в детстве часто напевал при появлении седовласого воина на советах своего отца:
Услышав голос своего царя, Парменион машинально встал и прерывающимся голосом проговорил:
— Благодарю тебя за то, что пришел, государь.
— Мы сделали все, чтобы отыскать тело твоего сына. Я бы воздал ему великие почести, я бы… я бы отдал что угодно, чтобы…
— Знаю, — ответил Парменион. — Как говорится, в мирное время сыновья хоронят отцов, а во время войны отцы хоронят сыновей, но я всегда надеялся, что меня это несчастье минует. Я всегда предполагал, что стрела или удар меча раньше найдут меня. А вот…
— Это страшный рок, — проговорил Александр. Между тем его глаза привыкли к темноте в шатре, и он смог различить искаженное горем лицо Пармениона. С красными глазами, иссохшей морщинистой кожей, взъерошенными волосами, военачальник словно в одночасье постарел на десять лет. Так он не выглядел даже после самых суровых битв.
— Если бы он погиб в бою… — проговорил Парменион. — Если бы он погиб с мечом в руке, это имело бы для меня какой-то смысл: все мы солдаты. Но так… так… Утонуть в этой грязной реке, остаться на съедение речным чудовищам! О боги, боги небесные, за что? За что?
Он закрыл лицо руками и заплакал. Его рыдания разрывали сердце. При виде этого горя у Александра не нашлось слов. Он сумел лишь пробормотать:
— Я сожалею… Я сожалею, — и вышел, на прощание растерянно посмотрев на Филота и подошедшего в это время Никанора, также сраженного горем и усталостью, все еще мокрого и покрытого грязью.
На следующий день царь велел возвести кенотаф в честь погибшего юноши и лично выполнил погребальный обряд. Солдаты, построившись рядами, десятикратно прокричали имя Гектора, чтобы сохранить память о нем. Но не так выкрикивали они имена своих товарищей, павших на заснеженных горных вершинах, под сапфировым небом Фракии и Иллирии. В этой душной и тягостной атмосфере, над мутными водами имя Гектора быстро поглотила тишина.
В тот же вечер царь вернулся к Барсине. В слезах она лежала на кровати, и ее кормилица рассказала, что вот уже несколько дней госпожа почти ничего не ест.
— Ты не должна предаваться такому отчаянию, — сказал ей Александр. — Ничего с твоим мальчиком не случится: я велел двум моим воинам проследить, чтобы с ним не произошло никакой беды.
Барсина приподнялась и села на край кровати.
— Благодарю тебя. Ты снял тяжесть с моего сердца… хотя там и остался стыд. Мои сыновья осудили меня и вынесли строгий приговор.
— Ты ошибаешься, — ответил Александр. — Знаешь, что сказал твой сын своему младшему брату? Мне передал один из стражников. Он сказал: «Ты должен остаться с мамой». Это значит, что он любит тебя и сделал то, что сделал, лишь потому, что считал это правильным. Ты должна гордиться этим мальчиком.
Барсина вытерла глаза.
— Мне не нравится, что все происходит так. Я бы хотела нести тебе радость, хотела быть рядом с тобой в миг твоего торжества, а вместо этого лишь плачу.
— Слезы к слезам, — ответил Александр. — Парменион потерял своего младшего сына. Все войско в трауре, и я никак не мог предотвратить несчастье. Что толку становиться богом… Но сейчас сядь, прошу тебя, и поешь со мной: нам нужно вместе отвоевать счастье, которое завистливая судьба пытается у нас отнять.
Флотоводец Неарх получил приказ поднять паруса и отплыть в направлении Финикии, в то время как войско отправилось назад сушей, по дороге, что пролегала по узкой полосе между морем и пустыней. Когда оно подошло к Газе, из Сидона прибыл гонец со страшным известием.
— Государь, — сообщил он, едва соскочив с коня и еще не успев отдышаться, — самаритяне после долгих пыток заживо сожгли командующего Андромаха, твоего наместника в Сирии.
Александр, и так уже огорченный последними событиями, пришел в бешенство:
— Кто такие эти самаритяне?
— Это варвары, живущие в горах между Иудеей и горой Кармел. У них есть город, называемый Самария, — ответил гонец.
— И они не знают, кто такой Александр?
— Может быть, и знают, — вмешался Лисимах, — но не придают этому большого значения. Думают, что можно бросить вызов твоему гневу.
— В таком случае им полезно будет узнать меня получше, — отозвался царь.
Он отдал приказ выступать немедленно, и войско без отдыха совершило марш до Акры. Оттуда царь с легкой конницей трибаллов, с агрианами и «Острием» в полной боевой готовности направился на восток, в глубь материка. Александр повел войска лично вместе со своими друзьями, в то время как тяжелая пехота, вспомогательные войска и конница гетайров остались на побережье под командованием Пармениона.
Они нагрянули с наступлением вечера совершенно неожиданно. Самаритяне представляли собой народ пастухов, разбросанных по горам и холмам. Через три дня все их поселения были преданы огню, а столица, такая же деревня, но побольше и огражденная стеной, сметена с лица земли. Их храм, довольно убогое святилище без статуи или какого-либо образа, обратили в прах.
Когда рейд завершился, уже наступали сумерки третьей ночи, и царь решил разбить лагерь в горах, чтобы дождаться следующего дня, прежде чем отправиться обратно на морское побережье. На всех окружающих перевалах были выставлены двойные дозоры, чтобы обезопасить себя от внезапного нападения. Для освещения охранных постов развели костры, и ночь прошла спокойно. Вскоре после рассвета царя разбудил командир последней стражи, фессалиец из Ларисы по имени Эвриал:
— Государь, иди взгляни.
— Что такое? — спросил Александр, поднимаясь.
— Кто-то идет с юга. К нам направляется посольство.
— Посольство? От кого же?
— Не знаю.
— На юге есть лишь один город, — заметил Евмен, который давно проснулся и уже совершил первый обзорный обход. — Иерусалим.
— И что это за город?
— Это столица одного маленького царства без царя — царства иудеев. Город стоит на высокой горе и окружен скалами.
Пока Евмен говорил, возле первого охранного поста показалась маленькая группа, которая попросила позволения пройти.
— Пропустите их, — велел Александр. — Я приму их у своего шатра.
Он накинул на плечи плащ и уселся на походную скамеечку.
Тем временем один из пришедших с посольством, говоривший по-гречески, обменялся несколькими словами с Эвриалом и спросил, не этот ли юноша, сидящий перед шатром в красном плаще, и есть царь Александр. Получив утвердительный ответ, он приблизился, ведя за собой всю свиту. Вскоре стало очевидно, кто среди них самая важная персона: это был пожилой человек среднего роста с длинной аккуратно подстриженной бородой. Голову его покрывала жесткая митра, а на груди висело украшение с двенадцатью разноцветными камнями. Он заговорил первым, и его язык, гортанный и в то же время мелодичный, аритмичный и с сильными придыханиями, на слух показался Александру похожим на финикийский.
— Да убережет тебя Господь, великий царь, — перевел толмач.
— О каком господе ты говоришь? — спросил Александр, заинтересовавшись этими словами.
— О нашем Господе Боге, Боге Израиля.
— И с чего бы это вашему богу беречь меня?
— Он уже сделал это, — ответил старик, — позволив тебе выйти невредимым из стольких сражений, чтобы, в конце концов, прийти сюда и положить конец кощунству самаритян.
Александр покачал головой, словно не увидел в словах толмача никакого смысла.
— Что такое кощунство? — спросил он.
В этот момент чья-то рука легла ему на плечо. Царь обернулся и увидел Аристандра, закутанного в белый плащ. Прорицатель смотрел на Александра со странным выражением в глазах.
— Отнесись с уважением к этому человеку, — шепнул ясновидец царю на ухо. — Его бог — несомненно, очень могущественный бог.
— Кощунство, — снова заговорил толмач, — это оскорбление Бога. А самаритяне построили храм на горе Гарицим. Тот, что ты с помощью Господа только что разрушил.
— И это было то самое… кощунство?
— Да.
— Почему?
— Потому что может быть лишь один храм.
— Один храм? — озадаченно переспросил царь. — В моей стране храмов сотни.
Тут вмешался Аристандр. Он попросил позволения поговорить с белобородым стариком:
— Что это за храм?
Старик принялся вдохновенным голосом рассказывать, а толмач переводил:
— Этот храм — дом нашего Бога, единственного сущего, создателя небес и земли, всего видимого и невидимого. Он освободил наших отцов от египетского рабства и даровал им Землю Обетованную. В течение многих лет Он жил в шатре в городе Сил, пока царь Соломон не построил ему на горе Сион, в нашем городе, великолепный храм из золота и бронзы.
— И как он выглядит, этот бог? — спросил Александр. — У тебя есть какой-нибудь его образ, чтобы показать мне?
Едва услышав от толмача вопрос, старик всем своим видом продемонстрировал крайнее отвращение и сухо ответил:
— Наш Господь никак не выглядит. Он строго-настрого запретил пользоваться образами. Образ нашего Господа повсюду: он в небесных облаках и в полевых цветах, в пении птиц и шепоте ветра в кронах деревьев.
— Но тогда что же находится в вашем храме?
— Ничего такого, что мог бы увидеть человеческий глаз.
— В таком случае кто же ты?
— Я — верховный жрец. Я представляю Господу молитвы нашего народа, и только мне одному дозволено произносить Его имя, раз в году, в самом уединенном уголке святилища. А ты кто такой, если позволено спросить?
Царь посмотрел в лицо одному из собеседников, потом другому и проговорил:
— Я хочу увидеть храм твоего бога.
Едва до старого жреца дошли слова царя, как он упал на колени и коснулся лбом земли, умоляя не делать этого:
— Прошу тебя, не оскверняй нашего святилища. Никто из необрезанных, никто из не принадлежащих к Избранному Богом Народу не может входить в храм, и я обязан препятствовать этому до последней капли крови.
Царь едва не впал в бешенство, как случалось всегда, когда он получал отказ, но Аристандр сделал ему знак сдержать свой гнев и снова шепнул на ухо:
— Отнесись с уважением к этому человеку, который готов отдать жизнь за своего бога, не имеющего обличья, но не хочет лгать и льстить тебе.
Несколько мгновений Александр молчал, а потом снова повернулся к старику с белой бородой:
— Я уважу твое желание, но взамен хочу получить от тебя ответ.
— Какой? — спросил старик.
— Ты сказал, что образ единственного бога можно увидеть в облаках на небе, в цветах на лугу, в пении птиц, в шепоте ветра… Но что от твоего бога находится в человеке?
Старик ответил:
— Бог создал человека по образу и подобию своему, но в некоторых людях образ Бога затуманен и искажен их поступками. В других же он сверкает, как полуденное солнце. И ты — из таких людей, великий государь.
И с этими словами он повернулся и ушел туда, откуда пришел.
ГЛАВА 3
Войско продолжило поход; оно миновало край Палестины и вошло в Финикию. В Тире царь хотел принести жертву Гераклу-Мелькарту, чтобы торжественным религиозным ритуалом развеять тягостное чувство тоски и тревоги, распространившееся среди солдат после смерти молодого Гектора, которую все восприняли как печальное предзнаменование.
Город еще нес на себе следы разграбления, перенесенного в прошлом году, и все же жизнь упрямо расцветала в нем снова. Выжившие отстраивали заново свои жилища, привозя строительные материалы на лодках с берега. Другие занялись рыбной ловлей, третьи восстанавливали предприятия, где производился самый ценный в мире пурпур из размоченных мидий, что водились на местных рифах. С Кипра и из Сидона прибывали новые колонисты, пополняя население древней метрополии. Царивший над руинами дух запустения постепенно рассеивался.
В Тире к Александру зачастили многочисленные посольства от разных греческих городов и островов; кроме того, прибыло несколько сообщений от военачальника Антипатра, который извещал о ходе воинского набора в северных районах. Пришло и письмо от матери, которое произвело на Александра глубокое впечатление.
Олимпиада Александру, нежно любимому сыну: здравствуй!
Я получила известие о том, что ты посетил святилище Зевса средь песков пустыни, и об ответе, данном тебе богом, и в сердце у меня осталось глубокое чувство. Мне вспомнилось, как впервые ощутила я, что ты шевелишься у меня в лоне. Это произошло в тот день, когда я пришла посоветоваться с оракулом Зевса в Додоне, на моей родине, в Эпире.
В тот день порыв ветра принес к нам песок пустыни, и жрецы сказали мне, что тебе суждено величие и что предсказанное осуществится, когда ты придешь в другое великое святилище бога, стоящее среди ливийских песков. Мне вспомнился тот сон, где мне показалось, будто мною овладел бог, принявший вид змея. Я не верю, сын мой, что ты порожден Филиппом; ты — действительно божественного рода. Иначе как объяснить твои поразительные победы? И почему морские волны отступили перед тобой, открывая тебе путь? Почему чудесный дождь окропил жгучие пески пустыни?
Обрати мысли к своему небесному отцу, сын мой, и забудь Филиппа. Не его смертная кровь течет в твоих жилах.
Из этого письма Александр понял: его мать прекрасно осведомлена обо всем происходящем во время его походов и пытается осуществить какой-то собственный, тщательно проработанный план. План, где прошлое должно быть отменено, дабы освободить место будущему, совсем не такому, какое готовили ему Филипп и его учитель Аристотель. В этом новом прошлом не оставалось места даже для памяти о Филиппе. Александр положил письмо на стол, и в это время к нему вошел Евмен с другой табличкой, чтобы царь прочел ее и утвердил.
— Ужасные новости? — спросил царский секретарь, заметив на лице царя выражение растерянности.
— Нет, напротив. Ты, наверное, обрадуешься. Моя мать говорит, будто я сын бога.
— Однако, насколько я вижу, сам-то ты не очень похож на счастливого человека.
— А ты был бы счастлив на моем месте?
— Я знаю одно: нет другого способа править Египтом и получить признание жрецов в Мемфисе, кроме как стать сыном Амона, а, следовательно, и фараоном. К тому же Амона почитают Зевсом все греки, живущие в Ливии, и в Навкратисе, и в Кирене, а скоро этого бога примут и греки в Александрии, как только твой город будет населен. Это неизбежно: став сыном Амона, ты также признаешь себя сыном Зевса.
Пока Евмен говорил, Александр взял в руку письмо от матери, и секретарь быстро пробежал глазами по строчкам.
— Царица-мать просто помогает тебе принять твою новую роль, — проговорил он, дочитав.
— Ты ошибаешься. Ум моей матери витает между сном и явью, безразлично переходя туда и обратно. — Царь на мгновение прервался, словно не решаясь посвятить Евмена в столь великую тайну. — Моя мать… Моя мать обладает способностью воплощать свои сны в реальность и втягивать в них других.
— Не понимаю, — вымолвил Евмен.
— Помнишь тот день, когда я бежал из Пеллы, — день, когда мой отец хотел убить меня?
— А как же! Ведь я был там.
— Я бежал вместе с матерью, намереваясь добраться до Эпира. Мы остановились на ночлег в лесу, стадиях [2] в тридцати к западу от Бероя. Вдруг посреди ночи я увидел, как она встала и ушла в темноту. Она ступала, словно не касаясь земли, и, в конце концов, пришла в какое-то место, где стоял покрытый плющом древний образ Диониса. Я видел ее, как сейчас тебя, а из-под земли выползли огромные змеи. Клянусь, я был там и смотрел, как она, играя на флейте, созвала оргию сатиров и менад, одержимая…
Евмен неотрывно глядел на своего царя, не веря услышанному.
— Скорее всего, тебе все это приснилось.
— Вовсе нет. Вдруг я почувствовал, как кто-то сзади тронул меня за плечо. Это была она, понимаешь? Но мгновением раньше я видел, как она играла на флейте, а ее кольцами обвивали огромные змеи. И я оказался там, а не в своей убогой постели. Мы вернулись вместе, пройдя пешком приличное расстояние. Как ты это объяснишь?
— Не знаю. Некоторые люди ходят во сне, а говорят, бывают и такие, кто, заснув, покидает свое тело и уходит далеко, являясь другим. Это называется «экстаз». Олимпиада — не такая, как другие женщины.
— В этом у меня нет сомнения. Антипатр всегда с трудом справлялся с ней. Моя мать желает властвовать, править, она хочет использовать свои способности, и помешать ей непросто. Иногда я спрашиваю себя, что бы сказал обо всем этом Аристотель.
— Это нетрудно узнать, достаточно спросить Каллисфена.
— Каллисфен порой меня раздражает.
— Это заметно. И ему это не нравится.
— Но он ничего не делает, чтобы избежать этого.
— Не совсем так. У Каллисфена имеются принципы, и он учился у своего дяди в этом отношении не идти на компромиссы. Тебе нужно попытаться понять его. — Тут Евмен сменил тему: — Какие у тебя планы на ближайшее будущее?
— Хочу устроить театральные состязания и гимнастические игры.
— Театральные… состязания?
— Именно.
— Но зачем?
— Людям нужно развлечься.
— Людям нужно снова взяться за мечи. Они не воюют уже больше года, и если подойдут персы, я не знаю…
— Персы определенно сейчас не появятся. Дарий занят тем, что собирает самое большое войско, какое только видывали, чтобы уничтожить нас.
— И ты даешь ему на это время? Устраиваешь театральные представления и гимнастические игры?
Секретарь покачал головой, словно считал поведение царя явным безумием, но Александр встал и положил руку ему на плечо.
— Послушай, мы не можем ввязываться в изматывающие боевые действия и брать один за другим все города и крепости персидской державы. Ты видел, чего нам стоило взятие Милета, Галикарнаса, Тира…
— Да, но…
— И потому я хочу дать Дарию время призвать всех его солдат до последнего, а потом встречусь с ним и решу все одним сражением.
— Но… мы можем проиграть.
Александр посмотрел Евмену в глаза, словно друг произнес очевидную нелепицу.
— Проиграть? Невозможно.
Евмен потупился. В этот момент он понял, что письмо Олимпиады только укрепило Александра в том, во что он и так подсознательно верил: он непобедим и бессмертен. А то обстоятельство, что это подразумевает его божественность, было не столь уж важно. Но убеждены ли в этом так же решительно войско и товарищи Александра? что-то будет, когда средь беспредельной азиатской равнины они окажутся перед величайшим войском всех времен?
— О чем ты думаешь? — спросил Александр.
— Да так, ни о чем. Мне пришел на ум один отрывок из «Похода десяти тысяч» — тот, где…
— Не продолжай, — перебил его царь. — Я знаю, на что ты намекаешь,
И он начал цитировать по памяти:
Уже настал полдень, а враг все не появлялся, но во второй половине дня вдали на равнине белым облаком показался столб пыли. Чуть позже уже можно было различить блеск металла, копья и шеренги воинов…
— Сражение при Кунаксе. Бесчисленное войско Великого Царя призраком возникло из пыли в пустыне. Однако даже тогда греки победили, а если бы они быстро атаковали центр вместо того, чтобы нападать на левый фланг противника, они убили бы персидского монарха и завоевали всю его державу. Организуй гимнастические игры и театральные состязания, друг мой.
Снова покачав головой, Евмен двинулся к выходу.
— Вот еще что, — сказал царь, задержав секретаря на пороге. — Подбери пьесы, чтобы Фессал мог в должной мере продемонстрировать свои голос и осанку. «Царь Эдип», например, или…
— Не беспокойся, — сказал секретарь. — Ты знаешь, что я разбираюсь в таких вещах.
— А как здоровье Пармениона?
— Сокрушен, но не подает виду.
— Думаешь, в нужный момент он будет на высоте?
— Полагаю, да, — ответил Евмен. — Таких людей, как он, на свете немного.
И он вышел.
Александр торжественно открыл гимнастические игры и театральные представления, а потом пригласил друзей и старших командиров на пир. Собрались все, кроме Пармениона, который прислал слугу с извинительной запиской:
Парменион царю Александру: здравствуй!
Прошу прощения за то, что не приму участия в пиршестве. Я чувствую себя не очень хорошо и не смогу почтить твое застолье своим присутствием.
Вскоре выяснилось, что это застолье предназначалось для бесед, поскольку не было видно ни танцовщиц, ни гетер, искусных в любовных играх, а сам Александр в качестве симпосиарха — главы пиршества — развел в кратере вино четырьмя частями воды. Все также поняли, что он хочет обсудить философские и литературные проблемы, а не военные вопросы, так как рядом с собой царь оставил места для Барсины и Фессала. Далее расположились Каллисфен и два философа-софиста, прибывших с афинским посольством. За ними — Гефестион, Евмен, Селевк и Птолемей со своими случайными подругами, а остальные друзья устроились в другой части зала.
Хотя лето было в разгаре, погода испортилась и из набухших черных туч на старый город хлынул дождь. Когда повара начали подавать первое блюдо — ягненка, зажаренного со свежими бобами, вдруг раздался гром, заставив дрожать стены здания и вызвав рябь в кубках с вином.
Приглашенные безмолвно переглянулись, а гром прокатился вдаль и разбился о подножие горы Ливан. Повара продолжили подавать мясо, а Каллисфен, повернувшись к Александру с иронично-шутливой улыбкой, спросил:
— Если ты — сын Зевса, смог бы ты сделать такое?
Царь на мгновение опустил голову, и многие в зале подумали, что сейчас он разразится вспышкой гнева, да и у самого Каллисфена был такой вид, будто он уже раскаялся в своей не слишком удачной шутке. Заметив его бледность, Селевк шепнул на ухо Птолемею:
— На этот раз он обмочился.
Но Александр снова поднял голову, продемонстрировал безмятежную улыбку и ответил:
— Нет. Не хочу, чтобы мои сотрапезники померли со страху.
Все разразились смехом. На этот раз гроза миновала.
ГЛАВА 4
Этеокл скакал несколько дней, лишь на краткие часы засыпая рядом со своим конем. Весь этот путь он проделал, пугаясь криков ночных зверей и воя шакалов, опасаясь сбиться с дороги, боясь, что на него нападут и ограбят, отнимут коня и провизию или схватят, чтобы продать в рабство в далекие страны, где его никто никогда не найдет и не выкупит. За всю свою короткую жизнь он никогда в одиночку не сталкивался с такими тревогами и опасностями, но ему придавало мужества ощущение, что меч его отца — рядом. Изо всех сил мальчик сжимал оружие, принадлежавшее раньше великому Мемнону Родосскому. К тому же его высокий рост создавал впечатление, будто он уже взрослый.
Этеокл, конечно, не мог знать, что его безопасность обеспечивают воины, посланные вслед за ним ненавистным врагом, человеком, обесчестившим его отца и овладевшим душой и телом его матери. Возможно, этот человек поистине был воплощением Ахримана, духа тьмы и зла, как говорил однажды Артабаз.
Все шло гладко, пока Этеокл пересекал населенные области Палестины и Сирии, где его эскорту не составляло труда прятаться или смешиваться с караванами, что следовали со своим товаром от одной деревни к другой; но когда беглец ступил на бескрайнюю пустынную равнину, двоим гетайрам пришлось посоветоваться и принять решение. Это были молодые македоняне из царской стражи, из числа самых отважных и сообразительных. Они прекрасно знали характер своего царя. Если они допустят промах и с мальчиком что-то случится, Александр наверняка им этого не простит.
— Если держаться в пределах видимости, — сказал один, — он нас заметит, потому что спрятаться тут негде. А если он скроется с глаз, мы рискуем упустить его.
— У нас нет выбора, — ответил его товарищ. — Один из нас должен догнать его и завоевать его доверие. Иначе нам никак его не защитить.
Они разработали план действий, и на следующий день, на рассвете, когда мальчик, усталый и разбитый после почти бессонной ночи, снова пустился в путь, вдалеке показался одинокий всадник, двигавшийся в том же направлении. Этеокл остановился, задумавшись, не лучше ли дать незнакомцу уйти вперед, а самому двинуться позже. А может быть, следует догнать одинокого путника и проехать какую-то часть пути вместе с ним?
В конце концов, он решил, что пережидать будет не очень мудро, так как в таком случае придется ехать в самые знойные часы дня, и убедил себя в том, что одинокий всадник, очевидно, не вооружен и не представит большой опасности. Набравшись мужества, Этеокл ударил пятками в бока своего коня и пустился по пустынной тропе, понемногу догоняя ехавшего впереди всадника. Услышав топот копыт, тот обернулся, и мальчик, поборов смущение, обратился к нему по-персидски:
— Да хранит тебя Ахура-Мазда, странник. Куда ты держишь путь?
Всадник, зная, что его поймут, ответил по-гречески:
— Я не говорю на твоем языке, мальчик. Я критский ювелир и направляюсь в Вавилон, чтобы работать во дворце Великого Царя.
Этеокл издал вздох облегчения:
— Я тоже еду в Вавилон. Надеюсь, ты не будешь возражать, если мы продолжим путь вместе.
— Ни в коей мере. Наоборот, я очень рад, а то мне страшно ехать по этим краям одному.
— Почему же ты путешествуешь один? Не лучше ли было бы присоединиться к какому-нибудь каравану?
— Ты прав. Однако я слышал страшные истории о купцах-караванщиках, которые часто увеличивают свой барыш, при удобном случае продавая в рабство случайных попутчиков, вот я и сказал себе: «Лучше одному, чем в плохой компании». По крайней мере, я могу охватить взглядом горизонт, тропа хорошо протоптана, и ориентироваться не трудно: достаточно идти все время на восход солнца, и придешь к берегам Евфрата. После чего самое страшное останется позади — садись на хорошую лодку и плыви. Лежи себе, и без труда доберешься до Вавилона. Однако ты кажешься мне слишком молодым для путешествия в одиночку. Разве у тебя нет родителей или братьев?
Этеокл не ответил, и какое-то время под безоблачным небом слышался лишь стук копыт по обширной пустыне. Потом странник заговорил снова:
— Прости меня, мне не следовало соваться в твои личные дела.
Этеокл всмотрелся в горизонт, ровный, как на море во время штиля.
— Думаешь, еще далеко до Евфрата?
— Нет, — ответил незнакомец. — Если и дальше поедем так же, то завтра к ночи доберемся.
Они ехали до вечера, а потом разбили лагерь в небольшой впадине. Этеокл изо всех сил старался не засыпать, чтобы следить за своим незнакомым попутчиком, но в конце концов усталость взяла свое, и мальчик провалился в глубокий сон. Тогда его попутчик встал и пешком пошел назад, пока не увидел в темноте очертания коня, а рядом — лежащего человека. Все шло, как и задумывалось, и потому он вернулся и тоже лег. Время от времени он впадал в дрему, не переставая вслушиваться в ночные шорохи.
Проснувшись на рассвете, мальчик разложил на плаще горсть фиников с сухарями и поставил самшитовую чашку с водой из бурдюка. Вода остыла за ночь, и пить ее было приятно. Путники молча позавтракали вместе и пустились в путь, не останавливаясь под палящим солнцем в неподвижном, душном воздухе. К полудню они увидели, что кони устали, и потому спешились и пошли дальше, ведя их на поводу.
К Евфрату они выбрались поздно ночью. Великая река возвестила о себе шумом своих вод еще до того, как под луной показалось их сияние. Здесь вода клокотала на мелких камнях, и лента пены меж двух берегов обозначала брод. Македонский воин зашел в воду до середины реки, желая убедиться в надежности дна, а потом вернулся назад.
— Здесь брод, — сказал он Этеоклу. — Если хочешь, можешь перейти.
— Почему ты так говоришь? — удивился мальчик. — А сам ты не пойдешь?
Воин покачал головой:
— Нет. Мое задание выполнено, и я должен вернуться назад.
— Задание? — переспросил мальчик, озадаченный еще больше.
— Да. Александр велел нам проводить тебя до границы, чтобы с тобой ничего не случилось. Мой товарищ следует за нами в отдалении.
Этеокл повесил голову, униженный этой ненавистной заботой, а потом ответил:
— Тогда возвращайся к своему хозяину и скажи ему, что это не помешает мне убить его, если я встречу его на поле боя. — И погнал своего коня в реку.
Македонский воин, выпрямившись на коне, продолжал наблюдать за мальчиком, пока тот не вышел из воды на другом берегу и не поскакал по равнине в глубь персидской территории. Тогда он развернул коня и двинулся назад, чтобы встретиться со своим товарищем, который должен был дожидаться неподалеку. Лунный свет становился все ярче, позволяя видеть довольно далеко, но товарища все не было видно. Не нашелся он и на следующий день, при солнечном свете, и еще через день. Пустыня поглотила его.
ГЛАВА 5
— Твой сын Этеокл перешел персидскую границу в целости и сохранности, — сказал Александр, входя в комнату Барсины, — но один из моих солдат, что я послал охранять его, не вернулся.
— Мне очень жаль, — ответила Барсина. — Я знаю, как ты привязан к своим солдатам.
— Да, они для меня как сыновья. Но я заплатил эту цену ради твоего спокойствия. А как поживает младший?
— Он при мне. Он любит меня и, возможно, понимает. И потом, дети защищены самой природой: они все быстро и легко забывают.
— А ты? Как ты себя чувствуешь?
— Я очень благодарна тебе за то, что ты сделал, но моя жизнь теперь уже не та, что раньше. Женщина, имеющая детей, не может быть преданной возлюбленной: ее сердце всегда отчасти принадлежит другому чувству.
— Ты хочешь сказать, что больше не хочешь меня видеть?
Барсина в замешательстве склонила голову.
— Не мучай меня! Ты знаешь, что я хочу видеть тебя каждый день, каждое мгновение! Твое отсутствие и твоя холодность причиняют мне боль. Прошу тебя, оставь меня ненадолго в одиночестве, чтобы я пришла в себя. Я построю в глубине моего сердца маленькое убежище для воспоминаний, а потом… Потом я научусь любить тебя так, как ты хочешь.
Он встал, и она подошла к нему, обволакивая царя своей красотой и ароматом. Александр взял в ладони ее лицо и поцеловал.
— Не отчаивайся. Ты снова увидишь своего сына, и, возможно, когда-нибудь в не столь отдаленном будущем мы все сможем жить в мире.
Он погладил ее по лицу и вышел.
На лестнице Александру повстречался Селевк.
— Прибыл корабль от Антипатра со срочным сообщением. Вот оно.
Александр прочел:
Антипатр, регент царства, Александру: здравствуй!
Спартанцы собрали войско и двинулись на наши и союзные нам гарнизоны на Пелопоннесе, но пока они одни. Очень важно, чтобы все так и осталось. Сделай все возможное, чтобы положение не изменилось, и тогда мне не понадобится помощь. Твои мать и сестра здоровы; возможно, тебе следует подумать о новом браке для Клеопатры.
Береги себя.
— Надеюсь, от старика пришли хорошие известия, — сказал Селевк.
— Не совсем. Спартанцы выступили против нас и напали на наши гарнизоны. Надо бы напомнить афинянам об их обязательствах перед нами. Когда назначена аудиенция афинскому посольству?
— На сегодняшний вечер. Они уже вручили Евмену ноту, в которой просят возвращения афинских пленных, захваченных в битве при Гранике.
— Они не теряют времени. Но боюсь, останутся разочарованы. Что еще?
— Твой врач Филипп следит за беременностью жены Дария. Она вызывает у него сильную озабоченность, и он хочет, чтобы ты это знал.
— Понятно. Скажи афинянам, что я приму их по окончании спектакля, и попроси Барсину прийти в палаты к царице. Она может там пригодиться.
Спустившись по лестнице, Александр направился к Филиппу. Тот как раз выходил из своего жилища в сопровождении двоих помощников с полными лекарств руками.
— Как здоровье царицы? — спросил его Александр.
— Все так же. То есть плохо.
— Но что с ней?
— Насколько я могу понять, ребенок повернулся, и она не может родить его.
И врач продолжил свой путь в помещение, где разместились женщины Дария со своими придворными.
— И ты ничем не можешь ей помочь?
— Наверное, я бы мог кое-что сделать, но боюсь, что она никогда не позволит мужчине осмотреть себя. Я пытаюсь давать советы ее повитухе, однако все еще остаются большие сомнения. Это женщина из ее племени, опытная более в магических искусствах, чем в медицине.
— Погоди, сейчас придет Барсина, и, возможно, ей удастся убедить царицу.
— Надеюсь, — ответил Филипп, но по его взгляду было видно, что не очень-то он на это надеется.
Они пришли во дворец, где было отведено место для царского гинекея, и увидели уже прибывшую Барсину; она в беспокойстве ждала их у входа. Евнух встретил их и провел в атриум. С верхнего этажа доносились приглушенные стоны.
— Она не кричит, даже когда начинаются схватки, — заметил Филипп. — Ей не позволяет стыдливость.
Евнух почтительным знаком пригласил их следовать за собой и провел всех на верхний этаж, где им встретилась выходившая из комнаты повитуха.
— Будь моим толмачом, — сказал врач Барсине. — Нужно во что бы то ни стало убедить ее, понимаешь?
Барсина кивнула и вошла в апартаменты царицы. Евнух тем временем отвел Александра к порогу другой двери и постучал.
Дверь открыла персидская дама в богатых одеждах. Она сопроводила гостей сначала в прихожую, а потом в зал, где находилась царица-мать Сизигамбис. Та сидела у окна, положив на колени испещренный буквами папирусный свиток, и вполголоса бормотала что-то. Евнух дал Александру понять, что царица молится, и македонский владыка замер у двери в почтительном молчании. Но царица вскоре заметила его. Поднявшись, она направилась ему навстречу и радушно заговорила по-персидски. На лице ее читались озабоченность, тревога и даже страдание, но не подавленность.
— Царица-мать приветствует тебя, — перевел толмач, — и просит принять ее гостеприимство.
— Поблагодари ее от моего имени, но скажи, что я не хочу доставлять ей никакого беспокойства. Я пришел только для того, чтобы постараться помочь супруге Дария, которая сейчас испытывает затруднения. Мой врач, — продолжил Александр, глядя ей в глаза, — говорит, что, наверное, смог бы ей помочь, если бы она… если бы она, преодолев стыдливость, позволила ему нанести ей визит.
Сизигамбис задумалась, в свою очередь, с волнением посмотрев ему в глаза, и оба почувствовали, насколько силен язык их взглядов и насколько далеки они от формальных фраз перевода. В это мгновение тишины до них донесся ослабленный стон роженицы, в гордом одиночестве боровшейся со своим страданием. Царицу-мать как будто ранил этот приглушенный стон, и ее взор затуманился слезами.
— Не думаю, — сказала она, — что твой врач может помочь ей, даже если она позволит ему.
— Почему, Великая Царица-мать? Мой врач очень искусен и…
Александр прервался, поняв по ее взгляду, что ее мысли движутся в другом направлении.
— Насколько я понимаю, — снова заговорила Сизигамбис, — моя невестка не хочет рожать.
— Не понимаю, Великая Царица-мать. Мой врач Филипп утверждает, что ребенок мог оказаться в неправильном положении и не находит выход, и…
По изборожденным годами и страданиями щекам царицы медленно скатились две слезы, и так же медленно из уст, как приговор, донеслись слова:
— Моя невестка не хочет рожать царя-пленника, и никакой врач не в силах изменить ее решения. Она держит младенца в себе, чтобы умереть вместе с ним.
Александр молчал, в замешательстве опустив голову.
— Ты не виноват, мой мальчик, — продолжала Сизигамбис надтреснутым от волнения голосом. — Такова судьба: ты пришел на эту землю, чтобы разрушить державу, основанную Киром. Ты подобен ветру, который бурей пролетает над землей. А потом ветер уносится, и ничто после урагана не остается как раньше. Остаются лишь люди, привязанные к своим воспоминаниям, как муравьи, уцепившиеся за травинки во время свирепой бури.
В этот момент раздался более громкий крик, а потом из внутренних палат дворца донесся зловещий хор рыданий.
— Свершилось, — молвила Сизигамбис. — Последний Царь Царей умер, не успев родиться.
Вошли две служанки — они накрыли ей лицо и плечи черным покрывалом, чтобы она могла дать выход своему горю, не показывая этого другим.
Александр хотел было сказать что-то еще, но, взглянув на старую царицу, увидел, что она подобна статуе, образу богини ночи, и не решился произнести в ее присутствии ни слова. Он лишь коротко наклонил голову и, выйдя из зала, прошел по коридору. Повсюду слышались стенания женщин Дария. От умершей царицы вышел Филипп, он был бледен и безмолвен.
На следующий день Александр велел провести торжественный обряд погребения царицы с великой роскошью и всеми почестями, подобающими ее рангу, а затем возвести на ее могиле огромный курган, как принято в ее родном племени. Когда умершую опускали в землю, он не смог сдержать слезы при мысли о ее красоте и утонченности и о ребенке, так и не увидевшем солнечного света.
В тот же вечер евнух сбежал. Он скакал несколько дней и ночей, пока не добрался до персидских передовых постов у реки Тигр, а там попросил отвести его в лагерь царя Дария, который располагался дальше по реке. Отряд мидийских всадников сопроводил его на несколько парасангов [3] по пустыне, и на рассвете следующего дня его ввели пред очи Великого Царя.
Дарий в одежде простого солдата, в серых льняных штанах и куртке из шкуры антилопы, проводил военный совет со своими полководцами. Единственными знаками его царского достоинства была жесткая тиара да массивный золотой кинжал на боку — сверкающий акинак.
Евнух бросился на землю, лбом в пыль, и между рыданиями рассказал о том, что случилось в Тире: о долгих и тяжких муках царицы, о ее смерти и похоронах. Не умолчал он и о слезах Александра.
Дарий был глубоко поражен этим известием. Он велел евнуху следовать за собой во внутреннюю часть царского шатра.
— Прости меня, Великий Царь, что принес тебе столь печальную весть, прости меня… — сквозь слезы продолжал умолять его евнух.
— Не плачь, — утешил его Дарий. — Ты исполнил свой долг, и я благодарен тебе за это. Моя жена очень страдала?
— Страдала, великий государь, но переносила муки с достоинством и твердостью, достойными персидской царицы.
Дарий молча посмотрел на слугу. О переполнявших царя противоречивых чувствах можно было догадаться лишь по глубоким морщинам, прочертившим лоб, да по растерянному свету в глазах.
— Ты уверен, — спустя несколько мгновений прервал он молчание, — что Александр плакал?
— Да, мой государь. Он был достаточно близко, и я видел, как по его щекам катились слезы.
Дарий со вздохом опустился в кресло.
— Но в таком случае… В таком случае между ними что-то было: люди плачут, когда умирает любимый человек.
— Великий Царь, я не верю, что…
— Возможно, ребенок был его…
— Нет, нет! — запротестовал евнух.
— Молчи! — закричал Дарий. — Ты, кажется, смеешь мне возражать?
Евнух упал на колени, дрожа всем телом и снова безудержно заплакав:
— Великий Царь, прошу тебя, дозволь сказать!
— Ты и так сказал слишком много. Что еще хочешь ты добавить?
— Что Александр не прикасался к твоей супруге. Напротив, он окружил ее всяческой заботой и уважением и никогда не наносил ей визита, не испросив предварительно позволения, и непременно в присутствии ее придворных дам и подруг. И так же, если не еще более почтительно, относится он к твоей матери.
— Ты не лжешь мне?
— Ни за что на свете я не стал бы лгать тебе, Великий Царь. Все, что я сказал тебе, — истинная правда. Клянусь тебе именем Ахура-Мазды.
Дарий встал и, отбросив полог, закрывавший вход в шатер, возвел глаза к небу. Оно было безоблачным и сверкало звездами, а через весь небосвод нежным сиянием протянулся Млечный Путь. Лагерь светился тысячами костров.
— О Ахура-Мазда, владыка небесного огня, бог наш, — взмолился Великий Царь, — даруй мне победу, дай мне спасти державу моих предков. Обещаю тебе: в случае победы я отнесусь к моему противнику с милостью и уважением, ибо, не будь между нами войны, я бы от чистого сердца просил его о дружбе.
Евнух ушел, оставив царя наедине со своими мыслями. Удаляясь от царского шатра, он ясно услышал у ворот лагеря какой-то шум и остановился. Приближался отряд ассирийских всадников; они сопровождали очень красивого мальчика, внешность которого при ближайшем рассмотрении показалась евнуху знакомой. Не веря своим глазам, он подошел еще на несколько шагов. Тем временем маленький кортеж подъехал к царскому шатру, и, когда лицо мальчика осветили укрепленные у входа факелы, сомнений не осталось: это был Этеокл, сын Мемнона Родосского и Барсины!
ГЛАВА 6
Выступление Фессала в «Царе Эдипе» было безупречно, и когда настал черед сцены, в которой герой прокалывает себе глаза острым язычком пряжки, зрители увидели, как грим актера окрасили два ручейка крови, и по рядам амфитеатра разнеслось изумленное «О-оо-о!», а на сцене зазвучали ритмические стенания Эдипа:
Ойтойтойтойтойтой папай феу феу.
Сидевший на почетной трибуне Александр долго и с воодушевлением аплодировал. Вскоре стали показывать «Алкесту», и изумление публики еще более возросло, когда в финале из-под земли выскользнула сама Смерть, наряженная в мрачные одеяния Таната, и Геракл стал сбивать ее с ног мощными ударами своей палицы. Евмен велел архитектору Диаду, тому самому, что проектировал осадные башни для разрушения стен Тира, создать машины для сценических эффектов.
— Я говорил тебе, что останешься доволен, — шепнул секретарь на ухо Александру. — А посмотри на публику: она просто сходит с ума!
Как раз в это время палица Геракла тщательно рассчитанным ударом поразила Танат; державший актера в воздухе крюк отцепился от подвижной вращающейся петли, и тот с шумом упал на помост, а Геракл тут же набросился на него. Публика неистовствовала.
— Ты чудесно поработал. Проследи, чтобы все получили вознаграждение, особенно архитектор, построивший машину. Никогда не видел ничего подобного!
— Здесь также есть заслуга наших хорегов, а царь Кипра оплатил всю установку оборудования. Но у меня к тебе есть другое дело, — добавил Евмен. — Пришли новости с персидского фронта. Я сообщу их тебе сегодня вечером после аудиенции.
И он удалился, чтобы организовать церемонию награждения.
Судьи, среди которых были и гости из афинского посольства, назначенные по долгу вежливости, удалились в помещение для совещаний, а затем вынесли решение: приз за лучшее оборудование присуждается «Алкесте», а лучшим актером объявляется Афинодор, который в женской маске фальцетом исполнял роль царицы Аргоса.
Царь остался разочарован, но постарался скрыть досаду и вежливо поаплодировал победителю.
— Они дали ему приз за голос педераста, — сказал Евмен царю.
Чуть позже Птолемей шепнул на ухо Селевку:
— Насколько я знаю Александра, после такого решения сегодня вечером на аудиенции он вряд ли удовлетворит просьбу афинского правительства.
— Да, но и без этого присуждения у них не было больших надежд: спартанский царь Агид напал на наши гарнизоны, и это может ввести афинян в искушение. Лучше пресечь это немедленно.
Селевк не ошибся. Когда пришел назначенный час, царь принял афинских послов и внимательно выслушал их просьбу.
— Наш город до сих пор хранил тебе верность, — начал свою речь глава посольства, член афинского собрания, отягощенный годами и опытом. — Афины поддерживали тебя на всех этапах завоевания Ионии, они держали море свободным от пиратов, обеспечивая тебе связь с Македонией. Поэтому мы просим у тебя в знак признательности: освободи афинских пленных, что попали в твои руки в битве на Гранике. Их семьям не терпится снова обнять их, и город готов принять их. Да, они совершили ошибку, но сделали это по доверчивости и уже дорого заплатили за свое заблуждение.
Царь переглянулся с Селевком и Птолемеем, после чего ответил:
— В душе я хотел бы пойти навстречу вашей просьбе, но еще не настало время, чтобы полностью забыть прошлое. Я освобожу пятьсот человек — по жребию или по вашему выбору. Остальные останутся у меня еще на некоторое время.
Глава афинского посольства и не пытался спорить. Он неплохо знал характер Александра и потому удалился, проглотив горечь. Ему было хорошо известно, что царь никогда не меняет своих решений, особенно тех, что касаются политики и военной стратегии.
Как только послы покинули зал, все члены совета поднялись с мест, чтобы тоже уйти. Остался один Евмен.
— Ну? — спросил его Александр. — Что за новости?
— Узнаешь чуть погодя. К тебе гость.
Он подошел к задней двери и впустил человека странного вида: его черная борода была аккуратно завита, по волосам также прошлись щипцы, а одежды были сирийского покроя. Александр попытался вспомнить, кто это, и с трудом узнал старого знакомого.
— Евмолп из Сол! Но как же тебя разукрасили!
— Я изменил свою личность. Теперь меня зовут Бааладгар, и в сирийских кругах я пользуюсь репутацией искусного мага и гадальщика, — ответил тот. — Но как должен я обращаться к молодому богу, который стал владыкой Нила и Евфрата и пред именем которого теперь трепещет от страха вся материковая Азия? — И, чуть помедлив, спросил: — А та собака — она тоже здесь?
— Нет, нет, — ответил Евмен. — Ты что, слепой?
— Ну, что за новости ты мне принес? — спросил Александр.
Полой плаща Евмолп смахнул пыль со скамьи и, получив разрешение сесть, тотчас уселся.
— На этот раз я надеюсь послужить тебе, как никогда, — начал он. — Вот как обстоят дела: Великий Царь собирает огромное войско — несомненно, еще большее, чем ты встретил при Иссё. Кроме того, он поставит в линию колесницы новой конструкции — страшные машины, утыканные острыми, как бритва, клинками. Свой базовый лагерь он разобьет на севере Вавилонии и станет ждать, куда ты направишься. Сейчас он выбирает поле боя. Определенно какое-нибудь равнинное место, где можно будет воспользоваться численным превосходством и пустить вперед боевые колесницы. Дарий больше не просит тебя о переговорах, теперь он хочет поставить все на решающее сражение. И не сомневается в своей победе.
— Что же заставило его столь внезапно переменить свои замыслы?
— Твое бездействие. Увидев, что ты не двигаешься с побережья, он решил, что у него есть время собрать и вооружить войско, которое разобьет тебя.
Александр повернулся к Евмену:
— Видишь? Я был прав. Только так мы можем добиться решающего сражения. Мы победим, и вся материковая Азия будет наша.
Евмен снова обратился к Евмолпу:
— Где он, по-твоему, выберет поле для битвы? На севере? На юге?
— Этого я пока не могу сказать, но знаю одно: где вы найдете открытый путь, там вас и будет ждать Великий Царь.
На некоторое время Александр погрузился в задумчивость. Евмолп исподтишка наблюдал за ним. Наконец царь сказал:
— Мы выступим в начале осени и перейдем Евфрат у Тапсака. Если получишь новые сведения, найдешь нас там.
Осведомитель, церемонно раскланявшись, удалился, а Евмен остался еще немного поговорить с царем.
— Если ты пойдешь к Тапсаку, это означает, что ты хочешь спуститься вниз по Евфрату. Как «десять тысяч», да?
— Возможно, но я этого не говорил. Я приму решение, когда выйду на левый берег. А пока пусть продолжаются атлетические игры. Я хочу, чтобы люди развлеклись и отвлеклись; потом у них не будет на это времени несколько месяцев. А может быть, лет. Кто примет участие в кулачном бое?
— Леоннат.
— Разумеется. А в борьбе?
— Леоннат.
— Понятно. А теперь разыщи Гефестиона и пришли ко мне.
Евмен поклонился и отправился искать своего друга. Он нашел его, когда тот упражнялся в борьбе — с Леоннатом. Гефестион пару раз шлепнулся на землю, прежде чем обратил внимание на прибытие царского секретаря. Тот подождал, пока его повалят третий раз, а потом сказал:
— Александр хочет тебя видеть. Пошли.
— И меня тоже? — спросил Леоннат.
— Нет, тебя не хочет. Оставайся здесь и продолжай упражняться. Если ты не выиграешь у неверных афинян, то не хотел бы я оказаться в твоей шкуре.
Леоннат что-то проворчал и сделал знак другому воину занять место Гефестиона. Гефестион же кое-как умылся и явился к царю с все еще полными песка волосами.
— Ты звал меня?
— Да. У меня для тебя задание. Выбери два конных отряда, хоть из «Острия», если хочешь, и две бригады финикийских корабельных плотников. Возьми с собой Неарха и отправляйся по Евфрату в Тапсак, чтобы обеспечить нашему флотоводцу прикрытие, пока он будет строить два понтонных моста. Мы направляемся туда.
— Сколько времени ты мне даешь?
— Не больше месяца. Потом подойдем мы с остальным войском.
— Значит, мы, наконец, выступаем.
— Да. Попрощайся с морскими волнами, Гефестион. Больше ты не увидишь соленую воду, пока мы не выйдем на берег Океана.
ГЛАВА 7
На сбор конницы, плотников и строительных материалов ушло четыре дня. Под надзором Неарха баржи разобрали, их части пронумеровали и погрузили на запряженные мулами телеги, и длинный караван приготовился покинуть побережье. Вечером накануне отправления Гефестион зашел попрощаться с Александром, а по возвращении увидел какие-то две тени, прятавшиеся за шатрами. Они крадучись приблизились к нему, и он уже схватился за меч, но знакомый голос прошептал:
— Это мы.
— Тебе что, жить надоело? — спросил Гефестион, узнав Евмена.
— Убери эту железяку. Нужно поболтать. Украдкой взглянув на вторую фигуру, Гефестион узнал Евмолпа из Сол.
— Кого я вижу! — усмехнулся он. — Человек, спасавший свою задницу от персидского кола, дабы предоставить ее всему войску!
— Замолчи, дурень, — ответил осведомитель, — и лучше выслушай меня, если хочешь спасти свою задницу со всеми живущими там вшами.
Весьма удивленный всей этой таинственностью, Гефестион провел их в свой шатер и налил два кубка вина. Евмен сделал глоток и начал:
— Евмолп не сказал Александру всей правды.
— Не знаю почему, но я так и подумал.
— И он поступил умно, клянусь Зевсом! Александр хочет броситься вперед, как бык, не подсчитав ни своих, ни вражеских сил.
— И правильно, именно так мы победили на Гранике и при Иссё.
— На Гранике силы были примерно равны, а при Иссё нам в известной степени повезло. Теперь же речь идет о миллионном войске. Ты хорошо понял? Миллион. Сто мириадов. Ты умеешь считать? Это не умещается в голове. И все-таки я подсчитал: если их выстроить в шесть рядов, они протянутся справа налево больше чем на три стадия. А боевые колесницы? Как поведут себя наши солдаты перед этими страшными машинами?
— А я тут при чем?
— Сейчас скажу, — вмешался Евмолп. — Великий Царь отправит занять Тапсакский брод сатрапа Вавилонии Мазея, свою правую руку, старого лиса, который знает каждую пядь территории отсюда до Инда. Мазей возьмет с собой тысячи греческих наемников, закаленных воинов, которые дадут вам похаркать кровью. А еще знаешь что? Мазей хорошо ладит с этими ребятами, потому что по-гречески говорит получше тебя.
— И все-таки я не понимаю, в чем беда.
— С некоторых пор Мазей впал в глубокое уныние. Он убежден, что держава Кира Великого и Дария приблизилась к своему закату.
— Тем лучше. И что?
— А то, что человек, передавший мне эти сведения, очень близок к Мазею. И возможно, он бы смог потолковать со стариком. Я все объяснил?
— И да, и нет.
— Если вам случится встретиться, поговори с ним, — сказал Евмен. — Неарх может узнать его, так как несколько раз видел на Кипре.
— А потом?
— Миллионному войску мы можем и проиграть. Помощь бы нам не помешала.
— Вы хотите, чтобы я склонил этого замечательного сатрапа к предательству?
— Что-то в этом роде, — подтвердил Евмолп.
— Я поговорю об этом с Александром.
— Ты с ума сошел! — запротестовал Евмен.
— Иначе ничего не выйдет. Евмолп покачал головой:
— Юнцы, не желающие слушать, думающие, что все знают… Что ж, делай по-своему, сломай себе голову.
Он вышел в сопровождении секретаря, и вскоре они наткнулись на Александра, который вывел Перитаса порезвиться на море. Пес начал яростно лаять в их сторону, и Евмен, посмотрев на зверя, а потом на осведомителя, осведомился у Евмолпа:
— Из чего сделан твой парик?
Отряду Гефестиона потребовалось шесть дней, чтобы дойти до берегов Евфрата у Тапсака. В городе было полно купцов, путешественников, животных и всевозможных товаров; казалось, его заполняли люди из половины мира, так как только в этом месте великую реку можно было перейти вброд.
Хотя город и располагался в глубине материка, он имел финикийские корни и его название собственно и означало «брод» или «переправа». Смотреть в Тапсаке было особенно не на что: там не было ни памятников, ни храмов, ни даже площадей со статуями и портиками, и все же он был очень оживленным благодаря нарядам своих обитателей, выкрикам купцов и неимоверному числу проституток, которые занимались своим ремеслом с погонщиками мулов и верблюдов, работавших на берегах великой реки. Говорили там на своеобразном общем языке, сложившемся из обрывков сирийского, киликийского, финикийского и арамейского с примесью некоторых греческих слов.
Гефестион провел начальную рекогносцировку и вскоре понял, что вброд перейти не получится: в горах уже начались дожди и река поднялась. Не было другого выхода, кроме строительства моста, и финикийские плотники под руководством Неарха принялись за работу. На каждой доске была буква из их алфавита, обозначавшая определенное место, чтобы шипы плотно подходили к пазам, соединяя доски.
Когда понтонные баржи были готовы, началось собственно возведение моста. Моряки подгоняли баржу на место, ставили на якорь, прицепляли к предыдущей, а потом делали настил и устанавливали перила. Но как только начались работы, появились войска Мазея — сирийская и арабская конница с тяжелой греческой пехотой. Они тут же принялись беспокоить строителей: вторгались на середину реки, метали зажигательные стрелы, посылали вниз по течению пропитанные нефтью горящие плоты, которые ночью неслись по реке, как огненные шары, и с большой скоростью врезались в сооружение Неарха.
Так проходили дни, не принося существенного перевеса ни одной из сторон, и приближался момент, когда должно было подойти войско Александра с десятью тысячами коней и двумя тысячами повозок с провизией и обозным имуществом. Гефестиону претила мысль о том, что он окажется не готов к этому. Он часто совещался с Неархом в поисках решения. Однажды ночью, когда оба друга сидели на речном берегу, обсуждая, что же им предпринять, Неарх вдруг хлопнул Гефестиона по плечу:
— Смотри!
— Что?
— Вон там человек.
Гефестион посмотрел в указанном направлении и увидел на противоположном берегу одиноко стоящего всадника с зажженным факелом в руке.
— Кто это может быть?
— Похоже, кто-то хочет поговорить с нами.
— Что будем делать?
— Я бы сказал, тебе нужно пойти. Возьми лодку, пусть тебя перевезут поближе. Выслушай, чего он хочет. В случае чего мы постараемся тебя прикрыть.
Гефестион согласился. Он велел отвезти себя к другому берегу и оказался перед загадочным всадником.
— Здравствуй, — произнес тот на безупречном греческом.
— Здравствуй и ты, — ответил Гефестион. — Кто ты?
— Меня зовут Набунаид.
— Чего ты хочешь от меня?
— Ничего. Завтра мы разрушим ваш мост, но перед последней битвой мне бы хотелось вручить тебе вот это, чтобы ты передал Бааладгару, если увидишь его.
«Евмолпу из Сол», — подумал Гефестион, разглядывая терракотовую статуэтку в руках у Набунаида. У основания ее украшали клинописные значки.
— Зачем? — спросил македонянин.
— Однажды он исцелил меня от неизлечимой болезни, и я обещал подарить ему за это вещь, которую он высоко ценит. Вот эту.
«Кто бы сказал? — подумал Гефестион. — А я-то всегда считал его распоследним шарлатаном».
— Хорошо, — ответил он. — Передам. А больше ты ничего не хочешь мне сказать?
— Нет, — ответил странный человек и пришпорил коня, все так же сжимая в руке факел.
Гефестион вернулся к Неарху, который ждал его на последней невредимой барже, стоявшей на якоре.
— Знаешь, кто это был? — спросил адмирал, едва Гефестион приблизился к причалу.
— Нет, а что?
— Если не ошибаюсь, это был Мазей, сатрап Вавилонии.
— Великий Геракл! Но что…
— Что он тебе сказал?
— Что разнесет нас вдребезги, но что он в долгу перед Бааладгаром, то есть Евмолпом из Сол, и просил передать ему вот это.
Он показал статуэтку.
— Это значит, что человек уважает взятые на себя обязательства. А насчет того, что он разнесет нас, мне пришла в голову одна мысль, и через пару дней мы устроим ему хороший сюрприз.
— Что за мысль?
— Я велел перевезти на гору все еще не собранные баржи.
— То есть почти все, что у нас остались.
— Именно. Я велю собрать их все в лесу, вдали от чужих глаз, а потом мы погрузим на них триста всадников, перевезем на другой берег и ночью нападем на лагерь Мазея. Устроим там переполох. Сразу после выгрузки конницы на том берегу баржи спустятся сюда, где мои плотники спокойно сцепят их вместе, после чего по мосту переправишься ты с «Острием» и придешь на помощь уже переправившимся. Мы победили. Они проиграли. Тапсакский брод наш. Партия закончена.
Гефестион посмотрел на флотоводца: этот критянин с курчавыми волосами и смуглой кожей умел найти применение своим лодкам.
— Когда начинаем? — спросил он.
— Уже начали, — ответил Неарх. — Как только эта мысль пришла мне в голову, я решил — незачем терять время. Несколько моих людей уже отправились на разведку.
ГЛАВА 8
Маневр Неарха сработал два дня спустя, после полуночи. Всадники переправились на левый берег реки и сразу же двинулись на юг. Освободившиеся баржи, управляемые немногочисленной командой, ненадолго задержались, чтобы проследить за атакой конницы, а потом по быстрому течению Евфрата спустились вниз.
Вблизи лагеря Гефестиона слышны были крики персов, на которых внезапно напали македоняне. Неарх тут же отдал приказ накрепко швартовать баржи одна к другой. Пока во вражеском лагере разгорался бой, ему удалось соединить свое сооружение с левым берегом и твердо поставить на якорь последнюю баржу.
Напавшие на лагерь всадники уже начали испытывать трудности, но тут на подмогу своим изнемогшим товарищам через мост галопом бросился Гефестион во главе «Острия». Бой вспыхнул с новой силой. Греческие наемники, выстроившись в центре квадратом, стойко противостояли всем атакам конницы, прикрывая друг друга тяжелыми щитами.
И вдруг случилось неожиданное: персы, словно повинуясь внезапному сигналу, бросились бежать на юг, и грекам, оставшимся в окружении без подмоги, не оставалось ничего иного, как сдаться. На левом берегу, в центре вражеского лагеря, Гефестион водрузил красное знамя со звездой Аргеадов. Вскоре к нему присоединился Неарх.
— Все хорошо? — спросил он.
— Все хорошо, наварх. Но интересно, как ты себя чувствовал на этих скорлупках, ведь ты привык водить пентиеры.
— Приходится пускать в ход то, что есть в наличии, — ответил Неарх. — Главное — победить.
Командиры отдельных отрядов приказали разбивать лагерь и разослали вокруг разведывательные дозоры. Некоторые из этих дозоров, взойдя на вершину небольшой возвышенности, с которой открывался вид на юг, увидели на горизонте красные отблески пламени.
— Пожар! — воскликнул командир дозора. — Скорее, скачем, посмотрим!
— А вон там еще один! — крикнул кто-то из всадников.
— А на берегу — еще! — эхом откликнулся другой. Повсюду поднималось пламя.
— Что это может быть? — спросил третий.
Командир обвел взглядом объятое пламенем пространство. На обширном участке горизонта ночное небо посветлело от огня.
— Это персы, — ответил он. — Оставляют за собой выжженную землю, чтобы мы по пути не нашли ничего. Они хотят, чтобы мы умерли от голода и лишений. Поехали, проверим, — наконец решил он и погнал своего коня в направлении пожара.
Разведчики поскакали вперед и вскоре воочию смогли убедиться в том, о чем и так догадывались: повсюду, на равнине и вдоль насыпей у Евфрата, пылали деревни. Некоторые из разведчиков забрались на небольшие холмики из засохшей грязи и отчетливо видели, как на фоне неба над пожарами вздымаются столбы дыма и искр. Повсюду скакали всадники с факелами и зажженными головнями — это было страшное и впечатляющее зрелище.
— Возвращаемся назад, — приказал командир. — Мы и так много увидели.
Он натянул поводья и двинулся в направлении лагеря. Вскоре разведчики предстали перед Неархом и Гефестионом, чтобы доложить о случившемся. Но отблески пожаров на равнине уже можно было различить и из лагеря: горизонт покраснел, как будто на юге занималась заря.
— Урожай находился уже в амбарах — не осталось ни пшеничного, ни ячменного зернышка до самого Вавилона. Нужно срочно сообщить Александру! — воскликнул Гефестион.
Он вызвал гонца и немедленно отослал его в Тир.
Тем временем Александр закончил сборы пожитков и снаряжения, погрузил все на повозки и собрался на следующий день отправиться с побережья к Тапсакскому броду. А поскольку слухи о неизбежном выступлении распространились быстро, собралась многочисленная свита, которая всегда двигалась за войском и во время привалов разбивала свой лагерь чуть поодаль. Это были всевозможные торговцы, проститутки обоего пола, а также девушки из бедных семей, установившие постоянные отношения с солдатами и бросившие свои дома. Немало уже родили красивых детей со смуглой кожей, голубыми глазами и белокурыми волосами.
В тот же самый день, с наступлением вечера, к новому молу причалил македонский корабль и стал выгружать ясеневые и кизиловые древки для копий, сундуки с доспехами и разобранные стенобитные машины. Один из моряков сразу направился в старый город и спросил, где находится жилище Каллисфена.
Он нес на плече мешок, а когда подошел к указанной ему двери, то осторожно и коротко постучал.
— Кто там? — донесся изнутри голос Каллисфена.
Не ответив, человек постучал снова, и историк подошел открыть. Он обнаружил перед собой личность довольно крепкого телосложения, с густой бородой и черными курчавыми волосами. Пришелец поклонился ему.
— Меня зовут Гермократ, я солдат из охраны Антипатра. Меня послал Аристотель.
— Входи.
Во взгляде Каллисфена мелькнуло беспокойство.
Пришелец вошел и огляделся. У него была неуверенная походка человека, проведшего много времени на море, и он попросил позволения сесть. Каллисфен усадил его. Гость сразу снял с плеча мешок и положил на стол.
— Аристотель поручил мне отдать тебе вот это, — сказал он, достав железную шкатулку. — И еще это послание.
Историк взял письмо, продолжая с все возрастающим беспокойством рассматривать необычный предмет.
— Почему так поздно? Эта шкатулка должна была прибыть ко мне уже давно. А сейчас — не знаю…
Он пробежал письмо глазами. Оно было от Аристотеля, зашифрованное и без заглавия. Там говорилось:
Это средство вызывает смерть более чем через десять дней с симптомами, очень напоминающими симптомы тяжелой болезни. После использования уничтожь его. А если не используешь, уничтожь все равно. Ни за что не прикасайся к нему и не вдыхай запах.
— Я ждал тебя год назад, — повторил Каллисфен, с большими предосторожностями беря шкатулку.
— К сожалению, я встретил много препятствий. Мой корабль, гонимый сильным Бореем, многие дни носило по морю, пока не выбросило на пустынный берег Ливии. Я и мои товарищи по несчастью несколько месяцев странствовали, питаясь рыбой и крабами, пока не добрались до границ Египта, где мне сообщили о походе царя в святилище Амона. Оттуда все так же пешком мы добрались до одного порта в Дельте, где я нашел корабль, который тоже сбился с курса из-за северного ветра, и, наконец, я погрузился на борт, чтобы прибыть в Тир, где, как мне сказали, находится царь со своим войском и товарищами.
— Я вижу, ты мужественный и верный человек. Позволь же мне вознаградить тебя, — сказал Каллисфен, засунув руку в кошель.
— Я сделал это не ради вознаграждения, — ответил Гермократ, — но приму немного денег, поскольку у меня ничего не осталось и я не знаю, как мне добраться обратно в Македонию.
— Хочешь есть, пить?
— Я бы охотно что-нибудь съел. Надо сказать, пища на корабле была отвратительной.
Каллисфен положил доставленную ему шкатулку в свой личный сундук, запер его и вымыл руки в тазике, после чего выложил на стол хлеб, сыр, куски жареной рыбы и добавил оливкового масла и соли.
— Как поживает мой дядя?
— Хорошо, — ответил гость и вонзил зубы в хлеб, предварительно обмакнув кусок в масло и соль.
— Чем он занимался с тех пор, как мы виделись в последний раз?
— Он отправился из Миезы в Эги. В ненастную погоду.
— Значит, он продолжает свое расследование, — заметил Каллисфен, словно бы про себя.
— Что-что? — переспросил Гермократ.
— Ничего, ничего, — отозвался Каллисфен, покачав головой. Несколько мгновений он смотрел на своего гостя, который поглощал ужин с исключительным аппетитом, а потом задал еще один вопрос: — Известно что-нибудь об убийстве царя Филиппа? Я хочу сказать, какие слухи ходят по Македонии?
Гермократ перестал жевать и молча опустил голову.
— Можешь мне доверять, — сказал Каллисфен. — Это останется между нами.
— Говорят, что Павсаний сделал это по собственной инициативе.
Каллисфен понял, что Гермократ не хочет говорить, но также понял, что вопрос ему не понравился.
— Я дам тебе письмо для моего дяди Аристотеля. Когда ты отправляешься в Македонию?
— Как только найду идущий туда корабль.
— Хорошо. Завтра я отбываю вместе с царем. Ты можешь оставаться в этом доме, пока не найдешь корабль.
Он взял тростинку и начал писать.
Каллисфен Аристотелю: здравствуй!
Только сегодня, двадцать восьмого дня месяца боэдромиона[4]первого года перед сто двенадцатой олимпиадой, я получил то, что просил у тебя. Причины, по которой я просил это, больше нет, и потому я его уничтожу, чтобы не создавать ненужной опасности. Дай мне знать при первой же возможности, раскрыл ли ты что-нибудь касательно убийства царя, поскольку даже Зевс-Амон не захотел ответить на этот вопрос. Сейчас мы покидаем побережье, чтобы отправиться в глубь материка, и не знаю, увижу ли я снова море. Надеюсь, что ты пребываешь в добром здоровье.
Каллисфен посыпал папирус золой, стряхнул ее, свернул лист и вручил Гермократу.
— Завтра на рассвете я отбываю и потому прощаюсь с тобой сейчас. Желаю тебе счастливого пути. Передай моему дяде на словах, что мне здесь очень не хватает его советов и его мудрости.
— Передам, — заверил тот.
На следующий день войско двинулось в путь. За ним последовала царская свита с женщинами из гарема Дария, царицей-матерью, наложницами и их детьми. В этой свите ехала и Барсина. Она, как могла, помогала Сизигамбис, которая была уже в летах.
Еще до того как они достигли берегов Евфрата, на восточной окраине долины Оронта им встретился гонец от Гефестиона. Его тут же отвели к Александру.
— Государь, — возвестил он, — мы полностью овладели восточным берегом Евфрата и перебросили понтонный мост, но персы сжигают все деревни по пути к Вавилону.
— Ты точно это знаешь?
— Видел собственными глазами: все охвачено пламенем, насколько хватает глаз, горит даже жнивье. Вся равнина превратилась в море огня.
— Что ж, поехали туда, — сказал царь. — Мне не терпится увидеть самому, что там делается.
И, взяв два отряда конницы, он вместе со своими товарищами помчался к Тапсакской переправе.
ГЛАВА 9
На следующее утро, незадолго до полудня, Александр галопом проскакал по понтонному мосту в сопровождении своих товарищей. На другом берегу его встретили Гефестион и Неарх.
— Ты говорил с нашим гонцом?
— Говорил. Положение действительно настолько серьезное?
— Суди сам, — ответил Неарх, указывая на поднимавшиеся повсюду столбы черного дыма.
— А на востоке?
— Ты хочешь сказать, с той стороны? Насколько мне известно, там все тихо: никакого ущерба, никаких разрушений.
— Значит, Дарий ждет нас на Тигре. Эти пожары говорят яснее, чем письменные послания: на юг ведет тот же самый путь, что в свое время предприняли «десять тысяч» Ксенофонта. И тогда не обошлось без тяжелых проблем со снабжением. Сегодня же, когда деревни и запасы уничтожены, это совершенно невозможно. Другого пути не остается, только к броду через Тигр и царской дороге. Там нас ждет Дарий; именно там он выбрал место для решительного сражения. А чтобы облегчить нам задачу, он освободил дорогу, позволив нам пополнять запасы в деревнях у подножия Таврских гор.
— И мы примем его приглашение, не так ли, Александр? — спросил, выйдя вперед, Пердикка.
— Да, друг мой. Приготовьтесь, потому что завтра мы выступаем, чтобы встретиться с ним. Через шесть дней мы столкнемся с самым большим войском, какое только собиралось во все времена.
Парменион, наблюдавший за столбами черного дыма, что вздымались на южном горизонте, ничего не сказал и чуть погодя в молчании удалился.
Птолемей проводил его взглядом.
— Наш полководец не выказывает большого воодушевления, верно?
— Он уже стал сдавать. Стареет, — отметил Кратер. — Пора бы отправить его на родину.
Стоявший неподалеку Филот, услышав это, не сдержался:
— Мой отец, может быть, и стар, но все вы вместе не стоите ногтя на его пальце!
— Эй, успокойся! — сказал Селевк. — Кратер пошутил.
— Пусть шутит над кем-нибудь другим, а то в следующий раз…
Чтобы сменить тему, Гефестион спросил:
— Кто-нибудь видел Евмолпа из Сол?
— Кажется, он в лагере торговцев с женщинами, — ответил Селевк. — А что, тебе что-то нужно от него?
— Ничего. Просто я должен передать ему подарок. Скоро увидимся.
Он вскочил на коня и поскакал туда, где ставили лагерь. Евмолп сидел перед своим шатром; вокруг старика хлопотали двое евнухов: один обмахивал его опахалом, а другой подавал обед на маленький столик.
— Я не принимаю глупых намеков на печальные события, касающиеся моего пленения… — начал осведомитель, едва завидев, как Гефестион слезает с коня.
— Успокойся, я здесь, чтобы передать тебе подарок.
— Подарок?
— Именно. От врага. Я подумал, не доложить ли об этом Александру. По-моему, если взять давильный пресс для маслин и хорошенько отжать тебе яйца, мы бы могли узнать много интересного.
— Молчи, дурень. Лучше дай мне посмотреть, о чем ты говоришь.
Гефестион вручил ему статуэтку, и Евмолп внимательно осмотрел ее.
— Говоришь, подарок от врага? И кто же этот враг?
— Сатрап Вавилонии Мазей. Большая шишка, если не ошибаюсь.
Евмолп пропустил это замечание мимо ушей, продолжая рассматривать статуэтку, а потом вдруг ударил ее о край своего столика, так что она разлетелась на куски. Оттуда выпал маленький папирусный свиток, испещренный клинописными буквами.
— Сговор с врагом, — заметил Гефестион. — Плохи твои дела.
Евмолп из Сол развернул записку и встал, направляясь к военному лагерю.
— Эй, ты куда?
— Найду кого-нибудь, у кого хоть немного мозгов в голове.
— Берегись, как бы тебе не покусали задницу: там бегает Перитас! — крикнул вслед Гефестион.
Осведомитель не обернулся, но правой рукой инстинктивно загородил упомянутое место.
Он нашел Евмена в хозяйственном шатре, где тот проводил инвентаризацию оборудования, запасного оружия и обозов. Евмолп сделал знак, что нужно поговорить, и царский секретарь оставил свои записи помощнику, а сам подошел к осведомителю.
— Есть новости?
— Послание от Мазея.
— Сатрапа Вавилонии? Великий Зевс!
— И правой руки Великого Царя.
— Что он сообщает?
— Он расположен… помочь нам на поле боя, если ему гарантируют сохранение поста правителя Вавилонии.
— Ты можешь ему ответить?
— Да.
— Ответь, что мы договорились.
— Но ему нужны гарантии.
— Какого рода?
— Не знаю… Письмо царя.
— Это можно устроить. Мне уже доводилось писать письма почерком Александра и с его печатью. Зайди вечером ко мне в шатер, и я дам тебе все, что нужно. Но только ради Зевса сними этот парик, если хочешь уберечь свою задницу. Где-то тут неподалеку Перитас с Александром.
— Меня уже предупредили, — ответил Евмолп, неохотно снимая украшение со своего черепа и пряча его в мешок. — Этот зверь уже сожрал мою меховую шапку, которая стоила мне целое состояние. Если он меня поймает, придется швырнуть ему и этот мешок.
Осведомитель удалился, и долго еще было видно, как его лысина сверкает под полуденным солнцем.
На следующий день войско двинулось на восток, оставив слева горы Армении, а справа — пустыню. Путевые топографы взяли по дороге нескольких местных проводников, так как не имели ни карты, ни путевых описаний этой территории. Они подготовили инструменты и переносные чертежные щиты, чтобы постепенно, по мере продвижения наносить на них карту этих мест со всей возможной точностью.
Войско совершило шесть переходов, каждый по пять парасангов. Через два дня они прошли сирийскую реку Араке и углубились в полупустынные земли. То и дело показывались табуны диких ослов, стада газелей и антилоп, пасшиеся среди пучков колючей травы, а на третью ночь пару раз, как гром, среди безграничного пустого пространства донеслось рыканье льва.
Лошади заржали и начали брыкаться, пытаясь освободиться от пут, а Перитас, вдруг проснувшись, яростно залаял, готовый броситься туда, откуда доносился сильный и резкий запах дикого зверя.
Александр успокаивал его:
— Хороший Перитас, хороший. У нас сейчас нет времени, чтобы пойти на охоту. Ну, поспи, поспи пока.
Он гладил пса и чесал за ушами, пока животное снова не свернулось калачиком.
На следующий день они увидели страусов и даже нашли гнезда со страусиными яйцами. Повар, посмотрев их на свет, понял, что они только что снесены, и отложил, чтобы приготовить на ужин. Александр посоветовал придержать пару скорлупок по мере возможности нетронутыми, чтобы послать их Аристотелю для его коллекции. Однако Гефестиону не хотелось отказываться от порции свежего мяса, и он вместе с Леоннатом и Пердиккой, а также парой десятков агриан и трибаллов, вооруженных стрелами и дротиками, устроил охоту на страусов. Но вскоре охотники поняли, что предприятие сулит быть не таким простым, как представлялось: эти неуклюжие с виду птицы бегали с невероятной скоростью, расставив крылья, как паруса, чтобы использовать силу ветра, и ни один конь не мог догнать их.
Когда охотники вернулись, усталые и пристыженные, с пустыми руками, Александр, увидев их, покачал головой.
— Над чем смеешься? — спросил раздраженный Гефестион.
— Если бы ты, как я, прочел «Поход десяти тысяч», ты бы тоже знал, как охотиться на страуса. Не забывай, Ксенофонт был великий охотник.
— И как же на них охотятся?
— Эстафетой. Одна группа охотников преследует страусов и гонит их в определенное место, туда, где, распределившись по этапам, их поджидают другие группы всадников. Когда кони устают, первая группа останавливается и в гонку вступает вторая, потом третья и так далее, пока страусы, изнеможенные, не сбавят скорость. Тогда их можно окружить и перебить.
— Завтра попробуем, — отозвался Гефестион.
— А пока что утешимся яйцами, — сказал Александр. — Они, похоже, превосходны и жареные, и вареные, с солью и постным маслом.
— И страусовыми перьями, — добавил Пердикка. — На моем шлеме они будут смотреться великолепно. Посмотри, что за чудо! Их здесь разбросано по пустыне множество. Наверное, у страусов пора линьки.
Но как назло, на следующий день ни один страус не показался на глаза, словно кто-то их предупредил о том, что охотники собрались применить более эффективные методы.
Войско пустилось в путь, не встречая ни одной живой души, если не считать двух караванов, на пятый день разбивших свой лагерь на почтительном расстоянии от войска. Купцы шли из Аравии с грузом фимиама, и Аристандр попросил у царя позволения купить товар, не торгуясь: ввиду неизбежности решительного сражения богам следовало воздать соответствующие почести.
А вечером шестого дня Александр, пришпорив Букефала, направил его в стремительные воды великого Тигра.
ГЛАВА 10
Свет восходящего солнца едва позволял разглядеть, что на другом берегу никого нет. Повсюду, насколько хватало глаз, не горело ни одного костра и не наблюдалось никаких других признаков человеческого присутствия. Не чувствовалось ни малейшего ветерка, только несколько цапель лениво расхаживали по берегу в поисках мальков и лягушек.
Александр напоил Перитаса, а потом Букефала, но время от времени натягивал поводья, чтобы тот не очень наполнял брюхо. Потом, набрав воды в пригоршни, поплескал ему на живот и ноги, чтобы освежить. Вскоре все конные отряды выше и ниже брода спешились, и каждый всадник поил из реки своего коня.
— Не могу понять, — проговорил Селевк, взглянув на реку.
— Я тоже ожидал увидеть на берегу выстроившееся войско в полной боевой готовности… — добавил Лисимах, снимая шлем и расстегивая ремни панциря.
Птолемей тоже снял шлем, набрал в него воды и вылил себе на голову, наслаждаясь прохладой:
— А-а-ах! Чудесно!
— Ну, раз тебе так нравится, вот тебе! — крикнул Леоннат и, набрав воды в шлем, собрался было плеснуть на друга, но вдруг остановился. — Гляди, вон господин царский секретарь! Приготовиться! Действуем по моей команде, хорошо?
В этот момент подошел Евмен в боевых доспехах, со шлемом на голове. Шлем густо украшали страусовые перья.
— Александр, — начал он, — послушай. Я получил известие о том, что…
Но не успел он закончить фразу, как Леоннат дико завопил:
— Засада! Засада!
И все одновременно обрушили на секретаря водяную лавину из своих шлемов, вымочив того с головы до ног.
— Мне очень жаль, господин царский секретарь, — сказал Александр, с трудом сдерживая смех, — но эта засада всех нас застала врасплох, и я был не в состоянии ее предотвратить.
Евмен весь промок, и страусовые перья у него на шлеме приобрели жалкий вид.
— Очень остроумно, — проворчал он, печально глядя на то, что осталось от его великолепного плюмажа. — Стадо идиотов…
— Ты должен простить их, господин царский секретарь, — вмешался Александр, желая утихомирить Евмена. — Это же недоумки. Но ты хотел мне что-то сообщить.
— Ничего особенно важного, — сердито проворчал Евмен. — Сообщу в другой раз.
— Ну, не буду настаивать. Жду тебя скоро в моем шатре. И вас тоже! — крикнул царь остальным. — Гефестион! Возьми отряд и организуй дозор на той стороне. До ужина я хочу знать, где они.
В сопровождении Перитаса царь удалился по направлению к месту, где его слуги устанавливали царский шатер, молотками забивая колышки.
Вскоре явился Евмен — в сухих одеждах и без шлема, и царь усадил его рядом с собой, а Лептина и другие женщины стали расставлять столы и ложа к ужину.
— Ну, какие новости?
— Простые. Евмолп из Сол получил послание. Войско Великого Царя находится примерно в пяти парасангах к юго-востоку отсюда, где-то на дороге в Вавилон, неподалеку от деревни под названием Гавгамелы.
— Странное название…
— Оно означает «Дом верблюда». С этим связана одна древняя история. Кажется, Дарий Великий, убегая от засады на верблюде, спасся благодаря его необыкновенной быстроте. В благодарность царь возвел для благородного животного стойло со всеми удобствами и дал в пожизненное пользование эту деревню, которая с тех пор и получила столь странное имя.
— На расстоянии дневного перехода… Странно. Он мог прижать нас к берегу реки и держать здесь неизвестно сколько времени.
— Кажется, он сделал это нарочно. Ты заметил, какова местность на обоих берегах Тигра?
— Пересеченная, с ямами и камнями.
— Именно. Не очень подходящая для боевых колесниц. Великий Царь ждет нас на совершенно гладкой равнине, — сказал Евмен и провел ладонью по отполированному деревянному столу. — Он велел засыпать ямы и разровнять бугры, чтобы колесницы могли развить максимальную скорость.
— Все может быть. Но факт остается фактом: никто не тревожил нас на марше, и мы смогли спокойно пополнять запасы в деревнях, а теперь без всяких трудностей переправимся через Тигр.
— Если не учитывать течения реки.
— Если не учитывать течения реки, — согласился Александр. — Наверное, в горах дожди.
В это время вошли другие царские друзья, а с ними Неарх.
— Вижу, господин царский секретарь снова обрел должный вид, — заметил Леоннат. — Какое преображение! всего несколько минут назад он напоминал мокрую курицу.
— Прекрати! — оборвал его Александр. — Садитесь. Нужно поговорить о важных вещах.
Все заняли места, а Перитас свернулся у ног царя, покусывая его сандалии, как привык делать еще будучи щенком.
— Великий Царь, судя по всему, ждет нас на гладкой, как стол, равнине в одном дневном переходе отсюда.
— Прекрасно! — воскликнул Пердикка. — Тогда выступаем. Не хочу, чтобы он соскучился.
— Однако известие, полученное Евмолпом из Сол, пришло от персов. Нельзя исключать, что это ловушка.
— Вот именно: не надо забывать Исс, — проворчал Леоннат. — Этот сукин сын всех нас продаст, лишь бы спасти свою задницу!
— Брось! — осадил его Пердикка. — Хотел бы я посмотреть на тебя, окажись ты на его месте. Какой смысл ему нас предавать? Я Евмолпу верю.
— Я тоже, — поддержал его Александр. — Но я говорил не об этом. Известие могло быть подброшено специально, чтобы заманить нас в безвыходное положение.
— В таком случае, что ты намерен делать? — спросил Лисимах, наливая товарищам вина.
— Этой ночью мы узнаем от Гефестиона, действительно ли они так далеко от реки, а завтра перейдем брод и двинемся в направлении вражеского войска. Через два или три парасанга пошлем разведывательный отряд посмотреть, как обстоят дела. Потом соберем военный совет и атакуем.
— А боевые колесницы? — спросил Птолемей.
— Оставим их без дела, а потом бросимся всеми силами в центр. Как при Иссе.
— Мы побеждаем, они проигрывают. Азия наша, — лаконично заключил Неарх.
— Легко сказать, — вмешался Селевк, — а попробуйте представить себе, как понесутся по равнине эти жуткие машины: тучи пыли, грохот ободьев, косы вращаются, сверкая на солнце. По-моему, они постараются смести наши отряды в центре, в то время как конница обойдет нас с флангов.
— Селевк не так уж не прав, — сказал Александр, — но сейчас не время гадать о планах противника. Что касается колесниц, поступим так же, как «десять тысяч» при Кунаксе. Помните? Тяжелая пехота расступилась, освободив коридоры, в которые они проехали, не причинив никому вреда, а лучники тем временем повернулись назад и стреляли возницам в спину. Куда больше меня волнует другое: если не подует хоть небольшой ветерок, с началом сражения поднимется такая пыль, что не различишь пальцев, поднесенных к носу. Придется полагаться на трубы, чтобы сохранять взаимодействие между частями. А пока будем есть и веселиться. Нет причин терзаться сомнениями: мы всегда побеждали, победим и на этот раз.
— Ты действительно думаешь, что на этом пустынном участке нас будет ждать миллионное войско? — спросил Леоннат, явно встревоженный. — Клянусь Гераклом, я не могу даже представить такого! Сколько это — миллион человек?
— Я тебе скажу, — вмешался Евмен. — Это означает, что для победы каждому из нас придется убить по два десятка, и еще останется.
— А я не верю в это, — сказал Александр. — Прокормить миллион человек в постоянном движении почти невозможно. А вода для миллиона лошадей? А прочее? Я думаю… Я думаю, их вдвое меньше, то есть чуть больше, чем было при Иссе. Как бы то ни было, я вам сказал: подождем и сами увидим, как обстоят дела, когда вступим в прямой контакт с противником.
Слуги начали подавать на стол яства, и Александр, чтобы развеселить друзей, велел позвать недавно прибывших из Греции гетер-«подруг». Среди них выделялась одна афинянка необыкновенной красоты, смуглая, со страстными глазами и упругим телом божественного сложения.
— Посмотрите на это чудо! — воскликнул Александр, как только она вошла. — Разве она не поразительна? Знаете, она позировала обнаженной великому Протогену для статуи Афродиты. Ее зовут Таис, и в этом году ее провозгласили «каллипигой».
— То есть самой красивой попкой в городе, верно? — усмехнулся Леоннат. — Можно посмотреть?
— Всему свое время, мой пылкий козлик, — ответила девушка с лукавой улыбочкой.
Леоннат ошеломленно повернулся к Евмену:
— Ни одна женщина еще не называла меня «пылким козликом». Не понимаю, комплимент это или оскорбление.
Вошли и другие «подруги», все очень изящные, и прилегли рядом с сотрапезниками, пока подавали ужин. Птолемей в качестве симпосиарха установил, что вино следует разбавлять в пропорции один к одному, и это решение вызвало всеобщее одобрение.
Когда все наелись и изрядно напились, Таис начала танцевать. На ней был лишь короткий хитон, а под ним — ничего, и при каждом обороте она щедро открывала то, за что получила приз в Афинах.
Вдруг, схватив флейту с одного из столов, она начала аккомпанировать собственному танцу, и эта музыка словно обволокла ее тело, продолжавшее кружиться все быстрее, а потом вдруг рассыпалась каскадом резких, почти визгливых нот. Девушка припала к земле, как дикий зверь перед прыжком, тяжело дыша и лоснясь от пота. Затем заиграла снова, и мелодия донеслась до солдат, неподвижно стоящих на часах. Нежнейшая мелодия, сопровождавшаяся чрезвычайно мягкими и гибкими движениями, страстными, соблазнительными жестами.
Мужчины перестали смеяться, и сам царь замер, зачарованный этим кружением, которое вновь принялось следовать ускоряющемуся ритму музыки. Таис совершенно заполнила собой ограниченное шатром пространство, пропитала его запахом своей кожи, ароматом своих иссиня-черных волос. Чувствовалось, что в этом танце заключена какая-то неодолимая энергия, таинственные могучие чары, и в памяти Александра вспыхнуло воспоминание из прошлого: ночь и флейта, на которой играла его мать Олимпиада в укромной чаще эордейского леса, когда она созвала в ночи оргию, комос вакхического опьянения.
Но вот Таис в изнеможении упала, тяжело дыша, и глаза у всех загорелись жгучим желанием. Однако никто не смел двинуться с места, ожидая, как поведет себя царь. В этот миг напряженную до судорог тишину разорвало конское ржание и топот копыт, и вскоре вошел Гефестион, весь в поту и пыли.
— Войско Дария в полудне пути, — переводя дыхание, сообщил он. — Их сотни тысяч, и их костры сверкают в ночи, как звезды на небе, их боевые рога перекликаются по всей равнине.
Александр встал и огляделся, словно вдруг очнулся от сна, а потом проговорил:
— Идите спать. Завтра перейдем брод, а вечером, на закате солнца, соберем военный совет.
ГЛАВА 11
Течение Тигра было довольно сильным, даже в месте брода, и пехотинцы, попытавшиеся перейти первыми, вскоре встретились со значительными трудностями, так как на середине реки быстрая вода доходила до груди. Особенно мешали щиты: если их держали низко, они чересчур сопротивлялись течению, и людям приходилось бросать их; а, поднимая щиты повыше, солдаты теряли равновесие, и их несло прочь.
Парменион отдал приказ натянуть с берега на берег два каната и сформировать двойной кордон из привязанных друг к другу солдат без щитов — один выше по течению от брода, чтобы ломать поток воды, а другой ниже, чтобы ловить тех, кого уносило стремниной. Под прикрытием этого живого барьера старый полководец велел пропустить всю оставшуюся тяжелую пехоту. Последней переходила конница, а за ней двигались повозки с провизией и обозы с женщинами и детьми. Голова войска показалась в виду вражеских позиций во второй половине дня, но хвост еще оставался на реке Тигр, и на то, чтобы он подтянулся к остальному войску, ушел весь остаток дня.
Как и обещал, царь собрал военный совет после захода солнца, когда оба войска настолько сблизились, что со своей стороны через обширную равнину Гавгамел македонские часовые могли слышать перекличку персидских дозоров.
С наступлением вечера, в начале ночной стражи, в шатре Александра зажглась лампа, и один за другом начали сходиться товарищи и высшие командиры. Вслед за Парменионом и Клитом по прозвищу Черный пришли Кен, Симмий, Мелеагр, Полисперхон. Все облобызали щеку царя и встали вокруг стола, на котором помощники Александра нанесли план сражения. Разные отряды пехоты и конницы были представлены фигурками разного цвета из царского комплекта шашек.
— Почти наверняка Дарий бросит на нас боевые колесницы, — начал Александр, — чтобы расстроить наши ряды и внести сумятицу в фалангу. Но мы будем наступать косым строем, а поскольку строй врага шире нашего вследствие его численного превосходства, попытаемся обогнуть территорию, которую Великий Царь приказал разровнять для введения в бой своих колесниц. Как только увидите, что колесницы двинулись, дайте солдатам сигнал, чтобы они зашумели как можно громче, колотя мечами по щитам и крича. Кони должны испугаться. Когда колесницы окажутся на расстоянии выстрела, лучники и пращники пусть целятся в возниц. Это должно вывести многих из строя, но сами колесницы, продолжая двигаться вперед, еще могут нанести нам большой урон. На этом этапе командиры протрубят сигнал открыть в строю бреши, чтобы пропустить их, а потом поразить сзади. Когда атака боевых колесниц захлебнется, фаланга нападет на вражеский центр вслед за тяжелой конницей гетайров и фракийскими и агрианскими штурмовиками, а я поведу «Острие» на боевые порядки самого Дария. Нам нужно пробиться и отрезать весь их левый фланг, а потом сойтись в центре и оттеснить Дария и его Бессмертных к фаланге. Отряды Кратера и Пердикки должны выдержать вражеский натиск и контратаковать. Парменион с фессалийской конницей и тремя батальонами педзетеров останется в резерве в глубине нашего левого фланга, чтобы нанести решающий удар. Правый фланг нашего строя будут держать греческие союзники и наемники под общим руководством Черного. Их задача — противодействовать возможному окружающему маневру левого фланга персов, чтобы «Острие» успело разбить вражеский центр. Вопросы есть?
— Один, — сказал Селевк. — Зачем принимать бой на территории, выбранной противником?
Александр как будто заколебался, не зная, отвечать или нет, а потом подошел к нему и посмотрел прямо в глаза.
— Знаешь, сколько крепостей разбросано по державе Дария отсюда до гор Паропамиса [5]? Знаешь, сколько там укрепленных перевалов, сколько скал и обнесенных стенами городов? Мы до седых волос завязнем в тщетных и кровопролитных схватках и будем постепенно терять наших солдат; за долгие годы мы обескровим нашу родину, забирая цвет ее юношества, и обречем ее на быстрый упадок. Дарий думает, что составил ловкий план — заманить меня на это место и уничтожить. А я сделал вид, что попался. Он не знает, что это я так решил и что в последний момент все равно разобью его.
— Каким образом? — снова спросил Селевк, не отводя глаз.
— Увидишь на рассвете, — ответил Александр. — На сегодня все. Теперь идите к своим отрядам и постарайтесь отдохнуть, потому что завтра вам придется выложиться до последней капли пота, до последнего проблеска сил. Да будет с нами удача и благоволение богов!
Все попрощались и ушли. Александр проводил их до порога, а когда никого не осталось, пошел в загородку к Букефалу, чтобы лично задать ему корма и питья. Когда животное опустило морду в ведро с ячменем, царь сказал своему коню, гладя его гриву:
— Прекрасный Букефал, мой добрый друг… Завтра твое последнее сражение, обещаю. Потом ты будешь появляться только на парадах и носить меня на спине, когда мы с триумфом будем входить в города. Или мы с тобой вдвоем отправимся поскакать по холмам Мидии или по берегам Тигра и Аракса… Но сначала ты должен примчать меня к победе, Букефал, завтра ты должен мчаться быстрее ветра, быстрее персидских стрел и дротиков. Ничто не должно сдержать твоего натиска.
Жеребец поднял гордую голову, фыркая и тряся гривой.
— Ты понял меня, Букефал? Ты будешь топтать копытами индийских и касситских [6] всадников, гирканцев и хорасмиев [7], выдыхая огонь из ноздрей, как химера! Ты будешь увлекать за собой в яростной атаке всех своих товарищей! Ты будешь громом, что потрясает горы, и пятьсот скакунов «Острия», следуя за тобой, заставят содрогаться землю.
Жеребец поскреб копытом землю и вдруг разразился вызывающим ржанием, а потом как будто успокоился и потянулся головой к груди своего хозяина, ласкаясь. Он хотел сказать, что готов и ничто в мире не остановит его.
Александр поцеловал коня в лоб и ушел, направившись к шатру царицы-матери Сизигамбис, что стоял в тени нескольких сикоморов на краю лагеря. Царь велел доложить о себе, и евнух провел его в шатер, где царица-мать приняла гостя, восседая на троне.
Как принято при дворе, Александр подождал, пока она позволит ему сесть, а потом заговорил:
— Великая царица-мать, я пришел сказать тебе, что мы готовимся сойтись с Дарием в решительном сражении — почти наверняка последнем. К заходу солнца лишь один из нас двоих останется в живых, и я сделаю все возможное, чтобы победить.
— Знаю, — ответила Сизигамбис.
— Это может означать смерть твоего сына.
Царица торжественно кивнула головой.
— Или мою, — чуть погодя добавил Александр.
Сизигамбис подняла полные слез глаза и вздохнула:
— В любом случае для меня это будет печальный день. Как бы ни обернулись дела, каков бы ни оказался исход сражения. Если ты победишь, я потеряю сына и родину. Если ты погибнешь, я потеряю человека, которого научилась любить. Ты обращался со мной с сыновней любовью и с почтением относился ко всем членам моей семьи, как никогда не поступал ни один победитель. Ты тоже, мой мальчик, завоевал место в моем сердце. И потому я могу лишь страдать. Мне не принесут утешения чистосердечные молитвы Ахура-Мазде о том, чтобы он даровал победу моим соотечественникам. Ступай, Александр, и да будет тебе дано невредимым увидеть закат завтрашнего дня. Вот мое единственное благословение.
Царь поклонился и вышел, возвращаясь в свой шатер. В последние часы перед отдыхом лагерь кипел деятельностью. Собравшись в кружки, солдаты сидели на земле и ужинали, ободряя друг друга перед грядущим сражением. Они хвастали своими подвигами, пили, играли в кости на деньги, которых всегда в избытке получали из сундуков Евмена, развлекались танцами проституток, что следовали за войском на подручном транспорте. Другие проводили этот вечер в лагере торговцев, где многие завели себе постоянных подруг и успели нарожать маленьких детей, к которым привязывались с каждым днем все более.
В этот решающий час наличие глубоких чувств являлось для них источником утешения и в то же время тревоги. Неминуемое сражение, исход которого предсказать невозможно, могло принести им славу и богатство, а могло — смерть или, еще хуже, унизительное рабство.
Александр добрался до своего жилья, пройдя из конца в конец почти весь лагерь. Лептина вышла на порог встретить его и поцеловала руки.
— Мой господин, тут без тебя случился странный визит. Явился какой-то человек. Он принес тебе угощение на ужин. Я никогда раньше его не видела, но он не вызвал у меня доверия — возможно, пища отравлена.
— Ты выбросила ее?
— Нет, но…
— Дай мне взглянуть.
Лептина проводила царя в помещение для трапез и показала блюдо. Александр с улыбкой покачал головой.
— Дрозд на вертеле. — Он прикоснулся к нему. — И даже еще не остыл. Где этот человек?
— Ушел, но оставил вот это. — Она показала маленький папирусный свиток.
Александр быстро пробежал его глазами, после чего торопливо вышел и позвал своего оруженосца:
— Приготовь мне сарматского гнедого, быстро. Оруженосец бросился к загородке и вскоре вернулся с оседланным конем. Царь вскочил в седло и галопом поскакал прочь, так что даже охрана не успела сообразить, что происходит. Когда солдаты были готовы догонять Александра, он уже исчез в пустыне.
ГЛАВА 12
Александр примчался в маленькую деревушку, состоявшую всего из нескольких домов, сложенных из грубых кирпичей и битума; она располагалась на полпути между его лагерем и рекой, которую он сегодня пересек. Подъехав к колодцу, выкопанному под пальмами, царь спешился и стал ждать.
Вскоре из-за невысоких холмов на востоке взошла луна. Ночное светило рассеяло свой тихий свет по жнивью, золотым кольцом окружавшему деревню, и по бескрайней пустыне, простершейся на необозримую даль за этим обработанным клочком земли. Царь пустил коня пастись среди пучков травы, пробивавшейся между пальм. И вот он увидел маячившую на юге фигуру. По дороге — правильнее было бы сказать, по тропинке — ехал на верблюде Евмолп из Сол.
— Можешь спокойно слезть, — сказал Александр, заметив его настороженный взгляд. — Перитас остался в лагере.
— Приветствую тебя, великий царь и владыка Азии, — начал осведомитель, но Александр, не имея лишнего времени, прервал его:
— Я прочел то, что ты мне принес. Тебе удалось узнать еще что-нибудь?
— Должен сказать правду: я и раньше знал, что Мазей очень удручен, убежденный в том, что для державы Кира Великого настал последний час. Я попросил Гефестиона, когда тот окажется у Тапсакского брода через Евфрат, уговорить его перейти на нашу сторону. Однако Гефестион отказался. Он, видимо, считал, что переманивать противника нехорошо и бесчестно.
— И я думаю так же.
— Лучше скажем: он думал так же, как ты.
— Если тебе так угодно.
— Хорошо. Но богиня Тихэ повернулась в нашу сторону: очевидно, она питает к тебе слабость, мой государь. Ты не поверишь, но именно через Гефестиона Мазей и связался с нами. Он вручил ему статуэтку под видом подарка для меня, и я получил ее, когда по делам находился между Тиром и Дамаском. Внутри я нашел послание Мазея, содержание которого сообщил тебе устно через гонца, когда ты с войском подходил к броду через Тигр. Но потом я захотел приехать сам, желая убедиться в том, что послание доставлено надежно.
— Да. Я видел твоего дрозда на вертеле.
— Неплохо придумано, а? Мои слуги поймали этого красавчика в сети сегодня утром, и мне пришла в голову мысль таким оригинальным способом назвать тебе мой пароль.
— Тебе это удалось.
— Так что именно передал тебе гонец?
— Мазей предлагает мне помощь на поле боя, а взамен просит оставить его сатрапом Вавилонии. Сообщает, что его части выстроятся на правом фланге войска Дария и, что я могу безопасно ослабить мой левый фланг, чтобы сосредоточить силы в другом месте, где мне грозит окружение. Я правильно понял?
— Совершенно верно. И тебе не кажется, что это честное предложение?
— Ты бы доверился предателю?
— Да, если предложение выгодно обоим, а мне кажется, так оно и есть. Мазей не верит, что Дарий может тебя разбить. Он считает, что ты выйдешь победителем, и потому предлагает тебе нечто, желая получить нечто взамен. Ты из этого извлечешь несомненную выгоду, и он — тоже.
— А теперь только представь себе, что он лжет: я оголяю мой левый фланг, чтобы усилить правый, предвидя обход персидской конницы в этом месте; Мазей же врезается в мой левый фланг и заходит мне в тыл, когда я готовлюсь бросить в атаку «Острие». Катастрофа. Можно сказать, конец.
— Верно. Но если не рисковать и не верить обещанию Мазея, ты все равно можешь проиграть, потому что персов гораздо больше, чем вас. К тому же ты решил принять бой в месте, выбранном Великим Царем. В самом деле, дилемма.
— Тем не менее, сейчас я вернусь в свой шатер и спокойно усну.
В неверном свете луны Евмолп попытался рассмотреть выражение лица своего собеседника, но не смог различить ничего особенного, что раскрыло бы его намерения.
— Так что мне передать Мазею этой ночью? — уточнил Евмолп. — Как видишь, я переоделся сирийским купцом и скоро явлюсь к нему, чтобы сообщить твой ответ.
Александр схватил за поводья своего гнедого и одним махом вскочил в седло.
— Скажи, что я принял его предложение, — ответил он и двинулся прочь.
— Погоди! — остановил Александра Евмолп. — Еще кое-что может тебя заинтересовать: в лагере Дария находится тот паренек, сын Барсины. Он собирается завтра принять участие в сражении.
На несколько мгновений Александр замер на своем скакуне, словно это известие парализовало его, потом вдруг очнулся и, пришпорив коня, скрылся в облаке пыли. Евмолп покачал головой и, обдумав про себя этот короткий диалог, опустил своего упрямого верблюда на колени, после чего, кряхтя, залез в седло. Потом прикрикнул на животное, и верблюд поднялся сначала на задние ноги, отчего седок чуть не вывалился вперед, а потом на передние, отчего тот чуть не рухнул назад. Наконец верблюд выровнялся и, подгоняемый пинками своего седока, побежал к персидскому лагерю.
Александр увидел, как навстречу галопом скачет отряд гетайров из царской охраны во главе с Гефестионом, и остановился.
— Куда это вы? — осведомился он.
— Куда это мы? — переспросил Гефестион вне себя. — И ты еще спрашиваешь? Разыскивать тебя! Ты покинул лагерь, никому ничего не сказав, чтобы прогуляться ночью по территории, кишащей вражескими дозорами, — и это накануне сражения, которое решит нашу судьбу. К счастью, один часовой заметил тебя и доложил своему командиру. Мы чуть не померли со страху, а ты…
Александр остановил его жестом руки.
— Это касалось одного дела, которое я должен был выполнить в одиночку, но хорошо, что вы здесь. Кто командир этой части?
Вперед вышел один молодой горец из Линкестиды.
— Я, государь. Меня зовут Евфранор.
— Выслушай меня, Евфранор: когда мы вернемся в лагерь, ты со своими людьми отправляйся по этой тропе в деревню, что в десяти стадиях отсюда, и там оставь половину своего отряда под командованием надежного человека. С другой же половиной проследуй к берегу Тигра и подожди там, пока не услышишь, как с другого берега кто-то крикнет: «Где дорога на Вавилон?» Ты ответишь: «Дорога идет отсюда!» — а потом отведешь этих людей в лагерь и отдашь в распоряжение Кратера.
— Лично ему, государь?
— Лично ему, Евфранор. Следуй в точности этим моим распоряжениям, от этого зависит судьба всех нас.
— Спи спокойно. Никто из нас не сомкнет глаз, и никто не проскользнет между бродом и деревней без нашего позволения. Этого ты от нас хочешь, верно?
— Именно. А теперь поехали.
— Кого это мы ждем? — спросил Гефестион, поворачивая коня в направлении лагеря.
— Увидишь. А пока поехали назад: у нас не так много времени, чтобы выспаться до рассвета.
Они вернулись в лагерь и разделились: Гефестион отправился к своему отряду «Острия», а Александр пошел в шатер к Барсине. Она встретила его поцелуем.
— Я слышала, что ты уехал куда-то один, и волновалась.
Александр прижал ее к себе, ничего не сказав.
— Завтра ты поведешь в бой свою конницу, правда?
— Да.
— Зачем подвергать себя смертельной опасности? Если с тобой что-то случится, твои солдаты останутся без командира.
— У царя есть свои привилегии, но, когда его солдаты идут навстречу опасности, он должен быть готов умереть первым. Послушай меня, Барсина: вон там, в восьми-девяти стадиях отсюда, стоит персидский лагерь. Там находятся твой отец Артабаз и… твой сын.
Взор Барсины вдруг заволокло слезами.
— Если хочешь отправиться к ним, — продолжил Александр, — я прикажу проводить тебя вместе с Фраатом до первого персидского поста.
— Ты этого хочешь? — спросила Барсина.
— Нет. Я хочу, чтобы ты оставалась со мной, но понимаю, что твое сердце разделено и потому ты никогда не можешь быть счастлива.
Барсина погладила его лицо и волосы, а потом проговорила:
— Я твоя женщина. Я остаюсь.
— Если ты моя женщина, заставь меня в эту ночь перед сражением забыть обо всем, ласкай меня, как никогда не ласкала ни одного мужчину, подари наслаждение. Завтра от меня может остаться лишь пригоршня праха.
И, не дождавшись ее ответа, стал целовать ее в шею и грудь, ласкать ее живот и бедра, с неодолимой силой прижимая ее к себе. Ощутив исходящий от его кожи лихорадочный жар, и аромат его волос, и насыщенный мускусный запах его паха, Барсина отдалась волне желания, пробежавшей под кожей вместе с горячим током крови.
Он продолжал ласкать и целовать ее, а она разделась сама и раздела его, забыв о былой сдержанности. Жадно целуя его в губы и в грудь, она повалила его, голого, на ковер, покрывая страстными поцелуями. Александр подмял ее под себя и яростно овладел ею, словно наслаждался ее телом и ее любовью в последний раз. Он видел, как горят ее глаза, как ее лицо искажается все сильнее и мучительнее, ощущал, как ее руки и ногти впиваются ему в плечи и спину, и, наконец, услышал ее восторженный крик, вызванный безмерным, ничем не стесненным наслаждением, какое только боги могут послать смертным.
Александр откинулся навзничь на мягкий ковер, а она продолжала целовать его и ласкать, самозабвенно и неистово. Он отвечал на ее поцелуи, а потом, с последней лаской, оторвался от нее и встал.
— Спи со мной, прошу тебя, — сказала ему Барсина.
— Не могу. Завтра перед наивысшим испытанием мои люди должны увидеть меня в одиночестве. Часовые, вышедшие в последнюю стражу, должны знать, что ночью охраняли одиночество своего царя. Прощай, Барсина. Если мне суждено погибнуть в бою, не оплакивай меня: это честь — пасть на поле боя, избежав долгой старости и постепенного телесного и умственного упадка. Если я умру, возвращайся к своему народу и своим сыновьям и живи безмятежно своей жизнью, вспоминая, что тебя любили, любили так, как ни одну другую женщину в мире.
Барсина поцеловала его в последний раз, прежде чем он исчез за порогом. Ей не хватило мужества сказать ему, что она ждет от него ребенка.
ГЛАВА 13
Его разбудил Парменион, вошедший в царский шатер:
— Государь, пора.
Полководец был в боевых доспехах, и Александр смотрел на него с неизменным восхищением: в столь преклонные лета старый воин был прям и крепок, как дуб. Царь встал и, как был голый, проглотил уже приготовленную Лептиной «чашу Нестора». Пока двое слуг одевали его и облачали в доспехи, третий принес щит и великолепный шлем в форме львиной головы с разинутой пастью.
— Парменион, — начал Александр, — этот день будет полон неопределенности, особенно в отношении того, что произойдет на левом фланге. Поэтому я решил доверить командование этим краем нашего строя тебе. А Черный поведет правый фланг. Мы двинемся вперед, прижав оба крыла, как бросающийся на добычу сокол. Будем идти, пока враги не решат остановить нас, бросив навстречу свой правый фланг. Тогда я возглавлю атаку и расколю пополам их наступление по фронту. Но пока я в центре буду противостоять вражеским головным частям, ты слева столкнешься с их флангом. Я знаю, что ты выстоишь и ни в коем случае не отступишь.
— Не отступлю, государь.
Александр покачал головой.
— Ты всегда держишься так строго, а ведь когда-то сажал меня к себе на колени…
Парменион кивнул и заговорил чуть иначе:
— Я не отступлю, мой мальчик, пока могу дышать. Да помогут нам боги.
Выйдя из шатра, царь увидел, что посреди лагеря Аристандр заколол жертву и сжигает ее. Дым стелился по земле, как длинная змея, и с трудом находил путь к небу.
— Что говорят твои гадания, ясновидец? Аристандр обернулся к царю характерным движением, страшно напомнившим Александру его отца Филиппа, и проговорил:
— Это будет самый тяжелый день в твоей жизни, Александр, но ты победишь.
— Да пожелают боги, чтобы твои слова оказались правдой, — отозвался Александр и взял поводья Букефала, которого подвели к нему из стойла.
Лагерь бурлил деятельностью: повсюду раздавались сухие команды, отряды конницы занимали позиции, пехотинцы выстраивались в маршевую колонну. Александр вскочил на коня и, пришпорив его, подскакал к голове «Острия». К царю подъехал Гефестион. Позади него занял место Леоннат в железных доспехах с огромным топором в руке, а рядом с ним Птолемей. У них за спиной — Лисимах, Селевк и Филот. Царские друзья шли впереди прочих конных частей гетайров. Впереди всех на левом фланге бежали пешие фракийцы и агриане, за ними слева следовали фаланги и штурмовой отряд, их вели командиры — Кен, Пердикка, Мелеагр, Симмий и Полисперхон. Замыкающий построение Кратер командовал фессалийцами. Справа уже расположились в походном порядке восемь соединений греческих союзников, а за ними тянулся длинный хвост пехоты из фракийцев и трибаллов, который заканчивался у царских шатров и обоза.
Царь поднял руку, и трубачи протрубили сигнал выступления. «Острие» двинулось шагом вслед за Александром, который повел его к передней границе лагеря. Послышался звук боевых рогов, и показалось необозримое, простертое бесконечным фронтом войско Великого Царя. Впереди несли сотни значков и знамен, и сквозь поднятые шагами облака пыли на солнце искрилось металлическое оружие, металлические блики вспыхивали, как молнии в грозовой туче.
Леоннат обвел взглядом персидский строй, протянувшийся от одного края равнины до другого, и сквозь зубы прошептал:
— Великий Зевс!
Но царь не выказывал ни малейших признаков восхищения этим грандиозным зрелищем. Он просто продолжал шагом ехать вперед, держа у груди поводья Букефала, который, изогнув мощную лоснящуюся шею, храпел и кусал удила.
Вслед за ним отряд за отрядом, под ритмичный звук барабанов, под грохот тяжелой поступи воинов и возбужденного конского топота, начало вытягиваться все войско. Слева открылось обширное ровное пространство, отделявшее македонян от персидского фронта, который надвигался неодолимо, и Александр начал заворачивать направо, к более пересеченной местности.
Но противник вскоре заметил это. Снова раздался мрачный и протяжный звук рогов, и весь левый фланг персов, скифская и бактрийская конница, начали охватывающий маневр. Александр подал сигнал, и конные агрианские лучники поскакали навстречу вражеским всадникам, выпуская плотные рои стрел. За ними устремились гетайры, чтобы сдержать врага, а царь, словно бы охваченный нечеловеческим спокойствием, продолжал ступать во главе «Острия». Только бывшие совсем рядом с Александром могли заметить нервное моргание его глаз и стекающие по вискам струйки пота.
Пришпорив коней, гетайры помчались в атаку и в короткое время преодолели пространство, отделявшее их от яростного вала азиатской конницы. Столкновение было страшным: сотни коней покатились по земле, сотни всадников с обеих сторон упали на землю в гущу тел и вскоре, несмотря на раны и ушибы, схватились друг с другом меж копыт коней, в удушающей пыли, среди ржания и воя. Густая пыль почти полностью накрыла сражение, так что невозможно было различить, что происходит и каков исход первого столкновения. Тем временем агриане, израсходовав стрелы, извлекли из ножен большие ножи и бросились в свалку, влекомые варварским бешенством. Они вступили в дикую рукопашную схватку с вражескими всадниками, которые, как призраки, носились в густой мгле.
В это время слева донеслись настойчивые звуки трубы, и Леоннат тронул Александра за плечо:
— Небесные боги! Смотри! Колесницы, колесницы с косами!
Но царь ничего не ответил.
Из центра персидского строя выдвинулись страшные машины и устремились на левый фланг македонян. Пердикка, сразу же их заметив, закричал:
— Внимание, воины, внимание! Будьте наготове!
Как раз в этот момент группа вражеских всадников с бешеной скоростью бросилась наперерез, волоча за собой вязанки хвороста. Они подняли прямо перед македонским строем непроницаемую завесу пыли, которая скрыла из виду колесницы. Лишь на короткие мгновения солнцу удавалось выхватывать зловещие блики серпов, вертящихся на ободьях колес или рассекающих воздух перед собой, где они торчали из самой колесницы и из края ярма запряженной квадриги.
Пердикка и другие командиры велели трубить тревогу, чтобы пехота была готова расступиться, как только колесницы вынырнут из пыли, но, когда это случилось, они уже находились на расстоянии меньше одного стадия и не все успели среагировать на сигналы, поднятые на высоких шестах командирами подразделений. В нескольких местах строй расступился, и колесницы промчались, не причинив никакого ущерба, но в других они врезались в ряды македонян, кося солдат, как колосья, так что по земле покатились срезанные головы с распахнутыми в удивлении глазами. Многим острые косы пришлись по ногам, причинив страшные увечья, других опрокинули бешено несущиеся кони, затоптали копытами и растерзали торчащими в днищах колесниц железными штырями. Но войско продолжало наступать вслед за Александром, сохраняя косой строй. Солдаты уже преодолели треть обширного участка, который Дарий разровнял, чтобы разогнать свои колесницы до бешеной скорости, и продолжали продвигаться размеренным шагом под бой барабанов.
Второй отряд агрианских лучников выпустил стрелы в направлении возниц и многих убил; другие верхом бросились преследовать прошедших сквозь строй, чтобы поразить их сзади дротиками. Тем временем на самом выдвинувшемся вперед участке тяжелая скифская и бактрийская конница во главе с Бессом, пользуясь большим численным превосходством, оттеснила гетайров и начала вытягиваться, широким маневром охватывая правый край, где наступали греческие союзники. Увидев конных варваров, несущихся на них во весь опор, греки закричали:
Алалалай!
Они сомкнули ряды, закрыв промежутки между воинами и образовав стену щитов и копий. В этой сумятице воя и конского ржания Александр пустил Букефала средней рысью, словно гарцуя по равнине. Рядом с ним знаменосец нес флаг Аргеадов, пламенно-красный с золотой звездой, сверкавшей на солнце, которое поднялось уже высоко над головами.
Слева донеслись новые сигналы рога, и новая лавина всадников бросилась вперед. Гирканцы и мидийцы помчались с бешеной скоростью, чтобы вклиниться между наступающими отрядами Пердикки и Мелеагра, которые с тыла поддерживали войска Симмия и Пармениона. Их вел Мазей! Он ворвался в ряды македонской пехоты и со всей силой, словно бурная река, хлынул в направлении лагеря. Парменион крикнул Кратеру:
— Останови их! Брось на них фессалийцев!
И Кратер повиновался. Он дал знак трубачам, чтобы те протрубили атаку двум подразделениям фессалийской конницы, которая наступала на левом фланге отдельно, как последний резерв. Фессалийцы пересекли путь отряду Мазея и ввязались в яростный бой, а Парменион послал отряд щитоносцев и штурмовиков им в подкрепление.
— Они хотят освободить царскую семью! — крикнул он. — Остановите их, во что бы то ни стало!
В этот момент край левого фланга представлял собою единое сплетение пехоты и коней, столкнувшихся в страшной, жестокой схватке, где каждый стремился нанести врагу сокрушительные раны, с дикой яростью сражаясь за каждую пядь земли.
Александр услышал отчаянный призыв трубы, но не обернулся. Посмотрев на знаменосца, он знаком велел ему поднять знамя еще выше, чтобы его видели все, после чего издал воинственный крик, такой мощный и резкий, что перекрыл рев сражения, бушевавшего со всех сторон. Букефал нетерпеливо забил копытом, заржал и, подгоняемый все более громкими криками царя, бросился в яростную атаку, колотя по земле бронзовыми копытами и храпя, как дикий зверь. А следом стремительным галопом пустилось «Острие». Пять отрядов гетайров выстроились клином позади «Острия», пожирая пространство равнины до того ее участка, где образовался промежуток между центром персидского войска и его правым флангом, совершавшим огибающий маневр.
— Вперед! — кричал Александр. — Вперед!
Обнажив меч, он бросился на отряд Бессмертных, прикрывавший квадригу Великого Царя. За ним устремилась македонская конница, сметая все на своем пути. Скорость и масса огромного Букефала, покрытого доспехом из жесткой кожи и бронзы, были таковы, что все, кого он хотя бы задевал, летели на землю. «Острие» во главе с царем совершило широкий маневр, а потом растянулось по фронту в четыре ряда с гетайрами на флангах и железной лавиной обрушилось на персидский центр.
Тем временем македонский лагерь был захвачен уже почти весь, и повсюду носились индийские и касситские всадники Мазея, предавая шатры огню, круша все и опустошая; другой отряд бросился туда, где оставались женщины. Фессалийцы сражались, как львы, но, уступая врагу числом, начали отступать, оттесняемые гирканцами. Парменион уже не мог контролировать ход битвы, и сам сражался с мечом и щитом, как юноша в расцвете сил. Внезапно увидев рядом вестового, он крикнул:
— Скачи! Скачи к Александру и скажи ему, что мы больше не можем держаться! Нам нужна помощь! Скорее! Отправляйся! Скачи!
И вестовой поскакал. Перепрыгивая через опрокинутые повозки и поваленные шесты шатров, он промчался сквозь гущу воинов, сошедшихся в жестокой схватке, и выбрался на свободное пространство в центре. Из последних сил он погнал коня туда, где в отдалении, посреди яростной битвы, виднелось развевающееся знамя Аргеадов.
Подвергшись удару с фланга и с тыла, Бессмертные Дария, сдерживавшие плотный натиск греческих наемников, проявили незаурядную доблесть, но вскоре были опрокинуты сокрушительной атакой отряда Александра. Рядом с царем Гефестион массивным ясеневым копьем пронзал всех, кто приближался к ним. Леоннат орудовал тяжелым топором, с которого текла кровь, а Птолемей и Лисимах яростно рубились мечом и фракийской саблей, прикрывая фланги и отражая долгую, ожесточенную контратаку греческих наемников и Бессмертных. Упорное сражение продолжалось, и никто не хотел уступать, думая, что это — последний случай отогнать врага и спасти свою жизнь.
На правом фланге конница Бесса натолкнулась на массу тяжелой греческой пехоты. Всадники продолжали снова и снова волнами бросаться в атаку, как морские валы на прибрежные скалы. Крайние отряды, обогнув греческий строй, встретились с фракийцами, защищавшими правую оконечность лагеря, большая часть которого уже находилась в руках врага.
На левом фланге положение сложилось действительно отчаянное. Парменион со своими людьми был окружен почти полностью, а Пердикка, Мелеагр и другие не могли прийти ему на помощь, так как получили приказ с копьями наперевес атаковать центр Дария с фронта, в то время как сам царь с конницей продолжал давить с фланга и тыла.
Мазей ворвался в шатер царицы-матери и, тяжело дыша, опустился перед ней на колени.
— Великая Царица-мать, — проговорил он, — скорее, следуй за мной! Теперь или никогда ты можешь обрести свободу и свое царское достоинство, вновь соединившись со своим царственным сыном!
Но царица не пошевелилась. Она продолжала неподвижно сидеть на троне.
— Я не могу пойти с тобой. Я слишком стара, чтобы скакать верхом. Оставь меня здесь дождаться исхода этого дня, какой будет угоден Ахура-Мазде. Ступай, не теряй времени! Если сможешь, забери царских наложниц и их детей.
Мазей снова взмолился:
— Заклинаю тебя, Великая Царица-мать, заклинаю!
Но все было тщетно. Царица не двинулась.
Чуть поодаль в другой шатер, где окончания этой страшной битвы ожидала Барсина, вбежал юный воин.
— Мама! Скорее! Я пришел освободить тебя! Скорее, беги! Возьми коня и скачи отсюда! Где мой брат?
— Этеокл! — воскликнула Барсина, потрясенная этой встречей. — Сын! — и бросилась вперед, чтобы обнять его.
Но в это мгновение путь ей преградили двое агриан с длинными ножами. У них был приказ: никто не должен прикасаться к женщине Александра. Обнажив меч своего отца, Этеокл попытался прогнать стражей, но он был всего лишь мальчик. Один из агриан выбил у него из руки меч, а другой поднял оружие, чтобы докончить дело и убить врага.
С громким криком Барсина метнулась вперед и, приняв в грудь клинок, рухнула на землю. Этеокл, раненный, бросился на врагов, замахнувшись кинжалом, но противник легко уклонился и с убийственной точностью нанес ответный удар. Мальчик упал на бездыханное тело матери.
Отважных фессалийцев уже вытеснили из лагеря, и войска Мазея строились, чтобы напасть с тыла на педзетеров и фракийцев, которые в центре сражения все еще сдерживали натиск конницы Бесса. Для Мазея битва была уже выиграна, но вдруг снова прозвучал сигнал трубы, а за ним крик тысяч воинов:
Алалалай!
По дороге от реки приближались три отряда недавно набранной фессалийской и македонской конницы, которые ночью перешли брод. Кратер, уже получивший ранение в руку и обессилевший от долгого сражения, едва заметив их, поднял повыше знамя и крикнул:
— Воины, ко мне!
Он схватил за поводья пробегавшую мимо лошадь без всадника, вскочил в седло и поскакал им навстречу. Растянувшись широким фронтом, они устремились в атаку. Кратер занял место во главе и повел их на мидийцев и гирканцев, на касситов и ассирийцев Мазея — и снова завязалась кровавая схватка.
Исход сражения начал склоняться в другую сторону. Александр все более угрожающе налетал на вражеский центр. Он уже видел Дария на его боевой колеснице. Македонский царь взял со скобы у седла дротик и прицелился. Под прикрытием товарищей Александр с силой метнул его, но промахнулся, однако поразил возницу, и тот упал на землю. Не чувствуя правящей руки, кони помчались к северному краю персидского лагеря, и Дарий вожжами хлестал их, гоня галопом прочь с поля боя. Бессмертные, невзирая на бегство своего царя, продолжали сражаться с невероятным ожесточением, прекрасно понимая, что для них все равно не будет спасения, и только к концу дня они в изнеможении начали отступать. Многие подразделения персидского войска, сбитые с толку известием о гибели Великого Царя, бросились бежать. Бесс же, как только получил известие об исчезновении Дария, немедленно прекратил атаки на греков с левого фланга. Опасаясь, что тиара Великого Царя попадет в руки македонян, он направил свою конницу вслед за бежавшим царем — возможно, чтобы защитить его, а возможно, чтобы при данном развитии событий самому решить его судьбу. А Мазей, еще недавно находившийся в одном шаге от победы, оказался зажат между дополнительными силами фессалийцев и македонян и перешедшими в контратаку отрядами Пердикки и Пармениона. Окруженный со всех сторон, он сдался.
ГЛАВА 14
Александр проехал верхом по руинам своего лагеря, среди пожарищ и опустошения, в едком дыму, стоявшем в тяжелом неподвижном воздухе. Он искал шатер Барсины и тут услышал плач маленького мальчика. Это был Фраат, который сторожил тела матери и брата, все еще сжимающих друг друга в последнем объятии.
Царь слез с коня и подошел, не веря увиденному.
— О боги! — воскликнул он с полными слез глазами. — За что, за что столь горькая судьба невинному созданию?
Он опустился на колени рядом с окровавленными телами, осторожно перевернул Этеокла на спину, стараясь уложить юношу получше, и накрыл его плащом. Он убрал с лица Барсины волосы, нежно погладил ее лоб. Ее глаза еще хранили блеск последних слез и словно глядели вдаль, высматривая какую-то удаленную точку на небе, до которой не доносилось ни шума битвы, ни криков ненависти и ужаса. Казалось, они следят за таинственной мечтой, которую погибшая лелеяла так долго и которая вдруг исчезла.
В нереальной тишине, опустившейся на разоренный и опустошенный лагерь, отчаянный плач мальчика казался душераздирающим. Александр повернулся к рыдавшему Фраату и сказал:
— Не плачь. Сын Мемнона Родосского не должен плакать. Наберись сил, мальчик, прояви мужество.
Но Фраат все повторял сквозь слезы:
— Почему умерла мама? Почему умер мой брат?
И на этот вопрос не мог ответить даже самый могущественный на земле царь. Он лишь спросил:
— Скажи мне, кто убил твою мать, Фраат, и я отомщу за нее. Скажи мне, прошу тебя.
Мальчик сквозь слезы попытался ответить, но не смог вымолвить больше ни слова и только указал на агриан, снимавших одежду с одного мертвого персидского всадника. И тогда Александр понял. Он с горечью осознал, что его собственный приказ защищать Барсину любой ценой стал причиной этого двойного убийства.
В это время мимо проходили носильщики из отряда педзетеров, собирая мертвых. Они приблизились к трупу Этеокла, чтобы забрать его. Царь отдал им юношу, а после отослал их. Он сам взял Барсину на руки и отнес в свой уцелевший от огня шатер. Там он положил ее на постель, собрал ее волосы, погладил по бледной щеке и поцеловал в бескровные губы. А потом закрыл ей глаза. Она все еще была прекрасна.
— Спи, любовь моя, — тихо прошептал Александр, после чего взял Фраата за руку и вышел.
Тем временем с поля боя вернулись солдаты, и лагерь огласился победными криками. Пленных отправляли в загон, в одну сторону — греков, в другую — варваров. Пришел Гефестион и обнял Александра.
— Я сожалею о ней и ее сыне: злая судьба, которой можно было бы избежать. Очевидно, Мазею поставили задачу прорвать наш левый фланг и освободить семью Дария. Еще чуть-чуть, и ему бы это удалось: Парменион ранен, Пердикка и Кратер — тоже, и у нас много погибших.
В это время мимо провели женщин из гарема Великого Царя вместе с их детьми и царицей-матерью, чтобы доставить в более спокойное место, где установили новый шатер. Там Гефестион увидел и Каллисфена, который следовал за двумя рабами, тащившими корзину папирусов и сундук его личных вещей.
Александр кивнул племяннику своего учителя, а потом вернулся к разговору с Гефестионом:
— Сколько погибло?
— Много. По меньшей мере, две тысячи, если не больше, но и персы понесли большие потери. Тысячи трупов разбросаны по равнине, других добивает наша конница, бросившаяся вдогонку.
— А что Дарий?
— Бежал вместе с Бессом. Вероятно, в Сузы или Персеполь, не знаю. Но мы захватили Мазея.
Александр на мгновение задумался.
— Есть известия об Артабазе?
— Кажется, среди знатных персидских пленников я видел и его. Он должен быть с Мазеем, если не ошибаюсь.
— Отведи меня к нему.
— Но, Александр, солдаты ждут тебя, чтобы воздать тебе почести и выслушать твое поздравление. Они сражались, как львы.
— Отведи меня к нему, Гефестион, и распорядись, чтобы кто-нибудь позаботился о них, — сказал царь, указывая на тела Барсины и Этеокла, которого носильщики укладывали рядом с матерью. Потом повернулся к Фраату: — Идем, мальчик.
Персидских начальников, сатрапов, полководцев и родственников Великого Царя привели к Евмену, находившемуся поодаль от поля боя, и поместили в большой шатер, где проводились военные советы. Секретарь также распорядился, чтобы войсковые врачи обязательно оказали им первую помощь. Хирурги были невероятно заняты: им приходилось заниматься сотнями раненых, взывавших о помощи с поля боя.
Когда вошел Александр, все склонили головы. Некоторые подходили к нему и склонялись так, что лбом касались земли, а правую руку подносили к губам, посылая ему поцелуи.
— Что это? — спросил Александр у Евмена.
— Персидский обычай — поцелуй для владыки. По-гречески мы называем это «проскинезис». Он означает, что все эти люди признают тебя своим законным монархом, Великим Царем, Царем Царей.
Александр ни на мгновение не отпускал руку мальчика, и все выискивал среди присутствующих одно лицо, а потом сказал:
— Этого мальчика зовут Фраат, он сын Мемнона Родосского и Барсины. Он потерял обоих родителей и своего брата Этеокла. — Произнеся эти слова, Александр увидел, как глаза одного пожилого знатного перса, державшегося в глубине шатра, наполнились слезами, и понял, что это и есть тот самый человек, которого он искал. — Надеюсь, — снова заговорил Александр, — что среди вас находится его дед, сатрап Артабаз, последний из оставшихся у него членов семьи, который может позаботиться о нем.
Старик вышел вперед и сказал по-персидски:
— Я — дед этого мальчика. Можешь отдать его мне, если ты мне веришь.
Не успел толмач перевести эти слова, как Александр наклонился к Фраату, который вытирал слезы рукавом хитона:
— Смотри, это твой дед. Ступай к нему.
Мальчик поглядел на царя блестящими от слез глазами, выделявшимися на чумазом лице, и сказал:
— Спасибо.
А потом бросился к старику, который упал на колени и прижал его к себе. Присутствующие онемели и расступились, освобождая проход. Какое-то время слышались лишь всхлипы мальчика и приглушенные рыдания старого сатрапа. Даже Александром овладело волнение, и он обернулся к Евмену:
— Пусть они изольют свою боль, а потом устрой похороны Барсины, как пожелает ее отец, и скажи ему, что он может вернуться к своим обязанностям правителя Памфилии. Он сохраняет все свои привилегии и собственность и может воспитывать мальчика так, как сочтет нужным.
Тут его внимание привлек другой персонаж — немолодой воин, все еще в боевых доспехах и со следами битвы на теле.
— Это Мазей, — шепнул царю на ухо Евмен. Александр тоже что-то шепнул в ответ и вышел.
Он вернулся в лагерь, где все войско, построившееся в три ряда, и командиры, кто пеший, а кто верхом, встретили его овациями. Парменион, тоже раненный, скомандовал салют, и гетайры разом подняли копья, а педзетеры вскинули вверх огромные сариссы, которые столкнулись в воздухе с сухим стуком. Здесь же, выпятив грудь, стояли и товарищи царя. Кратер и Пердикка щеголяли полученными на поле боя ранами.
Царь направил Букефала на небольшой пригорок и с этой природной сцены обратился к солдатам со словами благодарности и поздравлением.
— Воины! — крикнул он, и тут же установилась полная тишина, нарушаемая лишь потрескиванием последних пожаров. — Воины, еще лишь наступает вечер, а мы, как я и обещал, победили!
С одного конца лагеря до другого пронесся рев, и ритмические выкрики все громче и громче понеслись к самому небу:
Александрос! Александрос! Александрос!
— Я хочу поблагодарить наших друзей фессалийцев и тех македонских конников, которые подоспели с другого берега моря как раз вовремя, чтобы принять участие в сегодняшнем сражении и решить его исход. Мы ждали вас с нетерпением, воины!
Фессалийцы и македоняне из новых отрядов ответили овацией.
— Я также хочу поблагодарить наших союзников греков, которые выдержали удар справа. Я знаю, что это было нелегко!
Греки начали неистово колотить мечами в щиты.
— И теперь, — продолжил Александр, — вся Азия со всеми ее сокровищами и чудесами — наша. Нет предприятия, которое было бы нам не по плечу, нет чуда, которое мы не могли бы совершить, нет пределов, которых мы не сумели бы достичь. Я поведу вас на край света. Вы готовы следовать за мной, воины?
— Готовы, государь! — закричали они, потрясая копьями.
— Тогда выслушайте меня! Сейчас мы пойдем в Вавилон, чтобы увидеть самый великий и прекрасный город в мире. Там мы насладимся отдыхом после тяжких трудов. А потом… потом мы пойдем дальше и не остановимся, пока не доберемся до последнего Океана.
Налетел ветер. Всё усиливаясь, он поднял легкую пыль и волной пробежал по оперению шлемов. Казалось, этот ветер прилетел издалека и принес еле слышные, почти забытые голоса. Царь уловил ностальгию, охватившую его солдат в этот вечерний час, почуял он и тревогу, которую сам возбудил в них своими словами, и потому Александр добавил:
— Я понимаю вас. Я знаю, что вы покинули своих жен и детей и вам хочется повидать их, но Великий Царь побежден еще не полностью — он отступил в отдаленные края своей державы, возможно думая, что там мы не сумеем его настичь. Но он ошибается! Если кто-то из вас захочет вернуться домой, я не упрекну его, но если вы предпочитаете идти дальше, таких воинов я бесстрашно поведу до края земли. До завтра Евмен раздаст каждому по три тысячи серебряных драхм. Будет еще много других денег, когда мы захватим остальные столицы, набитые бесчисленными сокровищами. Мы пробудем в Вавилоне тридцать дней, и у вас будет время подумать. Потом Евмен устроит перекличку, чтобы мы могли узнать, кто вернется домой, а кто отправится со мной в новый поход. А сейчас можете разойтись, солдаты, и приготовиться к завтрашнему маршу.
Войско разразилось бурным продолжительным ликованием, а Александр пятками ударил Букефала и снова проскакал мимо строя. Он подал знак товарищам, и они поскакали вместе с ним к персидскому лагерю в сопровождении охраны из воинов «Острия» и штурмовиков-агриан.
Царский шатер был, если такое возможно, еще богаче и пышнее, чем Александр видел при Иссе, но число слуг в нем оказалось поменьше. В шатре нашли еще двести талантов в золотых и серебряных монетах, предназначенных для выплаты жалованья наемникам и недавно набранным войскам, и Евмен тут же провел инвентаризацию.
Царь уселся в одно из кресел и предложил сесть друзьям, после чего велел слугам принести чего-нибудь поесть.
Леоннат не сдержался и пробурчал:
— Ребята, даже не верится: этот день представлялся мне довольно страшным. Был момент, когда они прорвались на участке Пармениона, а Бесс тем временем обошел греков справа, и мы оказались между ними, как стадо идиотов.
— Ну и сюрприз ты припас! — вмешался Селевк. — Подкрепление из Македонии и Фессалии. Но как ты мог знать, что оно прибудет вовремя? Приди оно часом позже, и…
— И все мы сейчас лежали бы кучей, и вороны гадили бы нам на голову, ожидая, когда придет пора сожрать наши глаза и яйца, — продолжил за него Леоннат. — Они всегда начинают с этого, вы знаете?
— Прекрати! — прервал его Александр. — Не надо фиглярствовать. — И обратился к Селевку: — Антипатр все тщательно приготовил, и еще в Тире я знал о ежедневных передвижениях этого контингента. И не сомневался, что все получится, как задумано. Во всяком случае, скоро мы узнаем больше: мы кое-кого ждем.
— Ничего нельзя наверняка знать заранее, мой молодой блистательный бог, — прозвучал голос у входа в шатер. — Достаточно было предыдущей ночью в горах пройти дождю, и твои фессалийцы и македоняне остались бы чесать репу на другом берегу Тигра, а Дарий разнес бы вас в клочья.
— Заходи, Евмолп, — сказал Александр, узнав осведомителя. — Может быть, мне следовало довериться обещанию Мазея? Это его прорыв оказался самым опасным. Ему чуть было не удалось замкнуть окружение у нас в тылу.
— А почему бы не спросить у него самого? — предложил Евмолп, вводя с собой человека, которого Александр уже видел в шатре среди пленных. — Он здесь. Согласно твоим пожеланиям.
Сатрап направился прямо к монарху и поклонился так низко, что лбом коснулся земли, а потом приложил руки к губам, посылая ему поцелуи.
— Вижу, ты оказываешь мне почести, как своему царю, — заметил Александр, — но если бы я поверил твоим словам, сейчас меня бы глодали собаки и клевали птицы.
Сатрап выпрямился и спросил на безупречном греческом:
— Дозволено ответить, владыка?
— Разумеется. Вообще-то вам двоим лучше сесть, потому что вы должны мне кое-что объяснить.
ГЛАВА 15
Беседа продолжалась до глубокой ночи, и под конец Мазей признался, что хотел с честью выполнить данное Дарию обещание — доставить ему его семью. Для этого он провел столь мощную атаку на македонский левый фланг. Однако Мазей мог бы углубить свою атаку от лагеря до обозов, и тогда бы он внес беспорядок в строй фаланги, которая двигалась на вражеский центр, подставив Мазею тыл.
— И почему же ты этого не сделал? — спросил Александр.
— Потому что не смог, — вмешался Парменион. — Мы еще сражались, а он не мог идти дальше, не уничтожив нас.
— Возможно, и так, но это бесконечная дискуссия. Так что просто ответь на мой вопрос, Мазей.
— Я вавилонянин, Великий Царь, а вавилоняне славятся на весь мир искусством читать послания, начертанные на небе созвездиями. Наши маги видели, как на небе среди других сияет твоя звезда — она совершенно затмила звезду Дария. Я не мог противиться небесным знамениям. Наш верховный бог Мардук подтвердил их своим оракулом в храме Эсагилы в Вавилоне.
— Не уверен, что до конца понимаю твое объяснение, — сказал Александр, — но из всего, что знаю и видел, могу сказать одно: ты с большой доблестью и рвением сражался за своего царя и его семью. И я собираюсь наградить тебя за это, а не за темные пророчества, которые в последний момент остановили атаку твоей конницы. Поэтому ты остаешься сатрапом Вавилонии и получишь в помощь македонский гарнизон, который я оставлю, чтобы гарантировать уважение к твоей власти.
Это был действенный способ сохранить хорошего местного администратора под надзором македонской военной власти и в то же время проявить великодушие. Евмен кивком выразил одобрение.
Мазей склонился еще ниже.
— Означает ли это, что я свободен и могу вернуться в Вавилон?
— Да, возвращайся в свой дворец сатрапа. Прямо сейчас, если хочешь, и со своим личным эскортом.
Мазей выпрямился и, не поднимая глаз, проговорил:
— Нет ничего, отныне и впредь, что вынудило бы меня ослабить мою верность тебе, в чем клянусь тебе богами и моей честью.
— Благодарю тебя, Мазей. Теперь всем пора отдохнуть: день был очень тяжелый, а завтра нам предстоит отдать должное нашим павшим товарищам.
Все встали и верхом отправились в лагерь. Александр же взял под уздцы Букефала и пошел пешком. Евмолп из Сол держался сзади.
— Ты не возражаешь, если часть пути я пройду с тобой?
— Напротив. После такого кровопролитного дня очень хорошо прогуляться тихим вечером.
— Я знаю про Барсину и ее мальчика. Мне бесконечно жаль. Я предупреждал тебя, что он в лагере Дария, так как боялся каких-нибудь сумасбродств.
— Мальчишки всегда мальчишки, — ответил Александр. В лунном свете его бледное лицо, обрамленное длинными волосами, казалось мальчишеским больше, чем когда-либо. — Он поступил так, как считал правильным. Он погиб как герой в расцвете юности; мы не должны сокрушаться об этом. Ни один человек, оставшись в живых, не может считать, что ему повезло, поскольку не знает, что ждет его завтра. Грядущее может оказаться гораздо хуже смерти: отвратительные болезни, постыдные увечья, рабство, пытки…
Евмолп шел сзади, соразмеряя шаги с медленной поступью Букефала. Александр провел рукой по гриве коня.
— Бедный Букефал, даже не было времени помыть тебя и почистить.
— Возможно, тебе просто не хочется разлучаться с другом, который помог тебе завоевать весь мир.
— Верно, — согласился Александр. И больше ничего не сказал.
В это время издали донеслись протяжные стоны, сопровождавшиеся плачем флейт, и вдали показалось мелькание факелов, как будто там двигалась какая-то процессия. Все поняв, царь по кратчайшему пути через пустынную равнину направился к кортежу, широкой дугой двигавшемуся в направлении пригорка, где был сооружен каменный курган. Евмолп остановился и пробормотал:
— Иди, мой мальчик, проводи ее в последнее пристанище, — а сам удалился, торопливо заковыляв к македонскому лагерю.
С другой стороны, из-за шатра Дария, послышались хриплые крики стервятников, собиравшихся на пир на бескрайнем поле смерти.
Кортеж достиг вершины холма, и могильщики положили носилки на приготовленный каменный курган — «башню молчания». Они прислонили к углам маленького сооружения четыре курильницы, распространившие легкое голубоватое облачко фимиама, и ушли, а Александр, до этого момента остававшийся в стороне, приблизился к телу Барсины. Набальзамированное и надушенное благовониями, оно сохранило черты умершей, и томно закрытые глаза создавали впечатление, будто она спит. Ее переодели в белые одежды и голубую епитрахиль, а на голову возложили венок из мелких желтых цветов, что растут в пустыне. Александра, стоявшего перед ней в одиночестве, охватили воспоминания. Он снова увидел ее улыбку и ее слезы, снова ощутил тепло ее тела, ласки, поцелуи. Казалось невозможным, что все кончилось и это тело, столь прекрасное, лишилось живого дыхания и уже подверглось разложению. Он снял с волос золотую диадему и вложил ей в руки, потом в последний раз поцеловал ее.
— Прощай, любовь моя. Я никогда тебя не забуду.
В этом совершенном одиночестве, когда шум великой битвы затих, воспоминания о ее нежном голосе, о столь любимом облике, теперь ушедшем навсегда, вызвали в нем чувство глубокой тоски. Предавшись бесконечной печали, Александр упал на колени и приложил голову к камням кургана, плача и повторяя ее имя.
Наконец царь поднялся и посмотрел на Барсину в последний раз. Она была прекрасна, и мысль о том, что это тело будет растерзано бездомными собаками и хищными птицами, вызывала протест. Вернувшись в лагерь, он велел Евмену возвести погребальное святилище из тесаных камней, чтобы защитить ее останки. И только увидев, что строительство завершено, согласился выступить в поход.
ГЛАВА 16
Они покинули поле боя при Гавгамелах, когда похоронили всех павших в бою греческих и македонских солдат, так как в этом месте не нашлось достаточно дров, чтобы возвести погребальные костры. Зной и большое число разлагающихся трупов погибших персов распространили над равниной заразный смрад, и многие воины заболели таинственной лихорадкой, от которой не находилось никакого средства.
Войско вернулось к броду через Тигр и, переправившись на западный берег, двинулось к Вавилону.
К четвертому привалу, пройдя местность, называемую Адиабеной, один из старших стражников Мазея подошел к Александру и объявил, что мог бы проводить его к месту, где наблюдается необычайное явление — фонтан нефти!
— Нефти? — переспросил царь.
Ему вспомнился день в Миезе, когда Аристотель жег нефть, присланную ему во фляге из Азии. Александр не мог забыть тот тяжелый отвратительный запах. Ему также вспомнилось, как жители Тира пустили ночью на осадные машины горящую баржу и как еще целый день после этого в воздухе стоял тот же запах. Тем не менее, царь пошел за этим человеком, и тот провел его к впадине, где горел вечный огонь, поднимая к небу густой столб дыма. Все вокруг заливала черная жирная лужа, похожая на болото со странными радужными разводами, и от нее исходила ужасная вонь. Каллисфен был уже на месте и наливал жидкость в стеклянные бутылочки.
— Хочу послать дяде Аристотелю для его опытов.
— Но что это?
— Кто его знает: вкус такой тошнотворный, что трудно и вообразить себе, а вид и запах соответствующие. Возможно, это что-то вроде сока, экссудата этой земли, что живет под чересчур жгучими лучами солнца. Во всяком случае, как тебе известно, это вещество обладает способностью гореть, выделяя огромное тепло. Смотри!
В это время несколько солдат по приказу своего командира наполнили мехи нефтью и разлили ее двумя длинными полосами вдоль дороги в лагерь. Потом командир взял у одного из своих людей горящую лампу и поднес пламя к концам полос. Тут же поднялись две стены огня и со скоростью мысли распространились вдоль дороги до лагерных ворот. Все только рты разинули. Странное вещество еще долго продолжало гореть, подняв две густые зловонные дымовые завесы и распространяя невыносимый жар.
Александру тут же захотелось принять ванну, чтобы избавиться от этого запаха, который проник даже в волосы. Пока Лептина его мыла, он завел разговор с Гефестионом, Птолемеем, Каллисфеном, своим новым массажистом Афинофаном, прибывшим из Афин, и его помощником, юношей по имени Стефан.
— Насколько я могу судить из увиденного, — сказал царь, — эту нефть можно использовать в качестве оружия. Представляете эффект, если ее швырнуть на врага!
— Я слышал, что нефть для этого не годится, — вмешался массажист, в юности посетивший несколько уроков философии. — Ведь она производит совершенно необычный огонь. Огонь, как всем известно, — это элемент эфирный, небесный, который, проходя через воздух, источает тепло и свет. А нефть появляется из земли и горит только в соприкосновении с совершенно сухой землей пустыни или же с влажной и жирной, как на юге Вавилонии. На субстанции промежуточной влажности, такой как человек, она никогда не загорится.
— Эта гипотеза представляется мне несколько поспешной, — возразил Каллисфен. — Умственные категории трудно приложимы к отдельно взятым физическим проявлениям, которые зависят от множества случайных составляющих, не выражаемых количественно, и кроме того…
— Я уверен в том, что говорю, — перебил его Афинофан, в то время как Александр вылез из ванны, и Лептина стала вытирать его льняным полотном, — и мой помощник Стефан, который так же, как и я, слушал уроки моего учителя софиста Гермиппа, поддерживает этот тезис.
— До такой степени, что я готов сам продемонстрировать этот опыт прямо здесь, у всех на глазах! — воскликнул юноша, возможно просто для того, чтобы заслужить признательность Александра.
— Мне не кажется, что стоит пробовать, — сказал царь. — Лучше оставить подобный вопрос без ответа.
Но юноша настаивал, и его поддержал Афинофан, продолжавший длинно и нудно развивать философские теории. Сказано — сделано: слугу послали за нефтью, и молодой Стефан начал с большой осторожностью умащать себя ею, словно это было оливковое масло.
— А теперь, — объявил Афинофан, беря лампу, — я вам покажу, что на человеческом теле, то есть на субстанции промежуточной влажности, нефть не загорится.
С этими словами он поднес пламя к телу юноши.
Никто и глазом моргнуть не успел, как Стефан превратился в сплошной огненный шар страшной силы и жара. Несчастный отчаянно закричал. Все схватили ведра и прочие сосуды и стали поливать его водой из ванны, которая, к счастью, была под рукой, но погасить пламя оказалось нелегко.
Александр велел немедленно позвать Филиппа, чтобы тот позаботился о юноше, употребив свои мази от ожогов. Ценой больших усилий удалось спасти ему жизнь, но бедняга остался изуродован до конца своих дней и всегда страдал слабым здоровьем.
Каллисфен посоветовал больше не заниматься этим зловонным веществом, прежде чем его дядя Аристотель не изучит его основательно и не откроет, каковы на самом деле его свойства.
На следующий день все двинулись в путь.
По мере продвижения степь постепенно уступала место все более тучным и плодородным землям, орошаемым десятками каналов, связывавших берега Тигра и Евфрата. Местность усеивали многочисленные деревни, где крестьяне уже начинали готовить землю к следующему севу.
Когда войско останавливалось, местные правители приносили в дар местные яства — в частности, приятную на вкус и освежающую пальмовую сердцевину. Пальмовое же вино, наоборот, оставляло тяжесть в желудке, а главное — головную боль, но большого выбора не было: обычное вино, даже лучших сортов, в этом климате не сохранялось, а вода часто была не слишком хороша для питья. Зато эти края изобиловали превосходными, исключительно вкусными финиками и гранатами.
Встречались обширные участки, затопленные водой. Крестьяне сами затапливали их, возводя на каналах запруды, и такая практика показалась Александру довольно странной. Каллисфен разузнал об этом подробнее и сообщил, что таким способом они вымывают из земли соль, которая образуется на поверхности из-за страшной жары. Так земля сохраняет свое плодородие.
— Они искусственно добиваются того, что Египет получает естественным путем от разливов Нила, — заметил Птолемей. — Наверное, это особенность жарких краев. Однако удивительно, что ни в Тигре, ни в Евфрате не водятся крокодилы. Наверное, эти животные могут жить только в водах Нила.
Неарх не согласился:
— Вовсе нет. Я слышал кое-что от одного человека из Массалии [8], который плавал за Геркулесовы столбы вдоль африканского побережья до устья одной реки — туземцы называли ее Хрет. Эта река была полна крокодилов.
— За Геркулесовы столбы… — вздохнул Александр. — Человеческая жизнь слишком коротка, чтобы увидеть весь мир!
И ему подумалось об Александре Эпирском и его неотомщенной смерти в землях Гесперии.
В последние дни пути их поход все больше превращался в парад, поскольку вдоль дороги толпами собирались жители, чтобы посмотреть на своего нового царя и поприветствовать его криками. Но все возможные чудеса и ожидания превзошло грандиозное зрелище, когда на горизонте, сверкая на солнце, поднялись стены, башни, пирамиды и сады самого знаменитого города в мире — Вавилона!
ГЛАВА 17
Город сам вышел навстречу молодому завоевателю, словно дивясь на сказочное явление. На десять стадиев вдоль дороги столпились тысячи юношей и девушек, которые бросали цветы перед конем Александра. Величественные ворота Иштар в сто футов высотой, украшенные эмалевыми изразцами с фигурами драконов и крылатых быков, с каждым шагом царя и его солдат, облаченных в лучшие доспехи, нависали как будто все более внушительно.
На башнях по обеим сторонам от ворот и на огромных стенах, таких толстых, что позволяли одновременно проехать двум квадригам, толпился народ, стремясь посмотреть на нового царя, который менее чем за два года три раза разбил персов и срыл до основания десятки хорошо укрепленных крепостей.
Жрецы и знать встретили Александра и сопроводили в святилище, дабы принести жертвы богу Мардуку, который обитал на вершине Эсагилы, грандиозного ступенчатого храма, возвышавшегося своей громадой посреди широкой священной площади. По ступеням, что вели с площадки на площадку, Александр вместе со своими полководцами на глазах у необъятной толпы поднялся до самого верха, где стояло золоченое ложе бога, его земная обитель.
С вершины этого сооружения царь смог обозреть впечатляющий вид величественной метрополии. Внизу простирался Вавилон со всеми своими чудесами и бесконечным поясом стен, тройным бастионом защищавших царский дворец и «летний дворец», расположенный в северной части города. Отсюда было видно, как курится фимиам в святилищах, усеивавших обширное городское пространство. Были хорошо различимы пересекавшиеся под прямым углом широкие прямые улицы и все главные магистрали, мощенные терракотовыми плитками. Каждая из главных улиц начиналась и заканчивалась у одних из двадцати пяти городских ворот с колоссальными створками, обитыми бронзой, золотом и серебром.
Город разделяла пополам река Евфрат; она сверкала золотой лентой от одной оконечности стен до другой, а по берегам ее зеленели сады со всевозможными экзотическими деревьями, населенные стаями разноцветных птиц.
За рекой, соединенные с западной частью города массивными каменными мостами, виднелись царские дворцы, чудесно отделанные керамическими изразцами с разноцветными эмалями, которые сияли под солнцем изображениями чудесных существ, сказочных пейзажей и сцен из древней мифологии Междуречья.
Поодаль от царского дворца возвышался великолепнейший комплекс во всей метрополии, считавшийся одним из самых впечатляющих чудес Ойкумены, — висячие сады.
Типично персидское понятие парадиза воплотилось в совершенно невыразительном месте с самым непригодным для жизни климатом, преобразив его в тенистый, усаженный деревьями парк. Все здесь было искусственным, все создано трудами изобретательных человеческих рук. Рассказывают, поведали Александру жрецы, что одна юная эламская царица, вышедшая замуж за Навуходоносора, страдала от тоски по своим родным лесистым горам, и тогда царь повелел создать для нее горы, поросшие тенистым лесом и прекрасными цветами. И вот архитекторы возвели ряд платформ одну над другой, и по мере возвышения платформы все уменьшались. Каждая из них устанавливалась на сотнях массивных каменных столбов, укрепленных в асфальте и соединенных изогнутыми арками, и те тоже укреплялись асфальтом, а на платформы наносили земли в таком количестве, чтобы дать возможность укорениться кустам и высоким деревьям, куда запустили стаи дневных и ночных птиц, которые начали вить там гнезда. Иных экзотических птиц, таких как павлины и фазаны, привезли с Кавказа и из далекой Индии. В садах были созданы ручьи и фонтаны с водой, которую хитроумные механизмы постоянно поднимали из Евфрата, с журчанием бежавшего у подножия этого чуда.
С виду это был холм, заросший пышным лесом, но там и сям проглядывали признаки человеческого труда — террасы и парапеты, скрытые среди вьющихся и ниспадающих растений, полных цветов и фруктов.
Александра взволновала мысль о том, что подобное чудо было создано по воле великого царя, чтобы развеять печаль своей царицы, рожденной в горных лесистых краях Элама. Ему подумалось о Барсине, заснувшей навеки на своей «башне молчания» посреди знойной пустыни Гавгамел.
— Небесные боги! — прошептал он, обведя взглядом сад. — Какое чудо!
И царские друзья изумленно взирали на город, тысячи лет считавшийся сердцем мира и «воротами бога», что и означало на местном языке само его название «Баб-Эль». Среди жилых кварталов, строений и дворцов открывались широкие зеленые пространства — огороды и сады, где спели всевозможные плоды, а по реке сновали десятки судов.
Некоторые, сплетенные из ивовых прутьев, под большим квадратным парусом, приплывали из дельты, где стояли самые древние города месопотамских мифов: Ур, Киш, Лагаш. Другие, круглые как корзины, обтянутые дубленой кожей, приходили с севера и привозили дары отдаленных земель — зеленой Армении, богатой дичью, лесом и драгоценными камнями.
Небо, вода и земля внутри городских стен, внушительного венка башен, способствовали созданию мира совершенной гармонии. И все же глаз Александра искал другого чуда, о котором он еще в детстве слышал от своего учителя Леонида, — Вавилонской башни, горы из камня и асфальта высотой в триста футов, на строительстве которой работали все народы земли.
Жрец указал на обширный, заросший сорной травой пустырь, совершенно заброшенный:
— Вон там стояла священная Этеменанки, башня, касавшаяся неба. Ее разрушила злоба персов после восстания, поднятого в царствование Ксеркса.
— Он же разрушил и наши храмы, когда вторгся в Грецию, — сказал Александр. — Но я выстрою ее заново, когда снова вернусь в Вавилон.
В тот же вечер царь устроил шумное пиршество. Были тысячи приглашенных. Подавались самые изысканные яства, самые пьянящие вина, перед пирующими танцевали самые прекрасные девушки на всем Востоке: индийские, кавказские, вавилонские, арабские, гирканские, сирийские, еврейские.
Тридцать дней прошли в пирах, оргиях, кутежах. Солдаты, победившие на Гранике, при Иссе и Гавгамелах, взявшие Милет и Галикарнас, Тир и Газу и собиравшиеся в новый суровый поход, ни в чем не знали отказа.
Однажды вечером, когда Александр удалился в «летний дворец», чтобы насладиться прохладой, Пердикка попросил принять его.
Повязка на его груди еще скрывала рану, полученную на поле боя при Гавгамелах, а в глазах светилось странное выражение опьянения и печали одновременно.
И потому царь спросил его:
— Как твое здоровье, Пердикка?
— Хорошо, Александр.
— Ты хотел поговорить со мной.
— Да.
— И что же ты хочешь мне сказать?
— Твоя сестра, царица Клеопатра, уже больше года как овдовела.
— К сожалению.
— Я люблю ее. И всегда любил.
— Я знаю.
— Откуда? — с явным смущением спросил Пердикка.
— Знаю, и все.
— Я пришел попросить ее в жены. Александр ничего не ответил.
— Слишком дерзкая просьба, да? — спросил Пердикка со слезами в глазах. — Но я бы никогда не набрался мужества поговорить с тобой, если бы не выпил.
— «Чашу Геракла»?
— «Чашу Геракла», — кивнул Пердикка.
— Дело в том, что…
— Что? — спросил Пердикка с жалким испугом и застыл, разинув рот, в ожидании ответа.
— Что ее просил в жены и Птолемей.
— Ах!
— И Селевк.
— Оба… А больше никто?
— Никто, кроме Лисимаха, Гефестиона и… разумеется, тебя.
— А Парменион случаем не просил?
— Нет, он не просил.
— И то хорошо. А то бы у меня не осталось никакой надежды.
— Если хочешь правду, ты единственный из просивших, кто хочет жениться на любимой женщине, а не на сестре Александра, но этого недостаточно. Прошло слишком мало времени со смерти Александра Эпирского. В любом случае человек, который женится на ней, должен проявить себя самым достойным, готовым на любой риск, на любую жертву, перенести невообразимые лишения и страдания.
Пердикка достаточно протрезвел, чтобы почувствовать, что сейчас заплачет, и спросил:
— Но разве я не пошел на все это ради тебя?
— Не больше, чем твои товарищи. Но самое трудное еще впереди, друг мой. Через двадцать дней мы снова выступаем в поход — завоевывать эту державу и преследовать Дария до самой далекой провинции; а потом вернемся в этот город. И здесь я решу, кто из вас самый достойный. А сейчас иди, возьми какую-нибудь прекрасную девушку, коих здесь так много, и утешься с ней, ибо жизнь коротка.
Пердикка удалился, а Александр повернулся к широкому, заросшему цветами балкону, выходившему на город, на играющую тысячами лучей великую реку и сверкающее звездами небо.
ГЛАВА 18
Во время своего пребывания в Вавилоне Александр посвятил себя организации новых провинций и нового управления ими, а также корректировке планов на следующий год. Однажды вечером он созвал товарищей и весь военный совет в «летний дворец», где невыносимый зной немного смягчался дуновениями ветра, особенно на закате.
— Я хочу поделиться своими планами, — начал царь. — В первый год нашего похода я решил захватить все порты, чтобы отсечь персидский флот от нашего моря и воспрепятствовать его встречному вторжению в Македонию. Теперь мы займем все столицы Персидской державы, дабы стало ясно, что царствование Дария закончилось и все его владения теперь в наших руках. Вавилон уже наш; на очереди Сузы, Экбатаны, Пасаргады и Персеполь. Дарию ничего не останется, как бежать в самые отдаленные восточные области, но мы последуем за ним и туда. Есть еще одна причина для захвата столиц — деньги. Все сокровища Дария собраны в столицах. С этим безграничным богатством мы сможем помочь Антипатру, которому приходится в Греции сражаться со спартанцами. Кроме того, он ежедневно видится с моей матерью, что, возможно, еще тяжелее.
Все рассмеялись, и даже Перитас, тоже присутствовавший на совете, шумно залаял.
— Кроме того, мы сможем еще набрать наемников и экипировать новых призывников, которые должны скоро прибыть. Парменион с греческими союзниками, тремя фалангами, отрядом гетайров, обозами и осадными машинами отправится на север. Он дойдет до царской дороги и оттуда двинется на Персеполь. А мы с остальным войском поднимемся в горы, чтобы занять перевалы и очистить территорию от персидских гарнизонов. Будет нелегко: в горах уже выпал снег. Поэтому развлекайтесь, пока возможно, и набирайтесь сил, так как дело предстоит нешуточное.
Когда все разошлись, к царю явился Евмолп из Сол, и Александр поскорее схватил зарычавшего Перитаса за ошейник.
— Я озаботился принять меры согласно твоим пожеланиям, мой государь, — начал Евмолп. — Я послал моего человека в Сузы проследить за тем, чтобы царские сокровища не улетучились. Насколько мне известно, речь идет о тридцати тысячах талантов серебра в монетах и слитках, а, кроме того, обо всех эти драгоценностях, что украшают дворец. Юношу, которого я послал, зовут Аристоксен. Он знает свое дело. Если ему понадобится связаться с тобой, он воспользуется обычным паролем.
— Дрозд на вертеле. — Александр покачал головой. — Мне кажется, пришло время его сменить. Теперь уже нет таких страшных опасностей, чтобы оставалась необходимость в столь дурацком пароле.
— Поздно, мой государь. Аристоксен несколько дней как в пути. Оставим на следующий раз.
Александр вздохнул. Ему пришлось удерживать Перитаса, пока Евмолп бесшумной поступью удалялся по извилистым коридорам дворца.
Незадолго до отбытия Евмен забрал из царских сундуков деньги, но сокровища оставил под присмотром Гарпала, одного из своих сотрудников, что приехал из Македонии. Гарпал не мог сражаться, так как был хром, но за время похода он заслужил уважение своими способностями к ведению хозяйства. Кроме того, Александр хорошо его знал, поскольку мальчиком тот часто заходил во дворец в Пелле, хотя из-за своего увечья никогда не принимал участия в забавах царевича и его друзей.
— Гарпал должен справиться, — сказал царь. — Мне кажется, он знает свое дело.
— Я тоже так думаю, — ответил Евмен. — Он всегда был молодцом.
Они выступили к концу осени и поднялись по Паситигрису, притоку Тигра, стекавшему с Эламских гор. Александр оставил Мазея сатрапом Вавилонии и придал ему македонский гарнизон, чтобы обеспечить безопасность провинции и спокойствие в ней. Здешний пейзаж отличался необычайной красотой; местность изобиловала зеленеющими лугами, на которых паслись отары овец, стада коров и табуны коней. Затем луга сменились садами, где зрели всевозможные фрукты, в том числе чудесные персики с бархатистой кожицей и сочной мякотью. К сожалению, этого фрукта отведать не удалось, так как был не сезон, но зато не было недостатка в высушенных на солнце плодах — фигах и сливах.
Через шесть дней похода вдали показались Сузы, и Александру вспомнилось, как вдохновенно описывал их персидский гость, много лет назад прибывший с дипломатическим визитом в Пеллу. Город стоял на равнинной местности, но за ним виднелась цепь Эламских гор. Горные вершины уже покрывал снег, а склоны зеленели еловыми и кедровыми лесами. Город был необозрим. Его окружала стена с башнями, украшенными блестящими изразцами, а крепостные зубцы сияли накладками из золоченой бронзы и серебра. Как только войско начало приближаться, ворота отворились, и показался отряд всадников в великолепных нарядах. Всадники сопровождали вельможу с мягкой митрой на голове и акинаком на боку.
— Это наверняка Абулит, — сказал Александру Евмен. — Он сатрап Сузианы. Собирается сдаться. Мне сообщил об этом Аристоксен, человек Евмолпа. Кажется, сокровища еще целы… или почти целы.
Приблизившись, сатрап слез с коня и согнул перед Александром спину в традиционном раболепии.
— Город Сузы встречает тебя миром. Город Сузы открыл ворота человеку, которого Ахура-Мазда избрал преемником Кира Великого.
Александр грациозно наклонил голову и жестом попросил вельможу снова сесть на коня и ехать рядом.
— Не нравятся мне эти варвары, — сказал Леоннат Селевку. — Ты посмотри, что делается: они сдаются без боя, предают своего господина, а Александр оставляет их на прежних постах. Они побеждены, но что для них изменилось? Да ничего, в то время как мы продолжаем насиловать себе задницу, день и ночь, не слезая с коня. Кончится когда-нибудь эта проклятая страна?
— Александр прав, — ответил Селевк. — Он оставляет на своих постах прежних правителей, и у народа не создается впечатления, что ими правят чужие. Но сборщики налогов и военачальники — македоняне. Все совсем не так, поверь мне. А нам от этого разве не лучше? Города открывают перед нами ворота, и с тех пор, как мы покинули побережье, нам больше не приходится собирать наши стенобитные машины. Или тебе хочется харкать кровью, как под Галикарнасом и Тиром?
— Да нет, но…
— Так будь доволен.
— Да, но… Не нравится мне, что эти варвары становятся близки к Александру. Они обедают с ним, и все такое… Не нравится мне это, вот и все.
— Успокойся. Александр знает, что делает.
Город Сузы, необъятный, почти трехтысячелетний, раскинулся на четырех четырехугольных холмах. На одном из них возвышался царский дворец. Как раз в это время туда упали лучи заходящего солнца. Перед входом располагался величественный портик, который поддерживали огромные каменные колонны с капителями в форме крылатых быков. За портиком следовал зал, застеленный великолепными коврами. Потолок здесь держался на других колоннах, деревянных, из кедра, расписанных красной и желтой краской. Пройдя по коридору в другой зал, Александр попал в ападану, огромный зал для приемов, и все вельможи, евнухи и царедворцы расступились и выстроились вдоль стен громадного помещения, склонив головы почти до земли.
Царь в сопровождении товарищей и военачальников приблизился к трону Ахеменидов и собрался сесть, но ощутил смущение: поскольку роста он был не очень высокого, его ноги не доставали до земли и болтались не вполне царственно. Леоннат, обладавший военной чувствительностью к такого рода вещам, увидел рядом какую-то кедровую штуковину на четырех ножках и пододвинул ее так, что Александр смог поставить ноги сверху, как на скамеечку.
— Друзья, — начал речь царь, — то, что совсем недавно казалось неосуществимой мечтой, теперь сбылось. Две величайшие столицы в мире, Вавилон и Сузы, в наших руках, а скоро мы завладеем и остальными.
Но, едва начав говорить, он прервался, так как услышал где-то рядом приглушенные рыдания. Царь огляделся, и, поскольку весь зал замер, в полной тишине рыдания зазвучали еще более отчетливо. Это плакал один из дворцовых евнухов. Он всхлипывал, прижав голову к стене. Все расступились, понимая, что царь хочет его видеть, и несчастный остался один под взглядом сидящего на троне монарха.
— Почему ты плачешь? — спросил Александр. Человек закрыл лицо руками, вытирая слезы.
— Не бойся, можешь говорить свободно.
— Эти кастраты, — пробормотал Леоннат на ухо Селевку, — плачут по всякому поводу, как женщины, но, говорят, в постели бойчее женщин.
— Все зависит от конкретного кастрата, — бесстрастно ответил Селевк. — Этот, например, кажется мне так себе.
— Не бойся, говори, — настаивал Александр.
Тогда евнух подошел ближе, и стало видно, что он, не отрывая глаз, смотрит на табурет под ногами царя.
— Я евнух, — начал он, — и по своей натуре предан своему хозяину, кто бы он ни был. Раньше я хранил верность моему господину, царю Дарию, а теперь верен тебе, моему новому царю. И все же я не могу не плакать при мысли, как быстро отворачивается от великих удача. То, чем ты пользуешься, как скамеечкой, — и Александр начал понимать причину этого плача, — было столом Дария, за которым Великий Царь вкушал яства, и потому это был для нас предмет священный, достойный поклонения. А теперь ты поставил на него ноги…
Александр покраснел и начал снимать ноги с подставки, чувствуя, что совершил акт непростительного неуважения, но присутствовавший тут же Аристандр остановил его:
— Не отрывай ног от этой скамьи, государь. Не кажется ли тебе, что в этом с виду случайном событии кроется послание? Боги пожелали этого, дабы все увидели, что мощь Персидской державы лежит под твоими ногами.
И потому обеденный столик Дария остался на прежнем месте.
После окончания аудиенции в тронном зале все разбрелись по необъятному дворцу, осматривая его. Распорядитель двора, тоже евнух, провел Александра в царский гарем, где содержались десятки очаровательных девушек в национальных нарядах. Они собрались, смущенно хихикая. Среди них были и смуглые, и голубоглазые с белой кожей, была даже одна эфиопка, и в своей величавой красоте она показалась царю бронзовой статуей работы Лисиппа.
— Если хочешь развлечься с ними, — сказал евнух, — они будут счастливы принять тебя хоть сегодня же вечером.
— Поблагодари их от меня и скажи, что скоро я приду насладиться их обществом.
Потом Александр отправился в другие комнаты обширного дворца и вдруг заметил нескольких своих друзей, столпившихся у какого-то монумента и осматривающих его. Он тоже остановился посмотреть. Это была бронзовая скульптурная группа, представлявшая собой двоих юношей, выставивших кинжалы, словно поражая кого-то.
— Это Гармодий и Аристогитон, — объяснил Птолемей. — Смотри: памятник убийцам тирана Гиппарха, брата Гиппия, друга персов и предателя эллинского дела. Царь Ксеркс захватил этот памятник в Афинах в качестве военной добычи перед тем, как сжечь город. Он стоит здесь полтораста лет как свидетельство былого унижения греков.
— Я слышал, что эти двое убили Гиппарха не ради освобождения города от тирана, а из-за ревности к одному красивому юноше, в которого были влюблены и Гармодий, и Гиппарх, — вмешался Леоннат.
— Это ничего не меняет, — заметил Каллисфен, восхищенно созерцавший знаменитый памятник. — Как бы то ни было, эти двое принесли в Афины демократию.
Эти слова вызвали у присутствующих чувство неловкости: некстати вспомнились пламенные речи Демосфена в защиту афинской свободы от «тирана» Филиппа, и у всех создалось ощущение, что и сам Александр с каждым днем все больше забывает уроки о демократии. Никакие послания учителя (а письма от Аристотеля приходили довольно регулярно) не помогали — душа царя все больше обращалась к пленившему его великодержавному великолепию.
— Распорядитесь, чтобы этот памятник поскорее отправили в Афины как мой личный подарок, — велел Александр, уловив в воздухе то, о чем все подумали, но что не посмели высказать вслух. — Надеюсь, афиняне поймут: македонские мечи добились того, что их ораторам не удалось описать в тысячах своих речей.
Царица-мать Сизигамбис, царские наложницы и их дети вновь поселились в своих палатах, по которым весьма соскучились, и все с волнением снова увидели столь привычные, знакомые вещи. Женщины пролили слезы на ложа, где когда-то их любили и на которых они рожали, на косяки дверей, ограничивавших доступ к их ложам, освященным присутствием Великого Царя… Но теперь все было не так, как раньше. Пусть в коридорах и залах остались те же предметы, однако во дворце раздавалась чужая непонятная речь, и будущее представлялось мрачным и тревожным. Только царица-мать казалась спокойной, погруженная в таинственную безмятежность своей мудрости. Она испросила и получила дозволение заниматься воспитанием Фраата, младшего сына Барсины, последнего в семье.
Александр часто посещал царский гарем, иногда один, а иногда вместе с Гефестионом, и жившие там девушки приучились любить как царя, так и его друга, удовлетворяя все их желания и благоуханными теплыми летними ночами разделяя с ними ложе. Друзья слушали песни подруг и гомон необъятной метрополии, то наслаждаясь, то подавляя страх перед неопределенным будущим.
Находясь в городе, царь каждый день навещал палаты царицы-матери и подолгу беседовал с ней через толмача.
Накануне выступления он снова поговорил с ней, как и в день перед битвой у Гавгамел.
— Царица-мать, — сказал он, — завтра мы отправляемся в поход, чтобы преследовать твоего сына. Ему не скрыться от меня даже в самых отдаленных уголках его державы. Я верю в мою судьбу. Верю, что моим завоеваниям помогают сами боги. Поэтому я не оставлю мое дело незавершенным, но обещаю: насколько это в моих силах, я постараюсь сохранить Дарию жизнь. Я также распорядился, чтобы лучшие учителя научили тебя моему языку, так как хочу когда-нибудь услышать его в твоих устах, чтобы никто не стоял между нами, вынужденный переводить наши мысли.
Царица-мать посмотрела ему в глаза и прошептала что-то, чего толмач не смог уразуметь, поскольку царица изъяснялась на таинственном языке, понять который мог только ее бог.
ГЛАВА 19
Однажды утром, в начале осени, пока город еще окутывали сумерки, а вершины Эламских гор расцвечивались первыми лучами восходящего солнца, трубы возвестили о выступлении. Армия разделилась на две части: Пармениону надлежало вести основные силы, повозки с разобранными стенобитными машинами и обозы по царской дороге, а Александр с легкими войсками, штурмовиками и агрианами намеревался отправиться по горной дороге через Эламские горы напрямик в Персеполь — еще одну столицу, основанную в свое время Дарием Великим.
Взяв с собой персидского проводника, Александр поднимался по реке, пока она совсем не сузилась, а потом взобрался на перевал, выходивший на плоскогорье, где жили уксии — гордый народ диких пастухов. Номинально подчиняясь Великому Царю, по сути, они оставались независимыми, и когда Александр через толмача попросил у них разрешения пройти, они ответили:
— Можешь пройти, если заплатишь, как всегда делал Великий Царь, когда хотел проехать из Суз в Персеполь кратчайшим путем.
Александр возразил:
— Великий Царь больше не правит своей державой, и то, что годилось для него, меня не устраивает. Я все равно пройду, хотите вы того или нет.
Грубые и волосатые, одетые в козьи и овечьи шкуры, уксии были страшны с виду, и от них воняло, как от зверей. Было ясно, что их так легко не запугаешь и они не расположены что-либо уступать просто так. Эти дикари верили в свою страну с ее отвесными склонами и обрывами, в узкие долины, в крутые дороги, где лишь несколько человек могли взбираться разом; им и в голову не приходило, что у этого иноземного царя в войске имеются воины еще более дикие, чем они, привыкшие с необычайной ловкостью передвигаться по горам еще более крутым и неприступным, чем здешние, умеющие переносить холод и голод, боль и лишения, воины отчаянные и лютые, алчные и кровожадные, безрассудно послушные кормящей их руке, — агриане!
Александр собрал командиров и сузианских проводников, чтобы уточнить расположение двух главных дорог, ведущих на плоскогорье, где обитали уксии. Было решено, что Кратер со штурмовиками двинется по менее крутому маршруту и выйдет к перевалам на Перейду, а тем временем Александр с агрианами и двумя отрядами «щитоносцев» выступит по более трудному пути, прямо навстречу неприятелю.
Кратер подождал, когда царь со своими войсками начнет подъем и привлечет к себе основные силы уксиев, а потом под прикрытием густой растительности двинулся по дороге к перевалам.
Уксии начали пускать стрелы и метать камни из пращей, выволакивать голыми руками валуны и скатывать их под уклон, но ловкие агриане использовали как укрытие любую неровность на поверхности, потом с невероятной быстротой преодолевали открытое пространство и снова прятались за стволами деревьев и скалами. Когда же, наконец, они вступили в схватку с первыми защитниками, то бросились на них с такой звериной яростью, что те почти ничего не смогли им противопоставить. Многие пали с перерезанным горлом, другие рухнули на колени, удерживая руками кишки, вылезавшие наружу из пропоротых животов. Агриане не тратили силы зря: они наносили удары, только чтобы убить или совершенно искалечить противника, запугивая остальных ужасными на вид ранами.
Вскоре после агриан на плоскогорье поднялись «щитоносцы». Сплотив ряды, они бегом бросились на деревни, где в сложенных без раствора каменных домах люди делили жилье со своим скотом. Александр скомандовал пускать зажженные стрелы, и вскоре соломенные крыши бедных хижин превратились в костры, и оттуда во все стороны побежала перепуганная скотина.
Не ожидавшие такой атаки уксии отступили к перевалам, где думали найти возможность для более эффективной защиты, но перевалы оказались уже заняты ударными частями Кратера, которые встретили их смертоносной тучей стрел и дротиков.
Зажатые между войсками Александра и Кратера, уксии сдались, но царь наложил на них суровое наказание: им было предписано в полном составе покинуть свои земли и переселиться на равнину, чтобы их присутствие больше не препятствовало проходу между Сузианой и Персидой.
Едва услышав о своей судьбе от толмачей, уксии бросились к ногам царя, слезно умоляя его отменить ужасное решение и испуская отчаянные крики, к которым присоединились вопли женщин и детей. Однако Александр остался непреклонен. Он сказал, что следовало сразу принять его предложение, а так пусть всем будет наука: македонский царь никогда не угрожает попусту, и никакая сила в мире не может его остановить.
Однако один из сузианских проводников посоветовал безутешным уксиям попросить о заступничестве царицу-мать Сизигамбис, единственную, кто имел влияние на сердце неумолимого завоевателя. Уксии последовали совету и тайно послали двоих своих вождей через македонские линии. Через четыре дня, когда по более сносным тропам уже поднялась конница, посланцы вернулись на плоскогорье с написанным по-гречески письмом от царицы, которая умоляла Александра снизойти до этих несчастных и оставить их на исконных землях.
Сизигамбис Александру: здравствуй!
Ко мне пришли представители народа уксиев, чтобы попросить меня заступиться за них перед тобой. Понимаю, что ты оскорблен, но наказание, которое ты хочешь наложить на них, ужаснее самой смерти. Ведь нет ничего мучительнее, чем быть оторванным от земли, на которой жил с раннего детства, от родников, из которых утолял жажду, от полей, кормивших тебя, от вида, как солнце поднимается и заходит за родные горы.
Ты несколько раз называл меня матерью, именем очень нежным, предназначенным только Олимпиаде, родившей тебя в царских палатах Пеллы. Сейчас в силу великого титула матери, которым ты сам меня наградил, я призываю тебя выслушать меня, как ты слушал свою родную мать: убереги этот народ от муки лишения родины.
Вспомни о своей родине! Эти несчастные ничем перед тобой не провинились, кроме одного: они защищали свою землю и свои дома.
Имей жалость!
Письмо тронуло Александра и угасило его гнев; он согласился оставить уксиям их высокогорье и наложил на них ежегодную дань в пятьсот скаковых коней, две тысячи вьючных животных и мелкого скота. Они согласились, подумав, что этот вспыльчивый юноша и его дикие воины все равно больше не вернутся за их козами и быками, и потому не стоит отказываться.
Утихомирив высокогорное плато, Александр отправился еще выше, в ущелье, называемое Персидскими воротами, поперек которого, на самом высоком месте, сатрап Ариобарзан велел построить защитную стену. Проход уже прослыл неприступным. Войско выступило леденящим утром еще до рассвета, над плато хлестал ветер, а с серого неба начал падать снег.
ГЛАВА 20
Дорога к Персидским воротам делалась все круче, пока не превратилась в омытое ливнями скалистое ущелье со скользкими стенами. Передвигаться приходилось с большими усилиями под сильным снегопадом или по голому льду, на котором лошади и мулы скользили и калечились, ломая ноги. Потребовался почти целый день, чтобы авангард достиг первых отрогов подъема к стене, защищавшей ущелье.
Но пока Александр собирал фракийских и агрианских вождей, чтобы решить, как, воспользовавшись темнотой, взобраться на крутой откос, вдруг раздался шум — это персидские солдаты скатывали со стен огромные валуны, вызывая обширные оползни.
— Прочь! Прочь! Назад! — закричали все.
Однако камни катились быстрее, чем бежали люди. Щебень, устремляясь вниз, учинил среди македонского войска настоящее побоище. Сам Александр был ранен, получив множество ушибов, хотя, к счастью, все кости остались целы. Он отдал приказ скорее отступать. Тем временем вражеские солдаты взялись за луки и, хотя снегопад все усиливался, и было почти ничего не видно, стали пускать сверху стрелы — в кучу, не целясь.
— Щиты! — крикнул Лисимах, командовавший штурмовиками. — Поднять щиты над головой!
Солдаты выполнили приказ, но персы бегали вдоль края ущелья и поражали тех, кто до сих пор не понял, что происходит. Только полная темнота остановила избиение, и Александру с большим трудом удалось вывести войско на более широкое место, где можно было разбить лагерь. Все чувствовали себя глубоко подавленными. Погибло много товарищей, а еще больше получили ранения и теперь кричали от боли — пораженные стрелами, с искалеченными руками и ногами, сломанными костями.
Филипп и его хирурги взялись за работу при свете ламп: они зашивали раны, извлекали из живой плоти солдат наконечники стрел и дротиков, вправляли переломы, фиксируя конечности повязками и деревянными шинами, а когда не хватало материала, использовали даже древки копий.
Один за другим в царский шатер сошлись товарищи, чтобы держать совет. Не было ни огня, ни углей, чтобы согреться, но висевшая на центральном шесте лампа рассеивала слабый свет, а с ним появлялось и чувство тепла. Здесь особенно бросалась в глаза та невероятная и драматическая перемена, что в последние несколько дней произошла в их жизни: из неги и роскоши вавилонских и сузских дворцов они угодили в холод и лишения нового отчаянного предприятия.
— Сколько их, как вы думаете? — заговорил Селевк.
— Кто знает, — ответил Птолемей. — По-моему, несколько тысяч. Если Ариобарзан решил удерживать перевал, он не стал бы этого делать с малочисленным и плохо вооруженным войском. Наверняка у него отборные солдаты и их больше чем достаточно.
В этот момент, стуча зубами, вошел Евмен, синий от холода. На плече у него был футляр со свитками, тростинкой для письма и чернилами — принадлежностями, при помощи которых он каждый вечер вел свой «дневник».
— Подсчитал потери? — спросил его Александр.
— Потери тяжелые, — ответил секретарь, пробежав глазами по листу. — Не меньше трехсот убитых, сотни раненых.
— Что будем делать? — спросил Леоннат.
— Мы не можем их бросить на съедение волкам, — ответил Александр. — Нужно принести их.
— Но мы понесем еще большие потери, — сказал Лисимах. — Если пойдем сейчас, то переломаем себе кости среди скал, а если отправимся завтра, при свете дня, то враги в этом проклятом ущелье перебьют нас сверху.
— Я иду, — отрезал царь. — Я не оставлю этих парней не погребенными. А вы, если боитесь, можете за мной не следовать. Вы свободны в своем выборе.
— Я с тобой, — проговорил Гефестион, вставая, словно готовый отправляться немедленно.
— Ты прекрасно знаешь, что дело не в страхе, — возразил задетый за живое Лисимах.
— Ах, не в нем? А в чем же тогда?
— Что толку ссориться! — вмешался Птолемей. — Так мы ничего не решим. Постараемся что-нибудь придумать.
— Я… Возможно, у меня есть решение, — сказал Евмен. Все обернулись к царскому секретарю, а Леоннат покачал головой, подумав, что вечно этот коротышка-грек знает больше других.
— Решение? — переспросил Александр. — И какое же?
— Минутку, — ответил Евмен. — Я сейчас вернусь. Вскоре он действительно вернулся с одним из местных проводников.
— Говори, не бойся, — велел секретарь. — Царь со своими друзьями тебя слушает.
Поклонившись Александру и товарищам, проводник начал говорить на довольно понятном греческом. Его акцент смутно напоминал кипрский.
— Откуда ты? — спросил Александр.
— Я ликиец из окрестностей Патары. Был отдан в рабство мальчиком за долг моего отца его хозяину-персу, некому Арсаку. Тот взял меня с собой в Персию и доверил мне пасти скотину на здешних лугах. Я знаю эти горы, как свои пять пальцев.
Присутствующие так и присвистнули, поняв, что в руках у этого бедняги неожиданно оказалась судьба всего войска.
— Если вы вернетесь в эту горловину, — продолжил тот, — персы перебьют вас раньше, чем вы доберетесь до подножия стены. Там могут передвигаться лишь маленькие отряды. Однако в часе ходьбы отсюда я знаю одну дорогу, что поднимается через лес. Это овечья тропа, где пройти может лишь один человек, а лошадям приходится завязывать глаза, чтобы они не видели обрывов. Но через четыре-пять часов можно добраться до вершины и оказаться у персов в тылу.
— Мне кажется, у нас нет выбора, — сказал Селевк, — если только мы хотим идти вперед.
— Я тоже так считаю, — согласился Александр, — но есть одна трудность: если тропинка такая узкая, число наших солдат, добравшихся до вершины через разумное время, будет слишком незначительным, чтобы противостоять возможной контратаке персов. Так что кому-то придется отвлечь их со стороны стены.
— Пойду я, — предложил Лисимах.
— Нет, ты пойдешь со мной по тропе. К стене пойдет Кратер с агрианами, фракийцами и одним отрядом штурмовиков. Он постарается потерять как можно меньше людей. Атакуем вместе: мы — сверху, а они — снизу. Одновременное нападение должно вызвать среди персов панику.
— Нужно подать сигнал, — заметил Кратер. — Но какой? Ущелье слишком узкое и глубокое, чтобы увидеть световой сигнал, а расстояние между нашими отрядами, вероятно, будет таким, что крик не услышишь.
— Способ есть, — сказал ликиец-пастух. — Рядом с крепостью есть пост, где эхо отражается несколько раз от стен ущелья. Звук трубы можно отчетливо услышать с большого расстояния. Я пробовал это много раз со своим рожком, просто чтобы скоротать время, когда пас овец.
Александр посмотрел на него:
— Как твое имя, ликиец?
— Мой хозяин звал меня Ох, что по-персидски значит «ублюдок», но мое настоящее имя Ред.
— Выслушай меня, Ред: если ты говоришь правду и проведешь нас в тыл к персам, я тебя озолочу. Ты получишь золота столько, что хватит прожить в довольстве остаток твоих дней, ты сможешь вернуться на родину, купить самый лучший дом, рабов, женщин, скотину — все, чего пожелаешь.
Проводник ответил, не опуская глаз:
— Я сделал бы это и просто так, государь. Персы держали меня в рабстве, колотили и наказывали без причины. Я готов отправиться с тобой в любой момент.
Леоннат выглянул наружу:
— Снегопад кончается.
— Прекрасно, — сказал Александр. — Тогда распорядитесь насчет ужина и всем, кто пойдет с Кратером, дайте запас вина. Объявите денежную награду тем, кто вызовется добровольно, потому что придется выступить вскоре после ужина: персы никак не подумают, что у нас хватит глупости так скоро сунуться к ним снова. А мы последуем за Редом сразу после первой стражи.
Царь трапезничал с друзьями в шатре. Они поужинали тем же пайком, что раздавался солдатам, а потом все разошлись готовиться к ночной экспедиции. Сначала отправился Кратер со своими людьми, а Александр с основными силами, как и объявил, выступил сразу после первой стражи.
Ред проводил их до начала тропы, а потом повел по ней через лесные заросли к ущелью. Тропинка была узкой и трудной, ее высекли в горном склоне не людские руки — веками ее протаптывали ноги пастухов и путников, искавших кратчайшую дорогу в Перейду. Иногда она ползла над пропастью, и коням действительно приходилось завязывать глаза, чтобы животные не пугались, а иногда она прерывалась оползнем или покрывалась льдом, так что людям приходилось держаться за руки или привязываться друг к другу веревками, чтобы не упасть вниз на острые скалы.
Проводник ступал уверенным шагом, несмотря на темноту, и было ясно, что он мог бы одолеть этот путь с закрытыми глазами; между тем несколько воинов сорвались в пропасть, и не представлялось никакой возможности достать их тела. Александр шел вслед за Редом, но то и дело останавливался, чтобы в случае какой-либо трудности помогать другим. Несколько раз он рисковал жизнью, спасая своих солдат.
Перед рассветом стало еще холоднее, и люди продвигались с еще большим трудом, руки и ноги их окоченели, и все устали от долгого и изнурительного ночного похода. Солнечный свет, прояснивший небо над затянутым тучами горизонтом, немного придал солдатам бодрости. Теперь путь был хотя бы лучше виден, и по поредевшим зарослям можно было догадаться, что до вершины осталось не так далеко.
Когда же, наконец, войско добралось до цели, поднялся ветер. Александр велел, чтобы первые прибывшие не сходили с места, пока не подтянутся остальные, пусть даже не все. Потом они в тишине пустились дальше, стараясь не показываться из-за вновь появившейся на плато растительности, чтобы персы не заметили их раньше времени.
В какой-то момент проводник указал на возвышение — это была скала, нависшая над проходящим внизу ущельем. Ред сказал:
— Вот это место для эха. Чуть дальше покажется крепостная стена, господствующая над Персидскими воротами. Мы пришли.
Вперед вышел Птолемей.
— Думаешь, Кратер уже занял позицию?
— Наверняка, если ничего не случилось, — ответил Александр. — А даже если это ему почему-либо не удалось, у нас все равно нет выбора. Собирай людей и подавай сигнал. Мы атакуем персидские позиции.
Птолемей выстроил солдат в четыре линии: впереди отряд конницы, за ним легкая пехота с луками и дротиками, затем штурмовики и, наконец, «щитоносцы» под командованием Лисимаха. Затем он дал знак трубачу, и тот вышел на самый верх нависавшей над пропастью скалы. Звук трубы прорезал тишину, как петушиный крик, нарушив неподвижность сонного рассвета, и эхо, многократно отразившись от отвесных склонов, разнеслось до самых вершин окрестных гор, тревожа безмятежность пейзажа.
За этим звуком последовала тишина, гнетущая и тяжелая, как свинцовое небо, нависавшее над выстроившимся войском, и все напряженно вслушались, ожидая ответа. И вдруг донесся звук другой трубы, потом еще одной, умножаемый эхом, а за ним послышался дикий крик бросившихся в атаку воинов.
— Кратер бросил в бой агриан! — закричал Александр. — Вперед, воины! Давайте покажем им, как справляться с холодом!
Он вскочил на коня и занял место в центре своего отряда, устремившись на возвышенность, откуда были видны войска персов. Пехота побежала за конницей, стараясь не отставать. Как только стали видны вражеские позиции, Александр возглавил атаку, пришпоривая Букефала и выкрикивая боевой клич.
Все трубы затрубили в унисон, пехота двинулась вперед, сжимая в руках оружие, а всадники галопом пустились на врага, которому пришлось разделиться на два фронта. Конница Александра ринулась на плато в тылу защитников стены, а следом подошла пехота и вступила с ними в рукопашный бой.
Персы, оценив ситуацию, подняли тревогу, но тем временем им пришлось снять часть людей с бастионов, а агриане карабкались вверх, вбивая в щели в стене кинжалы и прижимаясь к поверхности, когда враги сбрасывали сверху камни или стреляли в них из луков. Вскоре первые из атакующих появились наверху, и пока одни сражались с защитниками стены, другие помогали подняться товарищам, сбросив вниз веревки. Хотя и уступая числом, македоняне сумели одолеть захваченных врасплох противников. Многие из персов даже не успели взяться за оружие.
Ариобарзан едва успел с мечом в руке выйти из своего жилища, как его окружили македонские всадники, угрожая копьями, и ему ничего не оставалось, как отдать приказ сложить оружие. Он бессильно наблюдал за тем, как вражеское войско проходит через ущелье, защищавшее Персеполь. Теперь город был во власти врага.
ГЛАВА 21
Александр подождал, когда поднимется все остальное войско, а потом отдал приказ начать спуск на плоскогорье Персиды. Но прежде чем отправиться в путь, он вызвал к себе пастуха-ликийца, который помог ему захватить укрепленное ущелье.
— Успех дела решило твое участие, — сказал он. — Ты помог Александру завоевать Персидскую державу, а возможно, и изменить ход истории. Никто не может сказать, хорошо это или плохо, но в любом случае я глубоко тебе благодарен. — Он хотел прибавить: «Проси у меня все, что хочешь, и я дам», но ему вдруг вспомнился тот далекий день, когда он сказал эту несчастную фразу Диогену, старику-философу, лежавшему в лучах заходящего солнца, и теперь лишь произнес: — Спасибо, друг.
Пастух взволнованно посмотрел на него, а царь сел на коня и начал спуск. Но он не мог пропустить мимо ушей слов, раздавшихся за его спиной.
— Царь велел дать тебе все, чего пожелаешь, как и обещал, — сказал Евмен. — Тебе стоит лишь назвать.
Ред ответил:
— Будь я помоложе, я бы захотел отправиться вместе с ним и посмотреть, что будет дальше. Но я должен подумать о старости: я бы хотел выкупить землю моего отца и дом, где я родился, на заливе, у самого моря. Я так давно не видел моря…
— Ты увидишь его, пастух, и получишь свою землю и дом. Можешь даже завести детей, если захочешь. А если у тебя будут дети и внуки, ты расскажешь им, как однажды вел царя Александра навстречу его судьбе. И если тебе не поверят, покажешь вот это.
— Что это?
Евмен вложил ликийцу в руку маленький предмет.
— Это золотая звезда Аргеадов. Такую имеют лишь ближайшие друзья царя.
Он дал ему также кожаный футляр.
— Здесь письмо царя правителю Ликии — приказ дать тебе все, чего пожелаешь. Это дороже любого золота и серебра. Не потеряй его. Прощай, пастух, удачи тебе.
Вечером следующего дня они спустились к подножию гор и оказались на широком плоскогорье Персиды. Вдали виднелись реки, окаймленные длинными рядами тополей, и множество деревень с домами, сложенными из грубых кирпичей.
Войско пересекло царскую дорогу на реке Араке, и Александр разбил лагерь, чтобы дождаться Пармениона с остальным войском, но едва начали ужин, как вошел один из стоявших на страже гетайров и объявил:
— Тут пришел какой-то человек и желает поговорить с тобой. Он переправился через реку на лодке и, кажется, очень спешил.
— Тогда пусть войдет.
Солдат ввел человека в персидских одеждах — затянутых у лодыжек шароварах и в завязанном на шее льняном головном платке.
— Кто ты? — спросил Александр.
— Я пришел от сатрапа Абулита, который командует гарнизоном Персеполя. Он готов сдать тебе город, и велел передать тебе, чтобы ты поспешил, если хочешь найти сокровища Великого Царя в сохранности. Если опоздаешь, тебе придется бороться с теми, кто призывает сражаться до последнего. Иные хотят спасти сокровища, чтобы поддержать восстание сторонников Дария. Что ответить моему господину?
Александр молча задумался на несколько мгновений, а потом ответил:
— Скажи, что через два дня, на закате, Персеполь увидит меня и мою конницу.
Посланец вышел и вернулся к лодке, а царь тут же вызвал Диада из Ларисы, своего главного инженера.
— До завтрашнего вечера мне нужно построить мост через Араке, — объявил царь, прежде чем предложить ему сесть.
Диад, уже привыкший к просьбам сделать невозможное в невозможные сроки, и глазом не моргнул:
— Какой ширины желаешь?
— Как можно шире: нужно как можно скорее пропустить всю конницу.
— Пять локтей?
— Десять.
— Десять так десять.
— Думаешь, получится?
— У меня когда-нибудь не получалось, государь?
— Нет, такого не было.
— Однако я должен начать работы сей же момент.
— Как хочешь. Можешь отдавать приказы от моего имени кому угодно, даже военачальникам.
Диад вышел, собрал десять бригад с топорами, пилами, канатами и лестницами, дал им мулов и лошадей и послал в ближайший лес рубить деревья. Одни стволы были ободраны и обожжены на огне, другие распилены на доски. Триста человек трудились всю ночь, а на рассвете все материалы, уже готовые к использованию, притащили на берег реки.
Диад велел взять заостренные колья и в два ряда, пару за парой, через десять локтей вбивать их копрами в дно, а затем связывать вдоль и поперек досками, создавая боковые ребра и горизонтальный настил для прохода. Сегмент за сегментом мост протянулся до середины реки, где сваи пришлось укреплять большими валунами в качестве волноломов, чтобы разбивать течение реки.
К заходу солнца Александр построил конницу в боевой порядок, подождал, когда будет прибита последняя доска, и пустил Букефала галопом через мост. За ним последовали товарищи во главе четырех отрядов гетайров. За конницей пошла пехота под командованием Кратера.
Они скакали всю ночь и остановились на отдых лишь к концу третьей стражи, перед восходом солнца. Александр, крайне утомленный событиями последних дней и бессонных ночей, глубоко заснул. Нежный воздух плоскогорья, легкий ветерок, долетавший с востока, и роща тенистых платанов и горных кленов создавали ощущение мира и глубокого покоя. Кони свободно паслись у реки и ручья с чистейшей водой близ зарослей ив и кизила, и даже Букефал бегал на свободе в сопровождении Перитаса, который безнаказанно покусывал его за огромные голени. Ничто не предвещало неожиданностей.
Один из сторожевых дозоров отошел немного на запад в направлении царской дороги, чтобы обезопасить лагерь от внезапного нападения с той стороны, и разведчики лишились дыхания, увидев длинную колонну, движущуюся под красными знаменами со звездой Аргеадов. Войско Пармениона!
Они галопом поскакали навстречу.
— Я Евтидем, командир восьмой группы третьего отряда гетайров, — представился старший из дозорных командиру, двигавшемуся во главе колонны. — Отведи меня к Пармениону.
— Парменион позади, в арьергарде, так как мы только что на равнине подверглись нападению индийской конницы. Я вызову Клита.
Через несколько мгновений прискакал Черный. На солнце высокогорья его лицо загорело еще больше, так что он выглядел почти эфиопом.
— Что случилось? — спросил он. — Где вы находитесь?
— Мы менее чем в двадцати стадиях отсюда. Нам удалось пройти Персидские ворота. Царь и солдаты отдыхают, поскольку уже две ночи не смыкали глаз, но как только покажется солнце, мы будем готовы идти на Персеполь. Вы можете продолжать свой марш, а мы двинемся вперед как можно быстрее. Думаю, в свое время царь сам все объяснит.
— Хорошо, — ответил Черный. — Передай от меня привет царю и скажи ему, что мы не встретили серьезных трудностей. А я сообщу обо всем Пармениону. С его сыном Филотом все в порядке?
— В полном. Он принимал участие в бою за ущелье и не получил никаких ранений.
Дозорный вскочил на коня и вместе со своими людьми вернулся в лагерь. Войско уже было готово выступать вслед за Александром, который верхом на Букефале подавал сигнал к отправлению. Солнце окрасило розовым вершины Эламских гор, что возвышались над темной зеленью леса и желтизной стерни на обработанных полях, расстилавшихся по равнине, сколько хватало глаз.
По дороге ступали вереницы верблюдов со своим грузом, крестьяне ехали на рынок на ослах, тащивших за собой повозки со всяким незатейливым товаром. Женщины в ярких одеждах шли к ручью набрать воды; а другие уже возвращались, неся на голове полные кувшины. Казалось, этот день ничем не отличается от других, а ведь он знаменовал исторический момент, когда величайшей и мощнейшей в мире державе будет нанесен удар в самое сердце.
Прозвучал сигнал трубы, и конница рысью пустилась по дороге, подняв густое облако пыли. По мере того как она продвигалась, картина значительно изменилась. При проходе конного войска двери закрывались, улицы пустели, рыночные площади вдруг обезлюдевали. Население пряталось от завоевателей-яунов, о которых ходили страшные легенды.
И вдруг перед глазами царя, ехавшего во главе войска вместе с Гефестионом и Птолемеем, предстало странное и тревожное зрелище: навстречу им по дороге ковыляло странное сборище оборванцев и калек. Они протягивали руки и культи, словно стремясь привлечь к себе внимание.
— Кто это? — спросил царь Евмена, ехавшего чуть сзади. Секретарь подъехал ближе, чтобы получше рассмотреть.
— Понятия не имею. Скоро узнаем.
Он слез с коня и пешком приблизился к несчастным, которых при ближайшем рассмотрении оказалось гораздо больше, чем представлялось возможным. Александр тоже спешился и направился к ним, однако по мере приближения ощутил, как его охватывает странное беспокойство, тревожное смятение… Подойдя, он услышал, как они разговаривают с Евменом. Они говорили с ним по-гречески!
Александр увидел страшные увечья: у одних были отрублены обе руки, у других одна или обе ноги; у некоторых кожа сморщилась от широких рубцов, какие бывают у тех, кого облили кипящей жидкостью.
— Масло, — объяснил один из бедняг, ощутив взгляд Александра на своей изуродованной фигуре.
— Кто ты? — спросил царь.
— Эратосфен из Метона, гегемон. Спартанец, третья сиссития [9]
— Спартанец? Но… сколько же тебе лет?
— Пятьдесят восемь, гегемон. Персы взяли меня в плен во время второго похода Агесилая, когда мне было двадцать шесть. Они отрубили мне ногу, зная, что спартанские воины никогда не смиряются с пленом.
Евмен покачал головой.
— Времена изменились, друг мой.
— Я тоже пытался покончить с собой, и мой хозяин облил меня кипящим маслом. Тогда я сдался и смирился с горечью плена, но когда услышал, что идет Александр…
— Нам передали, чтобы мы шли ему навстречу, — вмешался другой, показывая обрубленные по локоть руки.
— Но зачем эти увечья? — спросил царь дрожащим голосом.
— Я служил в афинском флоте во время войны с сатрапами и был гребцом на «Кризее», прекрасном, новехоньком корабле. Мы попали в засаду, и нас взяли в плен. Они сказали, что так я больше не смогу грести на афинском корабле.
Александр посмотрел на третьего — с пустыми глазницами.
— А ты что сделал? — спросил он.
— Мне отрезали веки и намазали глаза медом, а потом привязали рядом с муравейником. Я тоже служил в афинском флоте. Персы хотели узнать, где укрылся флот, но я отказался сказать, и…
Вперед выходили все новые и новые, показывая свои увечья и рассказывая о своих несчастьях, — с седыми волосами, с голыми черепами, с изъеденными чесоткой руками.
— Гегемон, — повторял спартанец, — гегемон, скажи нам, где Александр, чтобы мы могли оказать ему почести и поблагодарить за наше освобождение. Все мы здесь являемся свидетельством той цены, которую греки заплатили в своей борьбе против варваров.
— Я и есть Александр, — ответил царь, побледнев от гнева, — и я пришел отомстить за вас.
ГЛАВА 22
Он обернулся и громким голосом позвал товарищей:
— Птолемей! Гефестион! Пердикка!
— Повелевай, государь!
— Окружите царский дворец, сокровищницу и гарем, и чтобы никто шагу оттуда не ступил!
— Будет сделано, — ответили они и галопом помчались к своим частям.
— Леоннат, Лисимах, Филот, Селевк!
— Повелевай, государь!
Александр указал на великолепный город, раскинувшийся перед ними на холмах, город, сверкающий на солнце золотом, бронзой и эмалями.
— Возьмите войско и введите в город. Персеполь — ваш, делайте с ним, что хотите!
Он обернулся к замершим на своих конях гетайрам:
— Поняли, что я сказал? Персеполь ваш! Чего ждете, берите его!
И конники с гиканьем помчались галопом к столице, которая в этот момент готовилась распахнуть перед ними ворота. Они смели делегацию, посланную Абулитом встретить их, и с яростью диких быков ворвались в богатейший город мира.
Евмен, остолбенев, изумленно смотрел на Александра.
— Ты не можешь отдать такой приказ, клянусь богами, не можешь. Верни их, верни, пока не поздно.
Подошел и Каллисфен:
— Еще как может, и, к сожалению, уже сделал это.
Вышедшие ему навстречу греки в замешательстве попятились, словно осознав, что, сами того не желая, вызвали беду нечеловеческих размеров. Царь заметил их растерянность и повелел Евмену:
— Скажи им, что каждый из них получит по три тысячи драхм и всякому, кто захочет вернуться на родину и вновь обнять свою семью, обеспечивается свободный проезд. Кто предпочитает остаться, получит дом, рабов, земли и скотину в изобилии. Займись этим.
Секретарь повиновался, но, когда отдавал распоряжения, ему было трудно собраться с мыслями, потому что до его ушей уже донесся шум грабежей и отчаянные крики жителей, оказавшихся во власти разъяренной солдатни.
Тем временем подтянулись отставшие отряды и тоже влились в городские ворота, боясь опоздать в погоне за добычей. Несколько гонцов отправились к войску Пармениона, находившегося всего в нескольких стадиях. Они сообщили, что царь отдал город на разграбление. Дисциплина рухнула в одно мгновение — все покинули строй и беспорядочной толпой устремились в Персеполь, над которым уже поднимались столбы дыма.
Парменион пришпорил коня и помчался во весь опор; за ним устремились Черный и Неарх. Они подскакали к Александру, который верхом на Букефале, неподвижный, как монумент, с возвышенности наблюдал за опустошением города.
Старый военачальник соскочил на землю и с выражением тревоги на лице приблизился к царю:
— Зачем, государь? Зачем? Зачем уничтожать то, что уже твое?
Александр даже не посмотрел на него. Парменион увидел, как мрак смерти и разрушения заполнил левый, черный глаз царя. Каллисфен прошептал, уверенный, что никто его не услышит:
— Не проси: я уверен, что в эту минуту его мать Олимпиада в каком-нибудь тайном месте совершает кровавые обряды. Она полностью завладела его душой. О, если бы Аристотель мог рассеять этот кошмар!
Парменион, покачав головой, лишь испуганно посмотрел сперва на Черного, затем на Неарха, а после сел на коня и удалился.
Только к заходу солнца царь двинулся, словно очнувшись ото сна, и направил Букефала к городским воротам. Одно из самых красивых и приветливых мест на земле, выражение наивысшей вселенской гармонии в идеологии Ахеменидов, оказалось в полной власти орды пьяных дикарей. Агриане насиловали мальчиков и девочек, связав руки их родителям; повсюду бродили фракийцы, накачавшиеся вином и измазанные кровью, хвастая своими трофеями — отрубленными головами персидских солдат, пытавшихся оказать им сопротивление. Македоняне, фессалийцы и даже греки из вспомогательных войск не отставали: они бегали, как безумные, нагрузившись награбленным добром — кубками с вправленными драгоценными камнями, подсвечниками, изящнейшими тканями, золотыми и серебряными доспехами. Порой они натыкались на своих товарищей, которым еще не удалось найти добычи, и тогда возникали кровавые стычки. Люди резали друг другу горло, утратив человеческий облик. Некоторые, видя, что их товарищи завладели особенно красивыми женщинами, пытались отобрать их силой и, если это им удавалось, по очереди насиловали их на земле, еще обагренной кровью их родителей.
Царь величественно двигался среди шума и крови, со всех сторон окруженный ужасами, но лицо его не выдавало никаких чувств, словно высеченное Лисиппом из холодного мрамора. Его уши как будто не слышали ни мучительных воплей детей, когда пехотинцы связывали их матерей, ни криков женщин, зовущих к себе детей или плачущих над телами мужей, безжалостно зарезанных на пороге собственного дома. Казалось, он различает лишь цоканье копыт Букефала по камням.
Глядя прямо перед собой, Александр осмотрел необъятный царский дворец, великолепную ападану, окруженную чудесными садами со стройными кипарисами, серебристыми тополями, платанами, покрасневшими в последних лучах утомленного солнца. Он увидел и прочие диковины — огромные колонны с крылатыми быками, грифонами и изображениями Великого Царя, построившего и украсившего это чудо. А теперь он, маленький яун, владыка маленького захудалого царства крестьян и пастухов, в свое время платившего дань, пришел пронзить сердце этого гиганта; он держал его, агонизирующего, под своей пятой.
Не слезая с коня, Александр поднялся по широкой лестнице и там на каменных стенах увидел изображения покоренных царей и владык, несущих свои дары на новогоднее пиршество персов. Мидийцы и касситы, ионийцы, индийцы и эфиопы, ассирийцы и вавилоняне, египтяне, ливийцы, финикийцы и бактрийцы, гедросцы, карманяне, дай [10] — сотни народов ступали торжественным размеренным шагом, приближаясь к золотому балдахину над троном Дария — царя, Великого Царя, Царя Царей, Света Арийцев и Владыки Четырех Сторон Света.
А вот и трон. Александр встал перед ним. Из душистого кедра и слоновой кости, инкрустированный драгоценными камнями, поддерживаемый двумя грифонами с рубиновыми глазами. Позади на стене был изображен царь Дарий I; огромный, в блестящих церемониальных одеяниях, он боролся с воплощением Ахримана, гения зла и мрака.
Необъятный зал был пуст, и в нем стояла тишина, но снаружи бушевал океан горя, обрушивая кровавые валы на стены парадиза. Храбрые, верные солдаты Филиппа превратились в орду зверей, дерущихся за клочья добычи, испуская из смрадных ртов непристойности, предавая огню сады и дворцы, опустошая святилища Ахура-Мазды, бога возвышенного Персеполя.
Сойдя с коня, Александр подошел к трону, поднялся по ступенькам и сел, положив руки на подлокотники из отполированного мрамора. Однако с протяжным хрипом прислонившись к спинке, он разглядел в дверном проеме какие-то темные очертания и услышал еле различимое шарканье.
— Кто там? — спросил он, не двигаясь.
— Это мы, государь! — отозвался голос.
Это были несколько греческих рабов из тех, что встретились ему по дороге в Персеполь.
— Что вам нужно?
Человек не ответил, но отошел в сторону и пропустил двух своих товарищей, которые несли совершенно изможденного старца.
— Его зовут Леокар, — сказал тот, что отошел в сторону. — Это один из «десяти тысяч» Ксенофонта, полагаю, последний очевидец. Ему почти девяносто лет, и семьдесят из них он провел в рабстве.
Александр с трудом скрыл свои чувства.
— Чего ты хочешь, старик? — спросил он. — Что я могу сделать для героя из числа «десяти тысяч»?
Старец что-то пробормотал, но царь не смог разобрать, что именно.
— Ему больше ничего не нужно. Он говорит, что все греки, умершие до этого дня, лишились великой радости — увидеть тебя на этом троне. Говорит, что теперь может умереть спокойно.
Старик от волнения не мог больше произнести ни слова, по его щекам текли слезы, но выражение его лица говорило больше, чем тысяча слов.
Александр наклонил голову и остановил на нем взгляд, почти не веря себе. Старик удалился, опираясь на своих товарищей, и тогда царь спустился с трона и приблизился к Букефалу, ждавшему его в зале. Однако, взяв коня под уздцы, Александр увидел, словно во сне, персидского воина в великолепном парадном наряде Бессмертных на гнедом коне в роскошной золоченой сбруе. Воин как будто смотрел на него.
Александр схватился за меч, но не двинулся с места. В этот момент затянутое тучами небо осветило землю ослепительной вспышкой, и земля затряслась от громового раската.
И он вдруг вспомнил: это тот воин, который когда-то очень давно спас его от когтей льва и которого сам он спас от неминуемой смерти в битве при Иссе.
Бессмертный двинул своего коня на несколько шагов вперед и плюнул под ноги Александру, а потом повернулся, пришпорил коня пятками и пустился галопом по широкому пустынному двору.
ГЛАВА 23
— Его основал в сердце Персиды Дарий Первый Великий, чтобы создать самую блестящую столицу всех времен. Здесь работало пятьдесят тысяч человек из тридцати пяти разных народов в течение пятнадцати лет. Леса на горе Ливан были вырублены, чтобы дать материал для потолков и дверей. По всей необъятной державе высекали камень и мрамор, в бактрийских копях добывали драгоценную ляпис-лазурь, из Нубии и Индии на верблюдах доставлялось золото, из Паропамиса и гедросских пустынь — драгоценные камни, серебро из Испании и медь — с Кипра. Тысячи сирийцев, греков, египтян ваяли восхитительные изображения, что можно увидеть на стенах и дверях дворца, а ювелиры добавляли украшения из золота, серебра и драгоценных камней. Самые искусные ткачи ткали ковры. Персидские и индийские художники оживляли стены фресками. Великий Царь хотел, чтобы это место соединило в чудесной гармонии проявления всех культур и цивилизаций, составлявших его бескрайнюю державу.
Каллисфен замолчал и обвел взглядом великую столицу, бившуюся в агонии, полыхающие факелами парадизы с редчайшими растениями, привезенными из отдаленных провинций, дворцы и портики, почерневшие от дыма пожаров. Он смотрел на улицы, заполненные солдатами, опьяневшими от резни, насилия и разгула, на заваленные трупами фонтаны, продолжавшие издавать свое грустное журчание, источая окровавленную воду; он смотрел на разбитые статуи, на обрушенные колонны, оскверненные храмы. Потом обернулся к Евмену и увидел в его глазах то же выражение испуга и растерянности.
— Этот необычайный дворец, — продолжил Каллисфен прежним ровным голосом, — назывался Новогодним, потому что Великий Царь приезжал сюда на празднование первого дня года, чтобы утром в день летнего солнцестояния первый чистый луч показавшегося над горизонтом солнца упал ему на лицо и озарил отражающий его взгляд, словно сам царь был новым солнцем. Всю ночь до утра жрецы возносили молитвы, которые становились все громче, настойчивее, поднимаясь к звездам и призывая свет на Великого Царя — на живой земной символ Ахура-Мазды. Все здесь является символом, весь город — символ, и все статуи и барельефы, что ты видишь в этом дворце, — тоже символ.
— И сжигаем мы… тоже символ, — прошептал Евмен.
— Город был спроектирован на следующий день после полного затмения солнца, которое случилось шестьдесят лет и шесть месяцев назад, — он должен был стать памятником веры этого народа, веры, согласно которой миром никогда не завладеет тьма. Вот, смотри, повсюду виден лев, схвативший быка, то есть свет, побеждающий тьму, свет их верховного бога Ахура-Мазды, воплощением которого они считали своего царя. Пока дворец еще находился в тени, сотни посольств в благоговейном молчании ждали, когда свет прольется на пурпурные и золотые залы, на обширные дворы. И тогда начиналась великолепная процессия, о которой рассказывает Ктезий [11] и другие греческие и варварские авторы, кому посчастливилось присутствовать при этом. То же можно видеть на барельефах, украшающих стены и лестницы. А теперь смотри — этот народ присутствует при величайшей мерзости, при крайнем святотатстве: огонь, священный для них, пожирает столицу, созданную в честь вечного огня, и сжигает их собственных мертвецов.
— Однако и они сами запятнаны всевозможными зверствами, — отозвался Евмен. — Ты видел этих несчастных греков, слышал о перенесенных ими нечеловеческих пытках. Строившие это чудо великие цари Дарий и Ксеркс — это те же самые завоеватели, кто вторгся на нашу землю с огнем и мечом, это они обезглавили и распяли изуродованное тело царя Леонида у Фермопил, это они сжигали храмы наших богов, осквернив их.
— Конечно. А знаешь почему? Смотри, — проговорил Каллисфен, указывая на надпись на одной из стен. — Знаешь, что здесь написано? «Я сжег храмы дэвов», то есть храмы демонов. Это и есть объяснение: наши боги для них — проявление демонов, которых их злой бог Ахриман вызвал в мир, чтобы ввергнуть людей в беду. Побуждением этих царей было — совершить благочестивое дело. Все народы на земле видят зло в других, в чужих народах и их богах, а от этого, боюсь, нет лекарства. Поэтому они и разрушили прекраснейшие творения нашей культуры. Поэтому и мы теперь разрушаем прекраснейшие творения их цивилизации.
Они замолчали, так как говорить было больше нечего. И тогда снова стали слышны стенания и плач умирающего города.
Царица-мать узнала о разграблении Персеполя три дня спустя от одного всадника из числа Бессмертных, который пробрался через заснеженные перевалы. Едва услышав о бесчинствах солдатни, о резне на улицах беззащитного города, об уничтожении прекраснейших творений, она разразилась слезами.
Воин, рыдая, простерся перед царицей:
— Великая Царица-мать, — проговорил он, — убей меня, ибо я заслужил смерть. Я был знаком с этим маленьким демоном-яуном. Это я во всем виноват. Это я много лет назад спас ему жизнь во время львиной охоты в Македонии, и когда в битве при Иссе он в свою очередь отпустил меня на свободу, я не понял, что таким образом демоны скрывают свою лютую натуру. Вместо того чтобы вонзить ему в горло кинжал, я поблагодарил его и выказал ему свою признательность. А теперь последствия этого предо мной воочию. Убей меня, Великая Царица-мать, и, возможно, моя смерть успокоит гнев богов, она склонит их на нашу сторону, и они вызволят нас из мрака унижения.
Царица сидела неподвижно на своем троне, и ее щеки были мокры от слез. Она посмотрела на него полным сострадания взглядом и сказала:
— Встань, мой верный друг. Встань и не кляни себя за великодушие и мужество. Тому, что случилось, было суждено случиться. Когда Кир взял город Сарды и предал его огню, что думали лидийцы в своем горе? А что думали вавилоняне, когда, изменив течение Евфрата, он овладел городом и заковал в цепи их царя? Мы тоже жгли и резали, мы тоже топили в крови восстания, сжигали храмы и святилища. Царь Камбиз убил в Египте быка Аписа, совершив в глазах того народа самое чудовищное святотатство, какое только возможно. Царь Ксеркс предал огню храмы в афинском акрополе и сровнял город с землей. Весь народ, рыдая, покинул свои дома, чтобы укрыться на островке, и оттуда они видели отблески пожара на ночном небе. Я слышала об этом от тех, кто хранит книги нашей истории. Теперь та же судьба коснулась и нас, наших чудесных городов, наших святилищ, и все это происходит не потому, что Александр такой плохой. Я знаю его, знаю его чувства, знаю, на какую нежность и внимание он способен, и если бы я присутствовала там, я уверена, что смогла бы добиться его милости и заставить свет Ахура-Мазды восторжествовать в его душе над мраком Ахримана. Ты когда-нибудь заглядывал ему в глаза?
— Да, моя госпожа, и это вызвало во мне страх.
Царица-мать замолчала, проливая безмолвные слезы, а потом подняла голову и спросила:
— Куда ты теперь?
— На север, в Экбатаны, к царю Дарию, чтобы сражаться за него и умереть, если придется. Но дай мне свое благословение, Великая Царица-мать: это согреет меня в снегах и холоде, поможет перенести голод, жажду, лишения, боль.
Он опустился на колени и склонил голову. Царица-мать подняла дрожащую руку и положила ему на голову:
— Благословляю тебя, мой мальчик. Скажи моему несчастному сыну, что я буду молиться за него.
— Скажу, — ответил Бессмертный.
И, испросив позволения удалиться, ушел.
ГЛАВА 24
Александр осмотрел дворец Дария только на второй день. Он встал поздно и огляделся вокруг со странным выражением, словно очнулся от кошмара. Его товарищи уже выстроились возле трона, при оружии, словно ожидая приказаний.
— Где Парменион? — спросил царь.
— Его нет в городе, он в своем лагере с теми из солдат, кто не участвовал в грабеже, — ответил Селевк.
— А Черный?
— И он тоже. Говорит, что чувствует себя нехорошо и просит прощения за отсутствие.
— Они бросили меня, — прошептал царь, словно про себя.
— Но мы с тобой, Александр! — воскликнул Гефестион. — Что бы ты ни совершил и что бы ни случилось. Не так ли? — добавил он, обернувшись к товарищам.
— Так, — ответили все.
— Пока довольно, — сказал Александр. — Возьмите патрули из штурмовиков и пройдите по городу с объявлением. Все солдаты — греки, македоняне, фессалийцы, фракийцы и агриане — все без исключения должны покинуть Персеполь и вернуться в лагерь за городскими стенами. Здесь останутся только «Острие» и мои телохранители.
Товарищи удалились выполнять только что полученный приказ.
Александр, Евмен и Каллисфен в сопровождении толмача и нескольких перепуганных евнухов начали осмотр дворца. Они прошли от ападаны до тронного зала. Это было необъятное помещение шириной более двухсот футов, с сотней кедровых колонн. Стены были расписаны золотом и пурпуром, а капители и потолок украшены резьбой и картинами. Трон был деревянный, с мозаикой из слоновой кости, а позади него, прислоненные к стене, стояли зонтик и опахала из страусовых перьев, которые в дни приемов брали роскошно наряженные слуги.
Оттуда завоеватели прошли прямо в сокровищницу, которую открыли четверо евнухов. Массивная бронзовая дверь медленно повернулась на петлях, и перед новым владыкой предстал обширный зал. Здесь в стенах не было окон, и Александр в первое мгновение смог рассмотреть лишь тот участок, на который упал свет из открытой двери, но увиденное потрясло его. Здесь лежали тысячи золотых и серебряных слитков с клеймом державы Ахеменидов — изображением царя Дария, посылающего стрелу из лука. И такое же изображение красовалось на монетах, которые поэтому назывались «дариками». Ими до краев были наполнены десятки кувшинов, стоявших на полу и на полках вдоль стен.
Евнухи принесли лампы, и тысячи гладких или разукрашенных поверхностей засверкали в полумраке помещения, следуя за движениями ламп.
Царь, Евмен и Каллисфен шли по проходу в середине зала, и с каждым шагом их изумление возрастало. Здесь находился не только металл в монетах или слитках: один сектор заполняли драгоценные вещи, скопленные за двести лет завоеваний и господства над территорией от Инда до Истра. Они увидели драгоценности в неправдоподобном количестве, корзины полнились самоцветами всевозможной формы и цвета, белым и черным жемчугом. Сокровищница содержала бронзовые ожерелья, шандалы, статуи и предметы поклонения, прибывшие из древних святилищ, всевозможное диковинное оружие, как боевое, так и парадное: панцири, копья и мечи, шлемы, украшенные замысловатыми гребнями, кинжалы с насечкой и прямым, изогнутым или извилистым клинком, бронзовые посеребренные или золоченые щиты, поножи и портупеи, пояса из золотых ячеек с пряжками, украшенными ляпис-лазурью и кораллами, эмалевые плитки с золотом и серебром, маски из черного дерева и слоновой кости, индийские, ассирийские и египетские ожерелья из золота с эмалями. А еще — короны и диадемы, некогда опоясывавшие лбы египетских фараонов, греческих тиранов, скифских вождей, индийских раджей, скипетры и командирские жезлы из черного дерева, слоновой кости, бронзы, серебра и янтаря…
И ткани: египетский лен, сирийский бистр, ионийская шерсть, финикийский пурпур и другие, роскошные, переливающиеся разнообразными, редкими оттенками. Эта ткань прибыла из далекой страны, объяснили царю, из земли, лежащей за центральными пустынями и даже за Паропамисом. И еще имелись лоскуты материи, которую делали в Индии, — прохладная, как лен, она поддавалась окраске еще проще льна, но была несравненно легче.
— В такой одежде, — пояснил евнух, — чувствуешь себя так, будто на тебе ничего нет. — Он держал в руке список и по мере продвижения монотонным голосом читал: — Двенадцать кувшинов по одному таланту с золотыми дариками, отчеканенными в правление Дария Первого, двадцать талантов серебра в слитках с клеймом царя Ксеркса, черепаховый панцирь, инкрустированный слоновой костью и кораллами, принадлежавший радже Таксилы, парадная сабля скифского царя Курбана Второго…
Александр понимал, что на простое перечисление всех этих чудес потребуется месяц, но не мог оторвать глаз от бесчисленного множества прекрасных предметов, от этого ослепительного великолепия.
— Сколько здесь всего в монетах и слитках? — вдруг спросил Евмен.
Евнух сначала посмотрел на Александра, словно ожидая дозволения ответить на такой вопрос, и, получив знак согласия, тихим голосом произнес:
— Сто двадцать тысяч талантов.
Евмен побелел.
— Ты сказал, сто… сто двадцать тысяч?
— Именно так, — бесстрастно ответил евнух.
Они вышли, потрясенные зрелищем величайшего скопления драгоценностей, какое только бывало на земле. Евмен не переставал повторять:
— Не могу поверить, олимпийские боги, не могу поверить. Если подумать, что всего чуть более трех лет назад у нас не хватало денег, чтобы купить сена для лошадей и пшеницы для ребят…
— Вели раздать каждому из них по десять мин [12], — приказал Александр.
— Ты сказал: десять мин каждому солдату войска?
— Да, так я и сказал. Заслужили. Добавь еще по таланту командирам, по пять — командирам больших соединений пехоты и конницы и по десять — военачальникам. Представь мне точный расчет.
— Это будет самое богатое войско на земле, — пробормотал секретарь, — но не знаю, останется ли оно после этого и самым доблестным. Ты уверен, что поступаешь правильно?
— Вполне. Тем более что у них не будет времени все эти деньги потратить.
— Почему? Мы уходим?
— Как можно скорее.
Но они остались. На несколько месяцев. В Персеполе обнаружились архивы и канцелярия Великого Царя, и Евмен сообщил Александру, что прежде, чем идти дальше, необходимо объединить все, что уже завоевано, организовать систему дорог, жизненно важных для снабжения и коммуникаций, раздать сатрапам и правителям всех уже покоренных провинций указания, наладить связь с Македонией и регентом Антипатром. Он также искал документы, которые подтвердили бы ответственность персов за убийство Филиппа, или следы каких-либо их контактов с царевичем Аминтой Линкестидским. Обвиненный в сношениях с Дарием, когда войско находилось еще в Анатолии, Аминта по приказу царя до сих пор оставался под надзором. Но все делопроизводство велось клинописью, и немногим найденным переводчикам для полного и исчерпывающего разбора потребовалось бы несколько лет.
Между тем, как и предвидел Евмен, безделье и бешеные деньги коренным образом изменили поведение солдат, и товарищи царя, поселившись, как и он, в самых роскошных городских дворцах, вычищенных и отремонтированных, жили по-царски. Александр продолжал приглашать их на верховые прогулки и часто, чтобы держать в форме, устраивал игры с мячом. Друзья выезжали неохотно, только для того, чтобы угодить царю, однако, начав играть, снова, как в детстве, наслаждались этим простым развлечением.
В те дни в дворцовых портиках раздавались крики и смех, как когда-то во дворе в Пелле.
— Бросай мяч мне! Бросай, ради Геракла! — кричал Александр.
— Да я тебе уже бросал, так ты его потерял! — еще громче кричал Птолемей.
— Лови, чем болтать-то! Ты что, уснул? — орал Леоннат.
Первым всегда просил перерыва Евмен, не отличавшийся ни атлетическим сложением, ни ловкостью воина:
— Ребята, хватит! Я сейчас сердце выплюну!
— Какое сердце? У тебя вместо сердца учетная книга! — подкалывал его Кратер, самый быстрый и ловкий.
И все же такие разрядки становились все реже и короче. После игры на друзей снова падала тень власти и богатства.
Однажды Евмен решил поговорить с Александром наедине и нашел его в царских апартаментах во дворце.
— С каждым днем все хуже и хуже, — начал он.
— О чем это ты?
— Я говорю, что я их уже не узнаю. Птолемей выписывает девиц аж с Кипра и из Аравии. Леоннат больше не может упражняться в борьбе, если ему не привезут на верблюдах из Египта мешки с мельчайшим ливийским песком. Лисимах соорудил себе золотой ночной горшок, инкрустированный драгоценными камнями. Понимаешь? Ночной горшок из золота. Селевк завел себе рабыню, которая завязывает ему сандалии, другая его причесывает, третья умащает благовониями, четвертая… Это опустим. А Пердикка…
— Как, и Пердикка тоже? — не веря собственным ушам, спросил Александр.
— Да, и Пердикка. Он стелет себе на ложе пурпурное покрывало. А еще есть Филот. Он всегда был высокомерным и самонадеянным, а теперь и вовсе испортился. До меня доходят слухи, что…
Но царь прервал его:
— Довольно! Хватит! Позови вестового, быстро!
— Что ты собираешься сделать?
— Ты слышал? Я сказал: позови вестового! Евмен вышел и вскоре вернулся с вестовым.
— Тебе надлежит сейчас же отправиться в дома Птолемея, Пердикки, Леонната, Лисимаха, Гефестиона, Селевка и Филота, — велел ему царь, — и сообщить им, чтобы немедленно явились ко мне.
Вестовой бросился на улицу, вскочил на коня и доставил сообщение, кому следовало. Если он не находил их дома, то передавал слугам приказ для их господ — явиться немедленно, а заодно рассказывал о настроении царя, чтобы те скорее разыскали своих хозяев.
— Собрался на прогулку, — попытался угадать Леоннат, вместе с Пердиккой поднимаясь по лестнице.
— Сомневаюсь. Ты когда-нибудь видел, чтобы посылали вестовых из ударной конницы, чтобы передать приглашение переброситься мячом?
— По-моему, он готовится к походу, — вмешался подъехавший Лисимах.
— К походу? Какому походу? — присоединился запыхавшийся Селевк.
Евмен с лицом сфинкса собрал их в приемной и ограничился словами:
— Он там.
— А ты не идешь? — спросил Птолемей.
— Я? Нет, не пойду.
Секретарь открыл дверь и впустил друзей, после чего закрыл ее и тут же, нагнувшись, стал подслушивать.
Но Александр принялся вопить так громко, что пришлось оторвать ухо от замочной скважины.
— Пурпурная простыня! — орал он. — Ночной горшок из чистого золота! Песок из Египта для борьбы! Почему не взять здешний, он что, неправильный? Или недостаточно мягок для твоей нежной задницы? — усмехнулся царь, подойдя к Леоннату. — Неженки! Вот в кого вы превратились! Вы что, считаете, я вас привел сюда, чтобы полюбоваться, как вы дойдете до такого состояния?
Птолемей попытался успокоить его:
— Александр, послушай…
— Молчи, ты, который выписывает шлюх с Кипра и из Аравии! Я привел вас сюда не ради того, чтобы нежить в роскоши! Мы должны были изменить мир. Может быть, мы начали войну, чтобы перенять образ жизни побежденных? И для этого мы совершали походы, страдали от жары, холода, голода и ран? Чтобы разложиться подобно тем, кого мы покорили? Чтобы жить так, как теперь живете вы?
— Но тогда зачем же… — начал было Пердикка, желая сказать: «Зачем же ты оставил на своих постах правителей-персов?»
Но царь прервал его на полуслове:
— Молчать! С завтрашнего дня все — в лагерь, в шатры, как раньше. Каждый будет собственноручно скрести своего коня и наводить блеск на доспехи. А послезавтра все приходите ко мне, отправимся в горы на львиную охоту, и если вас с вашими отяжелевшими задницами растерзают звери, я пальцем не шевельну, чтобы вас спасти. Вы хорошо меня поняли?
— Поняли, государь!
— Тогда сгиньте с глаз моих! Вон!
Все поспешили к двери и исчезли, бегом спустившись по лестнице. В это время появился гонец с известием, что Филота найти не удалось, но что он, несомненно, вот-вот явится. Евмен кивнул и знаком велел ему удалиться вслед за товарищами, но тут Александр позвал и его.
— Я здесь, — ответил секретарь, входя.
— Я не видел Филота, — первым делом заметил царь.
— Его не нашли. Хочешь, чтобы поискали еще?
— Нет, оставь. Думаю, что моя музыка сама донесется до его ушей. А ты? — спросил он чуть погодя. — Что делаешь ты со своим золотом?
— Я живу хорошо, но без излишеств. Остаток откладываю на старость.
— Молодец, — сказал Александр. — Кто знает, что нас ждет. Если когда-нибудь мне понадобятся деньги в долг, я буду знать, к кому обратиться.
— Я могу идти?
— Да, конечно.
Евмен двинулся было, но царь остановил его:
— Минутку.
— Что такое?
— Приказ, естественно, касается и тебя.
— Какой приказ?
— Ночевать в лагере, в шатре.
— Естественно, — сказал Евмен и вышел.
Спустя недолгое время Александр еще раз вызвал друзей, чтобы сообщить им о своем намерении во время похода на север перевезти сокровища из Персеполя в Экбатаны. Евмен немало удивился такому решению: оно показалось ему совершенно бессмысленным, не говоря уж о страшной дороговизне подобного предприятия. Он попытался высказать свое мнение, но увидел, что решение царя непреклонно.
Только для этой операции, продолжавшейся два месяца, пришлось организовать караван из пяти тысяч пар мулов и десяти тысяч верблюдов, так как на горных дорогах Мидии использование повозок было почти невозможно.
Евмену так и не удалось узнать мотив этого поступка, казавшегося столь странным и рискованным. Каждый раз, когда он просил объяснить, Александр отвечал смутно и уклончиво и все его слова звучали неубедительно. Наконец секретарь отказался от дальнейших расспросов, но в глубине его сердца осталось какое-то мрачное предчувствие.
ГЛАВА 25
Некоторое время товарищи подчинялись приказам Александра, но потом Гефестион попросил разрешения вернуться во дворец, так как хотел быть рядом с царственным другом, и Александр не смог ему отказать. Потом он не решился отказать в возвращении и прочим, которые под тем или иным предлогом добились позволения снова занять свои жилища в городе, дав торжественную клятву вести более простую и воздержанную жизнь. Так прошла почти вся весна. Опустошенный город начал понемногу залечивать самые тяжелые раны, но было ясно, что таким, как раньше, ему уже не бывать. Тем временем из северных, еще не покоренных провинций великого царства пришло известие о том, что Дарий собирает новое войско и готовится к обороне в горах Кавказа у Каспийского моря, и Александр решил, что пора выступать. Для достойного завершения этого затянувшегося отдыха он устроил праздник и пиршество, которое надолго всем запомнилось.
Все залы необъятного дворца осветили, как днем, сотнями ламп; повара царской кухни принялись за работу, стряпая самые изысканные кушанья; дворцовые евнухи отобрали самых красивых юношей и самых привлекательных девушек, чтобы те в полуголом виде, по греческому обычаю, прислуживали за столом, а в центре пиршественного зала установили массивные золотые вазы, взятые из сокровищницы Великого Царя, чтобы использовать в качестве кратеров для вина и ароматных пряных напитков, приготовленных по восточным рецептам.
На столы выставили золотые и серебряные кубки из утвари Великого Царя и повсюду расставили вазы с розами и лилиями, срезанными в дворцовых садах, единственных сохранившихся во всем городе.
Праздник начался вскоре после захода солнца, и Евмен отметил, что симпосиархом назначили Гефестиона, и тот, воспользовавшись этим, объявил, чтобы вино подавали по-фракийски, то есть не разбавляя.
— Ты не принимаешь участия в празднике? — вдруг спросил Каллисфен, возникая у секретаря за спиной.
— Я не голоден, — ответил Евмен. — И потом, нужно следить, чтобы все шло, как положено.
— А может быть, ты просто предпочитаешь оставаться трезвым, чтобы полюбоваться представлением?
— Каким представлением?
— Кто знает, но определенно что-нибудь да произойдет. Этот праздник — полная бессмыслица. Нелепица. Я вошел через западные ворота — дворец представляет собой полный контраст с опустошенным темным городом. Мы здесь уже несколько месяцев, а Александр не приказал восстановить ни одного дома.
— Но с другой стороны, он никому не мешал восстанавливать.
— Нет, не мешал. Но он не сделал ничего, чтобы знать и богачи не покинули город. Осталась только беднота, а это означает, что город обречен на смерть. А ведь с этим городом…
Евмен поднял руку, словно отгоняя кошмарное видение:
— И слушать тебя не хочу.
— Где Парменион? — спросил Каллисфен, явно для того, чтобы сменить тему разговора.
— Здесь его нет.
— И это, похоже, ничего тебе не говорит. А Черный?
— Я его не видел.
— Вот именно. И мне даже думается, что их не было в списке приглашенных. Зато посмотри, кто идет.
Евмен обернулся и увидел Таис, прекрасную афинянку, босую, в очень смелом наряде — вроде того, в котором она впервые танцевала перед царем.
— Полагаю, она спала с Александром, — продолжил Каллисфен, — и это, по-моему, не сулит ничего хорошего.
— И, по-моему, тоже, — ответил Евмен, — но это еще не значит, что беда не приходит одна.
Каллисфен не ответил. Он направился к дворцовым воротам, названным в честь Ксеркса, и вышел на заднюю колоннаду. Отсюда, со склона возвышавшейся над дворцом горы, были видны высеченные в скале гробницы Ахеменидов, освещенные ритуальными лампами, и среди них выделялась так и не завершенная могила Дария III. Из дворца слышались крики приглашенных, становившиеся все громче и громче, пока, наконец, не поднялся непристойный галдеж.
В какой-то момент историк услышал музыку, пробивавшуюся сквозь нестройный гомон. Она звучала под ритмический аккомпанемент барабанов и тимпанов. Пронзительная мелодия, видимо, сопровождала оргиастический танец. Каллисфен возвел глаза к небу и пробормотал:
— Где ты, Аристотель?
Тем временем Евмен, зайдя в ападану, понял, что пир быстро превращается в оргию. Таис, почти совсем голая, кружилась в танце под аккомпанемент крошечных тимпанов, которые держала в пальцах. При каждом пируэте короткий хитон развевался, открывая ее великолепные формы, демонстрируя лобок и мраморные ягодицы. Собравшиеся выкрикивали при этом всевозможные непристойности.
Вдруг девушка остановилась, поднялась на цыпочки и медленно, со сладострастными кошачьими движениями, все так же под аккомпанемент музыки, словно отслеживающей перемену в ее движениях, опустилась на корточки. Снова поднявшись, она, уподобляясь менаде, взяла тирс с шишкой на конце и в экстазе громко выкрикнула:
— Комос!
Таис двигалась среди леса колонн, как менада среди стволов деревьев, зазывая всех на оргиастический танец. Александр отозвался на ее клич первым:
— Комос!
И все присоединились к нему. Другой рукой Таис схватила торчавший в стене факел и повела страстный хоровод через зал для аудиенций, по коридорам, по спальням чудесных царских апартаментов. За ней следовали все участники пиршества: мужчины с возбужденными членами, полуголые или совершенно обнаженные женщины, подстегивающие похоть самыми сладострастными телодвижениями.
— Бог Дионис среди нас! — выкрикнула Таис с горящим взглядом, отражающим огонь факела, которым она размахивала.
— Эвоэ! — в восторге завопили женщины и мужчины, опьяненные вином и похотью.
— Отомстим за наших солдат, павших на поле боя, за наши разрушенные храмы, за наши сожженные города! — выкрикнула девушка, и под ее взглядом Александр бросил свой факел на тяжелую пурпурную портьеру, висевшую у двери.
— Отомстим! — подхватил Александр, словно не в себе, и бросил другой факел на массивное кедровое кресло.
Евмен, который крался за ними, прижимаясь к стенам, беспомощно взирал на это бесчинство. Он непрерывно искал взглядом кого-нибудь, кто остановил бы охватившее всех безумие. Но в кружении распаленных мужчин и женщин не было ни одного, у кого в глазах оставался хотя бы проблеск рассудка.
С шумом взметнулось пламя, и зал озарился алым светом. Гости, словно одержимые демонами, с криками разбежались по необозримым помещениям, по дворам и портикам, предавая все огню.
Скоро по всему великолепному дворцу бушевал огонь. Сотни колонн из ливанского кедра вспыхивали, как факелы; оранжевые языки лизали потолки и распространялись на балки и кессоны, стонавшие и трещавшие в неистовстве пожара.
Жар стал невыносимым, и все бросились наружу, во двор, продолжая плясать, распевать и кричать. Потрясенный и встревоженный, Евмен вышел в боковую дверь и, спускаясь по лестнице, увидел, как на ковре в зале совершенно нагая Таис, стеная и извиваясь в экстазе, ублажала сразу двоих, Александра и Гефестиона.
Жители Персеполя, какие еще оставались в разоренной столице, выбежали из своих лачуг на улицу и смотрели на это бесчинство: несравненный дворец Великих Царей, пожираемый пламенем, рухнул, подняв вихрь искр и столб черного дыма, заслонившего звезды и луну. Люди взирали на огонь, остолбенев, и из глаз их текли слезы.
На следующий день то, что раньше было прекраснейшим в мире дворцом, превратилось в груду дымящейся золы высотой кое-где до четырех-пяти локтей. Над пепелищем торчали только каменные колонны с капителями в форме крылатых быков. Остались порталы, тронное возвышение, фундаменты и лестницы с изображением великой новогодней процессии и Бессмертных из царской стражи, окаменевших на грядущие тысячелетия немых свидетелей катастрофы.
К утру Александр пришел в свой шатер в лагере, где, обессилевший и изнуренный, рухнул на постель и провалился в тяжелый беспокойный сон.
Вскоре после рассвета явился Парменион, и педзетеры стражи тщетно пытались остановить его, скрестив копья перед входом. Старый воин рычал, как лев:
— Прочь с дороги, клянусь Зевсом! Расступитесь! Мне нужно увидеть царя.
Лептина встретила его с поднятыми руками, словно тоже загораживая путь, но он отодвинул ее грубым жестом и сверкнул взглядом на поднявшего лай Перитаса:
— Ты, иди спать!
Александр вскочил с постели и, схватившись за раскалывающуюся голову, крикнул:
— Кто посмел…
— Я! — так же громко крикнул Парменион.
Александр приглушил свое бешенство, словно ожидая, что сейчас в шатер войдет Филипп собственной персоной. Он подошел к тазику и окунул голову в холодную воду. Потом, как был голый, приблизился к нежданному гостю.
— В чем дело?
— Зачем ты это сделал? Этому тебя учил Аристотель? Такой умеренности, такому почитанию всего прекрасного и возвышенного? Всему миру ты продемонстрировал свою первобытную дикость, проявил себя высокомерным мужланом! И этот неотесанный пастух возомнил себя богом! Тьфу! Я пожертвовал своей жизнью ради твоей семьи, я пожертвовал сыном ради этого похода, я водил твои войска в сражения. Я имею право требовать от тебя ответа!
— Любой другой, кто позволил бы себе разговаривать со мной подобным образом, был бы уже мертв. Но тебе я отвечу. Я скажу, зачем я это сделал. Я позволил разграбить Персеполь, чтобы греки знали: только я — истинный мститель за беды Эллады, только меня они могут признать, только мне удалось завершить вековое противостояние. И я хотел… да, я хотел, чтобы афинская девка сожгла великий дворец Дария и Ксеркса. А с другой стороны, если разрушен город, зачем сохранять дворец? Я оставил его на недолгое время, чтобы успеть перевезти сокровища и архивы в Экбатаны и Сузы.
— Но…
— Мы скоро выступаем, Парменион. Мы будем преследовать Дария в самых отдаленных провинциях его державы. Этот дворец, оставь я его невредимым со всеми его богатствами, стал бы слишком сильным искушением для всякого, даже для назначенного мною правителя-македонянина. Самый воздух, который ты вдыхаешь в этих грандиозных залах, эти скульптуры, расставленные повсюду, постоянное напоминание о величии Ахеменидов и их трона… Пустого трона! Золото, сваленное грудами в неимоверном количестве под этими сводами, любого сделало бы самым могущественным человеком на земле. Десятки знатных персов испытали бы искушение завладеть этими сокровищами любой ценой! Они попытались бы сесть на этот трон, взять в руку этот скипетр, а это вызвало бы новые войны, кровавые, изнурительные, бесконечные. И я должен был это позволить? У меня не было выбора, Парменион, не было выбора, понимаешь? Если не хочешь поворачивать назад, нужно разорить это гнездо. Верно, я уничтожил чудо, но кто мне мешает восстановить его, когда придет время? Кто помешает построить здание еще больше и чудеснее? Но пока что я уничтожил символ Персии и ее царей, я показал грекам, что прошлое мертво, что это прах, что нарождается новая эра. Прекрасная эра, необычайно прекрасная. И потому было опасно оставлять его на своем месте.
Парменион повесил голову: оргия, танцы, призывы к богу Дионису, священная одержимость, о которой незадолго до того говорили Евмен и Каллисфен, — все было рассчитано, все подстроено; театральное представление, несомненно, реалистичное, но все же представление! Александр был способен и на это, он оказался прекрасным актером и превосходил опытом Фессала, своего любимого исполнителя. А причины, которые он назвал в защиту своих действий, с политической, военной и идеологической точек зрения были безупречны. Этот юноша мыслил и действовал как властелин мира!
Царь принес из своей библиотеки свиток и протянул Пармениону:
— Прочти, это пришло сегодня ночью: Антипатр сообщает мне, что война против спартанцев выиграна. Царь Агид погиб в бою под Мегалополем, и больше никто в Греции не противостоит моей власти верховного полководца всеэллинского союза. По-моему, я поступил правильно: выполнил мое обещание разгромить вечного врага греков. А разгром означает и разрушение этого дворца. Теперь я думаю лишь об одном — о том, что должен следовать за своим предназначением.
Парменион не без труда, так как его зрение сильно ослабло, разобрал строки письма от Антипатра и тогда понял, что хотел сказать ему царь.
Александр положил руку ему на плечо и со смесью грубоватой нежности и военной суровости посмотрел на старого воина.
— Приготовься, — велел он. — Собери войско, восстанови железную дисциплину. Мы выступаем.
ГЛАВА 26
На исходе весны войско выступило в поход. Оно направилось на север, поднимаясь к центру плоскогорья, и оставив пустыню справа, а покрытые снегом Эламские горы — слева. Оно сделало четыре перехода, пройдя в общей сложности двадцать парасангов, и поздним вечером приблизилось к Пасаргадам, древней столице Кира Великого, основателя династии Ахеменидов. Это был маленький городок, населенный в основном пастухами и крестьянами, а в центре его сохранился первый из всех парадиз — дивный парк, окружавший старый дворец Кира. Сложная система ирригации с забором воды из родника, что бил у основания холмов, орошала свежую зеленую лужайку, розовые кусты, кипарисы и тамариски, душистый дрок, тисы и можжевельник. Сбоку, с западной стороны, в одиночестве возвышалась величественная гробница Основателя.
Она имела простую форму и представляла собой квадратный двускатный шатер из шкур. Такими шатрами пользовались степные кочевники, от которых четыре века назад и произошли персы. Бывшие ранее подданными индийцев и их царя Асиага, впоследствии они завоевали огромные территории. Простое строение располагалось на внушительном каменном фундаменте, выстроенном в шесть уступов, как месопотамская башня; его окружала колоннада, внутри которой виднелся сад с тисовыми деревьями, очень ухоженными и аккуратно подстриженными.
За могилой все еще ухаживали несколько магов, и один жрец каждый день совершал церемонию в честь великого монарха. Увидев приближающегося Александра, они испугались, так как слышали о том, что он сделал с Персеполем, но царь успокоил их.
— Что сделано, то сделано, — сказал он, — и больше не случится. Прошу вас, позвольте мне осмотреть этот памятник. Я хочу воздать честь памяти Кира.
Жрец открыл дверь в святое место и впустил молодого царя, который молча огляделся. Проникший через дверь солнечный луч осветил грубый саркофаг, на котором была лишь короткая надпись:
Я КИР, ЦАРЬ ПЕРСОВ
НЕ НАНОСИ ВРЕДА МОЕЙ МОГИЛЕ
Внизу на костыле висели доспехи великого завоевателя: панцирь из железных чешуи, шлем-шишак, круглый щит и меч из чистого железа с рукоятью из слоновой кости — единственным ценным украшением во всей паноплии.
Над плоскогорьем царила тишина, и слышался лишь легкий свист ветра, ласкавшего величественную одинокую могилу. В этот момент Александр глубоко прочувствовал всю переменчивость человеческой судьбы, эфемерность происходящих событий. Державы возвышались и рушились, уступая место другим, которые в свою очередь достигали величия, чтобы потом тоже кануть в забвение. Неужели бессмертие — лишь сон? В этот момент Александр так сильно ощутил присутствие своей матери, что ему показалось, будто он может коснуться ее, если протянет руку к темной стене святилища. Ему даже послышался ее голос:
«Ты не умрешь, Александрос…»
Он вышел на площадку наверху лестницы и, вдохнув сухой душистый ветер плоскогорья, ощутил, как его заполняет этот ярчайший свет. Опустив глаза, чтобы сойти, он увидел Аристандра, как будто ожидавшего его.
— Как ты здесь оказался, ясновидец? — спросил царь.
— Мне послышался голос.
— И мне тоже — голос моей матери.
— Будь бдителен, Александрос, помни случай с Ахиллом, — предостерег его Аристандр и удалился; ветер развевал его плащ, как знамя.
На следующий день они пересекли территорию одного племени, признававшего власть Великого Царя, и покорили его, но чуть дальше, поднимаясь все выше к Мидийскому нагорью, Александр получил донесение от Евмолпа из Сол:
Царь Дарий находится в Экбатанах, где пытается набрать войско из скифов и кадусиев, используя сокровища царского дворца. Свой гарем он отослал на восток через Каспийские ворота. Важно, чтобы ты как можно скорее подошел к городу, иначе тебе придется выдержать тяжелый бой с неизвестным исходом: скифы и кадусии — неутомимые наездники и довольно опасны. Они не атакуют в лоб, а совершают набеги и тут же обращаются в бегство, лишая противника ориентации и изнуряя его постоянными наскоками. Помни, что еще Кир и Дарий Великий потерпели поражение от скифов.
Прочитав донесение, Александр решил выступить немедленно с конницей и пехотой, выстроив войска в боевые порядки, а охрану обозов и сокровищ доверить Пармениону, в распоряжении которого оставил всего три отряда педзетеров и один — легкой пехоты из фракийцев и трибаллов. Оставалась всего одна не захваченная столица Царя Царей, последняя.
Войско начало форсированным маршем взбираться на горы, по мере возможности двигаясь по долинам и вдоль рек, где идти легче. Пейзаж делался все живописнее из-за буйных красок базальтово-черных горных склонов и заснеженных вершин, сверкавших сапфирами в солнечных лучах. Внизу раскинулась золотисто-рыжая пустыня, на которой зелеными островками выделялись оазисы с земледельческими и пастушьими поселениями. По краям долины, у родников и ручьев с чистейшей водой, стояли деревни, и во время прохождения войска жители выходили из домов и шалашей — посмотреть на этих чужаков, что ездили верхом без штанов и носили странные головные уборы с широкими полями.
Время от времени показывались одинокие каменные башни с ведущими наверх лестницами — башни молчания, где обитатели этих земель оставляли своих умерших, чтобы те растворились в природе, не оскверняя ни земли, ни огня. И Александру снова вспомнилась Барсина, оставленная на грубом возвышении в неприветливой пустыне у Гавгамел, и юный Фраат, вернувшийся в Памфилию со своим дедом — единственным оставшимся у него родственником. Какие мысли одолевают теперь мальчика? Мечты? Желание отомстить? Или просто печаль сироты?
Пролетели десять дней похода по все более тесным долинам, и, наконец, показались великолепные Экбатаны в окружении короны заснеженных гор и зеленой долины. Верхний край стены и крепостные зубцы, украшенные синими изразцами и золочеными листами, сверкали, как тиара на голове царицы. Чистым золотом сияли шпили дворцов и храмов. Александру вспомнилось, как в Пелле персидский гость описывал это чудо. Для него самого, едва вышедшего из детского возраста, тогда это казалось сказкой; мальчик Александр смотрел в черные, глубокие глаза собеседника, на его черную завитую бороду, церемониальный меч с толстой позолотой, и этот человек казался ему посланником сказочной страны. И вот этот легендарный город у него перед глазами.
Рядом ехал Оксатр, сын Мазея, сатрапа Вавилонии, двоюродный брат Великого Царя по материнской линии, честолюбивый юноша, горевший желанием отличиться на глазах у нового господина. Он пришпорил коня и, подскакав к стене, обменялся со стражей несколькими словами. Потом вернулся к Александру и обратился к нему на своем ломаном, но уже более-менее понятном греческом:
— Великий Царь Дарий — нет. Он не сражается, он убегает с сокровищем и войском.
— В какую сторону?
— Туда, — ответил юноша, указывая на север. — Сатрап сдается.
Александр кивнул, что понял, и дал знак войску подойти к городским воротам, которые как раз в это время уже открывались. Все двинулись в полном порядке; была восстановлена железная дисциплина, и за малейшее нарушение наказывали плетьми, если не чем-нибудь похуже.
Парменион со своими войсками и караваном прибыл через два дня, к вечеру. Ему потребовалось пять суток, чтобы войти, разгрузить и вывести с другой стороны двадцать тысяч голов вьючного и тяглового скота, привезшего на себе сто двадцать тысяч талантов царских сокровищ, в среднем по шесть талантов на каждое животное. Этот груз значительно замедлил переход.
Когда операция завершилась и войско расположилось лагерем за городскими стенами, Александр пригласил старого военачальника на ужин. Ужин был очень легким, если не сказать скудным, и совсем не подавали вина, а только воду.
«Раскаяние за излишества в Персеполе», — подумал Парменион, откусывая испеченный в золе персидский хлеб.
— Что ты расскажешь о моем двоюродном брате, царевиче Аминте? — начал Александр. — Я спрашиваю, можно ли ему доверять или же следует по-прежнему держать его под надзором?
— В царских архивах ничего не выплыло?
— Чтобы разобраться в царских архивах, потребуются месяцы, если не годы. А пока, насколько я знаю, Евмен не нашел ничего относящегося к убийству моего отца или возможной связи Аминты с Дарием. Во всяком случае, я думаю, нам следует быть осмотрительными и продолжить надзор.
Александр отпил воды и, чуть помолчав, сменил тему разговора:
— Мне жаль, что между нами возникали разногласия…
— Я привык говорить то, что думаю, государь, как и при твоем отце.
— Знаю. Но теперь послушай меня. — Между тем повар разносил овощи, зелень и чашки с кислым молоком. — Я буду преследовать Дария, пока не догоню и не навяжу ему последний бой. После этого вся держава будет всецело принадлежать нам. Чтобы сделать это, мне нужен здесь, в Экбатане, кто-то, кто будет защищать мой тыл, и обеспечивать связь с Македонией, снабжение, посылку подкреплений и все такое, а, кроме того, позаботился о царских сокровищах. Такой человек — ты, Парменион; только тебе я могу довериться. Что касается повседневного администрирования, я возложу его на Гарпала. Это смышленый парень, и Евмен его ценит. Ну, что скажешь?
— Понятно. Я слишком стар, и ты больше не хочешь идти со мной в бой, а отсылаешь на покой, и…
— Конечно, ты стар, — ответил Александр со странной улыбкой, а потом выкрикнул: — Конечно, ты стар — учитывая, что сегодня тебе исполняется семьдесят!
При этих словах оглушительный хор позади шатра запел:
Тут ввалились все товарищи Александра, Филот, Евмен и его помощник Гарпал, волоча с собой кур, гусей, жареного теленка, огромный кратер с вином, вертел с куропатками и два — с фазанами и множество всевозможной снеди. По такому случаю пригласили и второго сына Пармениона — Никанора.
Леоннат сбросил на пол овощи и бурдюки с кислым молоком:
— Долой эту гадость! Давайте есть, есть!
Увидев приготовленный в его честь богатый праздник, Парменион растрогался и украдкой вытер глаза. Александр подошел к нему с запечатанным свитком и с улыбкой протянул его:
— А это мой подарок на день рождения.
Парменион развернул и без труда прочел, поскольку написано было специально крупными буквами: царь жаловал ему прекраснейший дворец в Сузах, еще один в Вавилоне и третий — в Экбатанах, а обширные владения в Македонии, Линкестиде и Эордее и пожизненное жалованье в сто пятьдесят талантов. В другом свитке было назначение его сына Филота командующим всей конницей. На документе стояла царская печать и удостоверяющая подпись: «Евмен из Кардии, царский секретарь».
— Государь, я… — начал было Парменион дрожащим от волнения голосом, но царь прервал его:
— Ни слова, друг мой; это гораздо меньше того, что ты заслужил. Все мы желаем тебе счастливо дожить до ста лет и дольше. Что касается твоего назначения, то тебе дается самый важный и ответственный пост к востоку от Проливов, ведь ты единственный человек, на которого я могу всецело положиться.
Парменион прочел лист с назначением Филота и сказал:
— Ты видел, сынок? Видел? Вот, покажи это и своему брату.
Царь обнял старика, а товарищи захлопали в ладоши, и пир продолжался до глубокой ночи. Друзья вернулись в свои шатры лишь во вторую стражу, все пьяные, включая и Пармениона.
ГЛАВА 27
Александр хотел остановиться на самый краткий срок, а затем немедленно пуститься преследовать Дария, но пришлось выполнить множество дел, а, кроме того, написать письма: матери, продолжавшей жаловаться на обращение с ней Антипатра, Антипатру, выигравшему войну со Спартой, но продолжавшему жаловаться на стычки с Олимпиадой, а также многим сатрапам и наместникам.
— Как ты собираешься решать проблему взаимоотношений Антипатра и твоей матери? — спросил его Евмен, запечатывая письмо. — Ты не можешь продолжать делать вид, будто ничего не замечаешь.
— Нет, не могу. Но Антипатр должен понять, что одна слеза моей матери стоит больше, чем тысяча его писем.
— И это тоже несправедливо, — возразил секретарь. — На Антипатра возложены тяжелые обязанности, и ему нужно сохранять спокойствие.
— Но ему также дана и вся власть, а моя мать, в конце концов, царица Македонии. Нужно и ее понять.
Евмен покачал головой, увидев, что ничего тут не поделаешь. С другой стороны, царь не виделся с Олимпиадой уже четыре года. Несомненно, он хранит о ней лишь хорошие воспоминания. А также очень тоскует по своей сестре Клеопатре, которой не прекращал посылать нежные письма.
Покончив с корреспонденцией, Александр сказал:
— Я решил уволить греческих союзников.
— Почему? — спросил Евмен.
— Мы снова прочно держим в руках всеэллинский союз, и у нас достаточно денег, чтобы нанять любое войско. Кроме того, греки, вернувшись домой, расскажут обо всем, что видели и совершили, и это окажет сильное влияние на народ. Куда более сильное, чем фундаментальная «История», которую пишет Каллисфен.
— Однако они грозные воины, и…
— Они устали, Евмен, а нас ожидает долгий поход. Когда-нибудь эллины могут почувствовать, что слишком далеко ушли от родного дома, и принять опрометчивое решение в самый неподходящий момент. Лучше избежать этого. Завтра же собери их вне лагеря.
По многим признакам греки поняли, что их ждет нечто важное: предрассветный час, приказ собрать вещи и повозки и надеть безукоризненно начищенные доспехи.
Александр выехал к ним на Букефале в полном вооружении и в сопровождении охраны. Подождав, пока первые лучи солнца заиграют на оружии гоплитов, он начал речь:
— Союзники! Ваш вклад в нашу победу был весьма важен, а в некоторых случаях сыграл решающую роль. Никто из нас не забыл греческую пехоту в день битвы у Гавгамел, сдержавшую на правом фланге непрестанные атаки Бесса с его индийской конницей. Вы проявили храбрость, доблесть и верность присяге — служить всеэллинскому союзу и его верховному командующему. Вы совершили то, чего не совершал никто из греков, даже участники Троянской войны: вам удалось завоевать Вавилон, Персеполь, Экбатаны. И теперь для вас настал момент насладиться плодами ваших дел: я освобождаю вас от присяги и отпускаю. Каждый из ваших командиров получит по таланту, каждый солдат — по тридцать мин серебра, не считая денег на дорожные расходы, чтобы добраться до Греции. Я благодарю вас. Возвращайтесь к вашим семьям, к вашим детям, в ваши города!
Александр ожидал взрыва радости и аплодисментов, но вместо этого услышал ропот, быстро переросший в ожесточенные споры.
— В чем дело, солдаты? — снова крикнул он, озадаченный. — Я недостаточно заплатил вам? Вы не хотите возвращаться?
Один командир, некий Элиодор из Эгиона, вышел вперед и сказал:
— Государь, мы благодарны тебе и рады, что ты так высоко ценишь нашу помощь. Но мы не хотим покидать тебя.
Александр недоверчиво посмотрел на него, а тот продолжил:
— Мы сражались с тобой бок о бок и научились тому, чему не мог нас научить никто другой; мы справились с задачами, которые до нас не снились ни одному солдату. Многие из нас спрашивают, что еще ты собираешься совершить, какие еще земли завоевать, какие отдаленные места позволишь увидеть тем, кто служит под твоим знаменем. Конечно, многие примут твое предложение и вернутся по домам. Я знаю, что многие покинут тебя с печалью в сердце, потому что за это время мы научились восхищаться тобой и любить тебя. А у некоторых нет семьи… Иные же считают, что для них важнее следовать за тобой, куда ты захочешь, и с честью сражаться, если понадобится, рискуя жизнью. Если эти люди тебе нужны, то они предпочли бы остаться.
Закончив свою речь, он встал обратно в строй.
— Таких солдат, как вы, очень мало, и вы окажете мне честь, если кто-то из вас захочет остаться, — ответил Александр. — Но оставшиеся больше не будут считаться союзниками, посланными от своих городов. Они станут служить частным образом, как профессиональные солдаты. Я положу каждому жалованье в шестьсот драхм за весь поход, а если кому-то суждено пасть в бою, эта сумма будет выплачена семьям. Кто хочет остаться — выйти из строя на три шага; остальные могут в любой момент уйти и унести с собой мою благодарность, мою дружбу и лучшие чувства.
Солдаты долго били копьями в щиты, громко выкрикивая имя царя, как это делали македоняне. Потом пожелавшие остаться вышли на три шага из строя, и Александр увидел, что их почти половина.
В тот же день греки, решившие вернуться домой, отправились в путь. Когда они проходили между пехотой и конницей, выстроившимися на прощание с двух сторон, трубы играли сигнал отбоя, а когда Парменион лично скомандовал:
— Оружие… салют! — у многих бывалых воинов, переживших всевозможные опасности и передряги, на глазах выступили слезы.
Как только греки исчезли за первым поворотом дороги, и затих бой барабанов, Александр велел снова трубить в трубы и войско двинулось вдогонку Великому Царю. Оксатр, знавший кратчайший путь, вызвался с двумя своими наемниками-скифами пойти вперед и галопом ускакал.
Войско двигалось по широкому нагорью, где то и дело показывались маленькие антилопы и дикие козы, а ночью временами раздавалось рычание льва. Темп марша был почти невыносимым, многим пехотинцам пришлось остановиться из-за пораненных ног, и немало вьючных животных рухнуло под тяжестью ноши, но Александр не хотел слушать никаких доводов и продолжал подгонять людей и животных, заставляя их двигаться все быстрее. Ночью он позволял поспать лишь несколько часов под открытым небом, не разбивая шатров, чтобы не давать Дарию передышки.
Ветеранам вспомнилось, как однажды от берегов Истра они добрались до Фив всего за тринадцать дней, и сам Александр ночевал на земле вместе с простыми солдатами, накрывшись военным плащом. Временами удавалось найти укрытие в караван-сараях, рассеянных вдоль дороги в восточные провинции, но постройки вмещали только больных или тех, кто совсем изнемог.
Воздух становился все более разреженным и пронизывающим, особенно по вечерам, и Евмен снова стал надевать штаны, в которых чувствовал себя гораздо лучше. За шесть дней форсированного марша на восток войско миновало внушительную горную цепь с заснеженной вершиной невиданной высоты и добралось до входа в ущелье, называемое Каспийскими воротами. В нижней части ущелье имело горловину, по которой бежал ручей, а склоны были такими крутыми, что даже агрианам доставило бы немалого труда на них влезть.
— Если они устроили нам здесь засаду, — сказал Черный, — то запросто разнесут нас в клочья.
Казалось невозможным, чтобы Дарий не воспользовался таким преимуществом. Александр посмотрел вверх, на отвесные склоны и орла, медленно кружащего в вышине.
— Думаешь, там, наверху, кто-то есть?
— Существует лишь один способ убедиться в этом.
— Агриане!
— Я сейчас же пошлю их на разведку.
Вскоре оставшиеся у горловины солдаты, задрав головы, смотрели на акробатическое представление штурмовиков-агриан, взбиравшихся по отвесным скалам. Горцы вбивали в стену маленькие костыли, чтобы цепляться на гладких обрывах, а потом с неутомимой энергией поднимались по этой импровизированной лестнице. У одного из скалолазов, почти добравшегося до верха, нога соскользнула с опоры, пока он пытался схватиться рукой за костыль, и несчастный упал на скалы и разбился. Его товарищи продолжали подниматься. Несколько человек из долины поднялись туда, где между двух скал застрял изуродованный труп. Его сняли и с большим риском доставили вниз, а потом уложили на носилки и накрыли плащом.
Тем временем другие, почти двадцать человек, добрались доверху и рожком дали сигнал, что можно двигаться. Войско Александра прошло, не встретив никакого сопротивления Великого Царя. На первом же привале агриане устроили погребение своего погибшего товарища. Его положили на костер из сосновых ветвей и сожгли, хором затянув унылую песнь. Потом, собрав в урну прах с оружием и пряжкой плаща, напились вина и галдели весь остаток ночи.
ГЛАВА 28
Незадолго до окончания четвертой стражи задремавший Александр услышал, как залаял Перитас.
— В чем дело? Почуял что-то? Молодец, молодец… Это волк или рысь.
Он поднял глаза к небу и увидел костры, которые агриане разожгли по сторонам горловины в знак того, что путь свободен. Потом донеслось какое-то шарканье и неясный говор.
— В чем дело? — повторил Александр громче.
Вперед вышел Гефестион.
— Это вернулся со своими скифами Оксатр. Хочет поговорить с тобой.
— Оксатр? Пусть пройдет.
Из глубины ущелья приблизились трое всадников, вооруженные и с луками на плечах, все в пыли. Совершенно изнуренный Оксатр слез с коня и пошатнулся. Вероятно, он не чувствовал ног от непрерывного пребывания в седле.
— Царь Дарий отстранен от власти и взят под стражу Бессом, сатрапом Бактрии, — еле переводя дух, проговорил он.
— Тем собачьим сыном, который при Гавгамелах чуть не обошел нас справа, — добавил Леоннат.
Оксатр обратился за помощью к толмачу, чтобы его правильно поняли наверняка, и продолжил:
— Царь покинул Экбатаны с шестью тысячами конницы, двадцатью тысячами пехоты и семью тысячами талантов царской казны, намереваясь оставить за собой выжженную землю и ждать тебя у Каспийских ворот. Но его солдаты, видевшие, что он все время убегает, были деморализованы. Да тут еще они узнали, что ни скифы, ни кадусии не пошлют своих войск в подкрепление. Многие дезертировали. Мы сами встретили несколько таких — они и дали нам эти сведения. По ночам дезертиры покидали лагерь и рассеивались по горам или по пустыне, а тем временем эстафеты сообщали о приближении твоего авангарда. Тогда Бесс при поддержке других сатрапов, Сатибарзана, Барзаента и Набарзана, арестовал царя, заковал его в цепи и, заперев в повозке, направился как можно быстрее в самые отдаленные восточные провинции.
— Где они сейчас? — спросил Александр.
В это время его товарищи оделись и облачились в доспехи, кто-то разжег огонь, и все собрались вокруг костра, догадываясь, что скоро предстоит дело.
— Приблизительно на полпути отсюда к Гекатомпилосу, индийской столице. Но проход свободен, и если ты отправишься с конницей, то успеешь их нагнать. Отвратительно, что этот честолюбивый изменник сейчас наслаждается плодами своего предательства. Если хочешь наказать его, я отправлюсь с тобой и буду проводником.
— Сдается мне, ты не в состоянии больше ехать верхом, — ответил Александр. — Ты совсем измучен.
— Дай мне что-нибудь съесть и размять ноги, и увидишь.
Александр сделал знак Лептине, подошедшей с «чашей Нестора», и велел подать ее Оксатру.
— Попробуй-ка вот этого, — обратился он к своему разведчику. — Воскрешает даже мертвых. — Потом обернулся к товарищам: — Все конные части приготовить к немедленному выступлению.
Иного они и не ждали. Через несколько мгновений трубы протрубили сбор, и вскоре Александр, вскочив на коня, пустился галопом по ущелью. Рядом скакал Оксатр, а следом — Гефестион, Птолемей, Пердикка, Кратер и все прочие. Постепенно пространство в узкой горловине заполняли отряды гетайров.
Они мчались несколько часов, останавливаясь лишь по необходимости, чтобы дать отдых коням. При приближении к спускавшейся к городу долине горловина расширялась, а из-за заснеженных горных вершин Гиркании начинало выглядывать солнце. Вдруг Оксатр крикнул:
— Стойте! — и натянул поводья.
Конь остановился, храпя и блестя от пота. Александр с товарищами тоже остановились и, расположившись широким кругом, взялись за оружие. Царь обнажил меч, а Леоннат снял со скобы у седла свой топор. Все смотрели на Оксатра, указывающего на что-то в паре стадиев впереди.
— Это повозка из царских конюшен, — сказал тот. — Возможно, они ее бросили, чтобы быстрее бежать.
— Поедем вперед и будем начеку, — распорядился Александр. — Возможно, это ловушка. Гефестион, подходи оттуда, а Птолемей — отсюда. Ты, Пердикка, отправляйся вперед по дороге и посмотри, что за поворотом. Будь внимателен.
Оксатр направил коня шагом вперед, чтобы взглянуть поближе, за ним подъехали Александр с Леоннатом и Кратером.
Царская повозка стояла посреди дороги, очевидно, невредимая, с закрытой дверцей.
— Погоди, — сказал Леоннат Александру. — Позволь, я подойду первым. — Он слез с коня и, держа его под уздцы, открыл дверь, а, заглянув внутрь, прошептал: — Великий Зевс…
Александр тоже приблизился. В глубине повозки лежал царь Дарий в боевом наряде, но без знаков своего царского достоинства. Длинные черные волосы, завитая борода и густые усы контрастировали с мертвенной бледностью лица. На груди у него широко расплылось пятно крови, промочившей одежду до пояса. Руки его были связаны цепью. В знак презрения — золотой.
— Подлецы! — в негодовании выругался Александр.
— Быстрее, вытащим его! — воскликнул Птолемей. — Он может быть еще жив. Вызовите Филиппа, живо!
Двое солдат осторожно подняли тело Великого Царя и положили на подстилку, расстеленную на земле, а прибежавший Филипп опустился рядом на колени и приложил ухо к его груди.
— Мертв? — спросил Леоннат.
Филипп сделал знак молчать и продолжал прислушиваться.
— Невероятно… — проговорил он. — Он еще дышит.
Все переглянулись. Александр опустился на колени рядом с Филиппом:
— Можешь что-нибудь сделать для него?
Врач покачал головой и начал снимать с запястий монарха цепи.
— Только одно: дать ему умереть свободным. Это вопрос нескольких мгновений.
— Смотрите! — воскликнул Кратер. — Он шевелит губами…
Оксатр тоже опустился на колени рядом с Великим Царем, поднес ухо к его рту, и тут же встал на ноги. Его глаза блестели.
— Он умер, — сказал он дрожащим от волнения голосом. — Великий Царь Дарий Третий умер.
К нему подошел Александр:
— Он что-то сказал? — спросил он, — Тебе удалось расслышать его слова?
— Он сказал: «Месть!»
Александр посмотрел на своего врага. Остекленевший взгляд, в котором когда-то, на поле боя при Иссе, он увидел испуг, теперь вызвал у него глубокую жалость. Александр искренне сострадал человеку, который всего несколько месяцев назад сидел на самом высоком троне на земле, принимая божеское поклонение от миллионов подданных, а теперь, преданный и убитый своими же друзьями, лежал, брошенный на пыльной дороге. И ему пришли на ум стихи из «Падения Илиона», описывавшие недвижное тело Приама, убитого Неоптолемом:
И Александр прошептал:
— Я сам отомщу за тебя. Клянусь. — И закрыл ему глаза.
ГЛАВА 29
Александр Сизигамбис, Великой Царице-матери: здравствуй!
Твой сын Дарий умер. Не от моей руки и не моих солдат, а от рук собственных друзей, злодейски убивших его и бросивших на обочине дороги, ведущей на Гекатомпилос.
Я нашел его, когда он еще дышал, но мы ничем не могли ему помочь, кроме одного: мы поклялись отомстить за его бесславную гибель. Последняя его мысль была, несомненно, о тебе, так же как и мои теперешние мысли. Эта смерть нанесла мне такое же оскорбление, как и ему, поскольку лишила меня возможности честной схватки лицом к лицу, схватки, которая выявила бы победителя и побежденного и, во всяком случае, дала бы проигравшему погибнуть с честью.
Теперь я посылаю его к тебе, чтобы ты могла прижать его к груди в последний раз и оплакать, сопроводив в последний приют. Его тело приготовлено для долгого пути отсюда до скал Персеполя, где его ждет гробница рядом с другими царями.
Устрой самые торжественные похороны. Что касается меня, я не остановлюсь, покане найду убийц и не отомщу им за его смерть. Для матери нет большего горя, чем потерять сына, но прошу тебя, не кляни меня: тебе боги даровали возможность оплакать его и похоронить по обычаям предков. Моей же матери, которая ждет меня уже несколько лет, возможно, не будет дано даже этого.
Сизигамбис свернула письмо и долго плакала в уединении своей комнаты, потом позвала евнухов и велела им приготовить носилки и лошадей, траурные одежды и похоронные дары. На следующий день она отправилась в путь через страну уксиев, за которых ходатайствовала перед Александром.
Когда среди них распространилась весть о том, что царица-мать едет в Персеполь, чтобы похоронить своего сына, вдоль дороги собрался весь народ: мужчины и женщины, старики и дети в молчании встретили старую, убитую горем царицу и проводили ее до границ своей земли, до края нагорья, откуда уже виднелись камни сожженного города, колонны блестящего Новогоднего дворца, окаменевшие стволы пожранного огнем леса.
Она остановилась у ворот разоренного города, велела поставить шатер и там постилась до того дня, когда вдали на Экбатанской дороге показалась повозка, запряженная четверкой вороных коней. Повозка с телом ее царственного сына.
Вскоре Александр возобновил погоню за Бессом и его сообщниками. Через день он прибыл в город Гекатомпилос, где персидский командующий сдался без боя, а оттуда добрался до Задракарты, города в стране гирканцев. Теперь перед ним открылась бескрайняя ширь Каспийского моря.
Царь спешился и в набегавших волнах босиком побрел по прибрежным камням. Его товарищи шли следом, ошеломленные этой водной границей, обозначившей северный предел их похода.
— В какой части света мы, по-твоему, находимся? — спросил Каллисфена Леоннат, стоя рядом с ним перед морем.
— Дай мне твое копье, — ответил историк. Леоннат с недоумением дал. Каллисфен воткнул его в землю как можно более прямо, а потом тщательно измерил тень.
— Мы примерно на широте Тира, но не могу сказать, как далеко.
— А где кончается это море?
Каллисфен направил взгляд на бескрайнюю морскую гладь, в лучах заката окрасившуюся красным, а потом обернулся к Неарху: возможно, моряк может дать ответ на этот вопрос. Наварх наклонился, взял с берега несколько камешков и бросил один изо всей силы. Камень упал в воду, оставив распустившийся цветок концентрических кругов, которые затухли, дойдя до песчаного берега.
— Этого никто не знает, — сказал моряк. — Но если построить флот, я бы хотел поплыть вон туда, на север, к новым горизонтам, скрытым от нашего глаза. Узнать, северный ли это залив Океана, как говорят многие, или же озеро.
Пока они говорили, из лагеря послышался какой-то шум — возбужденные крики, песни и звуки веселья. Александр оглянулся:
— Что делается в лагере?
— Не знаю, — ответил Леоннат, забирая назад свое копье.
— Ну так иди, посмотри.
Леоннат вскочил на коня и галопом помчался к лагерю. По мере того как он приближался, крики и песни становились все громче и отчетливее. Вскоре он понял, чем вызвано все это веселье. Узнав о смерти Дария, солдаты решили, что война закончена, и распространился слух, что, наконец, все вернутся по домам. Они пили вино, и плясали, радуясь до умопомрачения, и распевали старые македонские песни, которые, казалось, уже успели позабыть, кое-кто собирал вещи в долгий обратный путь.
Леоннат соскочил на землю и остановил первого же проходящего мимо; это оказался пехотинец из фаланги педзетеров.
— Что здесь происходит, ради Геракла?
— Возвращаемся домой, разве не знаешь? Война закончена!
— Закончена? Кто сказал, что закончена?
— Да все говорят: Дарий мертв, война закончена. Возвращаемся по домам, возвращаемся по домам!
— Идиот! — крикнул Леоннат ему в лицо. — Скажи всем этим болванам, чтобы успокоились и прекратили галдеж. Лишь один человек может сказать, что война закончена, — Александр! Понял? Александр! А он ничего такого не говорил, могу тебя заверить.
Он оставил пехотинца, оглушенного, посреди лагеря и неуместной шумной гульбы, а сам поспешил к царю.
— Ну что? — спросил Александр.
Леоннат соскочил на землю и попытался растолковать увиденное:
— Вот, как тебе сказать…
— Ради Геракла, говори! Что происходит у меня в лагере?
— Не знаю как, но разошелся слух, будто бы война закончена и все возвращаются по домам… С тех пор как ты отпустил греков, они думали, что скоро придет и их черед, а поскольку Дарий уже мертв… Они устроили кутеж и…
Александр тут же вскочил на коня и помчался в лагерь. Едва подъехав, он вызвал трубачей и велел трубить сбор, два раза. Шум затих. Некоторое время раздавался еще смутный гомон, потом солдаты группами или по одному собрались в лагере на месте сбора, где в окружении своих товарищей с мрачным лицом стоял Александр. Он поднял руку, призывая всех к тишине, и начал:
— Солдаты! Что вы делаете? Ну, отвечайте! Пусть выйдут ваши командиры и скажут мне, что вы делаете!
Снова поднялся шум, и было видно, что от этого неожиданного охлаждения их веселья всех охватила растерянность. Один за другим вперед вышли командиры разных частей. Они коротко посовещались между собой у возвышения, а потом один ответил за всех:
— Государь, после того как ты отпустил греческих союзников, разнеслась весть, что ты собираешься отпустить и фессалийцев, и они стали собирать пожитки. А в это время мы узнали о смерти Дария, вот и подумали, что война закончилась и нас ты тоже отпустишь домой. Поэтому люди устроили праздник: они хотят вернуться к женам и детям, которых не видели уже четыре года.
— Это верно, — ответил Александр. — Я намереваюсь отпустить фессалийцев, как отпустил греков. Это наши союзники по всеэллинскому союзу, и их задача выполнена. Мы поклялись освободить греческие города в Азии и разбить векового врага греков, и мы сделали это. Мы завоевали все четыре столицы, Великий Царь мертв, но наша задача еще не выполнена. — При этих словах шум разочарования усилился. — Нет, солдаты, соратники в стольких битвах, друзья мои! На востоке мятежные сатрапы готовят контрнаступление, они собирают новое многотысячное войско и ждут лишь момента, когда мы отвернемся, чтобы нанести нам удар в спину. Они будут налетать на нас со всех сторон на своих резвейших скакунах, они не дадут нам передышки ни днем, ни ночью, они отравят все колодцы по пути нашего следования, сожгут запасы, разрушат деревни, где бы мы могли найти укрытие от зимних тягот. И наш путь назад после столь славной победы превратится в катастрофу. Этого вы хотите?
Ответом на вопрос царя стало молчание, полное разочарования и уныния. Эти люди, всегда сражавшиеся с неимоверным мужеством, встречавшие опасности, не думая о своей жизни, влекомые и словно зачарованные своим полководцем, теперь испытывали неуверенность и сомнение. Они видели перед собой неведомые земли и моря и как будто даже видели на небе изменение положения созвездий и теперь не имели представления, где находятся. И вдруг все почувствовали, как далеко они от дома, и впервые осознали, что Александр вовсе не собирается возвращаться, но хочет идти только вперед, все вперед и вперед. И они ощутили страх при мысли о том, что не вернутся уже никогда. Царь заговорил снова:
— Мы должны идти вперед! Должны найти их, разбить и установить нашу власть над всей державой, ранее принадлежавшей персам. Если мы этого не сделаем, все наши усилия, приложенные до сих пор, окажутся бесполезными, все, что мы построили, рухнет и никто не сможет быть уверен в возвращении. Солдаты! Я когда-нибудь не оправдывал вашего доверия? Когда-нибудь я обманывал вас? Может быть, я не отплатил вам щедро за ваши лишения и вы не верите, что я сделаю еще больше, когда мы окончательно завоюем эту землю? Я знаю, вы устали, но также знаю и то, что вы — лучшие солдаты в мире и никто не сравнится с вами в отваге и доблести. Я не хочу никого заставлять. Никто лучше меня не знает, что вы заслужили отдых и награду. И потому я вас не удерживаю. Кто хочет уйти, может вернуться в Македонию с честью и моей благодарностью. Но знайте: даже если все вы бросите меня, я пойду вперед с одними моими товарищами, пока не завершу свое дело, а если придется… то и в одиночку!
Он замолчал и скрестил руки на груди. Последовало бесконечное мгновение тишины.
Товарищи Александра, которые в свое время присоединились к нему в его изгнании среди иллирийских снегов, шагнули вперед, словно по команде, и с мечами в руках выстроились рядом, а вместе с ними шагнули вперед Филот и Клит Черный.
При виде этого один из воинов «Острия», стоявший посреди лагеря с собранным мешком на плече, уронил свои пожитки на землю, обнажил меч и с силой ударил в щит, который громом прогремел в тишине. Все обернулись к нему, и тут же еще один солдат откликнулся таким же ударом. Через секунду к ним присоединился третий, а там и четвертый, и вскоре прочие конники «Острия», где бы ни находились — у ворот, или у частокола, или посреди лагеря, собирая вещи, — один за другим обнажили мечи и начали бить ими в щиты. Постепенно приближаясь к возвышению, они выстроились прямо перед царем. Вслед за ними и другие солдаты из конницы и пехоты, фалангисты, штурмовики и гоплиты, фракийцы и агриане, — все сомкнули ряды и присоединились к конникам «Острия», стуча оружием по щитам. Потом знаменосец первого батальона поднял красное знамя со звездой Аргеадов, и все вдруг замерли, каждый на своем боевом посту. Знаменосец шагнул вперед, склонил знамя и крикнул:
— Повелевай, государь!
Александр, потрясенный, вышел вперед и поднял руки к небу. Птолемей, оказавшийся ближе всех, увидел на его глазах слезы. Царь оставался в этой позе несколько долгих мгновений, в то время как войско громовым голосом выкрикивало его имя:
Александрос! Александрос! Александрос!
Потом в сопровождении товарищей царь сошел с возвышения, пересек лагерь между двумя стенами блестящих копий и подошел к Букефалу, который в ожидании нетерпеливо бил копытом.
ГЛАВА 30
Войско дошло до Задракарты, столицы гирканцев, и там Александр обнаружил челядь Дария III, которую Бесс не захотел взять с собой во время отступления. К этому времени царь отпустил фессалийскую конницу, дав желающим возможность остаться и сражаться в качестве наемников, и велел войску подготовиться к дальнему походу на восток. Оно должно было выступить по прибытии ожидаемого подкрепления из Македонии.
Придворные устроились в одном городском квартале под присмотром евнухов. Александр немедленно дал войску указание взять всех под свою защиту и пожелал узнать, кто из членов царской семьи остался при дворе.
Дворцовый распорядитель, человек на седьмом десятке по имени Фратаферн, без усов и бороды и с выбритым черепом, пришел с докладом.
— Здесь царские наложницы и их дети, а также царевна Статира.
— Статира?
— Да, мой господин.
Александру вспомнилось письмо, в котором Дарий предлагал македонскому владыке господство над Азией к западу от Евфрата и руку своей дочери; ему вспомнился и свой отказ от этого предложения вопреки мнению Пармениона.
— Я желаю, чтобы ты как можно скорее устроил мне аудиенцию с царевной, — сказал он.
Евнух удалился и в первый же день после полудня прислал посыльного с сообщением, что царевна ждет царя после захода солнца в своих палатах во дворце, принадлежавшем раньше сатрапу Парфии.
Александр явился в простом белом греческом хитоне до пят и синем плаще с золотой пряжкой.
Евнух ждал его у дверей.
— Царевна в трауре, мой господин, и просит извинить ее за то, что не украсила свою персону подобающим образом. Но она охотно примет тебя, поскольку ей сообщили, что ты человек благородной души и чувств.
— Она говорит по-гречески?
Евнух кивнул:
— Когда Дарий задумал предложить ее тебе в жены, то велел научить ее твоему языку, но потом…
— Ты собираешься объявить обо мне?
— Можешь войти и без объявления, — ответил евнух. — Царевна ждет тебя.
Александр вошел и оказался в маленьком зале, украшенном цветами и фруктовыми гирляндами. Перед ним была еще одна дверь с резными каменными косяками, а архитрав поддерживали два грифона. Дверь отворилась, и служанка впустила его, а сама вышла и закрыла за собой дверь.
Александр увидел царевну Статиру возле маленького столика для чтения, на котором лежало несколько свитков, и стояла бронзовая статуэтка — степной всадник. Царевна была в хитоне из грубой шерсти цвета слоновой кости, подпоясанном на талии кожаным поясом, и в домашних кожаных туфлях, украшенных скромной вышивкой из синей шерсти. На ней не было никаких драгоценностей, не считая маленького ожерелья с серебряной подвеской в виде изображения бога Ахура-Мазды. Она отказалась от грима, но волевые и изящные черты делали ее лицо одновременно высокомерным и нежным. От отца она унаследовала темные глубокие глаза и четко очерченные брови, а от матери, должно быть, мягкие, влажные, красивой формы губы, тонкую шею, высокую крепкую грудь и, судя по всему, длинные стройные ноги.
Александр подошел и оказался с ней лицом к лицу — достаточно близко, чтобы ощутить тонкий аромат кассии и нарда, окативший его обаянием, которое он уже научился распознавать в восточных женщинах.
— Статира, — произнес он, склонив голову. — Я глубоко опечален смертью царя, твоего отца, и пришел сказать тебе…
Девушка с грустной улыбкой вернула ему поклон и протянула руку, которую Александр на мгновение сжал в своих.
— Не желаешь сесть, мой господин? — спросила Статира, и греческие слова прозвучали в ее устах со странным, но мелодичным акцентом, напомнив волнующий голос Барсины.
Ощутив, как учащенно заколотилось сердце, Александр сел напротив и продолжил:
— Я распорядился, чтобы царю Дарию оказали самые высокие почести и похоронили его в его могиле, высеченной в скалах Персеполя.
— Благодарю тебя, — проговорила девушка.
— Я также поклялся поймать убийцу, сатрапа Бесса, который бежал в Бактрию. Я наложу на него наказание, предписанное персидским законом за предательство и убийство своего царя.
Легким и грациозным движением Статира склонила голову в знак одобрения, но ничего не сказала. Тем временем вошла одна из служанок с вазой и двумя чашами снега, перемешанного с уже отжатым гранатовым соком. Снег в чаше сверкал розовым. Царевна протянула чашу гостю, но сама пить не стала, соблюдая суровые правила траура, и лишь молча смотрела на него. Казалось невозможным, что этот юноша со столь совершенными чертами лица, простыми и учтивыми манерами и есть непобедимый, беспощадный завоеватель, разбивший самые могучие на земле войска, демон, спаливший дворец в Персеполе и отдавший город на разграбление солдатам. В этот момент он представлялся ей любезным юношей, который почтительно обращается с захваченными в плен персидскими женщинами, оказывает почести противникам и даже сумел завоевать привязанность царицы-матери.
— Как поживает бабушка? — спросила она простодушно, но тут же поправилась: — Я хотела сказать, Великая Царица-мать?
— Довольно хорошо. Это благородная и сильная женщина, она с большим достоинством выносит удары судьбы. А ты, царевна, как поживаешь ты?
— Тоже довольно хорошо, мой господин, насколько это возможно в данных обстоятельствах.
Александр снова ласково коснулся ее руки.
— Ты прекрасна, Статира, и с тобой легко. Твой отец, должно быть, гордился тобой.
Она опустила заблестевшие глаза:
— Да, мой бедный отец. Сейчас ему бы исполнилось пятьдесят. Но спасибо за твои любезные слова.
— Я говорю искренне, — ответил Александр. Статира наклонила голову.
— Странно слышать это от юноши, отказавшегося от моей руки.
— Я не знал тебя.
— Разве это что-то изменило бы?
— Возможно. Один взгляд может изменить судьбу мужчины.
— Или женщины, — отозвалась она, не отводя от него глаз, блестящих от слез. — Зачем ты пришел сюда? Зачем покинул свою страну? Она недостаточно хороша?
— О, она хороша, — ответил Александр. — Она прекрасна. Там есть заснеженные горы, алеющие в лучах заката и серебрящиеся при луне, чистейшие озера, прозрачные, как девичьи очи, цветущие луга и леса с голубыми елями.
— У тебя есть мать, сестры? Ты не думаешь о них?
— Каждый вечер. И каждый раз, когда ветер дует на запад, я доверяю ему слова из самого сердца, чтобы он отнес их в Пеллу, во дворец, где я родился, и в Бутрофон, где живет моя сестра, как ласточка, в каменном гнезде на утесе над морем.
— Тогда зачем же ты покинул все это?
Александр поколебался, словно боясь обнажить душу перед молодой незнакомкой, и направил взгляд вдаль, за стену, на покрытые лесами и зеленеющими лугами горы. Доносились голоса торгующихся за товар мужчин, болтающих за пряжей женщин, и слышался крик верблюдов, длинной вереницей терпеливо шагавших из Бактрии.
— На твой вопрос трудно ответить, — проговорил Александр спустя некоторое время, словно очнувшись. — Я всегда мечтал шагнуть за горизонт, туда, куда только может добраться взгляд, дойти до последнего предела мира, выбраться к волнам Океана…
— А потом? Что ты будешь делать, когда завоюешь весь мир? Думаешь, будешь счастлив? Только потому, что достиг того, чего действительно хочешь? Или тобой овладеет еще более сильное и глубокое беспокойство, на этот раз неодолимое?
— Возможно, но я не могу этого узнать, пока не достигну данных человеку пределов.
Статира молча посмотрела на него, и при виде этих глаз на миг у нее возникло ощущение, что она заглянула в таинственный, незнакомый мир, в пустыню, населенную демонами и призраками. Царевна почувствовала головокружение и в то же время неодолимое влечение и инстинктивно закрыла глаза. Александр поцеловал Статиру, и она ощутила на лице и шее ласковое прикосновение его волос. А когда вновь открыла глаза, его уже не было рядом.
На следующий день к ней пришел Евмен, царский секретарь, и просил Статиру стать женой Александра.
ГЛАВА 31
Бракосочетание справляли по-македонски: жених мечом разрубил хлеб и предложил невесте разделить эту трапезу, — простой и волнующий ритуал, что понравилось Статире. И свадьба тоже праздновалась по-македонски: с большими возлияниями, нескончаемым пиром, песнями, представлениями и плясками. Статира не принимала в этом участия, так как все еще была в трауре по отцу; она ждала мужа в своей спальне, комнате из кедра, занавешенной огромными шторами из египетского льна и освещенной лампами.
Когда пришел Александр, во дворе еще слышались непристойные песни солдат, но как только гогот замолк, в ночи запел одинокий голос. Нежная элегия плыла как пение соловья над кронами цветущих деревьев.
— Что это? — спросил царь.
Статира в индийской прозрачной рубашке положила голову ему на плечо.
— Это песня любви наших краев. Ты знаешь историю про Аброкома и Анцию?
Александр обхватил рукой ее талию и прижал к себе.
— Да, конечно, по-гречески. Один наш автор описывает ее в своем труде «Воспитание Кира», но прекрасно слушать ее по-персидски, хотя я и не понимаю твоего языка. Это чудесная история.
— Это история любви, продолжавшейся после смерти, — сказала Статира с дрожью в голосе.
Александр снял с нее одежды и посмотрел на нее, обнаженную, а потом взял на руки, как ребенка, и уложил на постель. Он любил ее так нежно, как только мог, словно отплачивая за все, что отнял у нее: родину, отца, беззаботную юность. Она отвечала с пылкой страстью, ведомая женским инстинктом, вложенным тысячелетиями. Мудрый опыт придворных дам, видимо, передался ей, и она не разочаровала мужа на брачном ложе.
Сжимая ее в объятиях, целуя ее грудь, мягкий живот и длинные стройные, как у юноши, бедра, он слышал, как стоны наслаждения становятся все громче. Древняя песня про Аброкома и Анцию, погибших влюбленных, продолжала звучать в напоенном ароматами воздухе, как сладчайший, щемящий гимн.
Он овладел ею несколько раз, не отступая. Потом лег на бок, а она прильнула к нему, лаская его грудь и плечи, пока не заснула. И песня тоже затихла в ночной дали, остался лишь звук незнакомого инструмента, напоминавшего кифару, но более нежный и гармоничный, — и больше ничего.
На рассвете Александра разбудили первые солнечные лучи. Царь хотел встать и, как обычно, позвать Лептину, но увидел перед собой длинную очередь из мужчин и женщин, выстроившихся в безупречном порядке. Видимо, они уже давно терпеливо ждали его пробуждения.
Еще не совсем проснувшись, Александр было схватился за меч, но удержался. Он сел в постели, прислонившись к спинке, и спросил, скорее ошеломленно, чем гневно:
— Вы кто?
— Мы приставлены к твоей персоне, — ответил один евнух, — а я отвечаю за утреннюю церемонию.
Александр растормошил еще спавшую Статиру, и она тоже села, накрывшись халатом.
— Что я должен делать? — тихо спросил царь.
— Ничего, мой господин, все сделают они. Для того они и здесь.
И в самом деле, вскоре евнух сделал знак следовать за ним в ванную комнату, где две служанки и еще одни молоденький полуголый евнух умыли его, растерли и умастили благовониями, а о Статире позаботились ее служанки.
Потом молоденький красивый евнух приблизился к царю и вытер его деликатными умелыми движениями, задержавшись с определенной настойчивостью на самых чувствительных частях тела. Настал черед одевания. Служанки по знаку наблюдающего евнуха представляли предметы одежды, один за другим, ответственному за облачение, который надевал их на царя опытными движениями: сначала нижнее белье, которого Александр до сих пор никогда не носил, потом шаровары из вышитого бистра, — но тут он жестом отказался.
Евнух покачал головой и в замешательстве переглянулся с ответственным за царский гардероб.
— Я не ношу шаровары, — объяснил царь. — Дайте мне мой хитон.
— Но, мой господин… — рискнул возразить ответственный за гардероб, которому показалось абсурдным, что кто-то может носить нижнее белье, не надевая сверху соответствующих предметов одежды.
— Я не ношу шаровар, — категорично повторил Александр, и тот, хотя и не понимал по-гречески, прекрасно понял тон и жест.
Служанки попытались сдержать смешки. Евнух и ответственный за царский гардероб посовещались, обменявшись взглядами, потом послали слугу за греческим хитоном и надели на царя. Теперь они не могли понять, что делать с остальной одеждой. Тогда инициативу взял на себя молоденький красивый евнух: он велел служанке подать ему кандис, великолепный царский кафтан с широкими плиссированными рукавами, и попытался надеть на Александра. Тот взглянул на кафтан, потом на ответственного за гардероб, который смотрел все более и более озадаченно, и с некоторой неохотой надел. Ему принесли головной платок и повязали с необычайным изяществом вокруг лба и шеи, оставив ниспадающие на плечи складки.
Другие слуги опрыскали Александра благовониями, а молоденький евнух поднес ему зеркало и сказал:
— Ты прекрасен, мой господин.
Александра удивило, что этот молодой человек так хорошо говорит по-гречески, и он спросил:
— Как тебя зовут?
— Меня зовут Багоас. Я был приставлен к царю Дарию и был его любимцем. Никто не мог доставить ему такого удовольствия, как я. А теперь я твой, если ты меня хочешь.
Его двусмысленный и чувственный тон запал царю в душу. Он ничего не ответил и, посмотрев на свое отражение в отполированном серебряном, листе, испытал простодушное удовлетворение, найдя, что одеяние ему к лицу. Александр собрался пойти к Статире, чтобы и она полюбовалась на супруга, но тут в коридоре раздался стук македонских подкованных сапог, и появился Черный в полном вооружении и явно встревоженный. Еще не переступив порога, он начал:
— Государь, пришли важные известия из… — Но, едва увидев Александра, запнулся; выражение его лица переменилось, и он разразился хохотом. — Великий Зевс! Но кто все эти люди? Все эти женщины и пустомошоночные? И потом… кто это тебя так разукрасил?
Александр даже не улыбнулся, а раздраженным и обиженным тоном ответил:
— Замолчи, замолчи сейчас же! Помни, что я царь.
— Царь? — продолжал Черный. — Какой царь? Я тебя уже не узнаю, ты похож на…
— Еще одно слово, и я велю разоружить тебя и взять под стражу. Посмотрим, так ли уж тебе захочется смеяться.
Черный склонил голову.
— Что ты хотел мне сказать? — осведомился Александр.
— Пришло известие, что Бесс в Бактрии, где провозгласил себя Великим Царем под именем Артаксеркс Четвертый.
— И ничего больше?
— На дороге из Экбатан видели подкрепление из Македонии, около шести тысяч воинов и с ними оруженосцы. К вечеру будут здесь.
— Хорошо. Я встречусь с ними сегодня же, на исходе дня. Построй войско.
Черный вышел, закусив губу, чтобы ничего больше не брякнуть, и вскоре по всему лагерю разнесся слух, что Александр вырядился персом и его окружают женщины и евнухи.
— Ты шутишь! — воскликнул Филот, узнав об этом. — Мой отец закрыл бы глаза, увидев такой стыд.
— И я бы, пожалуй, тоже, — ответил Кратер. — Не сам ли он устроил нам в Персеполе разнос за то, что мы перенимаем привычки побежденных?
— Не нахожу ничего странного, — вмешался Гефестион. — Вы уже видели Александра в Египте, когда он нарядился фараоном. Почему же в Персии не одеться, как Великий Царь? Он женился на его дочери и унаследовал его царство.
— Что бы Александр ни делал или говорил, тебе все хорошо, — возразил Филот, — но царь Филипп пришел бы в ужас, доводись ему увидеть нечто подобное, и…
— Хватит! — прервал его Гефестион. — Он царь и имеет право делать все, что хочет. А вам должно быть стыдно — и тебе тоже, Черный, что представляешь все это в таком ужасном виде. Когда он оказывал вам милости, когда он наполнял ваши шатры персидским золотом, вам это нравилось, не так ли? Ты, Филот, был доволен, когда он назначил тебя командующим конницей, верно? А теперь ты скандалишь из-за каких-то тряпок. Смешно!
— Тебе смешно? Сейчас я отобью у тебя охоту смеяться! — Черный, постепенно приходя в отвратительное настроение, угрожающе замахнулся кулаком.
Птолемей скорее бросился между ними. Его поддержал Селевк:
— Остановитесь! Вы что, с ума сошли? Хватит! Прекратите, ради всех богов! Прекратите!
Гефестион и Черный разошлись, злобно поглядывая друг на друга, и Кратер встал рядом с Клитом, демонстрируя, что считает его правым.
— Послушайте, — сказал Селевк. — Пусть идиоты распускают руки из-за всяких пустяков. Александр мог нарядиться в персидские одежды, чтобы сделать приятное Статире или просто из любопытства. Мы всегда были заодно и должны и дальше оставаться вместе. Эти земли все еще изрядно нам враждебны. Если на чужбине мы начнем ссориться между собой — мы пропали, как вы не понимаете!
— Это не пустяки, — послышался очень знакомый голос у него за спиной.
Селевк обернулся.
— Каллисфен…
— Повторяю: это не пустяки. Александр покинул Грецию как полководец всеэллинского союза с поручением разбить векового врага греков. Это его истинная и единственная задача, которую он возложил на себя в Коринфе. Единственная, которую поклялся выполнить.
— Он сжег Персеполь, — вмешался Евмен, до сих пор хранивший молчание. — Тебе этого мало? Ради всеэллинской идеи он пожертвовал прекраснейшим дворцом.
— Ты ошибаешься, — возразил Каллисфен. — Он сделал это, потому что у него не оставалось выбора. Об этом я знаю из надежного источника. Ему теперь наплевать на Грецию и греков, как, боюсь, и на всех остальных.
Тут прозвучали трубы, и из западных ворот лагеря галопом вылетел отряд гетайров в парадной форме. Всадники растянулись линиями по сторонам дороги. Вскоре послышался ритмичный бой барабанов и размеренная поступь приближающегося войска.
— Прибывает подкрепление! — воскликнул Птолемей. — Вот-вот появится Александр. Лучше подготовимся, чем стоять здесь и спорить.
Каллисфен снисходительно покачал головой и удалился. Остальные, кто раньше, кто позже, пошли облачаться в доспехи, чтобы построиться перед войском.
Вновь прибывшие безупречным строем прошли через лагерь под торжественные звуки трубы и приветственные крики салютовавших оружием гетайров и расположились на возвышении сбоку от царского шатра. Позади них выстроилось войско в полном составе. Среди вновь прибывших своими белыми плащами и красными хитонами выделялись оруженосцы — молоденькие мальчики из самых знатных македонских семей, пришедшие служить царю Александру, подобно тому как в свое время Пердикка, Птолемей, Лисимах и другие явились к царю Филиппу во дворец в Пелле.
Потом раздались другие сигналы, и все повернулись к восточным воротам, так как эти звуки возвещали о прибытии монарха.
— О боги! — тихо воскликнул Птолемей, схватившись рукой за голову. — Он все еще в персидском наряде!
— Чтобы все знали, как себя вести, — бесстрастно прокомментировал Селевк. — Так лучше, поверь мне.
Александр галопом подскакал на Букефале, и персидские одежды из тончайшего бистра развевались на ветру, как парус. Головной платок, завязанный крест-накрест на груди и плечах, придавал ему необычный, странно привлекательный вид.
Царь соскочил на землю перед возвышением, медленно поднялся по ступеням на площадку и под недоуменными взглядами собравшихся, от близких друзей до последнего солдата, повернулся в своем диковинном наряде лицом к македонскому войску, где плечом к плечу стояли ветераны и новобранцы. Даже выстроившиеся под помостом мальчики уставились на него, словно не веря своим глазам.
— Я хотел прийти лично, — начал Александр, — чтобы принять наших новых товарищей, которых прислал регент Антипатр, и встретить оруженосцев, которых отправили сюда знатные македоняне, чтобы на службе у своего царя они стали доблестными и верными воинами. Но я вижу изумление в ваших глазах, как будто перед вами явился призрак. Мне известна причина этого: все дело в моей одежде, этом кандисе, в этой тряпке у меня на голове. Я действительно надел персидский наряд поверх греческого военного хитона и хочу, чтобы вы знали: я сделал это преднамеренно, потому что я — царь не одних только македонян. Я также фараон Египта, царь вавилонский и Великий Царь персов. Дарий умер, а я женился на его дочери царевне Статире, и, стало быть, я его наследник. И потому претендую на власть над всей принадлежавшей ему державой. Я хочу упрочить эту власть, преследуя узурпатора Бесса, где бы он ни прятался. Мы схватим его и наложим на него наказание, которого он заслуживает. Сейчас я раздам подарки вновь прибывшим, и сегодня вечером все вы получите особый ужин и в изобилии доброго вина. Я хочу, чтобы вы повеселились и пришли в доброе расположение духа, так как скоро мы отправляемся в поход и не остановимся, пока не достигнем нашей цели!
Раздались жидкие аплодисменты, но Александр не сделал ничего, чтобы вызвать пыл и воодушевление. Он понимал, что испытывают солдаты и его товарищи и насколько ошеломлены только что прибывшие из Македонии мальчики-оруженосцы, для которых он был живой легендой. Перед ними стоял человек в наряде побежденных варваров, имевшем для греков и македонян характерные женские признаки. И это было еще не все: предстояло сказать нечто худшее.
Александр подождал, пока установится тишина, и начал:
— Предприятие, которое мы начинаем, так же трудно, как и все то, с чем мы встречались до сих пор. Свежих войск, только что прибывших из Македонии, не хватит. Нам придется сражаться против врагов, каких мы еще никогда не видели и с какими не сражались раньше. Нам понадобится оставлять гарнизоны в десятках городов и крепостей, воевать с войсками еще более многочисленными, чем те, что мы разбили при Иссе и Гавгамелах…
Теперь над лагерем повисла полная тишина. Солдаты не отрывали глаз от лица Александра, чтобы не пропустить ни единого слова.
— И потому я принял решение, которое может вам не понравиться. Оно абсолютно необходимо: мы не имеем права обескровливать нашу родину постоянными призывами, лишая ее защиты. Поэтому я постановил призвать тридцать тысяч персов и обучить их македонской боевой тактике. Обучение начнется немедленно — завтра же военные вожди всех провинций державы получат точные наставления.
Никто не зааплодировал, никто не попросил слова, никто не раскрыл рта. Царь остался в каменной тишине. Такого одиночества он не испытывал никогда раньше. Только Гефестион подошел и придержал за поводья Букефала, когда Александр вскакивал в седло. И царь галопом умчался прочь.
ГЛАВА 32
Евмен свернул свиток и посмотрел в лицо Каллисфену.
— Значит, таков для тебя Александр?
— Возможно, следовало бы сказать: «таким Александр должен быть», — ответил Каллисфен с замешательством в глазах.
— Задача историка состоит в том, чтобы изложить факты в точности так, как они разворачивались, засвидетельствовав их лично или получив от прямых и надежных свидетелей, — ответил секретарь, словно цитировал по памяти некую формулу.
— Ты полагаешь, я не знаю задачу историка? Но я также должен растолковывать душу и мысли Александра, делать их понятными для тех, кто будет читать мои труды. Я дал тебе прочитать то, что написал до сих пор, потому что мне нужна твоя поддержка, потому что ты ведешь дневник об этом походе, но главное — потому…
— Потому что Александр не умещается на твоих страницах! Потому что он выходит за рамки, в которые ты пытаешься втиснуть его своим произведением?
— Возможно.
— Ты должен признать, что Александр — уже не тот человек, которого мы знали. А возможно, никогда и не был таковым.
— Он поклялся перед всеми греками возглавить поход на Персию, их многовекового врага.
— Он сделал это. И победил. Первый и единственный из всех греков.
Каллисфен рывком встал и непримиримо проговорил:
— Да, но он сам стал одним из них. Он одевается, как они, он окружил себя евнухами и наложницами, он велел обучить персов нашей военной тактике. Говорят, что он берет уроки персидского; говорят, что вчера во время их варварского праздника он при всех целовал в губы этого… Багоаса.
— Он решил шокировать всех, кто думает подобно тебе, вот и все, — возразил Евмен. — Он дает вам понять, что мы дошли до точки, откуда нет пути назад. А что касается праздников, то я бы не сказал, что ваши оргии менее варварские. Нам следует смириться с тем, что было всегда, поверь мне, и забыть иллюзии, которые мы строили о нем в нашем безмятежном неведении.
— Безмятежном неведении?
— Да. Представь, что ты создал в своей «Истории» убедительный образ, который легко понять и полюбить образованному греку с довольно умеренными политическими взглядами. А реальный Александр вдруг оказывается совсем не таким.
— О, в этом нет сомнений, он каждый день не упускает случая напомнить нам об этом. Люди растеряны, сбиты с толку. Прибывшие из Македонии новобранцы и юные оруженосцы шокированы. Они ожидали увидеть героя, завоевателя, наследника Ахилла и Геракла, а вместо этого видят человека в женском платье, который ежедневно демонстрирует варварские наряды и постыдные и презренные обычаи.
— Обычаи, отличные от тех, к которым мы привыкли, Каллисфен. Он провел нас по территориям, где раньше не ступал ни один грек. Он шел под другим небом, пересек пустыни и плоскогорья. Он провел нас до Нила, до Тигра и Евфрата и теперь мечтает об Инде. Все не может оставаться, как прежде, как ты не понимаешь!
— Я понимаю, но никогда с этим не смирюсь.
— Ты говорил это ему?
— Конечно.
— И что он тебе ответил?
— Сказал: «Пиши, что хочешь, Каллисфен». Ему теперь все равно, ему на все наплевать.
Евмен ничего не добавил, поняв, что его собеседник слишком огорчен и ничто не сможет заставить его отказаться от прежних убеждений и сформировавшегося в голове образа. Час был уже поздний, и секретарь встал, собираясь уйти, но прежде, чем переступить порог, оглянулся, чувствуя, что должен сказать кое-что еще. Возможно, дать другу совет.
— Александр постоянно меняется, потому что его любознательность ненасытна, а жизненная сила неистощима. Он как альбатрос, который, говорят, за всю свою жизнь никогда не опускается на земную твердь и даже спит в полете, давая ветру носить себя. Если чувствуешь, что тебе не удержаться рядом с ним, уходи, Каллисфен, возвращайся на родину, пока не поздно.
Евмен вышел, а друг остался обдумать его слова и при свете лампы еще раз пробежал глазами по строкам своей «Истории похода Александра». Через некоторое время раздался голос слуги:
— Господин, тут какой-то человек. Прибыл вместе с новобранцами из Македонии. Он уже давно тебя ищет. Ему нужно поговорить с тобой.
— Пусть войдет, и налей нам чего-нибудь выпить. Человек вошел и представился. Его звали Эвоним, он родился в Византии, но жил неподалеку от Неаполиса во Фракии. Великий ученый из Стагиры передал ему послание, чтобы вручить Каллисфену, оплатил хлопоты и пообещал, что адресат заплатит еще.
— Я Каллисфен, — сказал историк, засунув руку в кошель, — вот тебе два новеньких статира за твою любезность. А теперь можно получить послание?
Человек протянул письмо, спрятал деньги, выпил кубок вина и ушел.
В письме говорилось:
Аристотель своему племяннику Каллисфену: здравствуй!
Надеюсь, ты пребываешь в добром здравии. Я счастью, мучаюсь болями в плече, которые не дают передышки даже ночью. Не знаю, где тебя настигнет мое письмо и пребываешь ли ты в лучшем расположении духа. С некоторых пор ко мне приходит от Александра множество редких растений и животных для моей коллекции, из чего я заключаю, что вы все дальше углубляетесь в отдаленные, малоизведанные земли.
Что касается меня, то, когда не занят в Академии, я возвращаюсь в Македонию и Фракию, чтобы продолжать мое расследование. Человека, назвавшегося Никандром, соучастника Павсания в убийстве Филиппа, на самом деле зовут Евпит. Как я уже сообщал тебе в одном из моих прежних писем, у него есть дочь, которая укрывается в храме Артемиды во Фракии, в окрестностях Салмидесса. С помощью людей Антипатра я разыскал эту дочь и укрыл ее в надежном месте, где отец имел возможность увидеться с ней и убедиться, что должен заговорить, если хочет получить ее обратно.
Надеюсь, он рассказал нам все, что знал, то есть что Павсания убил один из эпирских стражников, бывший в действительности заодно с убийцами царя, и что ему, Евпиту, было поручено подыскать укрытие для этого стражника и помочь ему исчезнуть. Следы, похоже, опять ведут к царице-матери, но лучше рассуждать непредубежденно, пока все окончательно не прояснится.
Этот человек еще жив и скрывается в горной деревушке в Фокиде, неподалеку от Алиарта. Туда я и собираюсь отправиться, как только погода, в настоящее время прескверная, немного улучшится и боли в плече дадут мне передышку.
Береги себя.
Каллисфен свернул письмо, погасил лампу и улегся, стараясь думать о чем-нибудь навевающем сон.
Войско выступило через несколько дней, и вечером накануне отправления все товарищи Александра и командиры крупных частей фаланги и конницы гетайров получили от царя дары — серебряную конскую сбрую на персидский манер и пурпурные плащи. Никто не посмел отказаться, даже Клит Черный, но ни он, ни Филот не воспользовались подарками. Статиру с ее придворными дамами царь отправил в Экбатаны; оттуда она поехала в Персеполь навестить могилу своего отца. Александр с сожалением расстался с ней.
— Ты будешь думать обо мне? — спросила его царевна, пока служанки готовили ее к отъезду.
— Все время, даже в гуще битвы, даже когда окажусь так далеко, что наши созвездия будут видны над самым горизонтом. И ты тоже думай обо мне, моя нежнейшая жена.
— Ты возьмешь с собой Багоаса? — спросила Статира с едва заметной ноткой неприязни в голосе.
— Да, — ответил Александр. — Он развлекает меня и успокаивает, когда я отягощен думами и заботами. Он очаровательно поет и танцует.
— И к тому же он очень красив, — добавила Статира. — Такой стройный, что позавидует самая изящная девушка, и кожа у него мягкая и гладкая, как лепестки роз. А вообще-то ты можешь считать его моим подарком тебе, поскольку это я когда-то подарила его моему отцу.
Александр надолго сжал ее в объятиях, а потом помог сесть в повозку.
— Если почувствуешь, что забеременела, немедленно сообщи мне с самым быстрым гонцом в городе, где бы я ни находился. Я написал моему казначею Гарпалу, чтобы он находился в твоем распоряжении и предоставлял тебе все, что потребуется.
— Мне нужен ты, — ответила девушка, — но нельзя иметь все. Будь осторожен. Я не переживу твоей гибели.
Она снова поцеловала его в губы, а тем временем солнце уже поднялось над вершинами самых высоких гирканских гор.
Тут послышались гром тысяч копыт, крики погонщиков мулов и громкий скрип колес. Александр обернулся и увидел нескончаемый кортеж из повозок, очень напоминавший тот, на котором собиралась отбыть Статира. А в хвосте его шли последние отряды войска в сопровождении вооруженных персов.
— Но… кто это? — изумленно спросил царь у персидского командира, старшего над эскортом.
— Это твои наложницы, мой обожаемый муж, — ответила Статира, прежде чем тот успел открыть рот. — Триста шестьдесят пять, по числу дней в году, каждая с собственной свитой, естественно.
— Мои наложницы? Но я отправляюсь на войну, и…
— Ты не можешь оставить их. Каждая из них — дочь какого-нибудь союзного нам царя или могущественного вождя степных племен. Не хочешь же ты сделать их своими врагами и толкнуть на союз с Бессом?
— Нет, — подавленно ответил Александр. — Конечно, нет.
ГЛАВА 33
Наконец войско выступило и, направившись на восток, прошло по пересеченному, покрытому богатой растительностью плоскогорью. Вскоре среди всех отрядов распространился слух, что за войском следует весь персидский двор, кроме царевны Статиры. Это посеяло растерянность, вызвало сарказм и даже открытые насмешки. Гефестион не раз обнажал меч, чтобы защитить честь царя, но ехавшие рядом Птолемей и Селевк сразу гасили любые споры и стычки, способные вызвать более серьезные беспорядки.
После двадцати дней марша, когда проводники собирались повернуть на север, к Бактрии, куда бежал Бесс, пришло известие, что Сатибарзан и Барзаент, сатрапы провинций Ария и Арахозия, восстали и собирают войско, намереваясь ударить царю в тыл.
Александр немедленно собрал военный совет, куда явился в греческих доспехах, но ни от кого не ускользнуло, что кроме кольца со звездой Аргеадов на пальце у него был перстень с персидской печатью.
— Друзья, — начал он, — вы знаете, что нам придется изменить направление марша: нужно повернуть на юг, навстречу мятежникам Сатибарзану и Барзаенту. Вот что мы сделаем: пока Кратер идет с пехотой, я отправлюсь вперед с конницей. За мной пойдут Филот, Гефестион, Птолемей, Лисимах и Леоннат. Пердикка и Селевк останутся с Кратером. С максимальной быстротой мы обрушимся на мятежников, прежде чем они поймут, что мы изменили маршрут, и сметем их. Кратер, как только подойдет, поддержит нас, если в том будет нужда. Если у кого-то есть лучшие предложения, говорите свободно.
Все молчали, никто не улыбался и не шутил, не бахвалился, как обычно бывало в таких случаях. Царила гнетущая атмосфера недовольства и неловкости. Все знали, как царь обошелся с Клитом в Задракарте, когда тот позволил себе пройтись насчет его наряда. Все думали, не выражая мыслей вслух, каких хлопот и усилий стоит эскортировать огромную свиту из наложниц, слуг и евнухов, которые без толку замедляют движение войска. Все знали о постоянных раздорах между македонскими и персидскими частями.
Александр по очереди посмотрел каждому в лицо, ища понимания и поддержки, но все отводили глаза, едва ли не стыдясь проявить привязанность, которую питали к нему столько лет.
— Не вижу большого воодушевления, — заметил царь умышленно сдержанным тоном. — Может быть, я плохо с вами обращался? Разочаровал вас чем-то? Ну, говорите!
Заговорил Гефестион:
— У них не хватает мужества признаться тебе — они боятся. Посмотри на них! Теперь, разбогатев и надеясь насладиться жизнью, они боятся. Они попрекают тебя за слишком роскошные наряды, за то, что ты ведешь за собой персидских солдат и этих девок. А ведь сами хотели бы жить вот так! А еще лучше — расположиться со всеми удобствами в прекрасном дворце где-нибудь поближе к финикийскому побережью. Что, ребята, не так? Эй, может быть, не так? Ну, скажите же что-нибудь! Или вы все проглотили язык?
— Прекрати, Гефестион, — вмешался Кратер. — Я готов немедленно отдать жизнь за царя, как и все остальные. Вопрос не только в нарядах и наложницах. Людям нужно знать, когда закончится эта война. Назови конечную цель. Скажи, сколько времени понадобится для ее достижения. Они не могут выяснять в последний момент, что теперь предстоит еще один поход, а потом еще один, и еще — и так день за днем, все новые и новые. На север, юг — или, может быть, на запад? Они должны узнать тебя заново, Александр, понять, что ты навсегда останешься их царем. Они готовы идти за тобой, но не могут жить в постоянной неопределенности, проводить жизнь без надежды, без уверенности в чем-либо.
Александр молча кивнул, словно принимая к сведению ситуацию, которую всего месяц назад даже представить себе не мог.
Слово снова взял Гефестион:
— А вы-то, вы что скажете вашим солдатам? Ты, Филот, — ведь ты сейчас командующий всей конницей, — что ты скажешь своим гетайрам? По-прежнему будешь твердить, что у Александра ничего бы не вышло без тебя и твоего отца? Что он стал размазней? Что каждый вечер он только тем и занимается, что любуется вереницей своих голых наложниц, выбирая, какую удостоить своим членом? Что он больше не строит военных планов, не заботится ни о своих солдатах, ни о своем предназначении?
— Врешь! — не сдержавшись, закричал Филот. — Я никогда не говорил ничего подобного!
— Не знаю, не знаю, — отозвался Гефестион. — Во всяком случае, такие слухи ходили еще в Киликии после сражения при Иссе и в Египте — после нашего возвращения из оазиса Амона.
— Клевета! Ложь! Приведи мне того, кто говорил такие слова, найди хотя бы одного, кто подтвердит это мне в лицо, если найдет в себе достаточно мужества. Вчера пришло известие, что мой брат Никанор при Задракарте был тяжело ранен стрелой, находясь в дозоре в горах Гиркании, и ни один врач до сих пор не смог найти средства, чтобы помочь ему. Кто-нибудь побеспокоился узнать о его здоровье? Кто-нибудь подумал о моем отце, который уже потерял младшего сына, а теперь, возможно, потеряет второго? А я — может быть, я просил освободить меня и оставить в тылу, чтобы я мог позаботиться о нем?
— Ты командующий всей конницей, и эта должность достаточно тяжела, чтобы забыть про бедного Никанора, — с сарказмом возразил Гефестион.
Вскочив, Филот едва не бросился на него, но его остановил Птолемей, встав между спорщиками и взглянув прямо в глаза Гефестиону.
— Прекрати! — крикнул он. — Несправедливо так говорить с Филотом. Никанор умирает. Недавно я получил известие от гонца — незадолго до начала этого совета. Сейчас он, может быть, уже…
В шатре советов повисла могильная тишина, и несколько нескончаемых мгновений слышались лишь шум ветра над плоскогорьем — тревожный голос безграничного одиночества — да настойчивое хлопанье царского знамени на шесте. Филот закрыл лицо руками. Гефестион потупился, не зная, что сказать. Селевк и Птолемей обменялись беспокойными взглядами, тщетно пытаясь найти ответ в глазах друг друга и не понимая, как разрядить это невыносимое напряжение. Свернувшийся у ног Александра Перитас поднял морду и беспокойно заскулил, словно ощутив тяжесть, гнетущую душу его хозяина.
Александр погладил пса, а потом встал и проговорил:
— Мне искренне жаль Никанора, но я должен знать: могу я ли рассчитывать на вас?
Кратер посмотрел на своих товарищей, потом тоже встал и подошел к Александру.
— Как ты можешь сомневаться в этом? Разве мы не сражались, не жалея себя, не получали ран? Мы хотим лишь понять, чего ты добиваешься от нас, а особенно — от солдат, которые пришли сюда за тобой.
— Я просто хочу, чтобы меня понимали, — ответил Александр, — потому что я не изменился. Мое дело должно быть сделано.
— Можно сказать? — попросил слова Леоннат.
— Разумеется.
— Солдаты боятся, что ты хочешь стать таким же, как Великий Царь, что хочешь сделать их для себя персами, а персов — македонянами.
— Если бы я хотел стать таким, как Великий Царь, разве я сжег бы в Персеполе дворец и тронный зал? Завтра мы выступаем. Евмолп из Сол сообщил мне, что Сатибарзан в Артакоане. Выходим на рассвете. Кто из вас не согласен, может вернуться назад и забрать с собой своих солдат.
— Александр, но мы же… — попытался возразить Леоннат, но царь уже встал и вышел из шатра.
Филот поднял голову и обвел взглядом товарищей.
— Он не имеет права обращаться с нами таким образом. Не имеет права, — повторил он.
Александр тем временем вернулся в свой шатер. Внутри его дожидался Евмолп из Сол.
— Есть новые сведения о Сатибарзане? — спросил царь, опускаясь на табурет.
— Он готовится к сражению, но боевой дух его войска довольно низок. Я не верю, что они окажут упорное сопротивление. Как прошел совет?
Александр пожал плечами.
— Не принимай близко к сердцу, — утешил его осведомитель. — Им просто нужно привыкнуть к новой реальности. Эти люди до сих пор накрепко привязаны к своим традициям. И еще, по-моему, они ревнуют. Они боятся, что ты удаляешься от них и больше не можешь поддерживать прежние близкие отношения.
— Похоже, ты хорошо их знаешь.
— Достаточно хорошо.
— Что ты хочешь сказать?
— Я хочу сказать, что после Исса, вновь поступив к тебе на службу, я занялся и твоими друзьями. Как ты думаешь, кто подкладывал девиц им в постель?
— Ты? Но я не…
— Ах, пустяки! Моя работа или делается хорошо, или не делается никак. И потом, постельные тайны — моя специальность. Тебе известно, что мужчины после постельных утех склонны развязывать язык? Разве не любопытно?
— Прекрати.
— А девицы все мне доносили.
— Мои друзья никогда меня не предадут.
— Возможно, и нет. Но кто-то из них может быть больше, чем другие, подвержен некоторым соблазнам. Например, Филот, твой командующий конницей. У этого человека деликатная должность.
Александр вдруг насторожился:
— Что у тебя есть на Филота?
— Не много. Однако в свое время он имел обыкновение поговаривать, что ты — всего лишь самонадеянный мальчишка, а без него и его отца ты бы никогда не победил ни на Гранике, ни при Иссе и что ты относишься к ним несправедливо.
— Почему же ты сразу не сказал мне об этом?
— Потому что ты не стал бы меня слушать.
— А почему я должен тебя слушать сейчас?
— Потому что сейчас ты в опасности. Тебе предстоит пересечь совершенно незнакомые места, а потом встретиться с дикими народами. Теперь ты должен точно знать, на кого можно положиться, а на кого нет. Будь поосторожнее и со своим двоюродным братом Аминтой.
— Я распорядился потихоньку присматривать за ним после того, как первый раз велел арестовать в Анатолии. Он всегда проявлял отвагу и верность мне.
— Именно: отважный и верный царевич. Если ты потеряешь любовь своих солдат, на кого обратятся их взгляды?
Александр молча посмотрел на своего осведомителя, и Евмолп сам произнес слова, которые юный царь прочел в его глазах:
— На единственного отпрыска дома Аргеадов. Надеюсь, боги пошлют тебе безмятежный сон, Александр. Спокойной ночи.
Он встал, на прощание кивнул головой и, убедившись в том, что за ним не увязался Перитас, удалился к себе.
ГЛАВА 34
Перед войском Александра открывалась материковая Азия с пейзажами все более суровыми и пустынными, с раскаленными каменистыми долинами, где царствовали скорпионы и змеи. Пучки колючек пробивались из земли лишь в руслах пересохших ручьев и умирающих рек, где вода оставалась только в горьких лужах, окаймленных широкой полосой соли. Целыми днями солдаты шли молча, не встречая ни тени, где можно было бы укрыться, ни дуновения ветерка, который хоть немного облегчил бы удушающую жару.
И небо было пустым и раскаленным, оно сияло, как бронзовый щит, и если в вышине порой различались медленные взмахи крыльев, то почти всегда это оказывались стервятники, высматривающие, не отбилось ли какое-нибудь из вьючных животных, не поразила ли уже кого-нибудь смерть среди пустыни.
Даже поход к оазису Амона не был таким удручающим: барханы той пустыни обладали величественной красотой протяженных гребней, четких светотеней, чистотой изящных, непостоянных, изваянных ветром форм. Та пустыня напоминала золотой океан, внезапно замерший по мановению неведомого бога, грандиозный и торжественный театр с бескрайней сценой.
Эти же места не вызывали никаких мыслей, кроме памятования о смерти, пустоте и одиночестве, о безнадежном запустении, и каждый в глубине сердца питал глубокую тоску по родине, испытывая щемящее желание вернуться. Никакая цель, никакая важность предприятия не представлялись осмысленными в эти дни изнурительных усилий. Каждый шаг люди делали через силу, и нежелание двигаться все возрастало, чему немало способствовала угрюмость пейзажей, не имеющих границ и ориентиров. Только местные проводники с непостижимой уверенностью различали на смутном горизонте нужную точку среди множества других таких же.
Более славные дни похода казались уже далекими-далекими, и многие как будто раскаивались в своем порыве откликнуться на призыв царя. Никто не мог понять, чего они ищут в этих удаленных от моря краях, в этих скудных землях, предлагавших снабжение лишь в редких поселках с грубыми кирпичными хижинами, вымазанными верблюжьим и овечьим навозом.
Потом постепенно пейзаж начал меняться, воздух стал свежее, появились холмы, иногда орошаемые дождем и равномерно покрытые вуалью зелени; стали встречаться табуны маленьких косматых лошадок или группы лохматых одногорбых верблюдов. Войско приблизилось к долине какой-то реки и вышло на берег большого озера, над водами которого наконец показались стены и башни Артакоаны, столицы арийцев, оплота Сатибарзана.
Войско не успело развернуться, как городские ворота распахнулись, и всадники с громкими криками устремились в атаку, подняв облако красной пыли, которое повисло над равниной подобно грозовой туче. Филот и Кратер велели трубить в трубы, гетайры пришпорили своих усталых, обожженных солнцем коней. Однако исход схватки, как показалось в первый момент, был предрешен. Подвергшись атаке свежих, отдохнувших частей, они, несмотря на свою отвагу, с боем отступили, ища поддержки товарищей, которые постепенно сбегались, призываемые настойчивыми звуками трубы.
Тогда Александр послал в атаку персидских солдат, которых до сих пор держал в арьергарде, в охране повозок и обозов с наложницами и придворными дамами. Их парфянские кони, более выносливые и привычные к жаре, бросились галопом вперед с таким же пылом, как и у противников, и мидийские и гирканские воины, а также последние уцелевшие Бессмертные, желая отличиться на глазах у царя, вклинились во вражеские ряды, проломив их и посеяв сумятицу. Одетые точно так же, в суматохе боя они не отличались от врага и при первом налете смогли обрушиться на противника с опустошительной эффективностью. Напряжение битвы постепенно ослабело, и сражение разбилось на множество отдельных яростных схваток. Всадники «Острия», до сих пор так и не построившиеся, сели на отдохнувших коней и во главе с самим царем бросились на вражеский фланг. Атакованные с крайней яростью и теснимые назад, воины Сатибарзана вдруг упали духом. А в это время Пердикка двинул вперед пеших агриан, вооруженных кинжалами и длинными наточенными садовыми ножами. Скрытые густой пылью, они двигались, как призраки, выбирая жертву и разя со смертоносной точностью, так что ни один удар не пропадал зря.
Видя неудачу своей попытки, Сатибарзан велел трубить в рога отступление, и его войска, не без потерь, быстро отошли назад, за стену. Вскоре ветер унес пыль и открыл сотни распростершихся на земле трупов и множество раненых, стонущих и взывающих о помощи.
Агриане прошли от одного к другому, перерезая горло всем врагам, забирая у них оружие и снимая украшения. Они делали это на глазах у стоявших на стене женщин, которые рвали на себе волосы и возносили к небу душераздирающие крики.
Между тем Евмен велел разбить лагерь и обнести его рвом и валом. Наблюдая за работой, он слышал недовольное ворчание солдат, которым не понравилось решение царя пустить на войско Сатибарзана персидские части.
— Какая нужда была вмешивать этих варваров? — говорили они. — Мы бы прекрасно справились без них. Пехота даже не успела выйти на поле боя.
— Да, верно, — откликнулся кто-то. — Царь хотел унизить нас. Это несправедливо после всех трудностей, что мы перенесли ради него.
— Ничего не поделаешь, — заметил другой. — Он теперь один из них, он окружил себя персидской стражей, принимает ванну с этим кастратом, который делает ему массаж и уж не знаю что еще. Царь тащит за собой всех этих наложниц, а мы…
Евмен молча слушал эти обидные слова. Слушал их и Евмолп из Сол. Хотя он находился в отдалении и большую часть времени проводил в своем шатре, у него имелось много глаз и ушей, от которых мало что ускользало. И все же, несмотря на эти меры, он не догадывался, что впервые в жизни события преподнесут ему сюрприз.
Лагерь был уже разбит, и солдаты готовились к отдыху. Солнце садилось за охряно-желтую стену Артакоаны. В воздухе разнесся протяжный и жалобный звук рога. Оксатр, бывший проводником у Александра на пути из Экбатан и Задракарты, подъехал к царю.
— Это глашатай, — сказал он; его греческий с каждым днем заметно улучшался. — Глашатай Сатибарзана.
— Пойди ты, Оксарт; может быть, они хотят переговоров… о сдаче.
Оксатр сел на коня и двинулся к городской стене, а тем временем навстречу ему выехал всадник. Они обменялись несколькими фразами, после чего развернулись и поехали обратно, каждый в свою сторону.
В это время товарищи царя собрались вокруг Александра, чтобы сообщить ему о потерях в каждом подразделении и посоветоваться, что делать завтра. Оксатр доложил:
— Сатибарзан вызывает сильнейшего из вас на поединок. Если он победит, вы уйдете; если он проиграет — займете город.
От этих слов Александр загорелся: ему вдруг вспомнились сцены гомеровских поединков, которые в детские годы заполняли его фантазии.
— Я пойду сам, — без колебаний ответил он.
— Нет, — возразил Птолемей. — Царь Македонии не может сражаться с сатрапом. Выбери представителя.
Тут вмешался Оксатр:
— Сатибарзан большой и сильный. — Он поднял руки, изображая необъятную громадину.
— Пойду я, — вызвался Леоннат. — Я тоже достаточно большой и довольно сильный.
Александр смерил его с головы до ног и наклонил голову, словно убеждая себя самого и товарищей. Потом хлопнул друга рукой по плечу.
— Я согласен. Разорви его в клочья, Леоннат.
Два бойца встретились на рассвете следующего дня на свободном выровненном участке, а оба войска почти в полном составе, выстроившись двумя полукружьями, расположились по сторонам, чтобы следить за поединком. Слух о нем быстро распространился меж македонскими солдатами, а вместе со слухом — и чрезвычайное возбуждение. Все знали силу Леонната и его грозное телосложение и разразились хором воинственных криков, как только увидели его — с головы до ног в доспехах, с огромным щитом, украшенным серебряной звездой Аргеадов, и блестящим стальным мечом, в шлеме с алым гребнем.
Но когда строй персов расступился и показался его противник, многие умолкли: Сатибарзан был гигантом. Шествуя медленным тяжелым шагом, он размахивал острой изогнутой саблей. В левой руке он нес деревянный щит, обитый сверкающими, как зеркало, железными пластинами, а голову его покрывал ассирийский шлем-шишак, с которого сзади свисал защищавший шею кожаный полог с металлическими чешуйками. У сатрапа были густые обвисшие усы и черные брови, сросшиеся над орлиным носом, что придавало лицу суровый и свирепый вид. Какое-то время противники стояли друг против друга молча, глядя друг другу в глаза и ожидая сигнала обоих глашатаев, македонского и персидского. Толмач перевел:
— Благородный Сатибарзан предлагает смертельный поединок без каких-либо правил и ограничений, чтобы победила лишь сила и отвага.
— Скажи ему, что меня это устраивает, — ответил Леоннат, сжимая в руке меч и готовясь к нападению.
Тогда глашатаи дали сигнал начинать бой, который должен был закончиться смертью одного из бойцов.
Леоннат начал наступать, ища брешь в защите противника, который был почти полностью закрыт огромным щитом и держал саблю опущенной, словно ни капли не опасался ударов; но когда македонянин сделал выпад, Сатибарзан молниеносно нанес рубящий удар по шлему, и Леоннат закачался, оглушенный.
— Назад! — встревожено закричал Александр. — Леоннат, назад! Защищайся, защищайся!
Он хотел бы броситься на помощь другу, но прежде дал слово царя, что никто не будет вмешиваться в поединок.
Сатибарзан ударил еще и еще, и Леоннат, закрывшись щитом, отступил на нетвердых ногах. Все македонское войско затихло и бессильно наблюдало за градом страшных ударов. Персы же воинственно кричали, подбадривая своего бойца, который неодолимо наступал, стремясь нанести смертельный удар. Леоннат, уже не в силах отбиваться, упал на колени, и еще один удар противника процарапал его щит, разрубив серебряную звезду, — зловещее знамение в глазах македонских солдат, а следующий поразил плечо, вызвав поток крови.
В рядах педзетеров раздался испуганный крик, и у многих на глазах выступили слезы в ожидании смертельного удара. Но жгучая боль подстегнула Леонната, как кнутом. С неожиданной энергией он вдруг вскочил на ноги, сорвал с головы помятый шлем и далеко отбросил его. В то же время, увидев кровоточащую рану, он понял, что скоро потеряет силы, и потому с диким криком бросился вперед, нанося противнику удары щитом.
Удивленный внезапной атакой и обескураженный криком, Сатибарзан потерял равновесие и пошатнулся, а Леоннат воспользовался этим: с неистовой силой он ударил мечом — раз, другой, третий, в то время как перс пытался парировать удары саблей. Сатрап упал навзничь, и Леоннат налетел на него с еще большим пылом, но меч разлетелся от удара о прочную сталь сабли.
Увидев это, Сатибарзан сумел встать и бросился на безоружного противника. Он уже занес саблю, которая зловеще блеснула в восходящем солнце, но, пока сатрап собирался нанести последний удар, Лисимах крикнул:
— Лови, Леоннат! — и бросил другу обоюдоострый топор.
Леоннат поймал его на лету и мгновенно, прежде чем Сатибарзан успел опустить свой клинок, начисто отрубил ему руку, а потом, пока враг был неподвижен от боли, вторым ударом снес голову, которая скатилась на землю, глядя по сторонам широко открытыми, изумленными черными глазами.
В македонских рядах поднялся ликующий крик, и зрители тут же бросились на помощь победителю, побледневшему от страшного напряжения и большой потери крови. Чтобы спасти ему жизнь, его отнесли в шатер Филиппа.
Персы собрались вокруг изрубленного, обезглавленного тела своего командующего, отгородив от глаз врагов это жалкое зрелище. Потом труп сложили на носилки и торжественным шагом медленно понесли в город, оставляя за собой длинный кровавый след.
До захода солнца Артакоана сдалась.
ГЛАВА 35
Александр переименовал этот город в Александрию Арийскую, получив из Египта известие, что его первая Александрия, построенная архитектором Дейнократом на берегу реки, преуспевает. Там расцвела торговля, а население с каждым днем пополняется новыми жителями, стекающимися со всех сторон, покупающими дома, земли и сады.
Царь оставил в Александрии Арийской македонского правителя и маленький гарнизон из наемников, которым дал доход, собственность, рабов и женщин, чтобы они могли создать семью и почувствовать себя привязанными к этому отдаленному месту, забыв, насколько возможно, свою родину и происхождение.
Царь подождал, пока Леоннат оправится от полученных на поединке с Сатибарзаном ран, а потом дал приказ отправляться на север. Войско двинулось по зеленой долине реки, которая разделялась на множество мелких ручьев, постоянно переплетавшихся, образуя серебряную сеть из тысяч островков, сверкающих изумрудной зеленью. Солдатам предстояло добраться до гряды высоких горных вершин, в сравнении с которыми все прочие вершины мира казались скромными холмиками. Этот грозный барьер, называвшийся Паропамисом, отделял Бактрию от бескрайней, как Океан, долины Скифии.
Леоннат, все еще с повязкой на левом плече, велел слугам приготовить вещи под надзором Каллисфена, который в эти дни погружался во все более мрачное состояние духа. Леоннат спросил историка:
— Разве эти горы могут быть выше Олимпа?
— Мы приближаемся к местам, никем из нас никогда не виданным, — ответил Каллисфен, — и народам, никому из нас не ведомым. Может быть, эти горы являются барьером, ограничивающим крайний предел мира, и потому превосходят высотой все остальное. Теперь все возможно, и в то же время все бессмысленно.
— Что ты хочешь этим сказать?
Историк понурился и не ответил, и Леоннат тоже замолчал. Радость от победы быстро перешла в недовольство; оно словно расползалось в атмосфере подозрительности, которая порой чувствовалась даже среди командиров. Единственными, кого как будто вдохновлял этот поход, были юноши-оруженосцы, пришедшие из Македонии. Они зачарованно озирались по сторонам, созерцая величественные пейзажи, поражающие огненными красками заката, яркой синевой неба, висящего над девственными снегами горных вершин, великолепием звезд в безмятежные ночи.
Природа изумляла их постоянным разнообразием — удивительными растениями и животными, знакомыми лишь по рассказам. Кому-то в низовьях реки уже повстречался тигр в своем полосатом наряде, на рассвете переправлявшийся на другой берег, чтобы устроить засаду на ланей и газелей или больших буйволов с изогнутыми рогами.
Обязанности молодых оруженосцев часто приводили их в царский шатер; юноши бывали как у Александра, так и у царских товарищей и других войсковых командиров.
И случилось так, что один из них, изящный белокурый пятнадцатилетний Кибелин, узнал страшную тайну. Заговор с целью цареубийства!
Он шепотом рассказал об этом своему другу по имени Агирий, юноше чуть постарше его самого, который спал рядом в том же шатре и несколько раз вставал на защиту товарища перед более сильными. Кибелин разбудил его, когда все заснули, и Агирий, протирая глаза, сел на край кровати. Пораженно и встревожено выслушал он невероятный рассказ.
— Если ты не до конца уверен в том, что говоришь, никому не рассказывай, потому что рискуешь головой, — посоветовал он другу.
— Я более чем уверен, — возразил Кибелин. — Я слышал, как двое высших командиров фаланги обсуждали способ, день и час убийства.
Агирий недоверчиво покачал головой.
— Мы всего несколько дней как прибыли и тут же оказались вовлечены в дело такого рода. Это пугает.
— Что, по-твоему, делать? Должен ли я рассказать об этом царю?
— Нет! Ты с ума сошел? Царю — нет. Вряд ли кому-то из нас выдастся случай поговорить с ним напрямую, особенно сейчас, когда церемонии стали такими сложными. Ты бы мог побеседовать с кем-то из его товарищей. С Филотом, например. Он командующий конницей. С завтрашнего дня мы поступаем к нему на службу вестовыми. Думаю, он предупредит царя.
— Мне тоже кажется, так будет лучше, — согласился Кибелин. — Ты дал мне хороший совет.
— А пока спи, — сказал Агирий. — Завтра командир отряда разбудит нас до рассвета на тренировку по верховой езде.
Юноша попытался заснуть, но страшная тайна не выходила у него из головы и не давала покоя, и он долго лежал в темноте на спине с открытыми глазами, мучаясь кровавым кошмаром цареубийства. В то же время его страшно возбуждала мысль о своей великой заслуге, о том, что сам Александр III Македонский, завоеватель Мемфиса, Вавилона и Суз, будет обязан жизнью ему, Кибелину, самому хилому из оруженосцев, который вечно становился мишенью для шуток и насмешек.
Он оделся еще до побудки и молча завтракал среди прочих оруженосцев, сидя рядом с Агирием.
— Эй! Кибелин проглотил язык! — сказал один из товарищей.
— Оставь его в покое! — осадил его Агирий. — Все вы молодцы против маленького.
— Что, хочешь сказать, нужно начать с тебя?
Агирий не поддался на провокацию и молча покончил с завтраком, а потом все пошли за командиром отряда, который отвел их к конскому загону, чтобы начать упражнение по верховой езде.
Кибелин несколько раз упал и получил несколько ушибов, поскольку мысли его витали в другом месте, но все подумали, что дело в его обычной неловкости, и некоторые не оставили это без внимания. Вечером, перед ужином, его вместе с товарищем допустили к Филоту, чтобы помочь военачальнику снять доспехи и позаботиться о его оружии: начистить панцирь и поножи, проверить ремни щита, наточить меч и копье.
Они приложили к этому все старания, а Кибелин тем временем выискивал удобный момент заговорить, но так и не набрался мужества. И так он ничего и не сказал — ни в этот день, ни на следующий. Агирий все подталкивал его:
— Командующий тебя похвалит, сам подумай. Тебе нечего бояться. Время проходит, а в каждое мгновение заговорщики могут решиться на цареубийство. Ну, чего же ты ждешь!
Мальчик, наконец, решился и следующим вечером, когда Филот уже уходил, ему удалось открыть рот:
— Командующий…
Филот обернулся:
— В чем дело, мальчик?
— Мне нужно поговорить с тобой.
— Сейчас у меня нет времени. О чем?
— Об очень важном деле. Оно касается жизни царя.
Опустив голову, Филот замер на пороге, словно пораженный молнией, но не обернулся.
— Что ты хочешь сказать?
— Что он в страшной опасности. Кое-кто хочет убить его, и…
Филот захлопнул дверь и обернулся.
— Несчастные олухи! — пробормотал он сквозь зубы. — Не послушали меня…
Мальчик отступил, словно в страхе, но Филот ободряюще посмотрел на него:
— Как тебя зовут, мальчик?
— Меня зовут Кибелин.
— Ладно. Пока что сядь и расскажи мне все, что тебе известно. Мы все устроим, вот увидишь.
ГЛАВА 36
Приближался день отправления, и Александр вызвал из Задракарты царевну Статиру, чтобы провести с ней некоторое время перед долгой разлукой. Он выехал ей навстречу, и она, едва завидев его вдали, сошла со своей колесницы и побежала к нему, как девушка бежит в объятия своего первого возлюбленного. Александр спешился и страстно прижал жену к себе, когда она бросилась ему на шею. Его очаровала ее непосредственность и искренность, эта ее послушная готовность, и то, что она никогда ничем не обременяла его, даже в письмах.
Они пошли пешком вместе, беседуя, как старые друзья, к царской резиденции в Александрии Арийской. Статира заметила повсюду множество строительных площадок и поняла, что новые здания превратят старую Артакоану в греческий город — с более высокими храмами, с гимнасием, с площадкой для упражнений молодых воинов, с театром для сценических представлений.
— Меня больше всего волнует мысль о том, что через некоторое время в этом месте, столь удаленном от Афин и Пеллы, зазвучат стихи Еврипида и Софокла, — говорил царь. — Ты никогда не видела наших трагедий?
— Никогда, — ответила Статира, — но я слышала о них. Они представляют жизненные события, актеры декламируют, а хор поет и танцует, да? Мой наставник рассказывал, как видел одну трагедию в городе яунов на побережье.
— Да, более-менее так, — ответил Александр, — но смотреть самой — это совсем другое дело: ты переживаешь чувства и страсти древних героев и их женщин, как будто они живые, настоящие.
Статира сжала локоть супруга, давая понять, как очарована его словами.
— Я бы хотел дождаться завершения строительства театра, да нет времени. Узурпатор Бесс собрался перейти Паропамис, чтобы сговориться с равнинными скифскими племенами. Я должен поймать его и восстановить справедливость и потому велел устроить представление завтра, на деревянной сцене с деревянными трибунами. А послезавтра я отправляюсь.
— Могу я спать с тобой этой ночью? — спросила Статира и шепнула ему на ухо: — Поверишь ли, я преодолела в повозке семьдесят парасангов в основном для этого.
Александр улыбнулся:
— Надеюсь оказаться на высоте ради столь великой жертвы. А пока распоряжусь, чтобы тебя разместили по достоинству.
Тем временем они дошли до своей резиденции, дворца, принадлежавшего раньше сатрапу Сатибарзану. Женщины взяли царевну под свою опеку и отвели в ее комнаты.
Царь вернулся к ней вечером. Он пришел из лагеря, где весь день следил за подготовкой к походу. Солнце опустилось за горизонт и последними отблесками позолотило плывущие по небу редкие облака, но на востоке уже было совсем темно, и именно там Александр заметил свет одинокого костра.
— Что это там? — спросил он у стражи.
— Возможно, пастухи готовят пищу, прежде чем лечь спать, — ответили ему.
Но, приблизившись, они увидели колышущийся под дуновениями вечернего ветерка белый плащ.
— Аристандр, — прошептал царь и пришпорил коня, направляясь к огню.
Охранники двинулись было за ним, но царь сделал им знак остаться, и тем пришлось подчиниться.
Ясновидец стоял перед кучей камней, на которой горел костер. Он не отводил глаз от пламени, с треском пожиравшего сухие ветки акации. Казалось, он не заметил приближающегося топота копыт, но вздрогнул, услышав голос Александра.
— Ты услышал мой призыв? — спросил Аристандр странным, не своим голосом.
— Я увидел твой костер.
— Ты в опасности.
— Я всегда в опасности. Мое тело покрыто шрамами.
Ясновидец как будто только теперь увидел Александра и, взглянув ему в глаза, прошептал:
— Странно, только лицо осталось нетронутым. А вот твой отец, говорят, к моменту смерти был изуродован весь.
— Может быть, ты видел предзнаменования моей смерти, Аристандр? Я желаю претворить в жизнь мою мечту, и мне бы хотелось… завести сына, прежде чем…
Ясновидец прервал его:
— Ты спасешься, но будь внимателен к голосу мальчика. К голосу мальчика, — повторил он. — Больше ничего не могу сказать, не могу… — Его глаза увлажнились.
— А как твой кошмар? Ты все еще видишь того нагого человека, сгорающего живьем на погребальном костре?
— Я вижу его всегда. — Аристандр указал на огонь перед собой. — И его молчание смущает мне душу. Его молчание, понимаешь?
Александр удалился пешком, ведя коня в поводу. Так он приблизился к дороге, где его ждала охрана. Ему померещилось, как отец падает, пронзенный мечом одного из телохранителей, и жестом руки он отослал солдат:
— Уходите. Мне не нужна охрана. Мои солдаты любят меня. И мои товарищи тоже. Уйдите.
Филот вышел из своего жилища ночью и поспешил в верхнюю часть города к массивному зданию из грубых кирпичей, отведенному под штаб командования гетайров. Ночь была безлунная, но небо светилось мириадами крупных сверкающих звезд. По небосводу длинным дуновением света протянулась лента Млечного пути.
Командующий конницей был в темном плаще и прятал лицо под капюшоном, так что никто не мог его узнать. Он скинул капюшон только перед часовым. Тот замер, опустив в знак приветствия свое копье. Филот вошел и увидел Симмия, командира одного из отрядов педзетеров.
— Где остальные? — спросил он.
— Не знаю, — ответил тот.
— Прекрасно знаешь. Как знаю и я. Я не двинусь отсюда, пока не увижу всех, одного за другим, пусть даже для этого придется… предупредить царя.
Симмий побледнел.
— Погоди, — проговорил он. — Одни в башне на восточном бастионе, другие в караульном помещении у центрального двора.
Он вышел через боковую дверь, а Филот принялся расхаживать взад-вперед, сжимая руки в мучительном ожидании.
Один за другим заговорщики собрались, и Филот разглядывал их, как на смотру, но с выражением беспокойства: Симмий из Неаполиса, командир третьего отряда педзетеров, Агесандр из Левкопедиона, заместитель командира пятого отряда гетайров, Гектор из Фермы, командир первой турмы «Острия», Кресил из Метона, командир штурмовиков, Менекрат из Мегаполиса, заместитель командующего греческими наемниками, и Аристарх из Полиакмона, заместитель командира «щитоносцев».
Филот набросился на них, не дав им даже раскрыть рта.
— Вы совсем спятили? Что это за история о вашем решении убить царя?
— Послушай, ты ошибаешься… — начал было Симмий, но Филот не дал ему договорить:
— Полно! Ты с кем, по-твоему, разговариваешь? Я требую, чтобы мне рассказали, кто из вас принял такое решение, когда вы намереваетесь его исполнить и главное — зачем.
— Зачем, ты сам знаешь, — ответил Кресил. — Александр больше не наш царь: он царь варваров и окружил себя варварами. А мы? Мы, завоевавшие ему державу, вынуждены унижаться у дверей приемных, если нужно поговорить с ним.
— И мало того, — вмешался Симмий, — он строит свои дурацкие планы — завоевать весь мир. Какой мир? кто-нибудь из нас знает, где кончается мир? А если он вообще нигде не кончается? Нам придется вечно вот так же пересекать пустыни, горы и безлюдные равнины, только ради того, чтобы завоевать какую-нибудь жалкую деревню вроде этой Артакоаны?
— И это еще не все, — добавил Гектор из Фермы. — Теперь он основывает колонии. Но где? Не на побережье, не в подходящих, приятных для жительства местах, как первую Александрию, — он создает города в пустынных краях, среди варварского населения, на огромном расстоянии от моря. Он вынуждает тысячи несчастных пустить корни в ненавистных местах, сочетаться браком с женщинами-варварками, чтобы породить поколение несчастных ублюдков.
— Все греки в колониях сочетаются с женщинами-варварками, — заметил Филот. — Это еще не причина убивать его.
— Не лицемерь, — ответил Симмий. — Ты единственный из его друзей, кто всегда соглашался с нами в том, что дальше так продолжаться не может. Ты единственный понимал страдания наших солдат, их страх, их желание вернуться на родину, а теперь вдруг разыгрываешь перед нами удивление, как будто узнал что-то новое.
— Неправда! — возразил Филот. — Согласие среди нас было совсем в другом. Я соглашался на военный переворот в нужный момент, чтобы заставить его отказаться от своих намерений.
— При необходимости — силой, — договорил Аристарх.
— Но без кровопролития, — еще решительнее ответил Филот. — Если вы действительно приведете свой план в исполнение, войско останется без руководства в самом сердце чужой страны, а трон — без царя.
— Это не так, — вмешался Агесандр. — У нас есть царь.
— Аминта Четвертый, — сказал Симмий. — Законный сын законного царя Аминты Третьего.
Филот покачал головой:
— Невозможно. Аминта предан Александру.
— Это ты так говоришь, — возразил Симмий. — Подожди, когда он наденет македонскую корону.
Филот опустился на стул, и какое-то время хранил молчание. А Симмий продолжил:
— Ты командующий конницей гетайров, и новый царь должен быть уверен в тебе. Нам нужно знать, что ты думаешь.
Филот вздохнул.
— Послушайте, я думаю — нет, убежден! — что нет никакой необходимости пятнать руки кровью Александра, которому все мы многим обязаны.
— Это ты многим ему обязан, — перебил его Аристарх. — А когда он будет мертв, ничто не помешает нам оказать ему высокие почести, воздвигнуть статуи и памятники, высечь его имя по всему миру — так это делается. А Аминта будет обязан нам троном и во всем будет слушаться нас.
Филот продолжил, будто Аристарх ничего не говорил:
— Я не хочу его убивать. Я не хочу, чтобы его убили вы. Я сам скажу вам, что делать и когда.
Он говорил с такой убежденностью, что никто не посмел прекословить. А Филот снова закрыл лицо капюшоном и вышел.
Подождав, пока затихнут его шаги, Симмий обратился к товарищам:
— Кто ему разболтал?
Все покачали головами.
— Филот узнал о нашем решении, стало быть, кто-то ему сказал.
— Я не говорил, клянусь, — заверил его Кресил.
— И мы тоже, — эхом откликнулись остальные.
— Теперь мы рискуем головой, — молвил Симмий. — Помните: не должно было просочиться ни единого слова, ни любимым, ни друзьям, ни братьям. А раз Филот узнал об этом, значит, знает и кто-то еще.
— Верно, — согласился Аристарх. — Что думаешь делать?
— Мы должны действовать немедленно.
— Ты хочешь сказать, что нужно убить царя прямо сейчас?
— Как можно скорее. Если то, что узнал Филот, дойдет до ушей Александра, мы пропали. Вы когда-нибудь видели македонский суд над государственными изменниками? Я видел. И казнь тоже. Войско разрывает осужденного на части. Постепенно.
— Так значит, когда? — спросил Гектор из Фермы.
— Завтра, — ответил Симмий, — пока Филот не разузнал прочие подробности. А когда Александр будет мертв, Филот уже не сможет отступить и разделит с нами ответственность. Что касается Пердикки, Птолемея, Селевка и прочих, тут будем действовать по ситуации. Почти все они люди рассудительные. А сейчас слушайте меня внимательно, потому что малейшая ошибка может нас выдать и привести к страшному концу. — Он обнажил меч и стал чертить знаки на утоптанной земле. — Завтра царь открывает новый театр, он хочет, чтобы Статира посмотрела на выступление Фессала в «Молящих». Он выйдет из дворца Сатибарзана и пойдет по этой дороге мимо лавок торговцев пряностями. Добравшись досюда, он свернет на улицу, ведущую к театру, и пройдет между двух рядов педзетеров фаланги, оказывающих ему почести и отделяющих от толпы. Это и будет наш момент.
Симмий воткнул меч в землю и по очереди посмотрел в глаза каждому из заговорщиков.
ГЛАВА 37
Кибелину вместе с его другом Агирием удалось протолкаться в первый ряд, и он с тревогой сбоку смотрел на царя, который шагал в окружении своих друзей и командиров боевых частей. Среди них шел и царевич Аминта.
— Я не вижу Филота, — сказал мальчик, так и не отыскав его среди свиты Александра.
— Думаешь, он его предупредил? — спросил Агирий.
— Наверняка, — ответил Кибелин. — Он выслушал меня очень внимательно и сказал, чтобы я не беспокоился. Все будет хорошо.
— Но когда, по-твоему, они хотят устроить покушение?
— Не знаю. Когда я подслушивал, на улице было шумно и мне не удалось расслышать хорошенько, но, кажется, они собирались привести свой план в исполнение еще до того, как войско выступит в Бактрию.
— Смотри, — заметил Агирий, указывая на голову свиты. — Вон царь с царевной Статирой, а вон его товарищи. Но там я тоже не вижу Филота.
— Возможно, он сегодня на задании: я слышал, что другой сатрап, Барзаент, бродит у подножия гор с вооруженными бандами саков и гедросцев. Возможно, Филоту приказано заняться им.
— Возможно…
Теперь царь приблизился, и Кибелин вдруг ощутил прилив странного возбуждения. Без всякой причины его охватила дрожь.
— Что с тобой? — спросил Агирий. — Ты сам не свой.
Как раз в это мгновение его юному другу вдруг вспомнилось слово, услышанное им от одного из военачальников. Тогда оно показалось бессмысленным, а теперь вдруг прозвучало в уме, исполнившись страшного смысла: «Кшаярса гадир» — «Ворота Ксеркса». Так вот же они! У него за спиной, наверху башенки над порталом откуда-то появились три лучника… Они прицелились. Мальчик отчаянно бросился вперед, протолкался через шеренгу педзетеров и закричал:
— Покушение на царя! Покушение на царя! Спасайте его!
В то же мгновение вылетели стрелы, но Птолемей и Леоннат уже подняли щиты и железной броней прикрыли незащищенную грудь монарха. Пердикка проорал во всю силу своих могучих легких:
— Схватить этих людей! — и послал на Ворота Ксеркса отряд штурмовиков.
Эти слова эхом отдались в уме Александра, оживив воспоминание и разбудив затихший кошмар — образ царя Филиппа, падающего в багровую лужу с кельтским кинжалом в боку. Рядом он услышал голос Статиры, выкрикивающей непонятные слова, а потом поднялся настоящий вихрь воплей, сухие приказы, бряцанье оружия, тяжелый топот конских копыт, но перед глазами Александра неизменно оставались кровь и пепельно-бледное лицо умирающего Филиппа.
Его привел в себя голос Птолемея:
— Этот мальчик спас тебе жизнь. Это мужественный и преданный молодой оруженосец, его зовут Кибелин.
Александр посмотрел на него: с тонкими чертами лица, хрупкого телосложения, с большими ясными глазами. Мальчик дрожал с головы до ног, потупившись, чтобы не выдать своих чувств.
— Откуда ты, мальчик? — спросил царь.
— Из Эвноста. Это такая деревня в Линкестиде, государь, — сумел пробормотать тот.
— Ты спас мне жизнь. Спасибо. Я прикажу наградить тебя за верность. Но скажи, откуда ты узнал, что кто-то хочет убить меня?
— Государь, я говорил об этом с командующим Филотом, и он, конечно, рассказал тебе, что…
Кибелин замолк и смущенно огляделся, заметив недоумение на лице царя и всех его товарищей.
Царский секретарь, Евмен из Кардии, подошел к Кибелину и положил руку ему на плечо.
— Ладно, мальчик, пойдем отсюда. Ты расскажешь нам все с самого начала.
Взволнованный и возбужденный ролью спасителя царя, Кибелин рассказал в мельчайших подробностях все, что знал о заговоре. Сообщил и то, как он предупредил Филота, который обещал немедленно сообщить все царю.
Когда он закончил, Евмен похлопал его по плечу и сказал:
— Молодец, ты сослужил всем нам хорошую службу. Отныне царь Александр назначает тебя командиром всех царских оруженосцев со всеми выплатами и регалиями, полагающимися этому званию. Кроме того, ты получишь один талант серебром, который сможешь оставить при себе или отослать своей семье, целиком или частично. А теперь иди отдохни: этот день был для всех нас насыщен событиями.
Мальчик, взволнованный, удалился и побежал к своему другу Агирию сообщить новость, уже предвкушая, как будет отдавать приказы и назначать наказания всем тем товарищам, которые до сих пор смеялись над ним.
Александр же распорядился немедленно арестовать Симмия из Неаполиса, Гектора из Фермы, Кресила из Метона, Менекрата из Мегаполиса, Аристарха из Полиакмона, Агесандра из Левкопедиона, а также командующего Филота и царевича Аминту Линкестидского, после чего уединился в своем дворце, не желая никого видеть.
Селевк, Птолемей и Евмен решили поговорить с Гефестионом — единственным, кого царь мог принять в этот трагический момент. Друзья нашли его к вечеру у него в доме.
— Попытайся узнать, что он намерен делать, — сказал Евмен.
— Особенно в отношении Филота, — добавил Селевк.
— Еще неизвестно, удастся ли мне поговорить с ним. Я в жизни ни разу не видел его таким. Даже когда мы были в изгнании и каждый день могли умереть от голода и холода.
Гефестион уже собрался было уйти, но как раз в этот момент в дверь постучал гонец с приказом всем немедленно явиться к Александру.
— Ну и ладно, — сказал Евмен. — Он нас опередил. Они встали и вышли все вместе.
— Как думаешь, что ему от нас нужно? — спросил Гефестион.
— Это же очевидно, — ответил Евмен. — Он спросит, что мы думаем о заговоре, а особенно, как посоветуем решить судьбу Филота.
— И что мы ответим? — мрачно спросил Селевк, словно задавая этот вопрос самому себе.
В это время появился Пердикка верхом. Увидев друзей, он спешился и подошел к ним, взяв коня под уздцы.
— Я бы предпочел выйти на льва с голыми руками, чем говорить с Александром об этом деле. А вы уже придумали, что ему сказать?
В глазах друзей Пердикка прочел неловкость, тревогу и растерянность. Он покачал головой.
— Тоже, как и я, не знаете?
Они уже подошли к дворцу сатрапа, охраняемому отрядом педзетеров и четырьмя Бессмертными царской стражи. С другой стороны подошли Леоннат с перевязанным плечом, Клит Черный и Лисимах.
— Не хватает Кратера, — заметил Птолемей.
— И Филота, — добавил Евмен, не поднимая глаз.
— Да, — ответил Птолемей.
Все молча переглянулись, понимая, что скоро придется дать царю ответ насчет одного из тех, с кем они делили пищу и голод, радости и печали, сон и бодрствование, надежды и разочарования. Решить, жить ему или умереть.
Молчание нарушил Леоннат:
— Филот никогда мне не нравился: в нем всегда было много спеси. Но мысль о том, что его разорвут на куски, не укладывается в голове. А теперь пошли. Я больше не могу выносить этой неопределенности.
Они направились в зал совещаний, где их ждал Александр. Он сидел на троне бледный, с признаками бессонной ночи на лице. У его ног свернулся Перитас — пес то и дело поднимал морду в тщетной надежде, что его приласкают.
Никто даже не ожидал, что им предложат сесть.
— Вы все присутствовали при убийстве моего отца, — начал царь.
— Это так, — тут же подтвердил Евмен, который с тех пор хранил в душе глубокую, все еще кровоточащую рану, — но ты совершишь страшную ошибку, вынося суждение под впечатлением тех кровавых воспоминаний. Это совсем другой случай, совсем другая ситуация, и…
— Другой? — вдруг закричал Александр. — Это я вынул клинок из его бока, я запачкал одежду его кровью, я принял его предсмертный хрип. Я, понимаешь? Я!
Евмен понял, что ничего поделать нельзя: было ясно, что царь обуян мыслью о цареубийстве и ночью его одолевали кошмары о насильственной смерти Филиппа. Тут вошел Кратер, тоже в отвратительном настроении.
— Если ты уже принял решение, — проговорил в это время Птолемей, обращаясь к царю, — то зачем было вызывать нас?
Александр как будто успокоился.
— Я еще не принял никакого решения и не собираюсь принимать его. Пусть по древнему обычаю соберется войско и решит само.
— Стало быть, — вмешался Селевк, — мы не сможем оказать тебе существенной помощи…
Александр прервал его:
— Если хотите, можете идти, я вас не задерживаю. Я позвал вас, чтобы посоветоваться с вами и заручиться вашей поддержкой. Шестеро самых доблестных наших командиров, а среди них — один из самых близких моих друзей, почти брат, устроили заговор с целью убить меня. Вы присутствовали на допросе оруженосца, и все видели и слышали.
Слово взял Черный, до сих пор хранивший молчание:
— Будь осторожен, Александр. Против Филота нет никаких свидетельств, кроме показаний мальчика.
— Который спас мне жизнь и во всем остальном рассказал правду. Под пыткой лучники заговорили. Они полностью подтвердили рассказ Кибелина. Их допрашивали раздельно разные люди, но ответы получили одинаковые.
— Что у нас есть на Филота? — снова спросил Черный.
— Несомненно, он все знал и ничего не сказал. Понимаешь, Черный? Если бы все зависело от него, я был бы уже мертв, пронзен стрелами, продырявлен насквозь. И мое тело лежало бы там в луже крови.
При этих словах на глазах Александра выступили слезы, и все поняли: они вызваны мыслью не о телесных муках, а о том, что друг, которому он доверял, которого назначил на высочайшую после себя должность в войске, человек, бывший почти олицетворением его самого, плел заговор, имел дерзость представить его пронзенным стрелами, в муках предсмертной агонии. Ни от кого не укрылся полный боли взгляд царя, дрожь в его голосе, его судорожно вцепившиеся в подлокотники трона руки.
— Что я вам сделал? — чуть не плача, спросил Александр. — Что я вам сделал?
— Александр, мы не… — попытался ответить Птолемей.
— Вы его защищаете!
— Нет, — возразил Селевк. — Просто мы не можем в это поверить, хотя все говорит против него.
В зале, затененном вечерними сумерками, повисло долгое молчание, которое никто не смел нарушить, даже Перитас, неподвижно смотревший на своего хозяина большими водянистыми газами. Все чувствовали себя слишком одинокими, слишком далекими от счастливой поры отроческой дружбы. Неожиданно дни мечтаний и героизма показались такими давними… а теперь пришлось столкнуться с тревогой и сомнениями, искать выход в путанице интриг, лжи и подозрений.
— А что у нас есть на царевича Аминту? — снова спросил Черный.
— После моей смерти он стал бы новым царем, — мрачно ответил Александр, а потом, чуть помедлив, спросил: — Как следует поступить, по-вашему?
За всех ответил Черный:
— Выбора нет. Он служит в царском войске, а командиров царского войска должно судить войско.
Больше говорить было не о чем, и все ушли один за другим, оставив Александра наедине со своими призраками. Даже у Гефестиона не хватило мужества остаться.
ГЛАВА 38
Евмен и Каллисфен явились к Александру до рассвета. Он сидел на простом табурете, накрывшийся одной грубой македонской хламидой. Было видно, что царь всю ночь не смыкал глаз.
— Он признался в предательстве? — спросил Александр, не поднимая головы.
— Он вынес пытку с невероятным мужеством. Это поистине великий воин, — ответил Евмен.
— Знаю, — мрачно проговорил Александр.
— И не хочешь знать, что он сказал? — спросил Каллисфен.
Несколько раз медленно кивнув, царь изъявил согласие выслушать.
— Страдая от пытки, он крикнул: «Спросите у Александра, что он хочет от меня услышать, и закончим на этом!»
— Он высокомерен, — отметил царь, — как настоящий благородный македонянин. Высокомерен, как всегда.
— Но как тебя могут не терзать сомнения? — спросил Каллисфен.
— Мне не дано сомневаться, — ответил Александр. — Есть неопровержимое свидетельство, подтвержденное злоумышленниками.
— А Аминта? — в тревоге спросил Евмен. — Пощади хотя бы его. Против него нет никаких показаний.
— Уже был один прецедент. Кроме того, после моего убийства он бы стал царем. Разве этого не достаточно?
— Нет! — воскликнул Каллисфен с невиданным доселе мужеством. — Нет, не достаточно! И хочешь знать, почему? Помнишь письмо Дария с обещанием двух тысяч талантов? Оно было фальшивым! Все было фальшивым — письмо, гонец, заговор… Точнее сказать, заговор действительно был, но его сплела твоя мать вместе с египтянином Сисином, чтобы уничтожить Аминту.
— Ты лжешь! — закричал Александр. — Сисин был шпионом Дария и за это был осужден после Исса.
— Да, но я был последним, кто с ним говорил. Он хотел подкупить меня и Птолемея, и я прикинулся, что согласен: пятнадцать талантов мне и двадцать Птолемею, чтобы мы молчали и подтвердили его невиновность. Я ничего не говорил тебе и держал это в строжайшей тайне, чтобы не тревожить тебя и не сталкивать с твоей матерью. У Олимпиады всегда была навязчивая мысль о наследовании — ведь это она велела задушить в колыбели младенца Эвридики. Или ты уже не помнишь?
Александр задрожал, как будто опять увидел Эвридику, всю в синяках, с исцарапанным лицом и спутанными волосами, прижимающую к груди труп своего ребенка.
— Младенца одной с тобою крови, — беспощадно продолжал Каллисфен, — или, может быть, ты, в самом деле, считаешь себя сыном бога?
Александр вскочил, словно его ударили, и бросился на историка с обнаженным мечом.
— Ты забываешься!
Каллисфен побледнел, моментально осознав, что своими словами вызвал бешенство, последствий которого не вынесет. Евмен встал между ними, и в последнее мгновение царь сдержался.
— Он сказал то, что думал. Хочешь убить его за это? Если ты предпочитаешь льстецов и прихвостней, говорящих только то, что тебе нравится, мы тебе больше не нужны. — Евмен повернулся к своему товарищу, дрожавшему, как осиновый лист, и бледному, как мертвец. — Пошли, Каллисфен: царь сегодня не в настроении.
Они ушли, а Александр опустился на табурет, прижимая руки к вискам, чтобы сдержать приступ пронизывающей боли.
— Грязная работа, согласен, — раздался голос из-за спины. — Но, к сожалению, у тебя нет выхода. Ты должен разить без колебаний, даже если сомневаешься. Может быть, Филот и не хотел тебя убивать. Может быть, он хотел взять тебя под стражу или заставить действовать так, как хочет он, заручившись своим положением и положением своего отца. Но он наверняка участвовал в заговоре, и этого достаточно. — В темноте Евмолп из Сол пересек зал и сел на табурет напротив царя.
— Ты слышал и другие слова Каллисфена?
— Историю про Аминту? Да. Но и здесь можно ли ему верить? Кто присутствовал при допросе Сисина перед его казнью? Насколько я знаю, никого, кроме самого Каллисфена, и, значит, его правдивость не проверишь. Аминта объективно представляет опасность; при персидском дворе его бы уничтожили немедленно. Не забывай, что ты теперь царь персов. Ты Царь Царей. Однако не думаю, что тебе нужно вмешиваться в это: суд и без того наверняка вынесет смертный приговор. Тебе нужно лишь отказать в помиловании, если кто-то попросит такового.
Вошел вестовой и с ним два оруженосца с царскими доспехами.
— Государь, — сказал он, — пора.
Военный суд в присутствии всего войска был древним и страшным ритуалом, введенный предками, чтобы навлечь на изменников больше позора и доставить им больше мук. На таком суде присутствовал царь, и правосудие вершилось на глазах у всего войска, командиров конницы, пехоты и вспомогательных частей. Члены суда в количестве десяти человек избирались из высших по званию командиров и старших по возрасту солдат.
Перед рассветом, созванное громким и протяжным сигналом трубы, от единственной ноты которого, резкой и напряженной, леденела кровь, войско выстроилось на пустынной равнине. Педзетеры в полном вооружении, с сариссами в руках, были расставлены в шесть шеренг. Впереди стояла конница гетайров. На самом краю, замыкая два параллельных строя в прямоугольник, выстроились части легкой ударной пехоты, штурмовики и «щитоносцы», оставив лишь маленький проход с восточной стороны, откуда должен был войти царь с судьями и подсудимыми. Не были допущены ни наемники-греки, ни фракийцы с агрианами, поскольку только македоняне могли казнить македонян.
В центре строя гетайров было небольшое земляное возвышение с креслами для царя и членов суда.
Из-за гор показалось солнце. Его лучи сначала упали на концы сарисс, засверкавшие от этого зловещими бликами, а потом осветили солдат, неподвижно замерших в скорлупе своей стали, с каменными лицами, загрубевшими от солнца, ветра и мороза.
Троекратный сигнал трубы возвестил о прибытии царя, а вскоре появились и судьи в сопровождении закованных в цепи заключенных. Среди них выделялись Филот — следами пыток на теле и Аминта — бесстрастным видом.
Когда царь и члены суда заняли места на возвышении, самый пожилой из них огласил пункты обвинения. Улики следовали чередой, и глашатай громко повторял каждое обвинение, чтобы слышали все собравшиеся. После этого члены суда проголосовали, и всем обвиняемым был вынесен единодушный вердикт: виновны.
— А теперь, — провозгласил глашатай, повторяя слова самого пожилого из судей, — теперь голосует собрание. Голосуют по каждому подсудимому в отдельности. Кто не согласен с вердиктом — кладет на землю свой меч, а потом все отходят назад на десять шагов, чтобы можно было сосчитать мечи.
Пожилой судья по одному назвал имена подсудимых, и каждый раз воины отступали, положив на землю мечи. Приговоренные устремляли глаза сначала на строй пехоты, потом конницы, в последней надежде, что соратники попытаются их спасти, но каждый раз сверкающих на земле мечей было слишком мало. Когда настал черед Филота, мечей оказалось побольше, особенно там, где стояли гетайры, но все равно недостаточно. Высокомерие Филота и неприветливое обращение вызывали к нему неприязнь, особенно у пехоты, к тому же все слышали показания оруженосца Кибелина против него.
Филот, в отличие от прочих, даже не поглядел на землю перед строем: он не отрывал глаз от Александра, сжав зубы, чтобы не дать вырваться стонам. Осужденный продолжал смотреть на царя даже тогда, когда его подвели к столбу казни. Он оттолкнул палачей, хотевших привязать его за запястья и лодыжки, и высокомерно выпрямился, подставив грудь отряду лучников, которым надлежало привести приговор в исполнение. Командир отряда по обычаю подошел к возвышению, чтобы услышать, не захочет ли царь в последний момент отменить казнь и помиловать осужденного.
Александр велел:
— В сердце, первым же выстрелом. Я не хочу, чтобы он мучился еще хоть мгновение.
Командир лучников кивнул и, вернувшись к своему отряду, обменялся несколькими словами с солдатами. По его команде стрелки натянули луки и прицелились. Над полем повисла свинцовая тишина. Конники не отрывали взоров от Филота, зная, что даже в такой момент, даже обессиленный пытками, он покажет им, как умирает командир гетайров.
Прозвучала команда стрелять, но прежде чем стрелы пронзили ему сердце, Филот успел крикнуть:
Алалалай!
И тут же тяжело упал в пыль и остался лежать в луже крови.
Царевича Аминту судили последним, и многие из присутствовавших не могли без слез видеть жалкий жребий молодого, доблестного царского сына, которого судьба лишила сначала трона, а потом, в расцвете лет, и жизни.
Александр вернулся в свой дворец в самом мрачном и подавленном состоянии. Он потерял друга юности не на поле битвы, а у столба казни. Теперь Александра убивала мысль о том, что его ровесник, всегда участвовавший во всех его начинаниях, человек, которому он доверил самую высокую должность в армии, вдруг решился войти в число заговорщиков против своего царя и друга. Но пора лжи и крови еще не закончилась: оставалось принять еще одно, самое ужасное решение.
После захода солнца царь созвал товарищей на совет в удаленном шатре среди чистого поля. На совете присутствовал Евмен, но не было Клита Черного, занятого организацией похорон казненных. У входа не стояла стража; отсутствовали сиденья и стол; Александр отказался даже от ковров — внутри шатра была одна лишь голая земля. Собравшиеся стояли при свете единственной лампы. Никто из них не поужинал, и на лице каждого читались лишь горечь и растерянность.
— Это не похоже на вас, — начал Александр. — Никто даже не попытался вступиться за Филота и спасти его от смерти.
— Я грек, — тут же парировал Евмен. — Я не имел права вмешиваться в этот суд.
— Знаю, — отозвался Александр, — иначе ты бы прилюдно высказался в его защиту, как делал это наедине. Но приговор был вынесен судьями, одобрен собранием и приведен в исполнение. Что сделано, то сделано.
— Тогда зачем ты нас позвал? — спросил Леоннат голосом, от которого Александра пробрала дрожь. И было страшно видеть этого сурового гиганта с горящими от волнения глазами.
— Затем, что еще не все кончено, верно? — вмешался Евмен. — Если уж начал дело, надо довести его до конца.
— Каких новых заговорщиков ты обнаружил? — встревожился Птолемей.
Царь посмотрел на старого друга с затравленным видом, словно ему предстояла самая подлая, самая отвратительная задача, а потом проговорил упавшим голосом:
— Сегодня, вернувшись после казни к себе, я сел за стол и начал писать письмо Пармениону…
Одно это имя, едва прозвучав, тут же вызвало в тесном пространстве ощущение всей громадности происходящей трагедии. Товарищи царя неожиданно с ужасом поняли, какое решение предстоит принять.
—… чтобы лично известить его о том, что Филот был приговорен к смерти и по воле всего войска приговор приведен в исполнение. Я хотел написать ему, что как царь был обязан смириться с вердиктом, но по-человечески мне хочется умереть самому, лишь бы избавить его от этой муки.
Евмен посмотрел на Александра: по щекам царя катились слезы.
— Но моя рука замерла. Тяжкая мысль помешала мне продолжать, и вот из-за этой-то мысли я и собрал вас здесь. Никто из нас не выйдет отсюда, пока мы не примем решения.
— Как отнесется к этому Парменион? Эта мысль тебя мучает, не так ли? — догадался Евмен.
— Да, — признал Александр.
— Он уже отдал за тебя двух сыновей, — снова заговорил секретарь. — Гектора, утонувшего в Ниле, и Никанора, скончавшегося от смертельной раны. А теперь ты подверг пыткам и убил третьего, перворожденного, которым он гордился больше всего.
— Не я! — закричал Александр. — Я возвел его на вторую после себя должность. А судили его за то, что совершил он сам.
Он повесил голову, и прошли долгие мгновения, прежде чем царь тихо проговорил:
— Мы одиноки, отрезаны от всего, что знали прежде! Мы затеряны посреди бесконечной, незнакомой страны, и нам предстоит выполнить дело, которое мы поклялись довести до конца. Любая ошибка в состоянии перечеркнуть все. Она может вернуть силу нашему еще не смирившемуся противнику, который готовит восстание. Она может привести к краху весь поход. Хотите ли вы видеть наших товарищей погибшими или взятыми в плен, хотите ли вы видеть, как их пытают и убивают или продают в рабство в далекие края, лишая всякой надежды на возвращение? Хотите, чтобы нашу родину захватили, чтобы в нее вторглось чужое войско, чтобы беспощадные враги перебили ваши семьи, сожгли ваши дома? Если Александр падет, весь мир охватят страшные конвульсии. Разве вы сами не понимаете этого? Ты этого хочешь, Евмен из Кардии? Этого вы все хотите? Я должен разить без колебаний, я должен перешагнуть все границы, растоптать все чувства, все привязанности… всякую жалость.
Царь по очереди посмотрел всем им в глаза и проговорил:
— И самое страшное еще предстоит выполнить.
— Убить Пармениона? — спросил Евмен.
Александр содрогнулся от звука его голоса. Он кивнул:
— Мы не знаем, как он поступит, узнав о смерти Филота. Но если решит отомстить, всем нам конец. У него хватит денег, чтобы завладеть нашими запасами. Он контролирует все дороги и осуществляет связь с Македонией, откуда нам посылают столь необходимые подкрепления. Он может захлопнуть дверь у нас за спиной и бросить нас на произвол судьбы или вступить в союз с Бессом или с кем-нибудь еще и перебить нас всех до одного. Можем ли мы пойти на такой риск?
— Один вопрос, — проговорил Кратер. — Ты веришь, что Парменион знал о заговоре или участвовал в нем? Филот был его сыном. Можно предположить, что он, по крайней мере, ввел его в курс дела.
— Я не верю в это, но должен думать именно так. Я царь. Никто и ничто не может мне помочь — я один, когда принимаю такие страшные решения. Единственная поддержка в моих тяготах — это дружба. Без вас я не нашел бы в себе силы, воли и целеустремленности совершить все это. А теперь послушайте: я не хочу возлагать на вас груз угрызений совести, который должен нести я один. Но если вы думаете, что это безумие, если считаете, что я перехожу все дозволенные человеку границы, если полагаете, что мои поступки — это поступки гнусного тирана, то убейте меня. Сейчас. Смерть от вашей руки не кажется мне страшной. А потом выберите лучшего среди вас, поскольку у меня нет сыновей, поставьте его во главе войска, свяжитесь с Парменионом и возвращайтесь.
Александр расстегнул панцирь и уронил его на землю, подставив незащищенную грудь.
— Я поклялся идти за тобой до последней черты, — сказал Гефестион. — Даже до черты, разделяющей добро и зло. — Он обернулся к товарищам: — Если кто-то хочет убить Александра, пусть убьет и меня.
Он тоже расстегнул панцирь и уронил его на землю, встав рядом с царем.
У всех на глазах выступили слезы. Некоторые заплакали, закрыв лицо руками. В этот момент Кратеру вспомнился тот далекий день, когда он вместе с товарищами отправился сквозь снежную бурю навстречу своему господину, находившемуся в изгнании в ледяных горах Иллирии, чтобы тот знал: его друзья никогда, ни за что на свете не покинут его. Кратер крикнул хриплым голосом:
— Турма Александра!
И все откликнулись:
— Здесь!
ГЛАВА 39
Евмолп из Сол вошел в старый оружейный зал во дворце сатрапа, и находившийся там человек резко обернулся на звук его шагов.
— Как тебя зовут? — спросил осведомитель. — И из какой ты части?
— Меня зовут Деметрий. Пятый отряд третьего штурмового батальона.
— У меня для тебя поручение от царя. — Евмолп показал табличку с оттиском звезды Аргеадов. — Узнаёшь?
— Это царская печать.
— Вот именно. Приказ, который ты получишь от меня, исходит напрямую от Александра. Задание это непростое и очень ответственное, но нам известно, что в делах подобного рода ты не новичок и всегда действовал быстро и точно.
— Кого я должен убить? — спросил Деметрий.
Евмолп прямо посмотрел ему в глаза:
— Полководца Пармениона.
Реакция Деметрия выразилась лишь в учащенном моргании, а Евмолп продолжил, все так же, не отводя от него взгляда:
— Приказ устный, и знать его должен ты один. Никто больше. Даже сам царь не знает, что ты отбыл с этим заданием. У тебя будет два местных проводника, абсолютно надежных. Возьмете верблюдов из стойла Сатибарзана — самых быстрых и выносливых. Вы должны быть на месте, прежде чем слухи о смерти Филота достигнут Экбатан. — Он протянул ему свиток. — Этот документ подтвердит, что ты царский гонец, но, чтобы приблизиться к Пармениону с устным посланием, ты должен знать пароль, известный только ему и царю.
— И каков же этот пароль?
— Это старая македонская считалочка, которую поют дети. Возможно, ты ее знаешь:
В глазах убийцы вспыхнул саркастический огонек, и, кивнув, он закончил стишок:
— Совершенно верно, — подтвердил Евмолп, не выразив никаких чувств, и продолжил: — Это не может быть достойной наградой за выполнение поручения, но из моего кармана ты получишь талант серебра.
— В этом нет нужды, — ответил Деметрий.
— Пригодится. Действуй кинжалом, бей в грудь. Величайший солдат Македонии не должен погибнуть от удара в спину.
Деметрий снова кивнул.
— Что еще?
— Ты должен застать его врасплох. Если он заметит твое движение, ты пропал. Не рассчитывай на то, что ему семьдесят лет. Лев всегда остается львом.
— Я буду внимателен.
— Тогда отправляйся сейчас же. Нельзя терять ни минуты. Твои проводники ждут тебя в стойле с верблюдами наготове. Деньги найдешь в Экбатанах рядом с халдейским храмом Эшмуна, у южной двери. Сразу же убегай, чтобы никогда больше не возвращаться.
Деметрий вышел, как ему было указано, через черный ход, спустился к стойлу и отправился навстречу заходящему солнцу. С высоты башни Александр наблюдал за убийцей, бледный и неподвижный, пока тот не скрылся из виду и перед глазами остался лишь неровный пустынный пейзаж.
Деметрию понадобилось шесть дней и пять ночей, чтобы добраться до Задракарты; по ночам он спал лишь по нескольку коротких часов, а ел и пил, не слезая с седла. Каждый день он и его проводники меняли верблюдов, чтобы поддерживать постоянную скорость, — казалось невероятным, какие огромные пространства удалось им покрыть таким образом в столь короткое время. Они прибыли в Экбатаны к исходу тринадцатого дня, и Деметрий тут же явился во дворец правителя.
— Ты кто? Чего тебе надо? — спросил стражник. Деметрий предъявил пропуск с царской печатью:
— Гонец от царя с прерогативами чрезвычайной важности. Устное личное послание Пармениону.
— Ты знаешь пароль?
— Разумеется.
— Подожди, — сказал стражник.
Он удалился в караульное помещение и пошептался со своим непосредственным начальником, который почти сразу вышел и обратился к прибывшему:
— Следуй за мной.
Они пересекли обширный двор с колоннами и колодцем посередине, откуда слуги черпали воду для гостей и животных, и оказались во втором дворе. С западной стороны портика, уже в тени, виднелась лестница, ведшая на верхний этаж. Они свернули в коридор, охраняемый двумя педзетерами, и прошли в самый его конец. Перед дверью не было никакой охраны. Начальник стражи постучал и стал ждать. Вскоре послышались шаги, и чей-то голос спросил:
— Кто там?
— Охрана, — ответил начальник стражи. — Прибыл чрезвычайный гонец от царя с устным посланием и паролем.
Дверь открылась, и показался человек на шестом десятке, почти совсем лысый, с табличкой под мышкой и стилосом в правой руке.
— Я секретарь для разбора почты, — представился он. — Следуй за мной. Парменион сейчас примет тебя. Он только что закончил отвечать на письма и хотел принять ванну перед ужином. Надеюсь, ты несешь ему хорошие известия. Бедняга, он все еще удручен смертью Никанора и все больше тревожится за царя и своего последнего сына.
Секретарь украдкой рассматривал каменное лицо убийцы, словно стараясь угадать содержание известия, предназначенного его господину, но ничего хорошего так и не высмотрел.
Они остановились перед другой дверью, и секретарь сказал:
— Подожди меня здесь. Нужно выполнить одну формальность, прежде чем тебя допустят к военачальнику.
Деметрий, опасаясь обыска, сжал под плащом рукоять кинжала. Некоторое время изнутри не доносилось ни шума, ни голосов, а потом снова появился секретарь. В руках он держал поднос, на котором находились ломоть хлеба, солонка с солью и чаша вина.
— Парменион хочет, чтобы всем входящим в его дом оказывали гостеприимство. Говорит, это приносит добро, — проговорил старик с полуулыбкой. — Прошу, отведай.
Убийца выпустил кинжал и протянул руку к подносу. Он взял хлеб, посолил его и съел, а потом отхлебнул вина и, вытерши рот тыльной стороной руки, сказал:
— Поблагодари его от меня.
Секретарь кивнул, поставил поднос на стол и, введя гонца в дверь, за которой находился кабинет Пармениона, велел подождать еще немного. Из-за двери, ведущей в соседнюю комнату, до Деметрия донеслись голоса двух человек. Наконец секретарь вышел и кивнул в знак того, что гонца ждут. Тот вошел и закрыл за собой дверь.
Парменион сидел за своим рабочим столом. За спиной у него виднелся стеллаж со свитками, каждый снабжен ярлыком; а сбоку на треноге была установлена географическая карта, изображавшая провинции Персидской державы к востоку от Галиса. Едва завидев царского посланца, он встал и двинулся навстречу. На нем был военный хитон до колен и македонские кожаные сапоги до середины икры. Парменион отличался чрезвычайно крепким телосложением, его доспехи из железа и кожи, висевшие на вешалке у стены, вместе со щитом весили, наверное, целый талант [13]. Сейчас он был безоружен. Его меч с клинком древней работы висел на перевязи на той же вешалке.
Старый полководец любезно указал на кресло:
— Усаживайся, солдат.
— Я не устал, — ответил убийца.
— Однако, похоже, ты пересек само царство мертвых, — возразил Парменион. — У тебя ужасный вид. Ну же, садись.
Деметрий повиновался, чтобы не вызвать подозрений, и подождал, когда полководец приблизится, но когда убийца сел, рукоять кинжала высунулась из-под плаща. Заметив ее, Парменион отступил к своим доспехам.
— Ты кто такой? — спросил он, протянув руку к своему мечу. — Ты сказал, что знаешь пароль.
Гонец встал.
— Старый солдат на войну торопился… — проговорил он, берясь за рукоять кинжала.
При этих словах Парменион выпустил меч, который уже сжимал в руке, и подошел к Деметрию с выражением мучительного недоумения в глазах.
— Царь… — прошептал он, не веря. — Как это возможно?
Вонзив ему в грудь клинок, убийца смотрел, как Парменион падает без единого стона, оставляя на полу широкую лужу крови. В затухающем взгляде не виделось ни злобы, ни протеста. Только слезы. И убийце показалось, что с последним вздохом его губы прошептали что-то… возможно, то были слова пароля.
Он вышел через другую дверь, в стене слева, и исчез в лабиринте огромного дворца. Вскоре тишину заката разорвал протяжный крик ужаса.
Через тринадцать дней Александру сообщили, что Парменион злодейски убит, и хотя он сам отдал такой приказ, это известие глубоко его ранило. Он почти надеялся, что какой-нибудь бог направит судьбу по-другому. Царь уединился в своем шатре, охваченный чернейшим унынием, и несколько дней не выходил, ни с кем не встречался, ничего не ел и не пил. Несколько раз Лептина пыталась позаботиться о нем, но каждый раз видели, как она уходит в слезах, а потом садится на корточки возле шатра и на солнцепеке или под дождем плачет в ожидании, что царь все-таки позволит войти. А друзья, то и дело подходившие к шатру, слышали лишь его сиплый монотонный голос, бесконечно повторяющий старую македонскую колыбельную, которую обычно пели маленьким. Они уходили, качая головой.
Четвертую книгу своих «Дневников» Евмен закончил словами:
В шестой день месяца пианепсиона [14] по приказу царя генерал Парменион без всякой вины был убит. Этот доблестный человек всегда воевал с честью и сражался, как молодой, несмотря на свой преклонный возраст. Ни одно пятно не замарало памяти о нем.
ГЛАВА 40
Наступил день, когда Александр, небритый, со спутанными волосами, исхудавший, с растерянным видом и бегающим взглядом пешком вернулся к себе во дворец. Статира приняла его в свои объятия и попыталась облегчить его боль, просиживая ночи у его ног и напевая ему песни под звуки вавилонской арфы.
Лето шло уже к концу, когда царь созвал войско и назначил день выступления. Путевые топографы посоветовались с проводниками, интенданты приготовили повозки и вьючный скот, командиры выстроили свои части и водили их несколько дней маршами, чтобы те вновь привыкли к усилиям предстоящего долгого пути. От военных приготовлений лагерем овладело возбуждение. Солдаты не чаяли часа, когда, наконец, покинут это проклятое место, где они присутствовали при столь печальных событиях. Каждый из них не желал ничего иного, как забыть эти дни безделья и крови, пролитой на берегах безжизненного озера под потрескавшейся стеной Артакоаны, называвшейся теперь Александрией Арийской.
Царевна Статира забеременела, и это известие принесло царю облегчение и вселило в него некоторую радость. Друзья тоже оживились, подумав, что скоро увидят нового маленького Александра. Поход на север был слишком тяжел для женщины в ее положении, и Александр попросил Статиру вернуться назад и поселиться в одном из своих дворцов. Супруга царя повиновалась и выехала по направлению к Задракарте с намерением присоединиться к своей матери в Экбатанах или Сузах.
Сверкающим утром ранней осени трубы протрубили выступление, и царь в своих самых роскошных доспехах, верхом на Букефале, как в дни самых славных походов, занял место во главе войска. Рядом с ним гарцевали Гефестион, Пердикка, Птолемей, Селевк, Леоннат, Лисимах и Кратер, все в железных доспехах, с развевающимися на солнце плюмажами.
Несколько дней они поднимались по долине, собиравшей тысячи ручейков в речку. Войско проходило от деревни к деревне без всяких происшествий. Знатные персы, шедшие в войске со своими отрядами, разговаривали с населением и объясняли, что блестящий молодой человек, гарцующий на огромном вороном коне, — это новый Царь Царей. Порой кто-нибудь из местных выходил к армии, в знак приветствия размахивая ветвями ивы. Ночью неизменно ясное небо зажигалось звездами, и их множество увеличивало его бескрайность; звезды словно сами собой тысячами рождались на безбрежном куполе, как цветы на весеннем поле. Каллисфен объяснял, что воздух на некоторой высоте, в отсутствие сгущающих его дымов и испарений, гораздо прозрачнее и потому звезды просто лучше видно. Но многие солдаты верили, что над другими землями и небо другое и что в этих столь отдаленных краях ничему не следует удивляться.
Каждый вечер, к заходу солнца, на берегу реки разбивали лагерь. Огромное множество солдат, к которым добавлялась длинная свита женщин, торговцев, слуг, носильщиков и пастухов со скотом, создавало впечатление настоящего передвижного города.
Наступил день, когда долина речки расступилась, и войско вышло на плато, окруженное грандиозной грядой высочайших заснеженных гор, живописно сверкавших на солнце на фоне неба.
— Паропамис! — воскликнул Евмен, взволнованный такой красотой.
Каллисфен возразил:
— В последнее время я переписываюсь с моим дядей Аристотелем. По его мнению, горы, что мы здесь обнаружили, должны быть последними отрогами Кавказских гор, самых высоких в мире.
— И нам предстоит подняться туда? — спросил Леоннат, указывая на перевалы, маячившие между небом и землей.
— Именно, — ответил Птолемей. — Уже сейчас ясно, что Бесс с войском бактрийцев, согдийцев и скифов находится по ту сторону гор.
Прикрыв глаза от солнца рукой, Леоннат снова осмотрел внушительные горы, ослепительные в своем одеянии изо льда и снега, и, покачав головой, поехал вперед.
К географическому предположению Каллисфена присоединился и царь. В последующие дни Александр обнаружил в огромной плодородной долине идеальное место для основания нового города и отправил туда часть обширного каравана, следовавшего в походе за войском. Александр назвал город Александрией Кавказской и поселил в нем тысячу человек, а с ними — почти двести наемников, которые предпочли остаться, лишь бы не переходить головокружительные горы.
В прозрачном воздухе, под сияющим небом, на изумрудных лугах, оправленных серебром речных струй, призраки Артакоаны как будто растворились на время, но кровавая тень Пармениона по ночам продолжала преследовать Александра. Однажды перед заходом солнца, подавленный тоской беспросветного мрака, он явился в шатер к Аристандру и сказал:
— Возьми коня и следуй за мной.
Тот повиновался, и вскоре, ускользнув от надзора охраны, они нырнули в тень, уже спустившуюся с гор, и стали взбираться на склон бескрайней горной гряды.
— Что ты затеял? — спросил ясновидец.
— Я хочу вызвать тень Пармениона, — ответил царь, направив на него лихорадочный взгляд. — Можешь сделать это для меня, Аристандр?
Ясновидец кивнул:
— Если она еще блуждает по этой земле, я велю ей явиться к тебе. Но если она уже сошла в царство Аида, не знаю, смогу ли сделать это, пока не умер сам.
— Недавно ночью мне приснилось, как он поднимается один, пешком, к этой гряде. Он шел сгорбившись, словно под тяжелой ношей, и его седые волосы сливались с чистотой снега. И все время делал мне знак следовать за ним… своей большой мозолистой рукой старого солдата. А потом вдруг обернулся ко мне, и я увидел в его груди рану, но в его взгляде не было ни злобы, ни протеста, одна лишь бесконечная печаль. Вызови его, Аристандр, заклинаю тебя!
— Ты помнишь, в каком именно месте этих гор он тебе привиделся?
— Вон там, — ответил Александр, указывая на место, где каменистая дорога сливалась со снегом.
— Тогда отведи меня туда, пока ночь не скрыла путь. Они двинулись дальше, сначала верхом, а потом, когда дорога стала слишком узкой и трудной, пешком. К полуночи они добрались до границы снегов и остановились перед чистейшей бескрайней ширью, уходящей к высоким вершинам.
— Ты готов? — спросил Аристандр.
— Готов, — ответил царь.
— К чему?
— Ко всему.
— Даже к смерти?
— Да.
— Тогда разденься.
Александр повиновался.
— Ляг на снег.
Александр лег на снежный ковер, дрожа от леденящего прикосновения, и увидел, как Аристандр опустился рядом на колени и, раскачиваясь на пятках взад-вперед, затянул странную заунывную песню, иногда выкрикивая что-то на варварском, непонятном языке. По мере того как пение поднималось к далекому ледяному небу, тело Александра погружалось в снег, пока не скрылось в нем совсем.
Он почувствовал, как кожу колют тысячи ледяных игл, проникающих в самое сердце и мозг, и боль с каждым мгновением все возрастала, становясь нестерпимой. В какой-то момент он заметил, что и сам вместе с Аристандром испускает из груди короткие неравномерные крики на варварском языке, и увидел, как ясновидец, с белыми, ничего не выражающими глазами статуи, с которой дождем смыло все краски, встал перед ним на колени.
Александр попытался что-то сказать, но ничего не вышло; попытался приподняться, но не нашел сил. Он снова попытался крикнуть, но голоса не было. Он все глубже утопал в снегу, а возможно, колыхался в ледяном прозрачном воздухе над голубыми горными вершинами… И снова, как во сне, увидел себя ребенком, бегущим по залам царского дворца, и увидел старую Артемизию, которая, запыхавшись, тщетно пытается угнаться за ним. И вдруг он оказался в большом зале советов, в оружейной палате, где рядом с царем, его отцом, сидели полководцы. Александр ошеломленно остановился перед величественными воинами в сверкающих доспехах и тут заметил, как из коридора вошел внушительный мужчина с ниспадающими на плечи белыми волосами — первый солдат государства, Парменион!
Военачальник с улыбкой взглянул на Александра и проговорил:
— Как там эта считалочка, молодой царевич, а? Не хочешь еще раз спеть ее для твоего старого солдата, который торопится на войну?
И Александр попытался пропеть считалочку, над которой все смеялись, но ничего не вышло — в горле застрял какой-то комок. Он повернулся, чтобы убежать обратно к себе в комнату, однако увидел перед собой заснеженный пейзаж, Аристандра на коленях, одеревеневшего, как покойник, с белыми глазами. Александр отчаянно собрал последние силы, чтобы дотянуться до брошенного на снег плаща, но когда с чудовищным усилием повернул голову в сторону, то остолбенел от изумления: перед ним стоял Парменион, бледный в лунном свете, в доспехах, со своим великолепным мечом на боку.
Глаза Александра наполнились слезами, и он пробормотал:
— Старый… храбрый… солдат… прости меня.
Чуть искривив губы в грустной улыбке, Парменион ответил:
— Теперь я со своими ребятами. Нам хорошо вместе. Прощай, Александрос. Храни мое прощение до тех пор, пока мы не встретимся. Ждать не так уж долго.
Медленными шагами он удалился по нетронутому снегу и исчез в темноте.
В этот момент Александр вдруг очнулся и увидел перед собой Аристандра, протягивающего ему плащ.
— Накройся, скорее накройся! Ты был близок к смерти.
Александру удалось приподняться и завернуться в свой плащ, и теплая шерсть постепенно вернула в него жизнь.
— Что случилось? — спросил его Аристандр. — Я исчерпал все силы моей души, но ничего не запомнил.
— Я видел Пармениона. Он был в доспехах, но без раны… он мне улыбнулся. — Александр безутешно повесил голову. — Вероятно, мне это только привиделось.
— Привиделось? — проговорил ясновидец. — А может быть, нет. Смотри.
Александр обернулся и увидел в снегу цепочку следов, внезапно заканчивавшуюся у скалы, словно кто-то оставивший их растворился в воздухе. Он опустился на колени, чтобы дотронуться до них пальцем, а потом удивленно обернулся к Аристандру.
— Македонские сапоги… С металлическими накладками. О великий Зевс, разве это возможно?
Ясновидец вперил взгляд в горизонт.
— Вернемся, — сказал он. — Уже поздно. Звезды, охранявшие нас до сих пор, скоро зайдут.
ГЛАВА 41
Александр отпраздновал рождение нового города торжественными жертвоприношениями его заступникам, после чего устроил гимнастические игры и поэтические состязания со сценическими представлениями. Лучшие трагические актеры, игравшие самые значительные роли, старались оспорить первенство у легендарного Фессала, голосу которого высокогорный климат придал еще большую силу и звучность.
Кульминацией трагического цикла стала постановка на сцене трагедии «Семеро против Фив», где молодой актер, уроженец Миласы, с большим реализмом воспроизвел роль Тидея, который запустил зубы в череп Меланиппа. Но приз за лучшую игру еще раз получил Фессал, мастерски исполнивший заглавную роль в «Агамемноне».
Празднования продолжались семь дней. На восьмой войско вслед за отрядом местных проводников отправилось к перевалу. Уже через два перехода солдатам пришлось пробираться по глубокому снегу. Территория казалась совершенно пустынной, а поскольку подъем был чрезвычайно крутым, вьючных животных освободили от половины их обычного груза, так что автономность похода существенно ограничилась.
Проводники объяснили, что по пути есть несколько деревень и там можно пополнить запасы, но хижины скрыты в снегу и потому их совершенно не видно. Единственный способ обнаружить их — это дождаться вечера, когда в домах разожгут огонь для приготовления ужина: дым укажет их точное местонахождение. Таким образом войско смогло обеспечить себе пропитание, но жителей жалких деревушек пришлось лишить самого необходимого, и они были вынуждены оставить свои жилища и спуститься ближе к долине, чтобы отбивать хлеб у других несчастных.
Поход продолжался ценой неимоверных усилий, и многие солдаты начали страдать от тяжелых повреждений глаз из-за слепящего, сверкающего на снегу света.
После захода солнца Александр позвал врача Филиппа в свой шатер и показал ему отрывок из «Похода десяти тысяч».
— Ксенофонт рассказывает, что столкнулся с такой же трудностью в снегах Армении. Он говорит, что немалое число солдат ослепли.
— Я велел людям завязать глаза и оставить лишь самые маленькие щелочки, чтобы что-то видеть, — ответил Филипп. — Это должно спасти им зрение. Больше ничего поделать не могу: у нас не хватит лекарств для каждого. Но мне вспомнилось, как мой старый учитель Никомах при твоем рождении пользовался снегом, чтобы успокоить раздраженные ткани, а также, чтобы ослабить или остановить кровотечение. Я попробовал это средство на наших солдатах и получил недурные результаты. В этом случае уместно сказать, что человека можно лечить тем же, что ему повредило. А ты как себя чувствуешь, государь? — спросил врач, заметив его усталый вид.
— Моя боль такого рода, что ты не можешь исцелить ее, мой добрый Филипп. Только вином удается иногда приглушить… Только теперь я понял, что имел в виду мой отец, когда говорил, что царь всегда один.
— Тебе удается заснуть?
— Да, иногда.
— Тогда иди отдохни. Да пошлют тебе боги спокойную ночь.
— И тебе тоже, ятре.
Филипп улыбнулся: царь называл его этим титулом медика, когда особенно ценил его услуги. Легким кивком он попрощался и вышел в звездную ночь.
На следующий день они подошли к огромной, совершенно отвесной скале. Каллисфен долго ее осматривал. Он заметил с одной стороны небольшой полукруглый выступ, по форме напоминавший гигантское гнездо, а с другой, посередине стены, — тени или пятна в виде колец цвета ржавчины и большое углубление, чьи очертания вызывали мысли о человеческом теле гигантских пропорций. Историк немедленно позвал Аристандра.
— Смотри, — сказал он, — какая находка! Мы нашли скалу, к которой был прикован Прометей. Это, — он подошел и указал на выступ, — могло быть гнездом орла, который клевал ему печень, а это, — он показал на ржавые тени, — звенья цепи, удерживающей плененного титана. А вот и отпечаток, оставленный его телом… Если мой дядя Аристотель прав, и мы находимся на Кавказе, перед нами действительно может быть скала Прометея.
Весть быстро разнеслась по рядам войска, и нашлось немало таких, кто покинул свое место в строю, чтобы подойти и посмотреть на чудо. И чем больше они смотрели, тем больше убеждались в правоте Каллисфена. Приблизился к скале и Фессал и, вдохновленный величественным пейзажем, начал взволнованно декламировать стихи из «Прикованного Прометея» Эсхила. Громовой голос актера, отражаясь от горных склонов, разносил слова великого поэта по глухим варварским местам, вечно зажатым в тиски мороза:
Царь тоже замер и прислушался к возвышенным стихам. Едва актер замолчал, как Каллисфен ответил Фессалу, изображая Гефеста, вынужденного приковать титана:
Этот отрывок задел Александра так болезненно, словно говорил о нем самом.
В это время с высочайшей вершины слетел орел, и его хриплый клекот вызвал в безбрежном пространстве эхо. Хищная птица медленно воспарила над ледяной пустыней, как будто сам оскорбленный Зевс отзывался на дерзкие слова смертных.
Каллисфен обернулся и встретил задумчивый взгляд царя.
— Разве не изумительные стихи? — спросил историк.
— Изумительные, — ответил Александр. И продолжил свой путь.
Через шестнадцать дней марша войско, вытерпев неслыханные страдания, перевалило через страшную горную гряду и спустилось на скифскую равнину. Чтобы преодолеть последний участок этого грозного барьера, пришлось забить часть вьючного скота, зато под конец Александр смог обозреть новую провинцию своих необъятных владений.
С последнего перевала открывался вид на бескрайнюю степь, и при взгляде на это бесконечное однообразное пространство солдаты снова ощутили тоску. Но особенно удивительно показалось им то, что снег и вечный лед граничили с выжженной солнцем полупустыней.
И все же, когда Александр снова повел их за собой, все почувствовали себя так, будто их затягивает в водоворот неодолимая сила, которой они не могли противостоять. Солдаты понимали, что пустились в приключение, ни с чем не сравнимое, какого до них не переживал никто в мире. Они знали: никому еще судьба не посылала такого человека, если только это действительно был человек. Многие из шедших в войске, почти постоянно видя далеко впереди блеск его серебристого панциря у красного знамени с золотой звездой, уже привыкли считать Александра каким-то высшим существом.
Выйдя на равнину, войско сразу направилось к столице здешних мест, в Бактру — город, расположившийся посреди цветущего оазиса, где можно было, наконец, найти отдых. Бактра сдалась без боя, и Александр оставил сатрапу Артаозу его должность. Тот принял царя в своем дворце и сообщил, что Бесс ушел дальше, оставляя за собой выжженную землю.
Он не ожидал, что ты так скоро перевалишь через горы, за несколько дней преодолев снега и голод. Не успев собрать достаточно многочисленное войско, чтобы встретиться с тобой на поле боя, он перешел реку Окс [17], самую большую из всех стекающих с этих гор, и подошел на той стороне к союзным ему городам, разрушив за собой мосты.
При этом известии царь решил долго не задерживаться и возобновил поход, намереваясь форсировать Оке вслед за врагом. Когда войско вышло на берег, царь позвал к себе Диада, главного инженера, и указал на другую сторону:
— Сколько тебе понадобится, чтобы построить здесь мост?
Диад взял у одного из стражников дротик и метнул в дно, но течение тут же наклонило древко почти параллельно поверхности воды.
— Песок! — воскликнул инженер. — Сплошной песок!
— Ну и что? — спросил царь.
— Дело в том, что столбы не удержатся в этом дне, точно так же, как древко моего дротика. — Он огляделся вокруг. — И, кроме того, нигде поблизости я не вижу деревьев в достаточном количестве.
— Я пошлю солдат в горы нарубить елей.
Диад покачал головой.
— Государь, ты знаешь, что ничто меня не останавливало. Не было задания, которое я считал бы невыполнимым. Но ширина этой реки — пять стадиев, течение сильное, а дно — сплошной песок. Никакие столбы и сваи не закрепятся в нем, а без свай мост не построишь. Советую тебе поискать брод.
Вперед вышел Оксатр и на своем ломаном греческом заявил:
— Брод нет.
Александр молча стал расхаживать взад-вперед по берегу на глазах у всего войска и озадаченных товарищей. Потом его внимание привлекла деятельность нескольких крестьян, что работали в поле у реки. Они отделяли солому от мякины, подбрасывая ее вилами вверх. Солома падала неподалеку, а более легкая мякина с ветром улетала к краю гумна. Это было прекрасное зрелище — вихрь искрящихся золотом соломинок.
Увидев подошедшего к ним прекрасного юношу, крестьяне бросили работу и удивленно посмотрели на него, а он наклонился и взял горсть мякины.
Вернувшись к Диаду, втыкавшему в дно там и сям колышки и безутешно смотревшему, как их сносит течением, царь сказал:
— Я нашел способ.
— Способ переправиться? — удивился инженер, разведя руками.
Царь уронил из руки мякину:
— Вот так.
— С помощью мякины?
— Именно. Я видел такое на Истре. Там набивали мякиной бычьи шкуры, зашивали их и спускали на воду. Воздух между шелухой и остями делает бурдюки достаточно легкими, чтобы дать возможность переправиться.
— Но у нас не хватит шкур, чтобы переправить всех, — возразил инженер.
— Да, но у нас их хватит, чтобы построить понтон. Воспользуемся кожей шатров, что ты на это скажешь?
Диад изумленно покачал головой:
— Гениальная идея. А чтобы не промокали, можно смазать их салом.
Товарищей собрали на совет и распределили обязанности: Гефестиону поручили набрать мякины, Леоннату — стащить в кучу все имеющиеся шкуры и кожу от шатров, а также реквизировать их у местного населения. Для строительства настила предлагалось пустить в ход грузовые платформы стенобитных машин, а в качестве якорей воспользоваться камнями, привязанными к веревкам.
К позднему вечеру весь материал был готов, и Александр провел войску смотр, но, оказавшись перед ветеранами, испытавшими долгий переход через горы, царь посмотрел на них так, будто видел в первый раз, и почувствовал к ним сострадание. Многим было уже под шестьдесят, иным перевалило на седьмой десяток. Каждый нес на себе суровые отметины страшных тягот, битв, ран, лишений. Царь чувствовал, что они все равно пойдут за ним, но читал на их лицах испуг при виде этой огромной реки, которую придется форсировать на мешках с мякиной. Они испытывали страх перед бескрайним пространством пустынной равнины, расстилавшимся за водной преградой.
Александр позвал Кратера и велел сразу после захода солнца созвать всех ветеранов к его шатру, решив отпустить их домой. Кратер повиновался, и, когда пожилые солдаты собрались в центре лагеря, Александр взошел на возвышение и начал:
— Ветераны! Вы с честью послужили своему царю и войску, преодолевая все трудности и не жалея сил. Вы завоевали величайшую державу, какая когда-либо существовала в мире, и дожили до лет, когда человек имеет полное право насладиться отдыхом и привилегиями, заслуженными в честных боях. Я освобождаю вас от присяги и отсылаю по домам. Каждый из вас получит по двести серебряных статиров как мою личную награду. Кроме того, вам будет выплачено жалованье за все время до возвращения в Македонию. Передайте от меня привет родине и живите в довольстве все годы, что вам остались. Вы это заслужили.
Он замолк, ожидая овации, но по рядам пробежал невнятный ропот; потом вперед вышел один пожилой командир и сказал:
— Почему ты больше не хочешь вести нас за собой, государь?
— Как твое имя?
— Меня зовут Антенор.
— Ты не хочешь снова увидеться со своей семьей?
— Хочу.
— Не хочешь снова увидеть свой дом и прожить там остаток дней, выпивая и закусывая, окруженный заботой?
— Еще бы!
— Тогда уходите! Будьте довольны своей участью и оставьте трудности молодым, которые займут ваше место. Вы свою часть выполнили.
Солдат не двинулся.
— Что еще?
— Я думаю, что первый такой день будет очень хорош: я снова увижу жену, моих ребят, кое-кого из друзей, мой дом. Куплю новую одежду и вдоволь еды. Но меня пугает следующий день, государь. Понимаешь?
— Я понимаю тебя. Следующий день пугает всех. И меня тоже. Потому я и не могу остановиться… никогда. Я должен бежать, чтобы догнать его и перегнать.
Ветеран кивнул, хотя ничего не понял, и сказал:
— Ты прав, государь. Ты молод, а мы стары. Нам пора возвращаться по домам. Но хотя бы…
— Что?
— Я могу обнять тебя от имени всех товарищей?
Александр прижал его к себе, как старого друга, и только тогда разразилась овация, поскольку все ветераны, от первого до последнего, в этот момент ощутили себя так, будто царь взволнованно обнимает их всех, и из глаз хлынули слезы.
Этой ночью Каллисфен написал длинное письмо своему дяде Аристотелю и вручил его одному из отбывающих ветеранов, жившему неподалеку от Стагиры. В качестве оплаты он дал ему золотой статир — первый из тех, что Филипп отчеканил с профилем Александра. Ветераны отбыли на рассвете, их проводили с почестями, салютуя оружием, под громкие звуки трубы. Они ушли на запад вдоль линии гор, в направлении на Задракарту.
Еще не затихло эхо барабанов, четко отбивавших их шаг, как Диад поспешно приступил к наведению понтонного моста, и вскоре началась переправа: сначала гетайры, ведя за собой коней, а потом пехота.
Весь контингент был на другой стороне вскоре после полудня, после чего инженеры до поздней ночи принимали меры, чтобы вытащить материалы на северный берег реки. Пока солдаты ставили шатры, Оксатр со своими всадниками сделал широкий разведывательный круг, после чего вернулся к Александру и доложил, что нашел множество конских следов, видимо оставленных войском узурпатора Бесса.
Царь тут же собрал на совет товарищей, Клита Черного и некоторых командиров, особенно отличившихся в последних операциях. Пришел и Оксатр с несколькими персидскими командирами конницы, что вызвало ледяную реакцию со стороны Клита и его товарищей.
— Наши друзья персы доказали, что им нет цены, когда прочитали следы нашего врага, — начал царь. — Теперь мы выяснили, куда направился Бесс, и знаем, как действовать. Нужно поскорее поймать его, а не то мы не поймаем его никогда. Птолемей возьмет под свое командование «Острие», один отряд гетайров, два отряда легковооруженных штурмовиков и пустится в погоню со всей возможной и невозможной скоростью. Вместе с вами отправится и Оксатр со своими воинами.
Птолемей сделал легкий нетерпеливый жест, что не ускользнуло от Александра.
— Ты имеешь что-то против, Птолемей?
— Ничего, — поспешно ответил тот.
— Тогда решено. Отправляйтесь сейчас же. Ваши проводники умеют передвигаться в темноте.
Птолемей надел шлем и вышел; за ним последовали другие участники совета. Остался лишь Черный.
— Стоит ли посылать с Птолемеем этих варваров? — спросил он. — Разве мы всегда не справлялись сами? Александр вперил в него твердый взгляд:
— Стоит, и по двум причинам, Черный. Во-первых, им знакомы эти места, как никому другому, а во-вторых, скоро они вольются в наше войско как регулярные части наравне с нашей конницей и пехотой.
Клит дернул головой, словно проглотил что-то горькое.
— Ты совершаешь страшную ошибку, Александр.
— Почему?
— Потому что рано или поздно тебе придется выбирать… Мы или они.
Он расстался с царем, не попрощавшись. Вскоре трубачи Птолемея протрубили сбор.
ГЛАВА 42
Оксатр проявил себя незаменимым. В скифских штанах из дубленой кожи и кожаном камзоле, обшитом железными пластинами, с луком через плечо, колчаном на боку и длинной гирканской саблей он ехал на маленькой мохнатой, но невероятно выносливой степной лошадке.
Молодой перс велел всем взять факелы, потом зажег свой и красноречиво посмотрел в лицо Птолемею, словно хотел сказать: «Посмотрим, так ли ты крепок, как кажешься». Он пустился галопом, держа факел высоко над головой, чтобы освещать след и чтобы его видели остальные. По мере того как они продвигались вперед, следы становились все свежее и отчетливее — признак того, что враг все ближе.
Птолемей заметил, что азиаты ни на миг не останавливаются и даже мочатся прямо с коня. Когда же он, наконец, дал приказ сделать остановку, чтобы дать отдых коням и чтобы люди могли поспать, Оксатр покачал головой, выражая свое несогласие, а потом немного вздремнул, прислонившись к шее своего коня. Гирканские и бактрийские всадники последовали его примеру. Другие едва легли на землю, постелив плащи, как перс уже снова выпрямился и ухватился за поводья со словами:
— Уже поздно. Бесс не будет нас дожидаться.
И, запалив второй факел от дымящегося остатка первого, пустился в галоп. За ним поскакали его воины.
Лишь незадолго до рассвета Оксатр остановился. Соскочив на землю, он собрал немного конского навоза и показал Птолемею:
— Свежий. Завтра мы настигнем их.
— Если не сдохнем до того, — ответил один из командиров «Острия».
Птолемей, не желая показывать слабину, крикнул:
— По коням, воины! Покажите, кто вы есть! Гордость и самолюбие пробудили в уставших всадниках остатки сил, но Птолемей заметил у некоторых кровоточащие ссадины в области бедер.
— Поняли, почему они носят штаны? А теперь вперед, поскакали!
Вскоре взошло солнце, и его яркий свет до бесконечности удлинил их тени на пустынной степной равнине; потом расцветил эти с виду безжизненные места и в час тишины и безмолвия придал степи почти приветливый вид. Здесь виднелись маленькие желтые цветочки диких маргариток, клочки пурпурного чертополоха, там и сям появлялся серебристый кустарник, отсвечивавший золотом на охре песчаной почвы. Однажды встретился караван громадных мохнатых верблюдов с двумя горбами, так называемых бактрианов, которые наполнили воздух странным жалобным ревом.
— Они идут в Смирну, — со смехом пояснил Оксатр. — Хотите с ними?
Птолемей покачал головой и приказал взять вправо. Глаза жгло от усталости, по всему телу пузырями вздулись мозоли, но он бы скорее дал себя убить, чем попросил об отдыхе. Однако несколько его воинов попросту рухнули на землю от усталости. Их бросили, предполагая забрать на обратном пути.
Тем временем солнце поднялось на небосклоне, и жара стала почти невыносимой. Откуда ни возьмись, появились тучи мух; привлеченные влагой, они лезли в глаза, сотни слепней жалили коней, которые лягались и ржали от боли. Птолемей заметил, что персидские лошади не так страдают от насекомых благодаря своей плотной мохнатой шерсти и длинным, до земли, хвостам, настигавшим надоедливых паразитов повсюду.
И как раз когда он размышлял об этом, до него донесся голос Оксатра:
— Город!
Перс указывал на стену из грубого кирпича, окружавшую серое поселение с низенькими домами и лишь одним высоким, внушительным зданием, где, по-видимому, располагалась резиденция правителя. По знаку Птолемея конница развернулась широкой дугой, охватывая город кольцом, чтобы не дать никому войти туда или выйти наружу. Оксатр переговорил с командиром вражеского гарнизона и спустя некоторое время вернулся к Птолемею.
— Они сильно удивлены видеть нас и потеряли мужество. Два сатрапа его сдадут, если мы оставим их свободными.
— Кто они?
— Спитамен и Датаферн.
— И где они сейчас?
— В городе. И Бесс вместе с ними.
Птолемей подумал немного. Тем временем с пастбищ вернулись стада и, не в состоянии вернуться в город, скопились по внешнему кругу выстроившихся дугой всадников. Скотина, вся в пыли, подняла оглушительный рев. Наконец Птолемей принял решение:
— Согласен. Пусть скажут, где принять капитуляцию. На всякий случай основное войско оставим здесь, а сами пойдем на встречу.
Оксатр вернулся к городской стене и снова какое-то время говорил с осажденными, а потом подал Птолемею знак, что договорился, и тот пропустил стада. Скотина со своими пастухами устремилась в открытые ворота, и вскоре бастионы заполнились мужчинами и женщинами, стариками и детьми — всем хотелось посмотреть на покрытых металлом дэвов в шлемах с гребнями, сидящих на огромных конях с лоснящейся шкурой. Они показывали друг другу на них, а потом на окрасившиеся закатными лучами горы в отдалении, словно говоря, что дэвы, как хищные птицы, спустились оттуда.
Оксатр доложил об условиях договоренности: сдача состоится с наступлением вечера в трех стадиях от города. Как только стемнеет, несколько согдийских всадников выдадут Бесса, а Спитамен и Датаферн тем временем убегут через восточные ворота, которые должны остаться свободными.
— Скажи, что меня это устраивает, — ответил Птолемей, рассудив, что ему приказано схватить Бесса, а про двух других сатрапов ничего не говорилось.
Он позволил своим солдатам поесть и попить, сидя на земле, а потом отдал приказ с наступлением ночи освободить восточные ворота.
— Откуда мне знать, что они не нарушат уговора? — озабоченно спросил Птолемей, когда они ехали к условленному месту.
— Я оставил у восточных ворот своих людей, которые знают узурпатора. Если он выйдет, они заметят.
Оксатр остановился, увидев на краю дороги старое сухое дерево акации, и обернулся к Птолемею:
— Вот условленное место. Нужно только подождать.
При наступлении сумерек бескрайнюю равнину поглотила тишина, но пение сверчков становилось все громче, а затем к нему присоединился протяжный вой шакала, словно исходивший ниоткуда и уходивший в никуда. Прошло, наверное, около часа. Послышался собачий лай, а вслед за ним — топот копыт. Оксатр вздрогнул.
— Идут, — сказал он и вдруг напрягся, как хищник в засаде.
Из степи показались какие-то тени: десяток согдийских всадников во главе с командиром-персом везли закованного в цепи человека. Оксатр подул на тлеющий факел, что принес с собой, и поднес его к лицу пленника. Узнав его, он со злобной волчьей усмешкой осветил свое. Сопровождавшие Бесса всадники удалились и вскоре скрылись из виду.
Оксатр знаком велел одному из своих воинов взять факел, а двоим другим — крепко держать Бесса.
— Что ты делаешь? — крикнул Птолемей. — Это пленник Александра!
— Сначала мой, — ответил перс и посмотрел в глаза Птолемею с такой лютой злобой, что тот не посмел вмешиваться.
Оксатр достал из-за пояса кинжал с острым, как бритва, клинком и приблизился к Бессу, который сжал челюсти, готовясь перенести все муки, какие может вынести человек, попавший во власть своего злейшего врага.
Оксатр перерезал все шнурки на его одежде и оставил его совершенно голым — страшнейшее унижение для перса. Потом схватил его за волосы и отрезал сначала нос, а потом уши. Бесс перенес эти увечья с героическим мужеством, не издав ни стона, ни крика. С обезображенным и залитым кровью лицом, но все еще внушительный и статный, пленник обрел драматическое и страшное достоинство.
— Хватит! — в ужасе крикнул Птолемей. — Хватит, я сказал!
Он спрыгнул на землю, обхватил сзади Оксатра и позвал хирурга, приказав ему перевязать раны пленника, пока тот не истек кровью.
Врачи не нашли другого способа остановить кровь, кроме как обвязав ему все лицо. После этого Бессу пришлось идти пешком, голому и босому, по дороге, усеянной острыми камнями. Птолемей смотрел, как враги тянут его за надетую на шею веревку, и это жалкое зрелище показалась ему нелепой пародией на сцену из «Царя Эдипа», которую он видел в детстве в бродячем театре у себя на родине. Именно так появлялся на сцене Эдип — с окровавленной повязкой на голове после того, как выколол себе глаза.
Они шли всю ночь и весь день, а на третий день встретили Александра с остальным войском. В окружении своих друзей и нескольких персидских командиров царь вышел вперед и посмотрел на своего противника, называвшего себя Артаксерксом IV. Персы, хранившие верность покойному царю Дарию, встретили бывшего узурпатора плевками и пинками, кулаками и оплеухами по ранам, превратив лицо его в кровавую маску.
Александр ничего не сказал. В этот момент он был мстителем за Дария и чувствовал себя его единственным законным наследником. Царь подождал, пока их злоба иссякнет, после чего позвал Оксатра.
— Довольно, — сказал он. — Вели отвезти его в Бактру и скажи, чтобы там к моему возвращению созвали суд. До тех пор ему не должны причинять никакого вреда. — Потом обратился к Птолемею: — Ты выполнил это чрезвычайное задание. Я знаю, что ты за три дня преодолел десятидневный путь. Сегодня вечером придешь ко мне на ужин?
— Приду, — ответил Птолемей.
Когда настала ночь, Александр вернулся в шатер, где Лептина приготовила ему ванну. Когда царь залезал в воду, явился врач Филипп.
— Входи, — пригласил его царь. — Я собираюсь принять ванну. Или что-то не так?
— Нет, государь. Все более-менее хорошо, но должен сообщить тебе печальное известие: у царевны Статиры случился выкидыш.
Александр повесил голову.
— Это был… мальчик? — спросил он надтреснутым голосом.
— Как мне сказали, да, — ответил врач.
Царь больше ни о чем не спросил. Да и в любом случае Филиппу не удалось бы ответить, потому что у него перехватило горло. Он лишь добавил:
— Мне очень жаль… Очень. — И вышел.
ГЛАВА 43
Караван, двигавшийся вслед за царским войском, иногда на расстоянии, составлявшем несколько дней пути, становился все более многочисленным. Это уже был настоящий кочующий город: здесь заседали суды, бродячие театры ставили популярные местные драмы и греческие трагедии и комедии, а в лавках продавались всевозможные товары.
И все больше становилось союзов между македонскими солдатами и местными девушками, от которых рождалось много детей со смешанной кровью. Для всего этого нового народа молодой царь уже был богом во всех отношениях — как по своему внешнему блеску, так и вследствие своей непобедимости, своей способности преодолевать естественные препятствия, будь то самые высокие горы или самые широкие реки.
Но Александр прекрасно понимал, что этот табор, в конце концов, может парализовать войско, значительно затруднить его маневренность и снизить способность с должной быстротой реагировать на нападение. Поэтому он решил часть войска отослать с Кратером назад, на берег Окса, чтобы основать еще одну Александрию. Там поселились несколько сотен мирных жителей с четырьмя сотнями солдат, создавших семьи с женщинами из следовавшего за войском каравана. В общине был установлен уклад греческих городов, с избираемым городским собранием и судьями.
Затем царь предпринял марш на север через выжженные земли и, наконец, вышел к берегам впадавшей в Оке реки, которую местные жители называли «Многоуважаемой». Греки тоже решили называть ее так — Политимет [18]. На реке стоял прекрасный город Мараканда [19], в котором встречались как согдийцы, так и азиатские скифы, приходившие с бескрайних территорий за рекой со своими товарами — мехами, скотом, полудрагоценными камнями, золотым песком, а иногда — с рабами, захваченными в далеких краях. Через горные перевалы туда также прибывали караваны из Индии.
Оттуда Александр двинулся на восток, до таких отдаленных мест, куда не доходили в этом направлении даже персы. На реке Яксарт [20] стоял город, основанный лично Киром Великим, называвшийся Курушкат или, по-гречески, Кирополь. В настоящее время он был оплотом мятежников, дружественных двум сатрапам-изменникам Спитамену и Датаферну. Эти двое выдали Бесса Птолемею, а сами встали во главе народа, отказавшегося покориться новому монарху.
Город был защищен старой стеной из грубых кирпичей, изборожденной дождями и ветрами, а над ней возвышалась деревянная сторожевая башенка. Вокруг располагались семь городков поменьше. Менее чем за месяц все они, один за другим, были захвачены и вынуждены принять македонские гарнизоны.
Александр захотел отпраздновать победу пиром и послал личное приглашение всем товарищам и высшим командирам.
Царь встретил их у порога, поцеловал в щеку, а потом ввел внутрь и рассадил по местам. Все было приготовлено для пиршества: кратер, кубки, черпаки. Когда все расположились, прибыли и другие гости — Оксатр со знатными персами, все в своих роскошных персидских одеяниях; они тоже прошли к отведенным для них местам. Персы отличились при штурме мятежных городов, и царь захотел воздать им честь, пригласив к себе на застолье.
Прочие приглашенные смотрели на «варваров», остолбенев, а потом начали переглядываться, не вымолвив ни слова. В этом замешательстве тишину нарушил сам Александр:
— Мы схватили Бесса, друзья мои, и заняли мятежные города благодаря чрезвычайной быстроте Птолемея и помощи наших персидских друзей. Теперь я должен сделать важное заявление: завтра я собираюсь отпустить союзную конницу ветеранов-фессалийцев. Оставлю лишь самых молодых, прибывших с последним подкреплением.
— Ты хочешь отпустить фессалийцев? — изумленно переспросил Клит. — Но фессалийцы спасли тебя от поражения при Гавгамелах, ты забыл это?
Командующий фессалийцами, очевидно заранее знавший об этом решении лично от царя, даже не открыл рта.
— Мне самому не хочется отсылать их, но многие из них устали, другие после стольких лет войны хотят вернуться к семьям, третьим не хочется рисковать жизнью в походе на скифов…
— На скифов? — спросил Кратер. — Мы идем на скифов? Но… еще никому не удавалось победить их: Кир Великий погиб, войско Дария было уничтожено. Никто не знает, сколько их, где они, и никому не известно, где начинаются и где кончаются их земли. Это все равно, что ринуться… в пустоту.
— Возможно, — спокойно ответил Александр. — Однако именно это я и собираюсь узнать.
— И я с тобой, — сказал Гефестион.
Промолчав, Кратер неохотно принялся за поданное на стол баранье жаркое.
Некоторое время прошло в молчании, нарушаемом только тихой болтовней персов.
Наконец заговорил Клит:
— И кто же заменит великолепную фессалийскую конницу?
— Прибывают две тысячи персидских всадников, обученных на наш манер, — твердо ответил царь, глядя прямо ему в глаза. — Я назвал их Преемниками.
При этих словах Черный замер, как парализованный, а его глаза загорелись бешенством. Потом он встал и проговорил:
— Значит, мы тебе больше не нужны — так мне кажется, — после чего завернулся в свой плащ и направился к выходу.
— Стой, Черный! Стой! Не дерзи мне, Черный! — крикнул царь.
Но Клит не обернулся. Все встали и покинули пир с уже накрытыми столами: командующий фессалийцами, за ним командиры отрядов Мелеагр и Полисперхон, а за ними — почти все командиры гетайров.
— Что, и вы хотите уйти? — спросил Александр, обернувшись к друзьям.
Заговорил Селевк, как обычно самый хладнокровный и спокойный, а порой и самый циничный:
— Не обращай внимания. Ничего особенного не произошло. Ведь только мы, оставшиеся, все вместе поклялись тебе следовать за тобой на край света. Остальные могут делать, что хотят. Они нам не нужны.
— Верно! — воскликнул Леоннат, только что казавшийся не очень уверенным в себе и происходящем. — И потом, эти скифы тоже из мяса и костей… Я их видел, знаете? В Афинах им платят, чтобы следили за порядком, и они ходят по улицам с деревянными дубинками и луком через плечо. Я в них не заметил ничего особенного.
Птолемей поворошил ему волосы.
— Молодец, Леоннат, ты прав. Но учти, что эти скифы — они из другого теста. Кратер сказал истинную правду: Кира Великого они заставили жрать землю, а Дария Первого поставили на колени. Все войска, углублявшиеся в их бескрайние земли, пропали без следа, и от них не осталось даже воспоминаний.
ГЛАВА 44
К моменту расставания фессалийцев засыпали подарками, как и прочих ветеранов. Им выделили щедрую сумму на дорожные расходы для возвращения на родину, что в немалой степени умерило их обиду на Александра. Многие даже были растроганы прощанием. Один ветеран, прошедший все битвы от Граника до Артакоаны, сказал простодушно:
— Я так и знал, что ты будешь сражаться бок о бок с варварами, включив их в свое войско, и что некоторым из них доверишь высокие посты. Не думаю, что ты сделал хороший выбор, и все же я должен признать: каждый раз, когда мы шептались между собой, ворча и жалуясь на твои решения, казавшиеся нам безумными, в конечном итоге ты всегда оказывался прав. Нам хочется снова обнять наших родных, снова увидеть наши города и деревни. Гоняться за скифами по бесконечной равнине, где не растет ни одной оливы или виноградной лозы и где, говорят, не увидишь ни одного дома, хоть иди сто дней, не кажется привлекательным занятием. И все же, могу сказать от имени большинства моих товарищей, нам жаль расставаться с тобой, государь.
Мы не будем спать ночами, думая о том, каково тебе приходится в этих пустынных краях, в окружении варваров… Но боюсь, ничто не может изменить твоей судьбы. Было здорово сражаться рядом с тобой. Будь здоров, Александрос, и прощай.
Александр верхом на Букефале устроил им смотр и каждому улыбнулся или помахал рукой, а тем, кого знал или помнил по проявленной в боях отваге, пожал руку. По его лицу текли искренние слезы, когда он смотрел, как они проходят колонной по восемь, двигаясь на огненное солнце, заходящее за горизонт.
На следующий день прибыли первые передовые части персидской конницы, выученные македонской боевой тактике и экипированные македонским вооружением. Их особенностью, кроме внешности — пышных усов и причудливых причесок, были штаны. Да еще обычай подходить к царю с теми же церемониями, какие были приняты у Дария: сгибаясь в глубоком поклоне и посылая издали поцелуи. Македоняне и греки называли этот жест проскинезис, «падение ниц» или «низкопоклонство», и презирали его как варварство, достойное рабов, а не воинов. Но Александр принимал такое отношение, демонстрируя этим, что уже считает себя во всех отношениях законным наследником Ахеменидов.
Рядом с Кирополем текла великая река Яксарт, самый дальний предел владений персов на севере, и Александр, прибыв туда через день марша, разбил на берегу лагерь. На другой стороне уже появлялись плотные отряды скифских всадников в роскошных одеждах и доспехах; скифы что-то кричали с вызывающими жестами или даже пускали стрелы на противоположный берег.
Среди них выделялся один, по-видимому, вождь: внушительный мужчина с густой черной бородой и длинными волосами, перетянутыми красной лентой. На нем была рубаха с длинными рукавами и такого же цвета штаны с золотой полоской сбоку. Его грудь защищал чешуйчатый панцирь, а нижнюю часть ног — металлические поножи на греческий манер. На поясе у него был меч, через плечо висел лук, а к конской сбруе был прикреплен колчан. Лошади имели рельефные металлические налобники и великолепные украшения из золотых листов, прикрепленные к кожаным ремням, защищавшим нижнюю часть шеи.
— Что они говорят? — спросил Александр своего толмача.
Но тут вмешался Оксатр, понимавший их язык:
— Они говорят, что ты трус и подлец и должен немедленно убираться отсюда, как только заплатишь им дань. Сто талантов серебром.
Разгневанный Александр подогнал Букефала к самой воде, не обращая внимания на встретивший его град стрел, в то время как Леоннат и Птолемей пытались прикрыть своего царя щитами.
— Я вас не боюсь! — крикнул Александр. — Я перейду реку и настигну вас где угодно, хоть на берегу северного Океана!
— Думаешь, они поняли? — спросил Селевк со своей обычной иронией.
— Может быть, и нет, — ответил Александр, — но скоро поймут. Скажи Лисимаху, пусть выдвинет на берег все катапульты и держит этот сброд под постоянным обстрелом. Завтра перейдем реку и заложим новый город — Александрию Дальнюю.
Лисимах выстроил двадцать катапульт в два ряда почти у самой кромки воды и начал стрелять. Пока один ряд давал залп, другой заряжался, так что обстрел велся непрерывно и был поистине смертоносен. Десятки человек погибли, множество получили ранения, а остальные в страхе убежали подальше от этих невиданных орудий. Тем временем Александр послал вплавь через реку агриан, а за ними штурмовиков, которые захватили плацдарм на другом берегу. Диад из Ларисы тотчас начал устанавливать настилы на набитые соломой и мякиной кожаные мешки, как делал при переправе через Оке.
К заходу солнца «Острие» уже перебралось на скифский берег, и Александр велел поставить там шатер, несмотря на дурные предзнаменования, полученные Аристандром при жертвоприношении.
Ясновидец пришел глубокой ночью в подавленном состоянии духа и даже не пожелал присоединиться к ужину в царском шатре. Тем временем при свете факелов продолжало подтягиваться остальное войско — через реку переправились гетайры и один отряд персидской конницы, составленный в основном из мидийцев, гирканцев и бактрийцев. Несколько местных жителей на берегу наблюдали это впечатляющее зрелище — бесконечную вереницу коней и всадников, растянувшуюся на равнине. Факелы озаряли пшеничные и просяные поля и искрящуюся поверхность реки.
На следующий день инженеры уже начали очерчивать границы Александрии Дальней. И тут на горизонте появились тысячи всадников; они двигались шагом, построившись невероятно широким фронтом.
— Скифы! — крикнул Леоннат. — Тревога! Тревога! Прозвучали трубы, и, пока тяжелая пехота строилась квадратом по периметру уже обозначенного нового города, конница собралась на пространстве перед ним.
— Что будем делать? — спросил Кратер.
Вперед вышел вождь фракийцев, когда-то воевавший вместе с Филиппом.
— Можно сказать? — спросил он, обращаясь к Александру.
— Разумеется, — ответил царь, ни на мгновение не отрывая глаз от грозного фронта, наступавшего по пустынной равнине.
— Послушай, я сражался против скифов на Истре вместе с твоим отцом и еще помню это. Горе тому, кто слишком углубится на их территорию и удалится от собственной базы. Посмотри на эту степь: она расстилается непрерывно, если не считать больших рек, до самого Истра, до границ Македонии, а они, — он указал на воинов в блестящих металлических чешуйчатых панцирях, — передвигаются по этой бескрайней равнине, как рыбы в море. Они умеют ориентироваться без деревьев. На тысячи стадиев здесь не встретишь ни одного дома. Сейчас, видишь, они выстроились широким фронтом, но не для атаки. Как только мы двинемся, они рассеются вокруг нас, однако не будут подходить ближе, чем на выстрел из лука и с этого расстояния начнут пускать стрелы. В результате сотни будут ранены, в основном легко, и не смогут продолжать бой. Атака вызовет ответную реакцию; скифы не примут боя, а отступят, притворятся, что убегают, чтобы заманить тебя подальше, а потом вдруг налетят снова, подобно призракам, и снова окружат, выпуская тучи стрел, и многих перестреляют. А под конец уже нападут, чтобы добить оставшихся. И когда убьют всех, то разденут трупы, отрежут у них головы, чтобы похвастать трофеями, или снимут скальп, чтобы украсить вражескими волосами копье или боевой топор.
— Интересно, — заметил Селевк, проведя рукой по волосам.
Александр осмотрелся и увидел неподалеку Черного, который следил за своими солдатами, ставившими шатры. С тех пор как Клит покинул царский пир в Кирополе, он держался на расстоянии и старался говорить с царем как можно меньше. Тем не менее, военачальник не смог не подойти, когда тот поманил его рукой.
— Повелевай, государь! — приблизившись, ответил Клит согласно военному протоколу.
— У меня нет к тебе поручений, — ответил Александр. — Я лишь хотел бы, чтобы ты послушал, что говорит наш друг, воевавший против скифов на Истре.
— Я тоже воевал там с ними, — сказал Клит.
— И что предложишь?
— Вернуться назад.
Александр посмотрел на широкий вражеский фронт, который замер посреди степи.
— Ты можешь сделать это, хотя твой опыт и твоя доблесть пришлись бы нам сейчас как нельзя кстати, но я не отступаю перед врагом в чистом поле.
— Надеюсь, мне будет позволено дать совет, — снова заговорил фракиец.
— Какой? — спросил Черный, несмотря на свое нежелание вступать в обсуждение.
— Мы пошлем вперед довольно крупные силы, человек тысячу, пусть они пройдут сквозь их правый фланг, словно направляясь в глубь территории, и проследим за передвижениями скифов при помощи эстафеты — скажем, один человек через пять стадиев. Если они не двинутся, пошлем второй контингент со второй эстафетой…
— Я понял, — сказал Александр. — Как только они решат атаковать, эстафета предупредит нас и мы ударим им в тыл всеми оставшимися силами.
— И со всей возможной быстротой, — добавил фракиец. — В данной ситуации конница окажется особенно ценной, — проговорил он, указывая на всадников-персов.
Черный скривил рот, но не произнес ни слова.
— Ну, Черный, ты с нами? — спросил Пердикка.
— А куда бы ты хотел меня деть? — ответил тот.
— Тогда кто отправляется первым? — спросил Александр.
— В качестве наживки? Лучше пойти мне: меня трудно разжевать, — сказал Клит.
Он велел своему отряду играть сбор, а потом приказал выступать. Колонной по четыре гетайры темной искрящейся массой под ритмичные удары барабана двинулись по зеленой равнине. Удаляясь, они становились меньше, но на виду оставалась эстафета, а тем временем скифская конница, застигнутая врасплох этим маневром, как будто не знала, что предпринять.
— Они не двигаются, не заглатывают наживку… — проговорил Птолемей, качая головой.
— Тогда пошлем второй отряд, — решил Александр. — Иди ты, Пердикка, и поскорее: чем скорее догонишь Черного, тем лучше. И возьми с собой их, — добавил он, указывая на персов, ждавших приказа на краю лагеря.
Оксатр показал знаком, что понял, и, как только снова протрубили трубы и отряд Пердикки бросился вперед, он со своими степными всадниками пристроился к нему.
На этот раз скифы как будто тоже никак не отреагировали, а потом, словно по сигналу, повернулись назад и вскоре исчезли.
Александр приказал оставшимся построиться и ждать какого-либо признака развития событий.
Небо вдруг подернулось странной дымкой, которая просеивала солнечные лучи слабым молочным светом, уничтожив всякое чувство расстояния и глубины.
— Смотри! — вдруг крикнул Леоннат. — Эстафета! Они атакуют.
ГЛАВА 45
Собрав всю оставшуюся конницу, Александр поручил командование Птолемею и прочим, а сам галопом бросился вперед, взяв с собой второй отряд Оксатра, составленный из сотни скифов, которые еще с прежних пор служили наемниками в войске Великого Царя.
Приближаясь, он не хотел показываться на виду и получал сведения через эстафеты, пока ему не сообщили, что вражеское войско ввязалось-таки в бой с отрядами Пердикки и Клита.
— Как они построились? — спросил царь.
— У них нет настоящего единого строя, они скачут вокруг наших отрядов и пускают стрелы. Пока что наши прикрываются щитами, но так не может продолжаться долго.
— В общем, пора это заканчивать, — ответил Александр и собрал вокруг себя товарищей. — Сейчас с умеренной скоростью выдвинемся и войдем в контакт с неприятелем. Как только покажемся на виду, трубам играть сигнал: по этому сигналу Клит и Пердикка прорвут кольцо с дальней от нас стороны, а потом рассыплются веером и повернут по направлению к нам, чтобы сходящимся маневром ударить скифам в тыл. Пленных не брать, если только не попросят пощады. А теперь по коням!
Александр пришпорил своего сарматского гнедого и вскоре догнал знаменосца. Все остальные последовали за царем по гладкой равнине, развернувшись широким фронтом глубиной всего в четыре шеренги.
Как только появились скифы в своих блестящих одеждах и чешуйчатых доспехах, царь дал знак трубачам, и те протрубили условленный сигнал. Почти мгновенно Клит и Пердикка построили своих солдат клином и направили вперед, на прорыв окружения, продолжая держать их в сомкнутом строю, пока последний воин не вышел из вражеского кольца. Потом войско разделилось на две половины, и каждая совершила круговой маневр, так что, снова соединившись в единый сомкнутый фронт, все они с копьями наперевес бросились назад, на врага.
В тот же миг с другой стороны появился Александр со своими отрядами, уже готовыми к бою. Неожиданно оказавшиеся между двумя вражескими группировками скифы были вынуждены принять рукопашный бой, сбившись на тесном пространстве и не имея возможности выскользнуть в сторону. Оказавшись в ловушке на собственной безбрежной территории, как рыба в сети, они яростно пытались вырваться из окружения, но ровная местность помогала македонской коннице держать плотный строй и использовать преимущество тяжелого вооружения.
Скифы сражались с большим ожесточением, неся огромные потери, и когда ко второй половине дня поняли, что обречены, бросились все вместе в одну точку, воспользовавшись моментом, когда во вражеском строю образовался промежуток. Во главе со своим вождем им удалось вырваться на открытое пространство и рассеяться по степи. Македонские солдаты с радостными криками поднимали к небу копья, но царь остановил их.
— Это еще не конец, — сказал он. — Сейчас мы последуем за ними в их села и сделаем так, чтобы они навсегда запомнили Александра и его гетайров.
Но не успел он отдать приказ выступать, как из лагеря прискакал гонец с посланием от командиров пехоты.
— Государь, сатрап Спитамен поднял бактрийцев и согдов, и они напали на Мараканду. Командиры хотят знать, что делать.
— Оставьте в новом городе гарнизон и возвращайтесь в Мараканду. Я присоединюсь к вам, как только закончу рейд.
Гонцы умчались обратно, а Александр двинулся дальше по равнине. Оксатр исполнял роль проводника. Они ехали шагом по следам вырвавшихся из окружения скифских всадников. Бескрайняя ширь вызывала удивление и тревогу: нигде не было видно ни дерева, ни камня, ни скалы, ни холмика, а горы Паропамиса за спиной окрасились розовым в лучах солнца, повисшего над заснеженными вершинами.
Птоломей проговорил словно самому себе:
— На острове Эвбея города Халкида и Эретрия пятнадцать лет ожесточенно сражались за власть над тридцатипятимильной равниной.
— Вот-вот, — эхом откликнулся Пердикка, — а здесь наш взгляд беспрепятственно скользит до горизонта, не находя признаков человеческой жизни.
— Однако не могли же они исчезнуть совсем, — заметил Гефестион. — Они все-таки не призраки.
— Они кочевники, — объяснил ехавший рядом Оксатр. — Они живут на запряженных быками повозках вместе со своими семьями — женами, стариками, детьми. Эти кочевники питаются молоком и мясом и могут ехать день и ночь без остановки, так как их кони невероятно выносливы.
— И как далеко простираются их земли? — спросил Александр, помнивший рассказы своего отца о его сражениях со скифами за Петром.
— Никто не знает, — ответил перс.
— Некоторые говорят, — вмешался Селевк, — что на севере они граничат с гипербореями, а на востоке с исседонянами, питающимися одним лошадиным молоком.
— Мы можем заблудиться? — спросил Леоннат, устремив тревожный взгляд на бескрайнюю степь.
— Это невозможно, — успокоил его Селевк. — У нас за спиной горы, а слева Яксарт. Но все равно я бы вернулся назад, учитывая то, что случилось в Мараканде.
Александр молча продолжал двигаться вперед — это был его способ испытать друзей, посмотреть, до какой степени крепки их преданность и решимость бросить вызов неизвестному. В какой-то момент следы скифов совсем пропали, словно их кони вдруг взмыли в воздух.
— Великий Зевс! — воскликнул Пердикка. Оксатр внимательно осмотрел землю.
— Они обмотали конские копыта тряпками и травой, и на этой сухой траве не осталось четких следов. Но мои скифы отыщут их.
— В таком случае пошли дальше, — велел царь.
Марш возобновился, пока не стемнело и скифские следопыты Оксатра не перестали различать следы. Тогда Александр велел трубачам просигналить привал, и все расстелили на земле плащи, достали из переметных сум хлеб, вяленое мясо и фляги с водой и уселись поесть. Давно уже не было у них такого скромного ужина. Но вокруг царило спокойствие; почти полная луна взошла над горами, осветив обширную равнину и заставив реку заблестеть, а на ясном, совершенно безоблачном небе начали появляться самые яркие созвездия. Только в глубине небосвода, ближе к востоку, над гребнем гор мелькали вспышки зарниц — в остальном мир погрузился в вечерний покой. Азиатские воины собрались в кружок, и кто-то сумел развести огонь.
— Как они это делают? — спросил Гефестион, изрядно замерзший. — Я не видел ни единого кустика на сто стадиев вокруг.
— Навоз, — с выражением глубокого презрения ответил Оксатр на своем небогатом греческом.
— Навоз? — переспросил Селевк, подняв брови.
— От овцы, от коня, от козы. Они его собирают в мешок, сушат и жгут.
— А!
— Для нас это кощунство — осквернение огня. В Персии за такое полагается смерть, но они… — и он произнес слово, по-персидски означавшее «варвары».
— Вам не кажется, что ужин сегодня вкусен как никогда? — спросил Александр, меняя тему разговора.
— Когда ты голоден, — подтвердил Гефестион.
— А это место… Никогда не видел ничего подобного. Ни одного строения, куда ни посмотри. — Он обратился к Оксатру: — Как думаешь, будет жить Александрия Дальняя?
— Будет, — ответил персидский воин. — Когда солдаты уйдут, придут торговцы и город наполнится народом, скотом, жизнью. Будет жить.
Они проспали всю ночь под охраной двойного кольца верховых дозоров, которые могли без труда озирать залитую лунным светом равнину. Поднявшись на рассвете, войско продолжило преследование. Через три дня обнаружились следы колес, и вскоре вдали показалась передвижная деревня бежавшего с поля боя скифского вождя — тройной круг кибиток, покрытых дублеными шкурами.
Оксатр распознал на передней кибитке отличительный знак — деревянное древко с двумя бронзовыми бодающимися горными козлами.
— Это царь, — сказал он. — Возможно, тот, с красной повязкой на голове… Теперь ему некуда бежать. Теперь он думает: «Как ты прошел в сердце моей равнины, как ты нашел путь в этой однообразной равнине?»
Александр дал сигнал товарищам, и они выстроили свои отряды вокруг маленького городка на колесах. Всадники с длинными копьями казались в этом пустынном месте какими-то неземными существами, а лоснящаяся мускулатура их скакунов, острые железные наконечники копий, яркий блеск панцирей и шлемов, колышущиеся на утреннем ветерке гребни создавали впечатление неодолимой мощи.
В неестественной тишине раннего часа вдруг послышался звук рога, который тут же затих в бескрайности равнины. Потом на великолепном сером в яблоках жеребце, сильно отличавшемся от местных маленьких лохматых лошадок, — возможно, то был дар какого-нибудь соседнего царька или добыча, взятая в набеге, — появился вождь. На нем все еще оставался боевой наряд: алая диадема, нагрудник, чешуйчатый панцирь. За ним пешком следовала его супруга в высоченном золотом головном уборе, украшенном параллельными золотыми полосками по краю, и в длинном, до пят, платье, почти закрывавшем расшитые кожаные туфли. Она вела за руку девочку лет двенадцати — судя по сходству, дочь.
Вождь оглядел, почти как на смотре, внушительный строй неизвестно откуда взявшихся воинов в панцирях, потом уверенным шагом направился к Александру и начал говорить. Оксатр подозвал одного из своих наемников-скифов, и по мере того как тот переводил ему на персидский, он передавал слова скифского вождя Александру по-гречески:
— Никто на человеческой памяти не смел углубляться в земли скифов. Никому никогда не удавалось разбить их и захватить врасплох. Я также слышал, что ты победил царя персов и захватил его царство. Поэтому ты — бог. А может быть, какой-то бог на твоей стороне. Сражаясь против тебя, я потерял моих лучших воинов и еле спасся сам, и потому пришел предложить мир, а в качестве залога предлагаю тебе в жены мою дочь.
При этих словах царица подтолкнула вперед упиравшуюся девочку, и Александр увидел под длинными черными ресницами ее блестящие от слез глаза.
Он слез с коня, посмотрел на нее и едва не заплакал сам: ему вспомнилась милая сестра Клеопатра в том же возрасте, когда он отправлялся в Миезу, чтобы пройти долгое обучение под руководством Аристотеля. Сколько же времени с тех пор прошло?
— Твоей дочери еще нужна материнская забота. Я не хочу ее забирать, — ответил Александр. — Чтобы скрепить договор между двумя царями, достаточно клятвы перед небом, которое простерто над головой всех людей, и перед землей, которая когда-нибудь примет всех в свое лоно. И рукопожатия.
Он подождал, пока толмач переведет, потом протянул руку, и скифский царь пожал ее, подняв другую руку сначала к небу, а потом повернув ладонью вниз, к земле.
— Мое имя — Дравас, — сказал вождь, твердо посмотрев в глаза молодому чужаку с золотыми волосами, — а как зовут тебя?
— Александрос, — последовал ответ, — и я могу вернуться в любое время и откуда угодно.
Он проговорил это таким тоном и с таким видом, что скифский вождь ни на мгновение не усомнился в истинности этих слов.
ГЛАВА 46
На следующее утро они отправились на запад, чтобы добраться до Яксатра, но оказались в совершенно пустынной, выжженной солнцем местности, так что очень скоро у них кончились запасы воды. Воины легкой конницы, тратившие силы в удаленных дозорах и на страже, изнемогли первыми, и Александр велел отдать им свой личный запас. Так они двигались еще один день, и, наконец, жажда стала невыносимой. Царь попил застоявшейся жижи из впадины в земле, и еще до вечера у него начались страшные боли в животе, а потом началась сильнейшая лихорадка и дизентерия.
Гефестион велел сделать носилки, и так его несли еще два дня, охваченного бредом, иссушенного жаждой, в собственных экскрементах, которые за неимением воды нечем было смыть, и над ним тучами роились мухи.
— Если не найдем реки, он может умереть, — сказал Оксатр. — Я пойду вперед искать. А вы идите по моим следам. Если поймаете дичь, ешьте сырое мясо. Однако не касайтесь воды, которую не пьют скифские наемники: они знают, что делают.
Он исчез на западе вместе с группой согдийских всадников, самых устойчивых к жаре и жажде, а колонна продолжила продвигаться шагом под неумолимым солнцем. Оксатр вернулся лишь поздней ночью и первым делом спросил о царе:
— Как он?
Гефестион только покачал головой и ничего не ответил.
Александр лежал на земле в смраде своих экскрементов, его губы потрескались и высохли, дыхание вырывалось с хрипом.
— Я нашел реку, — сказал перс. — И принес воды, чтобы пить, но не мыться.
Александр припал к воде. Напоили также тех, кто ближе других был к смерти от жажды. После этого поход продолжился. Шли ночью, желая поскорее добраться до Яксарта, который показался вдали при первых лучах зари. Царя погрузили в холодную воду и держали там, пока температура тела не снизилась. Тогда он постепенно пришел в сознание и спросил:
— Где я?
— У брода, — сказал Оксатр. — Здесь есть свежая рыба и дрова, чтобы готовить.
— Твой греческий улучшается, — нашел в себе силы проговорить Александр.
Они вновь соединились с остальным войском близ Мараканды, где их ждал горький сюрприз. Командиры педзетеров бросились в безрассудную атаку на войска Спитамена, стоявшие на реке Политимет, и потерпели тяжелое поражение. Почти тысяча солдат осталось лежать на поле боя, а несколько сотен было ранено. Под мрачным, подернутым дымкой небом несколько дней горели погребальные костры.
Лептина залилась безутешными слезами, увидев царя в таком жалком состоянии. Она обмыла его, переодела в чистые одежды и позвала слуг с опахалами из перьев, чтобы обмахивали его день и ночь. Филипп, сразу явившийся к изголовью Александра, подтвердил, что лихорадка все еще крайне сильна. Каждый вечер с заходом солнца царь впадал в бред. Помня предписания своего учителя Никомаха, Филипп послал гирканских всадников набрать в горах снега и прикладывал его к телу Александра каждый раз, когда лихорадка усиливалась, а Лептина всю ночь продолжала менять холодные компрессы на лбу больного. Потом его начали кормить сухарями и кислыми яблоками, пока понос не утих.
— Возможно, я вытащу тебя и на этот раз, — сказал царю врач, увидев, как на его лицо понемногу возвращаются обычные краски. — Но если ты и дальше будешь вести себя столь безрассудно, то и сам Асклепий, который, говорят, оживлял мертвых, не сумеет тебе помочь.
— Я верю, что ты в своем ремесле искусней Асклепия, ятре, — с трудом отозвался царственный больной и снова заснул.
Едва оказавшись в состоянии отдавать приказы, Александр запретил выжившим после сражения на Политимете рассказывать кому-либо о разгроме, чтобы не сеять уныния, а потом послал Пердикку, Кратера и Гефестиона контратаковать силы Спитамена, чтобы оттеснить их в горы. Но уже началась осень, и преследовать мятежников в горах было безумием. Александр решил вернуться в Бактрию, где томился в плену Бесс. Он пошел на запад вдоль северной границы державы, чтобы заодно укрепить свою власть в этих местах и посмотреть, действительно ли земли скифов простираются в этом направлении на столь обширное расстояние.
Снова по мосту из бурдюков Александр переправился через Оке и углубился в область, все еще по большей части пустынную. Обширная и совершенно гладкая равнина простиралась на север и постепенно терялась в дымке у затянутого тучами горизонта. Иногда встречались длинные караваны из бактрийских верблюдов, идущие на запад; иногда в отдалении за ними следовали более или менее многочисленные отряды скифских всадников; их легко было узнать по ярким нарядам, разукрашенным шароварам и характерным чешуйчатым доспехам. Однажды к заходу солнца, когда войско собиралось уже разбить лагерь, один из передовых дозоров вернулся с ошеломительным известием:
— Амазонки!
Селевк ухмыльнулся:
— Я и не знал, что из-за нехватки воды войскам дают неразбавленное вино.
— Я не пьян, командир, — серьезно ответил солдат. — Там женщины-воины, они построились на возвышении прямо перед нами.
— Я не сражаюсь с женщинами, — важно заявил Леоннат. — Разве что…
— Но у них нет враждебных намерений, — уточнил солдат. — Они улыбались, а та, что казалась главной среди них, очень красивая и…
Он повернулся, чтобы показать царю, где они встретили воительниц, и увидел позади, менее чем в одном стадии, амазонку в сопровождении четырех подруг.
— Пропустите их, — велел Александр и провел рукой по волосам, словно приглаживая их. — Возможно, мы, в самом деле, попали в края амазонок.
Прекрасная воительница подъехала ближе и слезла с коня; спутницы последовали ее примеру. Было видно, как остальные в отдалении устанавливают шатер — один среди бескрайней равнины.
Царь с Гефестионом и Кратером вышли навстречу; позади слышался удивленный гомон; среди солдат и по сопровождавшему войско каравану уже расползся слух. Каллисфен, узнав новость, протолкался вперед. Лептину тоже разобрало любопытство, и она подошла поближе, чтобы посмотреть на странное явление.
Царица-воительница уже стояла прямо перед Александром. Она сняла головной убор — нечто вроде кожаного конического шлема с защищавшими лицо загибами, — и все увидели изумительные черные блестящие волосы, заплетенные в длинную косу, доходившую почти до талии.
С виду ей было лет двадцать, и она совсем не походила на знакомый каждому образ великолепной нагой амазонки с барельефов Бриаксия и Скопаса на галикарнасском Мавзолее или с картин кисти Зевксида и Паррасия в «Изящном портике» в Афинах. Кроме красивого смуглого лица, все было скрыто. На девушке были синие шерстяные шаровары с красной вышивкой и странный кожаный камзол, узкий в талии и широкий у колен. На поясе у нее висели меч и фляжка с водой, а через плечо — лук со стрелами, оружие, считавшееся традиционным для амазонок. Но не было щита в форме полумесяца.
Она посмотрела на Александра большими темными глазами и произнесла что-то, чего никто не понял.
Александр повернулся к Оксатру, но перс покачал головой.
— А твои скифы — они что-нибудь разобрали? Оксатр обменялся с ними несколькими словами, но они знаками показали, что речь воительницы не знакома и им.
— Я тебя не понимаю, — обратился Александр к красавице с улыбкой.
Ему было очень неприятно оказаться перед мифологическим существом, одним из тех, что заполняли его детские грезы, и не суметь обменяться с ним хотя бы несколькими словами.
Она проговорила что-то еще с ответной улыбкой и попыталась помочь себе жестами, но безрезультатно.
— Я ее поняла, — вдруг раздался голос за спиной Александра.
Царь резко обернулся на этот голос.
— Лептина!
Девушка вышла вперед и среди общего замешательства стала говорить с молодой воительницей.
— Но как это возможно? — проговорил Каллисфен, изумленный этим чудом.
Однако в памяти Александра вспыхнула далекая зимняя ночь, когда он проводил с Лептиной время в Эгах, в древнем дворце предков. Он вспомнил, как во сне она говорила на странном, непонятном языке. На плече у девушки была татуировка — такая же, как образ на золотом медальоне, что висел на шее этой амазонки: припавший к земле олень с длинными ветвистыми рогами.
— Такое иногда случается, — вмешался врач Филипп. — Ксенофонт пишет про аналогичный эпизод, случившийся в Армении, когда один раб вдруг распознал язык халибов, совершенно незнакомого ему народа.
А Лептина все говорила, сначала запинаясь, а потом более уверенно; слова выходили из ее уст с трудом, одно за другим, как будто всплывая из скрытых глубин. Александр подошел к ней и, обнажив татуировку у нее на плече, показал молодой воительнице.
— Узнаешь? — спросил он.
Судя по изумленному виду амазонки, она узнала, и этот знак имел для нее огромное значение.
Две девушки продолжили говорить на своем таинственном языке, потом амазонка сжала Лептине руки, посмотрела в глаза молодому чужеземному монарху и направилась к своему шатру.
— Что она тебе сказала? — спросил Александр, как только она удалилась. — Ты из их народа, это правда?
— Да, — ответила Лептина, — я из их народа. Когда мне было девять лет, меня похитила банда киммерийцев. Они продали меня работорговцу на понтийском рынке. Моей матерью была царица одного из племен этих женщин-воительниц, а отцом — знатный скиф, его племя жило близ Танаиса.
— Царевна, — прошептал Александр. — Вот ты кто!
— Вот кем я была, — поправила его Лептина. — Но теперь это время прошло, оно ушло навсегда.
— Это не так. Теперь ты можешь вернуться к своему народу и снова занять подобающее тебе место среди соплеменников. Ты свободна. Я дам тебе богатое приданое — золото, скот, лошадей.
— Подобающее мне место — при тебе, мой господин. Больше у меня нет никого на всем белом свете, и эти женщины для меня чужие. Я уйду с ними, только если ты прогонишь меня.
— Я ничего не заставляю тебя делать против твоей воли. Если тебе угодно, оставайся при мне, пока я жив. Но скажи мне: зачем эта молодая женщина пришла сюда? Зачем разбила там свой шатер?
Лептина потупилась, словно ей было неловко отвечать на такой вопрос, но, в конце концов, ответила:
— Она сказала, что является царицей женщин-воительниц, живущих между рекой Оке и побережьем Каспийского моря. Она слышала, что ты — самый сильный и могущественный в мире мужчина, и думает, что только ты достоин ее. Она ждет тебя в этом шатре и приглашает провести с ней ночь. И надеется… зачать от тебя ребенка, сына или дочь, который когда-нибудь получит скипетр из ее рук.
Она закрыла лицо руками и убежала в слезах.
ГЛАВА 47
Александр посмотрел на одинокий шатер, еле различимый в темноте среди степи. До его ушей доносился сдерживаемый плач Лептины, и он испытал глубокое волнение, подумав о двойном чуде, произведенном этой таинственной землей: о появлении отряда амазонок в месте, столь отдаленном от реки Термадонта, что течет, согласно легенде, до границ их территории, и об открытии Лептины, вдруг заговорившей на их родном языке.
Ему хотелось бы помочь Лептине, боровшейся со смятением. Столь различные, далекие друг от друга жизни вдруг встретились в ее душе, разрывая ее на части… Но еще сильнее Александра разбирало любопытство узнать эту таинственную женщину, ждавшую его среди степи, окутанной ночным мраком. Он сел на коня и с одним мечом направился к одинокому шатру. Увидев это, Гефестион сделал знак нескольким воинам из «Острия» подойти.
— Расположитесь вокруг этого шатра, чтобы никто вас не видел, — велел он, — и при малейшем подозрительном звуке немедленно бегите на помощь царю. Возьмите с собой Перитаса: в случае опасности он окажется быстрее всех.
Воины повиновались и, скрывшись в темноте, рассыпались вокруг шатра. Один из них, держа на поводке Перитаса, подошел ближе других и притаился в траве вместе с псом. Однако ночь прошла спокойно, и Перитас все время продремал, настораживая уши и поднимая морду, лишь когда до него доносился запах какого-нибудь дикого зверя, проходившего по затихшей степи.
Никто никогда не узнал, что случилось этой ночью и зародил ли Александр сына в лоне царицы бескрайних пустынь, чтобы тот вырос, как дикий жеребец, и бегал, нищий и свободный, по безграничным просторам, под взором солнца и крыльями ветра.
Перед рассветом царь вернулся с ярким лихорадочным светом в глазах, словно спустился с Олимпа.
Он продолжал идти на запад, пока не добрался до какой-то реки. Там Александру захотелось спуститься вниз по течению и посмотреть, куда она течет и не ведет ли к северному Океану, но через три дня похода степь перешла в пустыню, и река зачахла в раскаленных песках. Тогда войско снова повернуло на запад, и через четыре перехода в пять парасангов обнаружилась другая река. Они стали спускаться вдоль нее, но опять увидели, как иссушенная земля поглощает ее в своих трещинах.
Птолемей приблизился к царю, который тревожно вглядывался в подернутый знойной дымкой горизонт, и положил руку ему на плечо:
— Давай вернемся назад, Александр. Ничего там нет, разве что полуденные кошмары. Если земля здесь пожирает реки до того, как они впадут в море, наверняка имеет смысл поскорее бежать из таких мест. Разве может мать сожрать своего сына после рождения?
Каллисфена тоже смутило это явление. Физика и философия подсказывали ему ответы, но тут же поднимавшийся из глубин сознания страх отвергал их.
— Хотел бы я знать ответ на эти вопросы, Птолемей, — не оборачиваясь, сказал царь. — Я бы хотел, если хватит сил, проследить за обманчивыми формами полуденных кошмаров и всех тех призраков, что населяют горизонт. Как повезло Улиссу! Когда он привязал себя к мачте, ему удалось услышать пение сирен… Он никому не рассказал, о чем были эти песни. Эта тайна умерла вместе с ним в далеком укромном месте, куда привело его предсказание Тиресия, у долгожданной цели последнего путешествия…
Войско двинулось дальше на юг. День за днем по мере приближения к Маргианской возвышенности им попадалось все больше воды и травы, растений и животных. На берегу одной реки царь основал еще один город и назвал его Александрия Маргианская. Там он поселил жившие в окрестностях полукочевые народы, а также часть мужчин и женщин из следовавшего за войском каравана. Кроме того, он оставил там гарнизон — пятьдесят македонян, греков и фессалийцев из числа тех, кто завел семьи с азиатскими женщинами, которые с неимоверным упорством, проявляя нечеловеческую выносливость, шли вслед за войском. Царь оставил в своем новом городе тех солдат, что давно позабыли свои былые семьи, свою далекую родину и то время, когда они жили в Македонии, — хотя, казалось бы, прошло не так уж и много лет.
К концу осени царь вернулся в Бактрию, чтобы перезимовать там. Он велел устроить суд над узурпатором Бессом по персидскому ритуалу. Оксатр собрал совет пожилых судей и велел привести пленника. Раны, нанесенные ему той ночью в темном поле близ Курушката, зарубцевались, но придали обезображенному лицу еще более ужасающий вид.
Суд не занял много времени. Когда подсудимого спросили, не хочет ли он сказать что-либо в свое оправдание, Бесс не произнес ни слова. Он молча стоял перед своими врагами с достоинством человека, желавшего спасти честь Персидской державы, которую унизил Дарий, дважды трусливо бежавший с поля боя. То было достоинство патриота, попытавшегося возглавить восстание против захватчика.
Был вынесен приговор, самый страшный из возможных, выносившийся тем, кто злодейски покушался на священную царственную особу и захватывал трон Ахеменидов, — четвертование.
Бесса раздели догола и вывели на открытое место, издавна предназначенное для исполнения подобных приговоров. Две ивы, длинные и тонкие, стоявшие друг рядом с другом, наклонили до земли, чтобы они скрестились, и верхушку каждой привязали канатом к вбитому в землю колу. Между двух согнутых таким образом стволов получилось нечто вроде лука. Пленника подвели туда и за руки и ноги привязали к двум верхушкам, как можно выше, чтобы он повис над землей на высоте примерно пяти локтей. Присутствовали при этом варварском ритуале не только персы и местные жители. Было также немало македонян и греков. Специально приехала из Задракарты царевна Статира; ей не терпелось увидеть месть за отца, которого она давно похоронила и оплакала. Статира сидела рядом с Александром, бледная и неподвижная.
По знаку верховного судьи палачи подошли к канатам и занесли топоры. По второму знаку они одновременно нанесли точный удар и перерубили канаты. Два ствола тут же выпрямились, и на мгновение мощные мускулы Бесса напряглись в невозможном усилии сопротивления, а потом его тело разорвало. Левая часть от плеча до паха осталась на одном дереве, а другая, с головой и внутренностями, повисла на другом. В глазах казненного еще оставалась тень жизни, когда хищные птицы, всегда ожидавшие поживы в этом месте, опустились попировать на его растерзанном теле.
Александр со Статирой и двором остался в Бактре на всю зиму. Царь много времени проводил с Евменом, чтобы писать послания сатрапам своих провинций: Антигону по прозвищу Одноглазый, который правил Анатолией, Мазею в Вавилон, а также Артабазу в Памфилию. Он поинтересовался, как дела у Фраата: оправился ли он от скорби после утраты своих родных и ведет ли безмятежную жизнь в своем приморском дворце. Царь также велел своим кузнецам сделать маленькую колесницу и послал ему в подарок вместе с двумя скифскими жеребятами.
Он получил письма от своей матери Олимпиады и от Клеопатры, которая рассказывала о жизни во дворце в Бутроте и о своей тоске:
Известия о твоих деяниях доходят до меня ослабленными и несколько искаженными из-за расстояния, и мне кажется невозможным, что я, твоя сестра, не могу видеть тебя, не могу знать, когда ты вернешься, когда сможешь завершить свой нескончаемый поход.
Я страдаю от разлуки с тобой и от одиночества. Прошу, позволь мне приехать, чтобы лично увидеть совершенные тобою чудеса и великолепие завоеванных городов.
Благодарю за подарки, которые ты постоянно мне присылаешь и которыми я горжусь; но самым большим подарком была бы возможность обнять тебя, неважно где, в ледяных ли полях Скифии или пустынях Ливии. Прошу тебя, позови меня к себе, Александрос, и я прилечу без промедления, бросив вызов и бурным морским волнам, и враждебным ветрам. Береги себя.
Александр продиктовал ответ, нежный и ласковый, но твердый, и закончил его словами:
Моя держава еще не умиротворена, нежнейшая сестра, и я должен просить тебя некоторое время потерпеть. Когда все будет закончено, я позову тебя к себе, чтобы ты разделила мою радость и смогла присутствовать при рождении нового мира.
Александр повернулся к Евмену:
— Слог Клеопатры улучшается с каждым разом, — сестра определенно берет дорогие уроки у лучшего учителя риторики.
— Верно, — признал Евмен. — И все же даже за ее цветистыми образами, за риторическими прикрасами остается истинное чувство. Клеопатра всегда тебя любила, всегда защищала от гнева твоего отца. Неужели ты не скучаешь по ней?
— Страшно скучаю, — признался Александр, — и тоскую по тем дням, Но не хочу предаваться воспоминаниям, ведь поставленная передо мной задача неумолимо возвращает меня к себе. Это божественное веление, ради которого я должен пожертвовать всем. От него мне никуда не деться.
— Ты не хочешь от него никуда деваться, — заметил Евмен.
— Может быть, ты думаешь, что я смог бы, если бы захотел? Боги помещают в сердца людей мечты, желания и стремления, которые зачастую оказываются больше самих людей. Величие человека заключается в мучительном несоответствии между намеченной целью и силами, отпущенными ему природой.
— Как в случае с Бессом.
— И с Филиппом.
— И с Филиппом, — согласился Евмен, потупившись. Оба замолчали, словно это место овеяла тень убитого великого монарха, вдруг вызванная из забвения.
Иной раз Александр посвящал себя поддержанию связей с городами, носящими его имя, что основал в самых отдаленных провинциях державы. Он лично переписывался с начальниками гарнизонов и правителями скромных общин, поселившимися на границах труднодоступных и неизведанных земель. Он составлял доклады Аристотелю, рассказывая о местных порядках и жизненных укладах, чтобы обогатить его коллекцию.
Иногда из этих затерянных передовых постов Александр получал послания, написанные на ломаном греческом или македонском диалекте. Почти всегда они содержали просьбы о помощи и подкреплениях, чтобы отбивать нападения извне. Горстка подданных Александра оказывалась осажденной чуждыми народами, ревностно отстаивавшими свою самобытность. Восстание Спитамена вспыхивало повсюду. Уничтожение Бесса лишь расчистило путь новым (полководцам, укрывшимся на заснеженных склонах Паропамиса.
Александр всем отвечал одинаково:
«Держитесь. Мы собираем новые войска и ждем новых подкреплений, чтобы помочь вам и умиротворить земли, на которых вы воспитаете своих детей».
Так прошла вся зима. С возвращением весны прибыли свежие части из Македонии и Анатолии, и войско выступило в поход. Дойдя до Бактрии, Александр понял, что повстанцы рассеялись по множеству крепостей, и решил разделить свои силы, чтобы нанести ряд целенаправленных атак на каждый центр сопротивления. Но когда царь обсудил это решение со своими военачальниками и товарищами, почти никто его не одобрил.
— Никогда не следует разделять силы! — воскликнул Черный. — Насколько можно судить, царь Александр Эпирский, твой дядя и зять, был разбит варварами в Италии именно потому, что ему пришлось разделить свои силы. А делать это по своей воле… Мне это кажется безумием.
— По-моему, было бы лучше оставить все части вместе, — поддержал его Пердикка. — Мы возьмем эти крепости одну за другой и передавим их, как вшей.
Леоннат кивал в знак согласия, всем своим видом показывая, что не стоит это даже обсуждать.
— Если хочешь знать, что я думаю… — начал Евмен, но Александр оборвал его:
— Тогда давайте сделаем так. Кратер останется на юге в окрестностях Бактры, мы пойдем на север и восток в Coгдиану, чтобы выгнать мятежников в горы, и в определенной точке разойдемся веером — пять отрядов, по одному каждому из вас, по одному на мятежную крепость, чтобы взять ее. Диад разработал новые дальнобойные катапульты, они метают стрелы не такие большие, но такие же эффективные.
Леоннат прекратил кивать, осознав, что речь пошла о другом, и смотревший на него Александр спросил:
— Или ты не согласен?
— Вообще-то я согласен… — попытался ответить тот, но все уже встали.
Больше говорить было не о чем, и Александр проводил их к выходу.
Через несколько дней план был приведен в исполнение: царь и его товарищи с большей половиной войска направились к входу в долины, где их ожидали вооруженные повстанцы. Сражения продолжались все лето, и несколько крепостей были взяты, но потом боевые действия замедлились из-за труднопроходимой местности и уклончивой тактики противника, который нападал неожиданно и тут же отступал. Когда погода начала ухудшаться и стало не хватать провианта, Александр снова отвел войско к Мараканде.
У Кратера дела пошли несколько иначе. Он остался в тылу и не успел добраться до столицы провинции, когда ему навстречу попался гонец, посланный командиром гарнизона.
— Спитамен вторгся в окрестности Бактры и разграбил деревни и села. Наш гарнизон один раз вышел и был разбит, потом мы попытались снова совершить вылазку вдогонку Спитамену, но нам крайне нужно подкрепление.
Кратера охватили мрачные предчувствия. Он знал хитрость Спитамена и был почти уверен, что вторжение в окрестности Бактры было всего лишь провокацией, чтобы выманить из города столичный гарнизон и уничтожить его.
— В какую сторону они ушли? — спросил он гонца.
— Вон туда, — ответил тот, указывая на тропу, ведущую в пустыню.
— И мы тоже пойдем туда, — решил македонский командующий. — Только после необходимого отдыха. Идти в столицу бесполезно.
Они возобновили поход до рассвета и, перейдя вброд ручей, приблизились к ущелью, окруженному зарослями акации и тамарисков, — идеальному месту для засады. Тут к Кратеру подошел Кен, командир второго отряда гетайров.
— Смотри, — сказал он, указывая на небо.
— Что? — спросил Кратер, поднеся ладонь к глазам.
— Стервятники, — мрачно ответил Кен.
ГЛАВА 48
Открывшееся их глазам зрелище леденило душу: на земле валялись сотни убитых македонских солдат. Трупы были страшно обезображены, многие обезглавлены или со снятым скальпом. Других нашли посаженными на кол, третьих — привязанными к деревьям, со следами страшных пыток. Командиры, два представителя старой гвардии, друзья Клита Черного были распяты.
— Что будем делать? — мрачно спросил Кен.
— Собери всю конницу, — распорядился Кралер, — мы сейчас же бросимся за ними. Пехота пойдет вслед ускоренным маршем.
Кен велел трубить сбор и приказал коннице тихо пересечь поле брани, над которым висело призрачное молчание. Он хотел, чтобы солдаты, прежде чем броситься вдогонку, увидели, что враги сделали с их товарищами. Пусть в них возрастут безмерная ярость и жажда мести.
Как только ущелье расширилось и вывело солдат на холмистое, поросшее травой плато, Кратер построил войско в пять шеренг по шестьсот человек и крикнул:
— Я не остановлюсь, пока не растерзаю их! Оглянитесь назад, воины! Запомните, что они сделали с вашими товарищами!
Вражеские следы были еще свежими и легко различались, так что коннице даже не пришлось нарушать строй. Воины бросились галопом в туче пыли, рывком преодолев степную низину и длинный подъев к холму, скрывавшему следующую впадину. Кен оказался на вершине в числе первых вместе с Кратером и менее чем в трех стадиях увидел вражеских всадников. Не ведая об опасности, они шли шагом.
— Вон они! — крикнул Кратер. — Трубы, атаку! Не останавливайтесь! Уничтожьте их, перебейте до последнего! Вперед! Вперед!
Многократно прозвучал сигнал атаки, и конница лавиной устремилась вниз по спуску. Земля тряслась, воздух разрывали звуки бронзовых труб и яростные крики. Захваченный врасплох Спитамен во главе войска, набранного из бактрийцев и скифов-массагетов, приказал развернуться лицом к врагу, но маневр удалось выполнить лишь наполовину, когда македоняне налетели на них с копьями наперевес. При первой атаке пало до сотни мятежников, сброшенных на землю и растоптанных копытами. Центр был смят и рассеян, фланги оказали некоторое сопротивление и попытались выполнить ряд отвлекающих маневров, но Кратер не попался на это. Он созвал своих воинов, перестроил и снова бросил в мощную лобовую атаку. Менее чем через час остатки войска Спитамена были разгромлены и уничтожены. Самому сатрапу с несколькими сотнями скифов-массагетов с трудом удалось спастись и бежать в пустыню.
Кратер вернулся назад, чтобы оказать погребальные почести павшим солдатам, но сначала он вызвал к себе Кена.
— Ты знаешь, кто был перед нами?
— Скифы.
— Массагеты. Племя, которое триста лет назад разбило войско Кира Великого и убило его самого. Посей между ними страх, сделай так, чтобы они больше никогда на нас не нападали… Никогда! Ты меня понял?
— Я тебя понял, — ответил Кен и добавил: — Пришли мне баллисты, все, что у тебя есть, и отряд агриан.
Кратер кивнул. Он вернул своих гетайров назад, на поле побоища, куда уже прибыла пехота. Солдаты, сняв с себя доспехи, собирали павших, складывали расчлененные, растерзанные трупы и со слезами на глазах относили их на край поля. Там уже нарубили деревьев и возводили погребальные костры.
Дождавшись прибытия баллист, Кен велел агрианам обезглавить все трупы скифов-массагетов, после чего подошел к границе их территории, обозначенной ручьем Артакоэн и охраняемой отрядами вражеской конницы, державшимися на небольшом расстоянии. Там он зарядил баллисты и метнул соединенные гроздьями отрубленные головы, так что они покатились под ноги скифским коням. Потом развернул своих солдат и отправился назад, к остальному войску. Оно двинулось к Бактре, по пути получая знаки покорности от всех селений, ранее присоединившихся к восстанию Спитамена.
Тем временем первое войско, которое отправилось с Александром, временно расквартировалось в Мараканде. Персидские командиры набрали в царскую армию как можно больше юношей из Бактрии и Согдианы, так что теперь воинство Александра имело довольно мало общего с тем войском, которое шестью годами раньше покинуло Пеллу. Врагу оставалось все меньше ресурсов, чтобы подпитывать сопротивление.
Но фактически поход добился лишь ограниченных успехов, и это оказывало влияние на престиж царя, тем более что многие его товарищи отговаривали его от подобной стратегии. Тогда Александр попытался заставить их забыть о создавшейся ситуации, устраивая праздники и пиры. Он пожелал, чтобы там присутствовали и персидские командиры, и это снова создало напряжение среди македонян, в том числе даже среди его собственных друзей. У многих вызывал неприязнь Гефестион, который, казалось, не меньше царя вошел во вкус персидских нарядов и часто одевался на восточный манер.
Прибывало много посольств — вести переговоры; среди них приехал и вождь одного скифского племени, жившего за Оксом, и царь установил для всех протокол персидских приемов с «низкопоклонством». Он часто принимал гостей в кандисе и тиаре. Это только усиливало недовольство.
Привлеченные славой царских походов, а еще больше — распространившимися слухами о сокровищах, захваченных войском, из Греции и Анатолии понаехали философы, гадальщики, ораторы, поэты и актеры — все в надежде ухватить хоть толику этого бесконечного богатства или хотя бы познакомиться с молодым завоевателем. Александр принимал и их и даже допускал на пиры. Ему казалось, что так в эти отдаленные края переносится частичка Греции. Кроме того, он от природы любил слушать философские беседы и диспуты ораторов. Но у всего этого пришлого люда не было других намерений, кроме как добиться расположения царя, и потому они льстили ему, как только можно, причем зачастую так тонко и искусно, что бесстыдство этой лести не сразу бросалось в глаза. И это тоже раздражало македонян, привыкших к товарищескому, почти грубому обращению со своим царем, не считая традиционного поцелуя в щеку, припасаемого лишь для самых близких.
Однажды прибыл некто с грузом сушеных фруктов в дар царю — с фигами, миндалем, грецкими орехами прямо из Греции. Александр попробовал, и они показались ему такими вкусными, что он решил предложить часть Клиту Черному — в знак своего расположения и для полного примирения после многих, порой бурных разногласий.
Черный, несмотря на свой раздражительный и довольно спесивый характер, был человеком набожным. Когда пришел посланник с приглашением от царя, военачальник как раз приносил в жертву богам нескольких баранов. Бросив свое жертвоприношение на середине, Клит последовал за посланником, не заметив, что два барана увязались за ним.
Когда он с этой свитой зашел во внутренний двор дворца, Александр не удержался от смеха.
— Черный! — воскликнул он. — Ты заделался пастухом?
Но когда он узнал, что следовавшие за его полководцем животные предназначались для жертвоприношения, то обеспокоился. Царь одарил его фруктами, а как только Клит ушел, позвал Аристандра и рассказал ему о случившемся. Ясновидец помрачнел.
— Это нехороший признак, — ответил он. — Это не к добру.
И в ту же самую ночь, возможно под влиянием услышанных от гадальщика слов, царю приснился Клит. Весь в черном с головы до ног, он сидел вместе с тремя умершими сыновьями Пармениона. Александр проснулся в тревоге и не посмел рассказать свой сон Аристандру, но решил в тот же вечер устроить праздник, чтобы прогнать тяжелое чувство. Несмотря на частые размолвки, он был глубоко привязан к Клиту, чья сестра в детстве кормила его грудью, — по македонским традициям это создавало очень сильную, почти родственную связь.
В ту ночь симпосиархом был назначен Пердикка, который сразу же объявил, что должно быть два кратера: один для македонян, с неразбавленным вином, и один для греков, с одной частью вина и четырьмя воды. Само это решение вызвало общее неудовольствие, а Александр вообще пришел в плохое настроение, поскольку о персидских гостях не было даже упомянуто.
Среди греков, кроме Каллисфена, был один недавно приехавший философ-софист по имени Анасарх — самонадеянный и высокомерный, но очень пронырливый. Он привел с собой двух поэтов, которые тут же набросились на вино и яства. Праздник продолжался с шутками, остротами, непристойными историями при участии нескольких «подруг», которые ни в чем не отставали от мужчин. Все пили без меры, особенно македоняне, включая царя, и к середине вечера пирующие уже были изрядно навеселе.
В это время один из поэтов-прихлебателей, некто Праник, воскликнул:
— Я сочинил маленькую эпическую поэму! Кто-нибудь хочет послушать?
Александр усмехнулся:
— Почему бы и нет?
Воодушевленный одобрением царя поэт начал декламировать свой шедевр, вызвав смех друзей. Но македоняне, едва поняв суть дела, несмотря на опьянение, вдруг ошеломленно замолкли. Они не верили своим ушам: этот стихоплет декламировал глупую сатиру на командиров бактрийского гарнизона, погибших в засаде Спитамена во время весенней кампании. Особенной насмешке подвергся их пожилой возраст.
Черный встал и плеснул стихоплету в лицо вином из своего кубка, крикнув:
— Замолкни, мерзкий грек, дерьмовая башка!
Александр, пьяный и полуголый, повиснув на двух развлекавших его «подругах», ничего не понял, но, увидев, как обошелся Черный с его греческим гостем, завопил:
— Да как ты смеешь! Попроси прощения и дай ему продолжить! Мне нравится поэзия.
Клит, уже отдавший дань рекам виза, при этих словах совершенно вышел из себя:
— Ты, жалкий, самонадеянный, высокомерный мальчишка! Как можешь ты позволять этому дерьмовому греку глумиться над доблестными командирами, пролившими кровь на поле боя?
— Что ты сказал? — заорал Александр, разобрав лишь оскорбление.
— Что слышал! Да кем ты себя вообразил? Или ты и вправду мнишь себя сыном Зевса-Амона? Веришь всякой ерунде, что распустила твоя ненормальная мать насчет божественного зачатия и прочих глупостей? Да посмотри на себя! Посмотри, как ты опустился: оделся как женщина, весь в вышивках и кружевах. — Он кивнул на дарсидские одежды.
Александр, бледный от бешенства, стал и велел своему вестовому:
— Труби сбор «щитоносцев»! Труби, тебе говорю!
Это был крайний жест, к которому македонские цари прибегали, когда возникала прямая угроза их персоне. Вторжение «щитоносцев» означало немедленную смерть обидчику, и потому вестовой заколебался. С размаху ударив его кулаком по лицу, отчего тот растянулся на полу, Александр завопил что было сил:
— «Щитоносцы», ко мне!
— Ага! — вне себя закричал Клит. — Зовешь «щитоносцев»! Давай-давай, зови! А хочешь правду? Ты без нас — ничто! Пустое место! Это мы побеждали, мы сражались, мы завоевывали. А ты не стоишь и ногтя твоего отца Филиппа!
Птолемей, напуганный таким оборотом ссоры, схватил Клита сзади за плечи и попытался утащить.
— Черный, замолчи! Ты пьян, не оскорбляй царя! Пойдем, ну пойдем же!
Вмешался и Пердикка, и им вдвоем почти удалось вывести его, но Клит высвободил одну руку и, помахав ею в воздухе, крикнул:
— Эй, сын Зевса! Видишь эту руку? Видишь? Это она спасла тебя на Гранике, забыл?
Он вырвался и вернулся назад, продолжая выкрикивать оскорбления.
Александр взял со стола яблоко и швырнул ему в лицо, чтобы тот не подходил, но Клит увернулся и встал прямо перед ним, насмехаясь. Ослепленный яростью, оскорбленный неповиновением своего вестового, осмеянный перед гостями, царь уже ничего не видел. Он выхватил у одного из стоявших у него за спиной педзетеров сариссу и метнул в Клита. Однако при этом Александр почему-то был уверен, что тот снова увернется, что это лишь напугает его, станет уроком. Бесконечное мгновение длиной в жизнь, в которое рука, метнувшая сариссу, еще вытянутая вперед, захотела остановить ее… Но в это время Черного опять крепко схватил Птолемей, стараясь спасти его от царского гнева и оттащить прочь. Сарисса попала в Черного и прошла насквозь.
Александр закричал:
— Не-е-е-т! Черный, нет! Не-е-е-т! — и подбежал к Клиту, который блевал кровью на пол.
Царь вытащил из его тела смертоносное копье, прислонил древко к стене и бросился на острие, чтобы пронзить и себя. Селевк и Птолемей еле успели поймать его, а Александр вырывался, как одержимый, громко рыдая:
— Пустите меня! Пустите! Я не заслуживаю жизни!
На помощь друзьям поспешил Леоннат, но Александр, высвободив одну руку, схватил свой меч и попытался заколоть себя. Его разоружили и силой увели.
Евмен ничего не мог поделать. Он просто сидел в отдалении, в другой части зала, рядом с Каллисфеном и теперь, окаменев, смотрел на страшную сцену. Зал, где всего мгновение назад бушевала оргия, бурлили вино и кровь, моментально затих в нереальном молчании. Юные оруженосцы прислонились к стене в своих праздничных одеждах и переглядывались, бледные и растерянные. Каллисфен обернулся к ним и процитировал Аристотеля:
— Кто совершил преступление, будучи пьяным, вдвойне достоин осуждения: за то, что был пьян, и за то, что совершил преступление.
Евмен посмотрел на него, недоверчиво качая головой, и спросил:
— Ну что ты за человек?
Однако один из оруженосцев, юноша по имени Ермолай, смотрел на историка в восхищении.
Три дня и четыре ночи Александр отчаянно рыдал, повторяя имя убитого друга и отказываясь от еды и воды, отчего превратился в тень.
Наконец товарищи, озабоченные тем, что их царь вот-вот лишится рассудка, а затем и жизни, попросили Аристандра вмешаться. Ясновидец пришел и долго говорил с царем, напомнив про сон, про то грозное предвестие, когда бараны пришли с жертвенного алтаря: ведь несчастье уже было предначертано судьбой. Оно было неотвратимым. В конце концов, ему удалось вернуть царя к жизни, но призрак Клита Черного продолжал отравлять его существование мучительными угрызениями совести. Александр стал пить еще неумереннее. Оруженосцы, которым по древней традиции предоставлялась честь по очереди охранять сон царя, в изрядной степени потеряли уважение к нему, все чаще видя владыку пьяным. Его приволакивали в спальню, неспособного держаться на ногах, и он тут же падал и засыпал, рыгая и храпя, подобно скотине.
Только Лептина продолжала, как всегда, с любовью служить ему, ничего не спрашивая и молчаливо моля своих богов, чтобы те вернули Александру прежнее душевное спокойствие.
В начале осени два корпуса войска соединились в Мараканде, и Кратера потрясло известие о страшной драме. Желая избежать неловкости при встрече с царем, он поскорее выступил в поход, направившись в пустыню, чтобы дать последний суровый урок племенам массагетов, примкнувшим к мятежу Спитамена. Но те осознали, что у сатрапа больше нет надежды поднять против Александра Бактрию и Согдиану. Напуганные случившимся на реке Артакоэн и известием от вождя Драваса, который сообщил им, что пришедший с запада царь — это непобедимый полубог, способный внезапно появляться в любом месте и разить с сокрушительной силой, они собрали совет вождей и решили, что с новым властителем лучше быть в добрых отношениях. Массагеты предательски схватили Спитамена, когда тот спал, отрубили ему голову и вручили Кратеру в знак своего дружеского расположения.
С первыми холодами два корпуса македонского войска снова соединились в Мараканде и отправились в Наутаку, чтобы перезимовать там.
ГЛАВА 49
Следующей весной Александр продолжил свой поход по Согдиане, чтобы уничтожить последние очаги сопротивления, и в частности одну горную крепость, называемую «Согдийская скала». Это неприступное орлиное гнездо удерживал один местный властитель по имени Оксиарт, человек отважный, дерзкий и непреклонный. Добраться к крепости можно было только по узкой труднопроходимой дороге, высеченной в сплошном камне и ведущей к единственным воротам в высоченной стене, нависавшей над пропастью. Сзади стена примыкала к скалистой вершине, почти круглый год покрытой льдом и возвышавшейся над самой крепостью по меньшей мере на тысячу футов.
Александр послал к Оксиарту глашатая и толмача с предложением сдаться, но тот с высоты бастиона крикнул:
— Мы не сдадимся никогда! У нас в изобилии провианта, и мы можем сопротивляться годами, пока вы будете дохнуть от голода и холода. Передайте своему царю: будь у его солдат крылья, он еще мог бы надеяться завоевать мою скалу.
— Солдаты с крыльями! — повторил Александр, как только ему передали ответ. — Солдаты с крыльями…
Диад из Ларисы посмотрел ввысь, прикрыв глаза ладонью от ослепительного снега.
— Если ты думаешь о Дедале и Икаре, то не надо забывать, что, к сожалению, это всего лишь легенда. Человек никогда не сможет летать, даже если кто-то приделает ему крылья. Поверь мне, это невыполнимая задача.
— Мне неизвестно это слово, — ответил царь. — И когда-то тебе оно тоже было неизвестно, друг мой. Боюсь, ты стареешь.
Смущенный Диад замолчал и удалился. Как он ни бился, ему так и не пришло в голову мысли, как можно штурмовать подобное укрепление.
Но у Александра уже появилась идея. Он позвал глашатая, которого посылал в качестве парламентера, и велел ему пройти по всему лагерю с обещанием двадцати талантов всякому, кто вызовется ночью взобраться на нависающую над крепостью вершину.
— Двадцать талантов? — сказал Евмен. — Но это несоразмерная сумма.
— Награда должна соответствовать невыполнимости задачи, — возразил Александр. — Такая сумма сделает целую семью богатой на пять поколений вперед. Я уверен, что такие деньги могут придать человеку крылья.
Меньше чем через час явились триста добровольцев: больше половины из них — агриане, остальные — македоняне из горных областей.
— Нам пришла в голову мысль, — сказал один, похоже, главный среди них. — Ножи агриан здесь не помогут. Мы воспользуемся колышками от шатров, они из закаленного железа. Мы будем вбивать их в лед молотом, привяжем к ним веревки и поднимемся по одному. Может получиться.
— И я так думаю, — ответил царь. — Возьмите у Евмена знамя и, когда подниметесь на вершину, разверните его. Мы прикажем трубить в трубы, и тогда вам придется лишь высунуться, чтобы вас увидели из крепости.
С наступлением вечера невероятное предприятие началось. Пока было возможно, скалолазы поднимались пешком, неся на спине мешки с веревками и кольями, потом начали вбивать их в лед и подниматься один за другим.
Ни царь, ни его товарищи в эту ночь не смыкали глаз. Затаив дыхание, они смотрели вверх на смельчаков, которые медленно, со страшными усилиями карабкались по ледяной стене. К полуночи еще поднялся ветер, от которого коченели руки и ноги, ледяной ветер, пробиравший до костей, но воины продолжали подниматься. На нетронутой белизне снега была еле различима их темная линия.
Тридцать человек упали в пропасть и разбились о скалы, но двести семьдесят с первыми лучами солнца добрались до макушки пика.
— Знамя! — крикнул Пердикка, указывая на красное пятнышко, развевающееся на вершине. — У них получилось!
— О небесные боги! — воскликнул Евмен. — Никогда бы не поверил, если бы мне рассказали. Скорее трубите в трубы!
Тишину долины нарушил настойчивый сигнал, многократно отраженный эхом, и воины с громкими криками высыпали на вершину, чтобы их услышали обитатели Скалы. Часовые на бастионах сначала никак не могли понять, откуда исходят голоса, а потом, подняв глаза и увидев солдат Александра на вершине пика, побежали будить своего господина. Тот, не поверив, сам выскочил на стену. Вскоре опять явился глашатай Александра и закричал:
— Как видишь, у нас есть солдаты с крыльями, и их довольно много. Что скажешь?
Оксиарт посмотрел наверх, потом вниз, а потом снова наверх.
— Сдаюсь, — ответил он. — Скажи своему царю, что я готов принять его.
На следующий день, к вечеру, Александр со своими товарищами и гетайрами «Острия» поднялся в «Скалу» и направился в башню Оксиарта, ожидавшего его на пороге. Они обменялись любезностями, а потом гостя вместе с его друзьями хозяин проводил в зал, где по согдийскому обычаю все было готово к пиру. На полу вдоль столов в два ряда были уложены мягкие подушки. Царь оказался напротив Оксиарта, но вскоре его взгляд привлекла особа, сидевшая справа от хозяина дома, — его дочь Роксана!
Это была девушка невероятной красоты, божественных форм, легенда среди своего народа, давшего ей поэтическое имя «Звездочка».
Она улыбнулась молодому царю, и ее зубы сверкнули жемчугом; черты ее нежного лица казались совершенными; длинные ресницы блестели; гладкая, как мрамор, кожа имела янтарный отлив. Иссиня-черные волосы обрамляли чистейший лоб и, когда она двигала головой, волной оттеняли яркий и тонкий свет больших глаз цвета фиалки.
Александр и девушка посмотрели друг на друга, и обоих охватило вихрем, обволокло волшебной трепетной аурой, расплавленной и разреженной, как утренний сон. Для них больше ничего не существовало, голоса других сидящих за столом затихли вдалеке, и зал как будто опустел — лишь мелодия индийской арфы блуждала в расширившемся, вибрирующем пространстве и проникала в душу и тело, и даже их голоса, говорящие на разных языках, казались одинаковыми в невыразимой, уносящей ввысь музыке.
И тогда Александр понял, что до сих пор никогда не был по-настоящему влюблен. Раньше временами он переживал глубокую и яркую страсть, жгучее желание, привязанность, восхищение — но не любовь. Любовью было вот это — то, что он испытывал сейчас, это трепетное волнение, эта испытываемая к ней жажда, это глубокое упокоение души и в то же время неодолимое беспокойство, это ощущение счастья и страха. Вот что было любовью, о которой говорили поэты. Таков этот непобедимый и беспощадный бог, такова эта необоримая сила, бред ума и чувств, единственное возможное счастье. Александр забыл кровавые призраки прошлого, оставил былые тревоги и страхи; его безмерная тоска улеглась и утонула в глазах Роксаны с фиолетовым отливом, в ее небесной улыбке.
Очнувшись, царь понял, что все смотрят на них и всё понимают. Тогда он встал перед благородным Оксиартом и твердым голосом, с горящими от волнения глазами проговорил:
— Я знаю, что еще несколько часов назад мы были врагами, но теперь я предлагаю тебе долгую и крепкую дружбу и в залог этой дружбы, а также из искренней и глубокой любви, которую испытываю, прошу у тебя в жены твою дочь. — И пока толмач переводил, повернулся к девушке и добавил: — Если ты согласна.
Роксана встала и ответила на своем языке, столь странном и в то же время звучном. Только его имя она выговорила так, как его произносили его друзья:
— Я хочу стать твоей женой, Александрос, навсегда.
Свадьбу справили через три дня с большой пышностью, и Александр пожелал выполнить персидский ритуал с хлебом, но по македонскому обычаю разрубив его мечом. Потом новобрачные съели этот хлеб, глядя друг другу в глаза и чувствуя, что влюблены до конца дней своих и что связь эта не разорвется и за гробом. Роксана была в церемониальных одеждах — синем халате поверх красной длинной рубахи, перетянутой на талии поясом из золотых дисков, с вуалью на голове, ниспадавшей из-под диадемы чистого золота с подвесками из бус, украшенных ляпис-лазурью.
Во время свадебного ужина царь почти ничего не пил и лишь держал за руку свою новую жену, что-то тихо говоря ей на ухо. Она не понимала его слов, слов любви, стихов великих поэтов, образов из сновидений, призывов. Измученная душа Александра искала утешения во взгляде этой непорочной девственницы, в чувстве любви, что исходила из ее рук, из ее глаз, когда она смотрела на него с искренним и нескромным желанием, жгучим и в то же время нежным. При каждом вздохе ее цветущая грудь вздымалась, по щекам распространялся легкий румянец, и в этом дыхании царь в свою очередь искал признаки того внезапного и в большой степени неизвестного ранее чувства, пламенно желая, чтобы оно вечно оставалось неизменным.
Когда они, наконец, остались одни, Роксана, опустив глаза, начала раздеваться, медленно обнажая свое дивное тело и наполняя земную свадебную постель божественным ароматом своей кожи и волос. Александра охватило глубокое и сильное волнение, словно он погрузился в теплую ванну после долгого хождения под снежной бурей, в тисках мороза, словно выпил он чистой родниковой воды после долгого скитания по пустыне, словно снова почувствовал себя человеком после разврата, жестокости и зверств.
Его глаза светились, и, прижав девушку к себе, Александр ощутил соприкосновение с ее кожей. Он стал искать ее неумелые губы, целовать ее грудь, живот, бедра. Он любил ее с глубокой печалью, полностью отрешившись от себя, как никогда в жизни, и когда их тела содрогнулись, он ощутил, как вливает в ее лоно жизнь, ту таинственную дикую энергию, которой сметал города и полки, которая позволяла ему пережить самые страшные раны, с которой он топтал самые святые чувства, убивал в себе жалость и сострадание. И когда Александр в изнеможении отпустил Роксану и заснул рядом с ней, ему приснилось, что под черным небом он идет по долгой дороге к берегу океана, ровного, холодного, неподвижного, как плита из вороненой стали. Но ему не было страшно, потому что, как теплое покрывало, как таинственное счастье детских воспоминаний, его обволакивало тепло Роксаны.
Проснувшись и обнаружив ее рядом с собой, еще более прекрасную, с отсветом снов в глазах, он погладил ее с нескончаемой нежностью и сказал:
— Теперь пойдем, любовь моя, и не остановимся, пока я не увижу конец мира и городов Ганга, цапель на золотистых озерах и радужных павлинов Палимботры.
В те дни Александр снова взялся за приготовления и реорганизацию войска. Он набрал еще тысячи азиатских солдат из Бактрии и Согдианы, чья верность теперь вдвойне упрочилась царским браком с дочерью благородного Оксиарта. Прибыли десять тысяч персов, обученных и вооруженных на македонский лад, — их набрали в армию правители центральных провинций державы. Тогда Александру подумалось, что персидские ритуалы и «низкопоклонство» нужно распространить на всех, чтобы со всеми подданными обращаться одинаково. Но македоняне возмутились, а Каллисфен прямо воспротивился Александру, напомнив ему, что такое требование абсурдно.
— Что ты будешь делать, когда вернешься на родину? — спросил он. — Потребуешь, чтобы и греки, самые свободные из людей, воздавали тебе божеские почести? Они не таковы! И даже Геракл не получал подобных почестей — ни при жизни, ни после смерти, пока Дельфийский оракул недвусмысленно не потребовал этого. Ты хочешь стать таким же, как эти азиатские владыки? Но подумай об их судьбе: Камбиса разбили эфиопы, Дария — скифы, Ксеркса — греки, Артаксеркса — «десять тысяч» хорошо известного тебе Ксенофонта. Все были побеждены свободными людьми. Правда, мы на чужой территории и в некотором роде должны мыслить, как эти чужаки, но прошу тебя, помни о Греции! Вспомни уроки своего учителя. Разве могут македоняне общаться со своим царем, как с богом? Разве могут греки относиться к командующему их союза, как к богу? Человеку жмут руку, его целуют в щеку, а богу строят храмы, приносят ему жертвы, поют гимны. Есть разница в чествовании человека и почитании богов. Ты достоин величайших почестей среди людей, потому что был самым доблестным, самым мужественным, самым великим. Но удовольствуйся этим, прошу тебя, удовольствуйся почтением свободных людей, не вели им рабски простираться перед тобой, как перед богом!
Александр опустил голову, и бывшие рядом с ним услышали, как он прошептал:
— Вы меня не понимаете… Не понимаете…
Это слышал и один из оруженосцев, Ермолай, юноша, безмерно восхищавшийся Каллисфеном и презиравший царя. Теперь он был главой оруженосцев, поскольку Кибелин, когда-то спасший Александру жизнь, впоследствии не вынес тягот военной жизни и столь сурового климата. Во время похода на скифов он подхватил тяжелейшую лихорадку и через несколько дней умер. Ермолай почти все время только тем и занимался, что слушал Каллисфена, и нередко пренебрегал службой.
В конце концов, царь объявил, что те, кто не желает воздавать ему подобные почести, могут не делать этого. Однако такое решение не принесло покоя его землякам. Им было противно смотреть, как Александр принимает «низкопоклонство» от азиатов, для которых этот жест казался естественным и подобающим. Многие продолжали тайком клеймить царя как заносчивого тирана, ослепленного властью и непомерной удачей.
К несчастью, недовольство не ограничилось ворчанием и перешептыванием. Созрел еще один заговор с целью цареубийства. И на сей раз заговор затеяли самые юные, ближе всех допущенные к царской особе — те, кому доверили охранять сон царя.
После того как войско вернулось в Бактру, во время развлечения и веселья, на охоте на кабана, произошло неприятное событие. Ермолай как старший над своими товарищами скакал совсем рядом с царем. Внезапно, преследуемый Перитасом и прочими собаками, из кустов выбежал кабан и бросился на него. Александр занес дротик, чтобы поразить зверя, но Ермолай, увлеченный охотничьим пылом, ударил первым и свалил зверя, опередив царя.
Это был тяжелейший проступок, признак высокомерия и полного презрения к традициям и придворному протоколу. В подобных случаях только сам царь мог назначить телесное наказание оруженосцу, или командиру, или любому иному виновному, и Александр воспользовался этой прерогативой: он велел связать юношу и дать ему розог.
Это было суровое наказание, но в обычаях македонского двора подобное считалось нормальным. Всех мальчиков наказывали так, и не только Леоннат до сих пор носил на спине следы розог, но и Гефестион, и Лисимах не раз расплачивались за свою недисциплинированность по приказу царя Филиппа, принимая кару от руки Леонида или своего учителя военного дела. Традиционно наказание являлось заодно и упражнением в преодолении боли, способом приучения к послушанию, закалкой души и тела. В Спарте порка мальчиков практиковалась вообще без цели наказания, а просто для воспитания в них отваги, самопожертвования и выносливости.
Однако Ермолай счел себя жертвой беспричинно жестокого унижения и несправедливости и с того дня затаил такую глубокую злобу на царя, что стал вынашивать план убийства. Было бы нетрудно убить Александра во сне. Однако требовался помощник, который помог бы убийце скрыться. Одержимый лихорадочной мыслью о свободе, Ермолай не сознавал, что он не афинский гражданин, долг которого — защищать демократию родного города от тирана, а всего лишь македонский оруженосец на службе своему царю в дальних краях, среди всевозможных опасностей. Уроки Каллисфена о демократии не шли ему впрок. Кроме того, он не сознавал, что Каллисфен тоже кормится из рук Александра, получая от царских щедрот хлеб, одежду и кров.
Со свойственной подросткам безрассудностью Ермолай поделился своими планами с другом по имени Епимен, а тот рассказал одному товарищу, которому слепо доверял, некоему Хариклу, который в свою очередь рассказал брату Епимена Еврилоху, а тот, испугавшись, попытался всеми способами их отговорить.
— Вы с ума сошли? — сказал он однажды, когда все они собрались в шатре. — Вы не можете сделать подобного.
— Еще как сможем! — ответил Ермолай. — И освободим весь мир от зверя, от ненавистного тирана.
Еврилох покачал головой:
— Ты сам был виноват: ты же прекрасно знаешь, что первый удар наносит царь.
— Он чуть не упал с коня, как он мог нанести удар?
— Болван! Александр никогда не падает. И все равно, как ты мог задумать такое? По-твоему, это так легко — убить царя?
— Конечно. Думаешь, как умер царь Филипп, бывший куда лучше нынешнего? И злоумышленника так и не нашли.
— Но здесь мы одни, а вокруг варвары и пустыня. Нас разоблачат тут же. И потом, если хочешь знать, о тебе и Каллисфене уже ходят слухи, что вы ведете себя подозрительно. Кто-то тебя подслушал, когда ты спрашивал его, как стать самым знаменитым человеком в мире, и он тебе ответил: «Убить самого могущественного человека в мире». Вам обоим еще повезло, что эти слова не дошли до ушей царя, но нельзя долго нарываться безнаказанно. — Он обратился к Епимену: — Что касается тебя, тут достаточно одного: как твой старший брат я велю тебе порвать с этими бессовестными. А вы ведите себя почтительно, и, возможно, эти слухи понемногу исчезнут.
Ермолай пожал плечами.
— Я делаю, что хочу, и если ты не желаешь помочь мне, это не меняет дела: у меня найдутся другие друзья. Это же раз плюнуть.
Он плюнул Еврилоху под ноги, еще раз пожал плечами и вышел.
Юноши-заговорщики решили подождать, когда Александр с войском выступит против мятежников, чтобы его смерть показалась делом рук проникших в лагерь врагов.
Когда царь покидал дворец в Бактре, Роксана крепко обняла его.
— Не уходи!
— Ты делаешь большие успехи в греческом, — ответил Александр. — Когда выучишь его, я научу тебя также македонскому диалекту.
— Не уходи! — повторила Роксана с тревогой. Александр поцеловал ее.
— Но почему я не должен уходить?
Девушка со слезами на глазах посмотрела на него и проговорила:
— Два дня. Вижу… мрак.
Царь покачал головой, словно отгоняя неприятную мысль; потом вестовые облачили его в доспехи и проводили во двор, где уже ждали всадники, готовые к отправлению.
Прошло два дня, и Александр, встревоженный предсказанием, поговорил с Аристандром.
— Что, ты думаешь, может это означать?
— Женщины здесь занимаются гаданием и магией, они обладают способностью чувствовать угрозу, растворенную в воздухе. А, кроме того, Роксана тебя любит.
— И что же мне делать?
— Не спи сегодня ночью. Читай, пей вино, но ни на мгновение не теряй ясности мыслей. Ты должен оставаться начеку.
— Сделаю, как ты говоришь, — ответил Александр и стал ждать наступления темноты.
ГЛАВА 50
Птолемей увидел, как в шатре Александра зажегся огонь, и зашел туда. Двое дежурных оруженосцев отдали ему салют.
— Что это ты еще не спишь в такой час? — спросил он. — Уже вторая стража.
— Не спится. Вот, читаю. Птолемей мельком глянул.
— «Индия» Ктезия. Ждешь не дождешься, да?
— Да. А когда завоюем Индию, можно будет сказать, что вся Азия в нашей власти. Тогда вернемся назад и начнем перестраивать мир, Птолемей.
— Ты в самом деле веришь, что мир можно перестроить? Что подобный проект действительно выполним?
Александр оторвал глаза от свитка, что держал перед собой.
— Да, верю. Ты уже не помнишь того вечера в святилище Диониса в Миезе?
— Помню. Мы были юнцами, полными энтузиазма, надежд, мечтаний…
— Эти юнцы завоевали величайшую державу на земле, две трети мира! Они основали в сердце Азии десятки городов с греческой культурой и порядками. Думаешь, все это произошло случайно? Думаешь, это не имело смысла, цели?
— Хотелось бы верить. Во всяком случае, ты всегда можешь рассчитывать на мою дружбу. Я никогда тебя не брошу, в этом можешь быть уверен. А в остальном… иногда я сам не знаю, что и думать…
Тут вошел Ермолай. Перитас зарычал, и Птолемей обернулся к юноше:
— Этой ночью твоя смена?
— Да, гегемон, — ответил тот.
— Тогда почему же тебя до сих пор не было?
— Царь еще не спал, и я не хотел ему мешать.
— Ты мне не мешаешь, — сказал Александр. — Можешь оставаться, если хочешь.
Юноша сел в углу шатра. Птолемей посмотрел на него, потом перевел взгляд на Александра — и ощутил какую-то странность, неосязаемое напряжение в воздухе, некую затаившуюся энергию.
— Это тот юноша, которого на днях наказали после охоты, — сказал Александр.
— Ты обиделся? — спросил Птолемей оруженосца, увидев, что тот помрачнел. — О, не стоит. Знал бы ты, сколько меня наказывали в твои годы! Царь Филипп лично давал мне пинков под зад и тоже однажды велел высечь, когда из-за меня захромал его конь. Но я не принимал этого близко к сердцу, потому что он был великий человек и делал это для моего же блага.
— Времена изменились, — заметил Александр. — Эти юноши не похожи на нас. Они… другие. А может, это мы стареем. Мне тридцать, подумать только!
— Что и говорить, для меня эти годы пролетели в одно мгновение. Ладно, продолжу свой обход. Можно взять собаку? Составит мне компанию.
Перитас завилял хвостом.
— Возьми, пусть немного подвигается, а то жиреет.
— Тогда я пошел. Если понадоблюсь, зови.
Александр кивнул и вновь погрузился в чтение, то и дело отхлебывая из стоящего на столе кубка.
Ермолай молча сидел перед ним, сжав челюсти и опустив глаза. Царь иногда отрывался от свитка и смотрел на него с загадочным выражением на лице. И вдруг проговорил:
— Ведь ты ненавидишь меня, правда? За то, что я велел тебя высечь.
— Неправда, государь. Я…
Но было видно, что он лжет. Царь убедился в том, что этот юноша коварен, так как не нашел в себе ни мужества проявить свою ненависть, ни силы отказаться от нее.
— Ладно, неважно.
Так прошла почти вся ночь — холодная, пустая, бесполезная. Приближался час смены караула. Близился рассвет. Ермолая терзали сомнения, и он не отрывал глаз от царя, который то и дело склонял голову, словно сморенный сном.
Еврилох тоже всю ночь не ложился, сознавая, что все три оруженосца в карауле — заговорщики. Он был уверен, что они решили действовать, тем более что командующий Птолемей обычно забирал с собой Перитаса, совершая обход караулов. Но потом, видя, что свет в царском шатре все не гаснет и царь не спит, хотя нет никакой непосредственной опасности вражеского вторжения, Еврилох пришел к убеждению, что там происходит нечто страшное. Может быть, Александр все узнал… Или Ермолай и прочие нападут перед самым рассветом. Он подумал, что этих бессовестных можно спасти только одним: если рассказать кому-то о заговоре. И как раз в этот момент он увидел Птолемея, завершавшего свой обход. Еврилох решил подойти к нему:
— Гегемон…
— В чем дело, мальчик?
— Я… Нам нужно поговорить.
— Я тебя слушаю.
— Не здесь.
— Тогда пошли в мой шатер. — Он провел оруженосца с собой и велел войти. — Ну? Что за таинственность?
— Выслушай меня, гегемон, — начал Еврилох. — Мой брат Епимен, Ермолай и другие юноши… Как бы это сказать… Им пришла в голову странная мысль… Ты знаешь, что Ермолай с моим братом и несколькими товарищами бывает у Каллисфена, и тот забил им голову всякими глупостями насчет демократии и тирании, и вот…
— И что? — спросил Птолемей, нахмурив брови.
— Они всего лишь мальчишки, гегемон, — продолжил Еврилох, не в силах сдержать слезы. — Возможно, в этот раз они отказались от своего плана… Может быть, царь что-то заподозрил… Не знаю… Я решил поговорить с тобой, чтобы ты напугал их… чтобы они больше и не думали ни о чем таком. Это все Каллисфен, понимаешь? Сами они никогда бы не додумались. Хотя царь и велел высечь Ермолая за того кабана, не знаю, пришло бы ему… Хотя кто знает…
— О великий Зевс! — не выдержал Птолемей и крикнул: — Перитас, беги, беги к Александру!
Пес бросился вперед и ворвался в царский шатер, когда его хозяин собирался задремать за столом, а Ермолай тихонько засунул руку за пояс, под хитон. Перитас повалил парня на землю и схватил зубами сжимавшую кинжал руку.
Тут же вбежал Птолемей и еле успел удержать пса за ошейник, пока тот не откусил юноше руку. Александр, от этого шума моментально стряхнув дремоту, вскочил и схватился за меч.
— Они хотели тебя убить, — тяжело дыша, сказал Птолемей, отобрав у Ермолая кинжал.
Юноша, вырываясь, кричал:
— Проклятый тиран! Кровавое чудовище! У тебя руки в крови! Подлый убийца, ты убил Пармениона и Филота!
Два других караульных оруженосца, стоявшие снаружи, попытались улизнуть, но Птолемей громким голосом позвал трубача и велел трубить сигнал тревоги. Пытавшихся сбежать юношей тут же задержали «щитоносцы». Еврилох, плача, умолял:
— Не трогай их, гегемон! Не причиняй им зла. Они ничего не сделали, клянусь! Отдай их мне, я накажу их, я изобью их в кровь, но не причиняй им зла, прошу тебя!
Александр вышел, бледный от бешенства, а Ермолай продолжал громко выплевывать всевозможные оскорбления ему вслед. Посреди лагеря уже было полно солдат, сбежавшихся со всех сторон.
— Чего заслуживают эти люди, государь? — ритуальной фразой вопросил Птолемей.
— Пусть их судит войско, — ответил Александр и удалился в свой шатер.
Тут же собрались военные судьи, и оруженосцев подвергли допросу. Их допрашивали целый день и всю ночь, устраивали им очные ставки, ловили на противоречиях, били и пороли, пока они во всем не сознались. Никто из них даже под пытками не назвал имени Каллисфена, но Еврилох, которого не тронули, так как он спас царю жизнь, продолжал утверждать, что эти юноши не задумали бы ничего такого, если бы Каллисфен не растлил их своими идеями. И до последнего он продолжал умолять, чтобы их пощадили.
На рассвете следующего дня, хмурого и дождливого, виновных забросали камнями.
Евмен, присутствовавший как на суде, так и на казни, вошел в шатер к Каллисфену и увидел, что тот весь трясется, бледный, как мертвец, и в тревоге заламывает руки.
— Кто-то назвал твое имя, — сказал ему секретарь. Каллисфен со стоном упал на табурет.
— Значит, все кончено, да?
Евмен не ответил.
— Для меня все кончено, верно? — крикнул историк громче.
— Твои фантазии обретают плоть, Каллисфен. Они облеклись в плоть этих мальчиков, которые сейчас лежат под кучей камней. Такой человек, как ты… Разве ты не знал, что словом можно убить больше людей, чем мечом?
— Меня будут пытать? Я не выдержу, не выдержу. Они заставят меня сказать все, что захотят! — прорыдал Каллисфен.
Евмен кивнул в замешательстве.
— Мне очень жаль. Я лишь хотел тебе сказать, что скоро за тобой придут. У тебя не много времени.
И ушел под проливным дождем.
Каллисфен в отчаянии огляделся, ища какое-нибудь оружие, какой-нибудь клинок, но вокруг были одни папирусные свитки, его труды, его «История похода Александра». Потом вдруг ему вспомнилась одна вещь, которую давно следовало уничтожить. Историк подошел к скамье с ящиком, пошарил, замирая от страха и тревоги, и, наконец, сжал в пальцах железную шкатулку. Там лежал завернутый в ткань свиток и стеклянная бутылочка с белым порошком. На папирусе было написано:
Никто не может уследить за развитием болезни. Но это средство дает те же симптомы.
Одна десятая лептона[21]вызывает тяжелую лихорадку, рвоту и понос в течение двух или трех дней. Потом наступает улучшение, и кажется, что больной на пути к выздоровлению. На четвертый день лихорадка возвращается со страшной силой, и вскоре наступает смерть.
Каллисфен сжег записку, а потом проглотил все содержимое бутылочки. Когда пришла стража, историка нашли лежащим навзничь среди свитков «Истории» с полными ужаса, широко раскрытыми, уставившимися в одну точку глазами.
ГЛАВА 51
Отчетливо вырисовывалось побережье Фокиды, выступая из вечерней дымки, а тучи на небе и морские волны горели в свете заката. Ветерок легко гнал судно через Эгинский залив. Аристотель прошел на нос корабля, чтобы посмотреть, как причаливает судно, и вскоре сошел на небольшой Итейский пирс, где толпились швартовщики, грузчики и торговцы священными предметами.
— Хочешь барана, предложить в жертву богу? — спрашивал один. — Здесь он вдвое дешевле, чем в Дельфах. Посмотри на этого ягненка: всего четыре обола. Или пару голубей?
— Мне нужен осел, — ответил философ.
— Осел? — ошарашено переспросил торговец. — Ты, должно быть, шутишь: кто предлагает богу осла?
— Я вовсе не собираюсь приносить его в жертву. Я собираюсь на нем ехать.
— А, это меняет дело. Если так, смотри: у меня есть друг — погонщик ослов, у него много послушной и спокойной скотины.
Торговец сразу увидел, что перед ним ученый, книжный человек, наверняка мало склонный к верховой езде.
Они договорились о цене за три дня пользования и о залоге, и Аристотель в одиночестве отправился к святилищу Аполлона. Час был уже поздний, а народ обычно предпочитал подниматься в рощу роскошных серебристых олив утром, при свете, но не в сумерках, когда вековые стволы превращаются в угрожающие фигуры. Спокойный шаг осла способствовал неспешным размышлениям, а последнее тепло опускавшегося к морю солнца согревало руки, озябшие от вечернего ветра, который, наверное, прилетел с первого снежка на горе Китерон.
Философ думал о долгих годах, в течение которых он, не переставая, расследовал убийство царя Филиппа, преследуя ускользающую обманчивую истину.
Известия, приходящие из Азии, огорчали: Александр, похоже, забыл уроки своего учителя, по крайней мере те, что касались политики. Он ставил варваров на одну доску с греками, одевался, как персидский деспот, требовал «низкопоклонства» и верил слухам, распространяемым его матерью Олимпиадой, о своем божественном происхождении.
Бедный царь Филипп! Но такова уж судьба: все великие люди — Геракл, Кастор и Полидевк, Ахилл, Тезей — называют себя отпрысками какого-нибудь бога или богини… Александр не мог стать исключением. Да, это можно было предвидеть. И все-таки, несмотря на все это, Аристотелю не хватало Александра, и он бы все отдал, чтобы снова повидаться и поговорить с ним. Кто знает, как он там? Сохранил ли забавную привычку склонять голову к правому плечу, когда слушает или читает берущие за душу слова?
А Каллисфен? Пишет, несомненно, бойко, хотя ему и немного недостает критицизма. А вот со здравым смыслом у него и впрямь плохо. Кто знает, как он выпутывается из экстремальных положений в недоступных местах, среди диких народов, в лабиринте интриг кочующего двора, непостоянного и оттого еще более опасного. Известий от племянника не приходило уже несколько месяцев, но, конечно, почте нелегко преодолевать столь обширные пространства с пустынями и плоскогорьями, бурными реками и горными хребтами…
Философ ударил пятками своего осла, желая добраться до вершины прежде, чем стемнеет. Ах да, убийца… Должно быть, изощренный злобный ум, раз до сих пор он смеется над философом и всеми прочими. Первый след привел к царице Олимпиаде, но подозрение оказалось маловероятным: вряд ли жена Филиппа совершила бы такой демонстративный жест — увенчала труп исполнителя убийства. К тому же у царя было много друзей, и она могла дорого заплатить за подобную выходку, тем более, будучи иностранкой и потому вдвойне уязвимой и беззащитной. Затем Аристотель развивал гипотезу о преступлении, связанном со страстью, — историю о мужеложстве, в которой Павсаний, убийца, отомстил Филиппу за оскорбление, понесенное от Аттала, недавно ставшего царским тестем, отца молоденькой Эвридики. Но теперь Аттал мертв, а мертвые не делятся сведениями.
Равномерный стук ослиных копыт по каменистой дороге сопровождал раздумья философа, словно задавая спокойный ритм его мыслям. Ему вспомнилась беседа с невестой Павсания на могиле холодным зимним вечером. И вот третья гипотеза: как только последняя жена Филиппа, юная Эвридика, родила сына, ее отец Аттал измыслил дерзкий план — убить Филиппа и объявить себя регентом при внуке, который по достижении зрелости должен взойти на престол. Такой замысел мог иметь известные шансы на успех, поскольку мать ребенка, в отличие от Олимпиады, была чистокровной македонянкой. И совершенно логично план завершался убийством Павсания, единственного свидетеля заговора. Но это так и осталось недоказанным предположением, поскольку Аттал после смерти Филиппа никак не попытался захватить власть. Возможно, он бездействовал из страха перед Парменионом. Или Александром?
Но в таком случае как объяснить слова невесты Павсания? Она была, несомненно, хорошо осведомлена и, похоже, верила, что ее возлюбленного изнасиловали подручные Аттала, что не имело никакого смысла, если тот был наемным убийцей. Философ пытался разыскать эту девушку снова, но ему сказали, что она куда-то пропала и о ней давно нет никаких известий.
Оставался последний след, ведший в Дельфийский храм, — святилище, выдавшее двусмысленное предсказание насчет неминуемой смерти Филиппа. Предсказание сбылось. И неподалеку оттуда под вымышленным именем жил человек, убивший Павсания, единственного свидетеля, который мог вновь привести Аристотеля к вдохновителям заговора.
Философ обернулся. Последний луч заката окрасил пурпуром воду залива меж двух мысов, а в вышине слева храм Аполлона мерцал отсветами огней, горящих на треножниках и в лампадах. В прозрачной тишине вечера послышалась нежнейшая песня:
Все, он на месте. Аристотель привязал осла к кольцу у фонтана и пешком направился по священной дороге между маленьких храмов, что воздвигли некогда афиняне, сифнийцы [22], фиванцы, спартанцы. Все они полнились трофеями в честь кровавых побед над братьями, все принесены сюда греками, убивавшими греков. Глядя на них, философ словно услышал, что бы сказал Александр, окажись он здесь в данный момент.
Из храма выходили последние паломники, и сторож уже собирался запереть дверь пустого святилища, но Аристотель попросил его подождать:
— Я приехал издалека и завтра до рассвета должен отправиться дальше. Заклинаю тебя, удели мне всего одно мгновение! Позволь вознести молитву богу и задать неотложный вопрос, так как я стал жертвой страшного чародейства и меня преследует проклятье, — и протянул ему монету.
Сторож опустил ее в кошель со словами:
— Ладно, но только поскорее, — и принялся подметать ступеньки крыльца.
Аристотель вошел и сразу скользнул в полумрак бокового нефа. Он быстро прошел вдоль стены, рассматривая висевшие там сотни предметов, принесенных паломниками богу. Его вела интуиция, тень давнего воспоминания о том, как много лет назад, еще в детстве, он пришел в этот храм, держась за руку своего отца Никомаха. Тогда один предмет особенно привлек его взгляд. Это воспоминание вместе с подозрением и привело его в эти стены.
Философ дошел до конца; под перламутровым взглядом сидящего на троне бога перешел на другую сторону и там продолжил свой осмотр. Но ему не удалось различить ничего, что подтвердило бы изрядно выцветший образ, то давнее воспоминание. Было слишком темно. Тогда Аристотель взял висевшую на колонне лампу, прислонил ее к стене, и на лице его отразилось торжество: да, он не ошибся! Перед ним на стене еле вырисовывался выцветший от времени след предмета, провисевшего там многие годы.
Философ огляделся, убеждаясь, что рядом никого нет; потом одной рукой поднял лампу, а другой вытащил из сумы кельтский кинжал, которым убили царя Филиппа, и медленно, почти со страхом, поднес к отпечатку на стене. Кинжал совпал с ним в точности!
В стене еще оставались две заклепки, которым соответствовали изгибы рукояти, как усики бабочки, и Аристотель повесил кинжал на место.
— Ну, закончил свои молитвы? — раздался снаружи голос сторожа. — Мне пора закрывать.
— Иду, иду, — ответил философ и поспешно вышел, осыпая сторожа благодарностями.
Он провел ночь в портике, завернувшись в свой плащ, как и все прочие паломники, но спал мало. Амфиктиония [23]! Возможно ли такое? Возможно ли, что самое почитаемое святилище в греческом мире спровоцировало убийство царя Филиппа? Эта тень на стене могла быть всего лишь странным совпадением. Возможно, он любой ценой хотел отыскать разгадку тайны, многие годы бросавшей вызов его уму. Однако эта гипотеза была единственной, содержащей объективное доказательство: кинжал, орудие цареубийства, был взят из храма! И, в конце концов, гипотеза была логичной: могла ли духовная власть, высшая во всем греческом мире, вечно подчиняться воле одного человека? И не глубочайшее ли это проявление рационализма — убить великого царя именно в тот момент, когда обвинить в преступлении можно было почти всех?
Афиняне видели в нем поработителя и узурпатора, отнявшего их главенство среди греков; фиванцы люто ненавидели его за побоище при Херонее; персы боялись вторжения в Азию; царица Олимпиада ненавидела супруга за унижения и за то, что он предпочел ей юную Эвридику; царевича Аминту Филипп лишил законного наследования престола. И даже Александр в какой-то степени оставался под подозрением. Да, подозрение падало на всех. А значит, ни на кого. Тонко. И момент был из тех, что оправдывают любое преступление: власть над думами людей гораздо сильнее и значительнее любой другой власти в мире и больше любой другой напоминает божественную.
Но оставалась последняя проверка: человек, убивший Павсания и работавший, по сведениям Аристотеля, в поместье, принадлежащем храму.
Философ встал еще затемно, взвалил на своего осла узел с пожитками и отправился в путь. Он спустился примерно на десять стадиев по дороге, ведущей к морю, свернул на горную тропинку, убегавшую влево, и вышел на маленькую площадку, вырытую в склоне вместе с террасами виноградарей.
Нужный дом, должно быть, вон тот, за виноградником, рядом со столетним дубом — убогая, крытая черепицей хижина с навесом, подпертым стволами олив.
Аристотель вошел на гумно, где несколько свиней с чавканьем поедали валявшиеся под дубом желуди, и позвал:
— Есть тут кто-нибудь? Эй, есть кто-нибудь?
Ответа не последовало.
Философ слез с осла и постучал в дверь, которая отворилась, впустив внутрь луч света.
Он был там. Он висел на веревке, привязанной к потолочным балкам.
Аристотель растерянно попятился, потом вскочил на своего осла и как можно скорее погнал его прочь.
Философ спешно вернулся в Афины и несколько дней никого не хотел видеть. Он уничтожал свои заметки и копии писем, посланных племяннику по поводу цареубийства. Из исследований он оставил лишь пустые, общие замечания и начал писать заключение: «Причина преступления, вероятно, кроется в грязной истории, касающейся сексуальных отношений между мужчинами…»
К концу месяца в его дверь постучал гонец и вручил объемистый пакет. Аристотель вскрыл его и увидел там несколько личных вещей Каллисфена, а также все отправленные ему письма. Кроме того, там находился свиток с печатью Птолемея, сына Лага, телохранителя царя Александра, командующего корпусом в македонском войске. Трясущимися руками философ развернул его и прочел:
Птолемей Аристотелю: здравствуй!
В четвертый день месяца элафеболиона[24]третьего года сто тринадцатой Олимпиады твой племянник Каллисфен, официальный историк похода Александра, был найден мертвым в своем шатре, и Филипп, царский врач, констатировал, что смерть наступила вследствие приема какого-то сильного яда.
Незадолго до этого несколько юношей-оруженосцев составили заговор с целью убить царя, и, несмотря на то, что никто из обвиняемых не дал на суде показаний против Каллисфена, все же некоторые возложили на твоего племянника моральную ответственность за этот преступный замысел. В самом деле, казалось странным, что без чьего-либо наущения столь молодые юноши додумались до попытки злодейски убить своего царя. Можно предположить, что именно по этой причине твой племянник прибег к самоубийству и таким образом избежал более тяжелого наказания.
Царь, обуреваемый противоречивыми чувствами, не захотел писать тебе сам и решил поручить это мне.
Я знаю, что это известие прибудет к тебе с большим запозданием, поскольку сейчас, когда я начал писать тебе, войско уже двинулось в поход через труднопроходимую местность с целью вторжения в Индию. Кроме того, я хотел послать тебе писарскую копию «Истории похода Александра», сделать которую распорядился сам Каллисфен. К сожалению, печальный исход жизни твоего племянника оставил его труд неоконченным.
Я решил известить тебя о том, что случилось до настоящего момента, и описать наиболее примечательные эпизоды похода на Индию, если ты захочешь завершить сочинение Каллисфена, как сам сочтешь уместным.
Я бы также хотел рассказать одну историю, которая может показаться тебе интересной. В нашем лагере жил один человек из Элиды по имени Пиррон[25].Он начал свою карьеру бедным художником, почти никому не известным, и следовал за нашим войском, надеясь немного заработать. Но в последние годы он встречался с магами из Персии, а потом с индийскими мудрецами. Он часто захаживал к Каллисфену. И этот человек выводит из своего опыта новый способ мышления, о котором, насколько я понимаю, может распространиться немалая слава.
Надеюсь, мое письмо застанет тебя в добром здравии. Береги себя.
ГЛАВА 52
Только к концу месяца, с началом первых холодов, Аристотель решился прочесть доклад Птолемея, краткое, но яркое изложение событий, способное послужить основой для продолжения Каллисфенова труда.
Войско двинулось через Паропамис, или Индийский Кавказ, как некоторые предпочитают называть эти горы, и преодоление его стоило тяжелых жертв. Холод на перевале стоял такой, что однажды ночью всех часовых нашли мертвыми. Они так и стояли, прислонившись к деревьям на своих постах с открытыми глазами, с обледеневшими усами и бородами. Александр еще раз проявил глубокую человечность. Увидев одного ветерана, на исходе сил дрожавшего от холода, он велел принести свой деревянный трон и сжечь его, чтобы солдат мог согреться. Через девять дней такого похода мы прибыли в город Низа, где, по утверждению местных жителей, бывал Дионис, когда скитался по пути в Индию. В доказательство они приводили тот факт, что название здешней горы Мерос по-гречески означает «бедро», а ведь Дионис родился из бедра Зевса. Кроме того, говорят, что это — единственное место в Индии, где растет плющ, священное растение Диониса.
Все здесь увенчивают себя плющом и устраивают великие праздники и оргии, пьют, танцуют комос и кричат «Эвоэ!».
Войско разделилось на два контингента. Один, доверенный Гефестиону и Пердикке, спустился по долине реки на плоскогорье до ее впадения в Инд, чтобы построить там мост. Другой, в котором остался и я с царем и другими товарищами, совершил переход к верхнему течению Инда, чтобы покорить города, расположенные в тех долинах, — Массагу, Базиру и Ору, которые пали после нескольких штурмов. Самый большой из тамошних городов — Аорн; он имеет более двадцати миль в окружности, расположен на высоте восьми тысяч футов и защищен со всех сторон рвом и отвесной стеной.
Царь велел насыпать вал и пандус, и я ночью занял позицию на передовом посту, откуда мог угрожать городу в одном из уязвимых мест. Индийцы защищались с великой отвагой, но, в конце концов, тараны пробили брешь в стене, и войско ворвалось внутрь. Мы объединили два отряда и взяли город после одновременной атаки. Александр предложил индийцам вступить в его войско наемниками, но они предпочли спастись бегством, чтобы не сражаться против своих братьев.
В этих городах мы захватили несколько слонов, к которым Александр очень привержен. Это замечательные животные огромных размеров с большими торчащими изо рта клыками. Они могут переносить на спине башни с вооруженными воинами, а правит слоном человек, сидящий у него на шее. Если в бою такого возницу убивают, слон теряет ощущение направления и не знает, куда идти.
Индийцы высоки ростом, и у них самая темная кожа из всех народов, не считая эфиопов; они очень отважны в бою. Завоевав Аорн, царь оставил там гарнизон, а правителем назначил индийского принца, который раньше поддерживал Бесса, а потом перешел на нашу сторону. На местном языке его имя Сашагупта, а греки называют его Сисикотт. В Аорне мы взяли двести пятьдесят тысяч быков, из которых выбрали самых сильных и красивых, чтобы послать в Македонию — пахать поля и улучшать породу. Александр велел построить лодки и даже два корабля с двадцатью пятью парами весел, и мы начали спуск по течению Инда, реки огромной и судоходной, насколько мне известно, почти по всей своей длине.
Так мы прибыли в место, где Пердикка и Гефестион закончили строительство моста близ одного города, называемого Таксила. В этом городе нас встретили приветливо. Тамошний царь, индиец по имени Таксил, предложил Александру двадцать пять слонов и триста талантов серебра. Золота там, по всему видно, мало. Что касается легенд, согласно которым в этих землях гигантские муравьи добывают в горах несметное количество золота, а потом отдают его под охрану крылатым грифонам, то я не нашел этому никаких достоверных подтверждений и думаю, что следует считать эти рассказы лишенными каких-либо оснований.
Оттуда мы выступили по реке Гидаспу, первому из притоков Инда, широкому и бурному после прошедших в горах сильных дождей. На другом берегу находился индийский царь по имени Пор с многочисленным войском: тридцать тысяч пехоты, четыре тысячи конницы, триста боевых колесниц и двести слонов. Переправа была невозможна, так как Пор непрестанно передвигался, мешая нам. Тогда Александр отдал приказ своим войскам идти без остановки, даже ночью, с криками и страшным шумом, чтобы сбить противника с толку. В конце концов, Пор решил разбить лагерь и ждать нас там.
Мы оставили напротив него Кратера с некоторым числом солдат, а сами вместе с Александром, гетайрами, конными лучниками, агрианами и тяжелой пехотой поднялись вверх по реке. Тем временем разыгралась страшная гроза, гром гремел оглушительно, сверкали молнии. Непогода задержала индийцев и не позволила им разослать дозоры по берегу Гидаспа. Переправа оказалась крайне тяжелой, и осуществить ее удалось лишь благодаря острову посреди реки. Люди переходили брод по грудь в воде, а лошади погружались по холку. Хотя после Гавгамел Александр и дал слово больше не водить Букефала в бой, но в данном случае решил оседлать его. Лишь его размеры помогли одолеть вражеских всадников, скакавших на резвых, но более низкорослых конях.
На рассвете Пор узнал, что македонские войска форсировали реку, и послал на них своего сына с тысячей всадников. Мы опрокинули их первой же атакой. Сам юноша был убит. Тогда Пор понял, что этой ненастной ночью сам Александр перешел Гидасп, и двинулся на него со всем войском. Индийцы выставили впереди боевые колесницы, за ними расположили слонов, а за слонами — пехоту; конница разместилась на флангах. Сам Пор, настоящий гигант, восседал на огромном слоне. Как только завязался бой, он повел своих воинов в атаку.
Первыми двинулись колесницы, но размокшая от дождя земля замедлила их бег, и нашим конным лучникам удавалось издали расстреливать возниц.
Одолев линию колесниц, Александр бросил в атаку стоявшую на флангах конницу, связав индийских всадников яростным рукопашным боем. Индийцы сражались с большой отвагой. Тем временем Пор послал вперед, на наш центр, слонов, и эти огромные звери устроили в сомкнутых рядах фаланги настоящее побоище. Тогда Пердикка и Гефестион отдали приказ расступиться и пропустить слонов, а тем временем Лисимах стал стрелять из катапульт, которые, наконец, удалось собрать после переправы через реку. Мы послали в атаку на этих чудовищ также конных лучников и метателей дротиков. Пешие лучники начали стрелять по погонщикам, поражая их одного за другим. Обезумев от боли и страха, слоны стали неуправляемыми и разбежались в разные стороны, не различая друзей и врагов и одинаково топча всех.
Выведя слонов из боя, Пердикка перестроил фалангу и двинул ее в атаку с громким воинственным криком, чтобы возбудить своих воинов. Сам он шел в первом ряду. Пор продолжал наступать. Он сражался с невероятной энергией. Его слон шагал неодолимо, как фурия, сметая все на своем пути, его ноги были по колено в крови, а Пор, закованный в непробиваемые доспехи, метал десятки дротиков с силой катапульты.
Бой бушевал восемь часов подряд без передышки, и, в конце концов, Александру, возглавившему «Острие» на правом фланге, и Кену, возглавлявшему левый фланг, удалось обратить в бегство вражескую конницу и сойтись в центре. Окруженные со всех сторон индийцы сдались, а сам Пор, раненный в правое плечо — единственное место, не защищенное доспехами, — начал шататься.
Нельзя было без волнения смотреть, как слон, заметив, что его хозяин попал в беду, замедлил ход и остановился, а потом опустился на колени, чтобы позволить Пору медленно соскользнуть на землю. Видя, что тот растянулся на земле, слон попытался вытащить у него из раны дротик. Погонщики увели животное прочь, так что индийского царя смогли доставить к нашим хирургам, чтобы те позаботились о нем.
Александр изъявил желание встретиться с Пором, как только тот будет в состоянии держаться на ногах. На македонского царя произвела впечатление гигантская фигура индийца. Ростом он более шести футов, а его сверкающие стальные доспехи покрывали все тело, как вторая кожа. Сначала к Пору послали в качестве толмача царя Таксила, но индийский царь попытался убить его, как предателя. Тогда Александр явился к нему лично с другим толмачом и приветствовал побежденного врага с большим уважением. Царь похвалил его за доблесть и выразил сожаление по поводу потери обоих сыновей, павших в бою. Под конец он спросил:
— Как ты хочешь, чтобы с тобой обращались?
И тот ответил:
— Как с царем.
И с ним обращались как с царем: Александр позволил ему править всеми индийскими землями, что он завоевал до сих пор, и оставил ему его дворец.
Но радость от столь тяжелой и доставшейся с таким трудом победы, вырванной, если можно так выразиться, у почти сверхчеловеческого врага в бою со страшными чудовищами, омрачилась печальным событием, ввергшим царя в глубочайший ужас. Букефал, раненный во время битвы и захромавший после столкновения со слоном, через четыре дня мучений умер.
Царь оплакивал его, словно близкого друга. Он оставался с конем, пока тот не испустил последнее дыхание. Я присутствовал при этом и видел, как царь нежно гладил коня и что-то тихо говорил ему, вспоминая все перенесенные вместе испытания, а Букефал слабо ржал, как будто хотел ответить. По лицу царя текли слезы — он сотрясался от рыданий, когда его верный конь вздохнул в последний раз и затих.
Александр велел возвести для Букефала каменную гробницу и основал в его честь город, названный Александрия Букефалея. Такой чести не удостаивался ни один конь, даже самые знаменитые победители на состязаниях колесниц в Олимпии. Но ты знаешь, что в этой гробнице Александр похоронил часть своего сердца и самый счастливый период ушедшей молодости.
Близ поля боя, где он разбил Пора, Александр основал еще один город под названием Александрия Никея, в память о победе. Там он устроил игры и принес жертвы богам. Оттуда мы направились на восток, воодушевленные Пором, который дал нам пять тысяч своих солдат, и вышли на берег Акесина, второго притока Инда, весьма быстрого и бурного. Вода здесь пенится, вскипая на камнях. Многие из наших лодок разбились о скалы и пошли на дно вместе с находящимися на борту людьми. Но потом нашлось место, где река расширяется и течение замедляется, и нам удалось перейти. Мы захватили шестьдесят городов, из которых, по крайней мере, половина имеет свыше пятидесяти тысяч жителей, и, наконец, остановились под стенами города Сангалы, стоявшего на берегах Гидраота.
Не знаю, что ждет нас дальше, если мы возьмем и этот город и перейдем и эту реку. Далее расстилается пустыня, а за ней начинается непроходимый лес; а за ним — другие могучие царства с сотнями тысяч воинов. Наши устали уже невыносимо. В лесах ползают змеи ужасающих размеров, настоящие чудовища; одну из них Леоннат убил ударом топора, и ее длина оказалась шестнадцать локтей.
Аристотель горестно вздохнул. Шестнадцать локтей! Он встал на ноги, чтобы измерить эту длину шагами, и ему пришлось выйти за дверь, так как помещение, где он находился, оказалось недостаточно длинным. Потом он вернулся и продолжил чтение.
Здешние земли очень плодородны, но со всех сторон их окружает лес, и в некотором смысле они как будто в осаде. Повсеместно водится большое количество обезьян всевозможных размеров; они обладают любопытным обыкновением подражать всему, что видят. У некоторых взгляд настолько выразительный, что представляется человеческим, как можешь видеть сам.
Рядом с этими словами Птолемей поместил сделанный угольком рисунок одной из тех обезьян — вероятно, работу выполнил искусный художник, так как взгляд обезьяны действительно глубоко поразил философа и его охватило странное, неспокойное чувство.
Здесь есть деревья невероятных размеров, индийцы называют их баньян. Высотой они достигают шестидесяти локтей и такие толстые, что пятьдесят человек не могут обхватить ствол. Один раз я видел, как более пятисот человек скрывались от солнца в тени такого гиганта.
Здесь также водятся змеи. Некоторые похожи на бронзовую ветку, другие темного цвета и расширяются у шеи в виде капюшона с двумя пятнами, похожими на глаза. Если такая укусит, умрешь почти сразу же в страшных мучениях, покрывшись кровавым потом. Встретившись с этими тварями в первый раз, мы не спали всю ночь, боясь, что они укусят нас во сне, но потом стали разводить огонь вокруг лагеря, а местные жители научили нас пользоваться определенными травами в качестве противоядия.
И все же эти змеи более опасны, чем тигры, которыми также изобилуют здешние непроходимые леса, потому что от последних, говорят, можно защититься хорошим мечом и дротиком. Тигр больше льва, и шкура у него великолепных цветов, с желтыми и черными полосами, а его рыканье по ночам сотрясает воздух на огромном расстоянии. Я никогда не встречал ни одного, но видел шкуру и потому могу описать этого зверя.
Сейчас я должен остановиться: из-за проливного дождя писать невозможно — от сырости все гниет. Люди болеют. Иные заканчивают свой век в пасти крокодилов — эти твари кишат повсюду, поскольку реки выходят из берегов и их воды затопляют деревни на тысячи и тысячи стадиев. Сам я не знаю, когда смогу пожить, как человек, а не как последняя скотина.
Только он словно не знает ни усталости, ни уныния, ни страха перед чем-либо. Он всегда идет впереди всех, прокладывая путь мечом среди зарослей, поддерживая тех, кто упадет, подбадривая уставших. И во взгляде его горит лихорадочный блеск, как давным-давно, когда я видел его выходящим из храма Амона в Ливийской пустыне.
Здесь рассказ Птолемея прерывался. Аристотель свернул свиток и положил на полку.
Он подумал о Каллисфене, и глаза его увлажнились. Эта его авантюра бесславно закончилась где-то на краю света, и, возможно, еще прежде яда его убил страх. Философ пожалел о племяннике, зная, насколько его мысли были сильнее его духа и как сильно не хватало ему мужества. Хотелось бы в последний момент оказаться рядом с ним и напомнить ему последние слова Сократа: «А теперь пора уходить: мне — чтобы умереть, а вам — чтобы жить…» Впрочем, возможно, охваченный ужасом, он бы даже не стал слушать.
Аристотель погасил лампу и, вздохнув, стал укладываться в пустой комнате, освещенной бледными лучами осенней луны. И ему подумалось: а испытывает ли жалость Александр?
ГЛАВА 53
Поднимая грязные брызги, Гефестион под проливным дождем подбежал к царскому шатру. Стража впустила его, и он приблизился к дымящейся, пышущей теплом жаровне. Александр вышел ему навстречу, а Лептина подала сухой плащ.
— Сангала сдается, — объявил Гефестион. — Евмен заканчивает подсчет убитых и раненых.
— Много?
— Увы. От тысячи до полутора. Несколько командиров. И ранен Лисимах, но, кажется, не очень тяжело.
— А у них?
— Семнадцать тысяч убитых.
— Побоище. Они оказали упорное сопротивление.
— Мы взяли множество пленных. А, кроме того, захватили триста боевых колесниц и шестьсот слонов.
Вошел Евмен, совершенно промокший.
— Окончательный итог: у нас пятьсот убитых, из которых сто пятьдесят македоняне и греки, и тысяча двести раненых. Лисимах серьезно ранен в плечо, но, судя по всему, опасности для жизни нет. Есть еще какие-либо распоряжения?
— Да, — ответил Александр. — Завтра отправляйся в два других города, что между Сангалой и рекой Гифасом. Возьми с собой нескольких пленников, пусть расскажут, что случилось в Сангале. Если в этих городах признают мою власть, новых убитых и новой резни не будет. А мы с остальным войском тем временем двинемся за тобой.
Евмен кивнул и, накрывшись плащом, вышел наружу. Весь лагерь озарялся вспышками молний, а гром гремел как будто над самым царским шатром.
— Пойду посмотрю за перемещением пленных, — сказал Гефестион. — Если получится, до ночи зайду еще раз — доложить.
Он приблизился к окружавшему лагерь частоколу, держа над головой щит, и увидел вереницу пленных, тащившихся между двумя рядами педзетеров, неподвижно стоящих под проливным дождем. Два всадника вели их к обширному огороженному участку у западных ворот. За загородкой стояли шатры, способные вместить чуть больше половины всего количества людей. Гефестион проследил, чтобы сначала приют нашли все женщины и дети, а потом велел разместить мужчин, которые в страшной тесноте, мокрые и грязные, сбились в кучу.
Он поднял глаза к небу, затянутому черными тучами. На горизонте непрерывно полыхали молнии. Беспросветное небо, непрестанный дождь. Что это за страна такая? И что-то еще окажется за той рекой, до которой Александр хочет добраться?
В это время среди мчащихся по небу туч мелькнула вспышка, такая яркая, что осветила все окрестности и сам город. Она выхватила какую-то призрачную фигуру: к открытым лагерным воротам поднимался полуголый человек, худой, как скелет. Озадаченный Гефестион приблизился к нему и крикнул сквозь оглушительные раскаты грома:
— Ты кто? Чего тебе надо?
Человек ответил что-то невразумительное, но не остановился. Он продолжал шагать между шатров, пока не оказался перед огромным баньяном, а там сел на пятки, сложил руки на животе, повернув ладони вверх и соединив большой и указательный пальцы правой руки, и замер так, наподобие статуи, под шум дождя.
Чуть подальше Аристандр под навесом маленького деревянного храма, который он велел воздвигнуть для защиты лагеря, приносил овцу в жертву богам, чтобы они прекратили дождь. Вдруг он ощутил сильную боль в затылке и услышал зовущий его издали голос.
Ясновидец быстро обернулся и увидел незнакомца, медленным уверенным шагом идущего через лагерь. Рядом не было никого другого, кто мог бы его окликнуть, и это глубоко озадачило Аристандра. Он вышел, натянув на голову плащ, и тоже направился к баньяну. Гефестион видел, как ясновидец попытался заговорить с неподвижным полуголым индийцем, а потом тоже сел на землю.
Гефестион покачал головой и, все так же держа щит над головой, зашагал к своему шатру, где получше вытерся и переоделся в сухое.
Дождь шел всю ночь. Страшно грохотал гром, молнии освещали деревья и хижины, на краткий миг, похищая их у темноты. Наутро выглянуло солнце, и когда царь вышел из шатра, то перед ним стоял Аристандр.
— Что случилось?
— Смотри. Это он. — Ясновидец указал на скелетоподобного голого человека, сидевшего под баньяном.
— Кто он?
— Тот голый человек из моего кошмара.
— Ты уверен?
— Я сразу его узнал. Он уселся там вчера вечером. И оставался в неизменном положении, неподвижный как статуя, всю ночь под бушевавшей непогодой, не дрогнув, не моргнув глазом.
— Кто он?
— Я спросил других индийцев. Никто его не знает.
Никто с ним не знаком.
— У него есть имя?
— Не знаю. Думаю, это самана, один из их философов мудрецов.
— Отведи меня к нему.
Увязая в жидкой грязи, покрывавшей весь лагерь, они приблизились к дереву и остановились перед таинственным пришельцем. Александру сразу вспомнился Диоген, голый философ, которого он встретил теплым осенним вечером, когда тот лежал, растянувшись перед своей амфорой, и теперь царь ощутил, как от волнения в горле встал комок.
— Кто ты? — спросил он.
Человек открыл глаза и уставился на него горящим взглядом, но не раскрыл рта.
— Ты голоден? Хочешь пойти в мой шатер? — Царь обернулся к Аристандру: — Скорее, пусть придет толмач.
Когда привели толмача, он повторил:
— Ты голоден? Хочешь пойти в мой шатер?
Человек указал на маленькую мисочку перед собой, и толмач объяснил, что бывают такие святые люди, аскеты, ищущие вечного невозмутимого покоя; они живут на милостыню, и им достаточно горстки вареного болотного зерна, ничего больше.
— Но почему он не хочет войти в мой шатер, обсушиться, согреться и досыта поесть?
— Это невозможно, — сказал толмач. — Это нарушило бы его путь к совершенству, к растворению в окружающем, к единственно возможному покою, к единственно возможному освобождению от страданий.
«Панта реи [26], — подумал Александр. — Идеи Гераклита… Все растворяется во всем, и все создается заново в другой»
— Дай ему его пищи, — велел он, — и скажи, что я буду счастлив поговорить с ним, когда он захочет.
Толмач ответил:
— Он сказал, что поговорит с тобой, как только выучит твой язык.
Александр поклонился мудрецу и вернулся в свой шатер. Между тем трубы протрубили войску сбор, и оно двинулось в направлении Гифаса, последнего притока Инда, последнего препятствия на пути к бескрайней глубинной Индии, к Гангу и сказочной Палимботре, на пути к берегам последнего Океана.
Войско углубилось в редкий подлесок, который по мере приближения к реке постепенно становился все гуще. На второй день опять хлынул проливной дождь. Он продолжался весь третий день и четвертый. Индийцы-проводники объяснили, что сейчас сезон дождей и обычно он длится шестьдесят дней. Когда солдаты Александра вышли к берегам Гифаса, река поднялась и замутилась. Царь собрал в своем шатре военный совет. На совете присутствовал флотоводец Неарх, его заместитель Онесикрит, отличившийся в последних операциях по форсированию рек и спуске по Инду из Аорна в Таксилу; а также — Гефестион, Пердикка, Кратер, Леоннат, Селевк, Птолемей и Лисимах. Старой гвардии Филиппа больше не существовало, и командующими всех больших боевых соединений стали бывшие юноши из Миезы.
Присутствовал также союзный индийский царь по имени Фагай, прекрасно знавший местность по ту сторону Гифаса.
Александр начал:
— Друзья мои, мы уже дошли туда, куда никогда еще не заносило ни одного грека. Мы находимся дальше тех мест, где бывал бог Дионис в своих скитаниях. И это — благодаря вашей беспримерной отваге, вашей исключительной стойкости, вашему героизму и героизму ваших солдат. Осталось сделать еще один великий шаг. Мы перейдем последний приток Инда, и больше не останется препятствий нашему продвижению к Гангу и берегам Океана. И там, на берегах Океана, мы завершим наш поход, самый грандиозный из всех, что когда-либо предпринимали люди или боги. Мы воплотим в жизнь величайшую мечту. А сейчас, полагаю, Неарх должен сообщить нам план по форсированию реки, после чего командиры боевых частей изложат свою точку зрения на предстоящий переход.
В это время над шатром прогремел гром такой силы, что все на столе затряслось. Несколько мгновений после этого все молчали, и шум дождя казался неправдоподобно громким.
Птолемей быстро переглянулся с Селевком и заговорил первым:
— Послушай, Александр, мы ли не следовали за тобой? Знай, мы готовы идти за тобой и дальше, идти в грязи, по болотам, среди змей и крокодилов, мы готовы пересечь новые пустыни и новые горы… Мы готовы идти за тобой до пределов земли, но твои солдаты — нет.
Александр изумленно посмотрел на друга, словно не веря собственным ушам.
— Твои солдаты отдали тебе все свои силы без остатка. Им больше нечего отдавать.
— Неправда! — воскликнул Александр. — Они разбили Пора и захватили десятки городов!
— И потому изнемогли. Разве ты сам не видишь? Посмотри на них, Александр! Остановись и посмотри на них! Они бредут под непрерывным дождем, по колено в слякоти, со спутанными бородами, с красными от недосыпания глазами. Ты подсчитывал, сколько их умерло, чтобы воплотить в жизнь твою мечту? Ты считал их, Александр?
Сколько погибло от ран, от незаживающих язв, от гангрены, от змеиных укусов, в пасти крокодилов, от малярии, дизентерии? Истощенные и изможденные, они тащатся к этому отдаленному пределу мира, но им страшно. И боятся они не врагов, не их боевых колесниц и слонов, нет! Они боятся страшной, враждебной природы, неба, постоянно сотрясаемого громами и раздираемого молниями, чудовищ, что ползают в лесах и болотах! Они боятся даже ночного небосвода, когда прямо над головой видят те созвездия, которые в земле их детства клонились к горизонту и почти тонули за ним. Посмотри на них, Александр, они уже не те: их одежды обтрепались, они вынуждены носить рванину или пользоваться одеждами покоренных варваров. У их коней сточились копыта, и они оставляют на земле кровавые следы.
— Я переносил все то же, что и они! Я мерз вместе с ними, испытывал такой же голод и жажду, я страдал от дождей и ран! — крикнул царь, распахивая одежду на груди и показывая шрамы.
— Да, но они — не ты, у них нет твоей энергии, твоей жизненной силы. Они — просто люди. И они измучились, ослабели. Годами они не видят своих семей и с тоской думают о своих женах и детях, которых покинули слишком давно. Подумай о тех, кого ты оставлял в городских гарнизонах, порой наказывая за дезертирство не согласных остаться с тобой. Даже это пугает их: они боятся, что от тебя придет глашатай и велит навсегда поселиться в гарнизоне какого-нибудь забытого передового поста. Верни их домой, Александр, заклинаю тебя именем всех богов, верни их домой!
Птолемей замолк, опустив голову, и все прочие товарищи хранили молчание. Молния со страшным шумом ударила в землю, и потом еще долго грохотал гром, как бой далекого барабана.
Александр подождал, когда он стихнет, а потом воскликнул:
— Выражайся яснее, Птолемей! Бунт? Мое войско пошло против меня? И мои командиры, мои самые близкие друзья заодно с ними?
— Как ты можешь говорить такое? Как можешь ты обвинять нас и своих солдат в таком преступлении? — не сдержался Гефестион, и слова самого дорогого друга заставили Александра вздрогнуть. — Никто не собирается выказывать неповиновения, никто не хочет, чтобы ты действовал против своей воли. Птолемей прав. Если ты хочешь идти дальше, пойдем и мы. Мы — твои друзья, мы поклялись не покидать тебя никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах. Но твои солдаты имеют право вернуться к своей прежней жизни. Они заплатили достаточно, они отдали все, что могли. Они опустошены, изнурены. Они умоляют нас убедить тебя, что мы и делаем. Ничего больше. Обдумай это. А потом пошли к нам своего гонца, пусть он передаст, чего ты от нас хочешь, и мы сделаем это.
Один за другим они вышли под бушующую непогоду.
На два дня царь закрылся в своем шатре, он ни с кем не встречался и не притрагивался к еде, проклиная судьбу. Даже Роксана, обожаемая жена, пожелавшая, во что бы то ни стало последовать за ним и разделить с ним все опасности и тяготы, не могла утешить его.
— Почему ты не хочешь послушать своих друзей? — сказала она Александру на своем еще не уверенном греческом. — Почему не хочешь послушать тех, кого любишь? Тех, кто ни разу не бросал тебя? Почему не пожалеешь своих солдат?
Александр не ответил, а лишь посмотрел на нее полными отчаяния глазами.
— Значит, для тебя так важно завоевать другие земли? Тебе мало тех, которыми ты уже владеешь? Думаешь, что обретешь счастье, господствуя над другими местами, другими городами, другими богатствами? О Александрос, скажи мне, чего ты ищешь за этой рекой! Скажи любящей тебя Роксане.
Царь издал долгий вздох.
— Мне было пять лет, когда я впервые убежал из дома моих родителей: я хотел добраться до гор, где живут боги. С тех пор мне всегда хотелось увидеть то, что кроется за горизонтом на востоке и на западе, за горами и долами, за светом и тьмой, за добром и злом — за всем.
Роксана покачала головой. Эти слова были слишком мудрены для нее, но она поняла его взгляд и уловила его тоску.
— Пошли, — сказала она. — Я и ты. Пойдем, посмотрим мир за этой рекой.
— Нет, — ответил Александр. — Не в этом моя судьба, не об этом говорили оракулы. Я не могу покинуть мое войско, отказаться от славы… Роксана, я хочу приблизиться как можно ближе к богам, хочу выйти за пределы времени, превзойти всех предшественников. Я не хочу кануть в забвение, когда спущусь в царство Аида.
Жена посмотрела на него потерянно: этот разговор был слишком труден для нее. Однако она чувствовала внутри мужа неодолимую силу, неутолимое желание. Он напоминал мальчика, бегущего к радуге, орла, летящего к солнцу. Она погладила его, нежно поцеловала в лоб, в глаза, в губы и проговорила на своем языке:
— Возьми меня с собой, Александрос, не оставляй меня никогда. Я не смогу жить без тебя.
И она не покидала его ни на минуту, а сидела в сторонке молча, ожидая его взгляда или слова, следя за каждым движением его век, за каждым исходящим из его уст вздохом. Но царь словно окаменел. Он замкнулся в своем непроницаемом мире, плененный мечтами и кошмарами.
Вечером третьего дня, перед заходом солнца, когда он сидел во мраке своего шатра, нечто неожиданное вдруг привлекло его внимание. Перед ним возник индийский мудрец и уставился на него черными глубокими глазами. Царь понял, что пришельца никто не видит: стража не остановила его, и даже Перитас не ощутил его присутствия — свернувшись клубком, пес дремал в углу.
Пришедший ничего не сказал, просто указал рукой на лагерь, но его жест источал грозную силу, которой было невозможно противостоять. Царь вышел и остолбенел: тысячи его солдат стояли вокруг его шатра, с красными глазами, со спутанными, свисавшими до плеч волосами, в изодранных одеждах, с печальным и тоскливым, но твердым взглядом ожидая от него ответа, и Александр, наконец, увидел их и понял. Он ощутил на себе все их страдания.
— Мне сказали, что вы не хотите идти дальше, — крикнул он. — Это правда?
Никто не ответил. Лишь глухое ворчание пробежало по рядам.
— Я знаю, что это неправда! Я знаю, что вы — лучшие солдаты в мире и никогда не пойдете против своего царя! И я решил идти вперед и вести вас дальше, но сначала хотел узнать волю богов и велел совершить жертвоприношения. К сожалению, знамения все время были против этого решения. Никто не смеет бросить вызов воле богов. И потому готовьтесь, воины! Готовьтесь, ибо настал час насладиться тем, что вы заслужили. Мы возвращаемся. Возвращаемся домой!
Не было ни оваций, ни радостных криков — лишь глубокий, глухой гул. Многие плакали безмолвно, и скупые слезы медленно стекали по их жестким бородам. Лица солдат исхудали за восемь лет битв, недосыпания, атак, холода и жары, снега и дождя. Они плакали оттого, что царь не разгневался на них; что он все еще любит их, как детей, и теперь ведет домой. Один ветеран вышел из строя и подошел к Александру:
— Спасибо, — проговорил он. — Спасибо, государь, за то, что ты позволил твоим солдатам победить тебя. Спасибо… Мы хотим, чтобы ты знал: что бы ни случилось, что бы нам ни уготовала судьба, мы никогда тебя не забудем.
Александр обнял его, а потом велел всем возвращаться в свои шатры и готовиться к отправлению. Когда солдаты разошлись, он в одиночестве вышел на берег Гифаса. Тем временем тучи рассеялись, и луч заката зажег великую реку и окрасил багряным далекие очертания Паропамиса, его высокие пики, поддерживающие небо. Царь устремил взгляд на другой берег, на бескрайнюю равнину, расстилавшуюся до самого горизонта, и заплакал, как не плакал еще в жизни. Никогда он не увидит величественного течения Ганга, не пройдет по берегам золотистых озер, распугивая радужных павлинов Палимботры. Слезы текли из голубого, как небо, глаза и из другого, черного, как ночь.
ГЛАВА 54
Непогода на несколько дней прекратилась, словно небо одобряло решение Александра. Царь разделил войско на двенадцать частей и велел построить на берегу Гифаса двенадцать гигантских каменных алтарей, высоких, как башни, в честь двенадцати олимпийских богов. Потом в присутствии всего войска он устроил грандиозное жертвоприношение, прося богов не позволять никому другому из людей заходить дальше этих знаков. А на следующий день все отправились в обратный путь, к Инду. Они добрались до Сангалы и недавно основанных городов — Александрии Букефалеи и Александрии Никеи.
Здесь полководец Кен, героически сражавшийся при Гавгамелах, а потом вместе с Кратером в кампании против Спитамена в Бактрии, заболел и умер. Александр устроил ему пышные похороны и воздвиг грандиозную гробницу на вечную память о его доблести.
Александр оставил Пору власть над всей завоеванной Индией — семью народами и двадцатью городами, возложив на него дань — снабжать македонского сатрапа в Александрии Никее всем необходимым и поставлять ему войска.
Отсюда он предпринял поход до Гидаспа и спустился по нему до слияния с Акесином. Индийские правители по собственной инициативе явились оказать ему почести и проявить покорность. Они сообщили, что к югу, если двигаться по реке Инду, осталось еще много лютых и независимых народов. Здесь к царскому войску присоединился контингент из двадцати тысяч солдат, завербованных в Греции и Македонии, с грузом новых доспехов, новых одежд греческого фасона и восьмьюдесятью талантами медикаментов, а также перевязочных материалов, хирургических инструментов и шин для фиксации сломанных конечностей, хотя во всем последнем, говоря по правде, нужда была гораздо раньше.
Вместе с подкреплением и припасами пришло письмо от Статиры. В памяти Александра вдруг расцвело воспоминание о ней, и он раскаялся в том, что совсем забыл про нее.
Статира Александру, нежнейшему мужу: здравствуй!
Я пережила очень печальные дни после смерти нашего сына, а вскоре получила известие, что ты встретил новую любовь — дочь одного горного вождя в Согдиане. Говорят, что она очень красива, и ты назвал ее своей царицей и матерью будущего царя. Я бы солгала, если бы сказала, что не испытала горечи и разочарования и не ощутила угрызений ревности. Не из-за власти и почестей, а лишь потому, что она наслаждается твоей любовью, что она спит рядом с тобой, и слышит по ночам твое дыхание, и вдыхает запах твоей кожи. О, если бы я смогла родить тебе сына! Сейчас я обнимала бы его и видела бы в его чертах сходство с тобой. Но у каждого смертного своя судьба. Богами мне суждено было за короткое время утратить отца и сына, а потом и любовь мужа. Я не хочу печалить тебя своими горестями, я лишь надеюсь, что ты счастлив и, когда вернешься, тебе снова захочется увидеть меня и побыть со мной немного, хотя бы один день или одну ночь. Узнав тебя, я поняла, что одно мгновение может равняться целой жизни.
Не подвергай себя опасностям без нужды, береги себя.
Александр ответил в тот же день под любопытствующим взглядом Роксаны, которая еще только училась писать.
— Кому ты пишешь? — спросила она.
— Царевне Статире, на которой женился до того, как узнал тебя.
Роксана помрачнела, а потом произнесла тоном, какого Александр никогда не слышал от нее раньше:
— Не хочу знать, что ты пишешь, но держи ее подальше от меня, если не желаешь ее смерти.
Уже стояла поздняя осень, и дожди прекратились. Царь решил спуститься по Инду, чтобы узнать, куда он течет. Среди его географов некоторые считали, что Инд — не что иное, как верхнее течение Нила: как и в Ниле, в нем водились крокодилы, а на его берегах жили люди с темной, как у эфиопов, кожей. Если это было правдой, то многочисленный флот мог бы с триумфом спуститься до Александрии Египетской.
Зачарованный этой мыслью, царь призвал Неарха на берег бегущих вод, на возвышенное место, откуда открывался вид на все войско, снова такое же великолепное, как во время отбытия из Македонии, но вчетверо больше.
— Многие из этих солдат прошли сто тысяч стадиев, — сказал он. — А теперь я хочу, чтобы они путешествовали с удобствами. Я хочу, чтобы ты построил флот, который мог бы перевести людей вместе с конями. Мы спустимся по течению до Инда и будем останавливаться повсюду, где увидим какой-нибудь город, чтобы установить над ним власть, которая раньше принадлежала Дарию.
— А что потом? — спросил Неарх.
— Кратера с половиной войска пошлем назад через Арахозию и Карманию, а я с тобой отправлюсь туда, куда приведет река, — в Александрию, если Инд действительно окажется верхним течением Нила, или к Океану.
— Ты представляешь, сколько нужно судов, чтобы перевезти всех наших солдат?
Александр покачал головой.
— Не меньше тысячи, — сказал флотоводец.
— Тысяча кораблей?
— Около того.
— Тогда за работу! — воскликнул Александр. — Как можно скорее!
— Наконец-то! — обрадовался Неарх. — А то я, наверное, единственный флотоводец в мире с мозолями на ногах.
Тут их внимание привлекла стройная фигура Роксаны. С распущенными волосами она скакала на великолепном белом коне по степи вдоль реки.
— Разве не хороша? — спросил Александр.
— Хороша, — согласился Неарх. — Единственная в мире женщина, достойная тебя.
Девушка увидела их и, повернув коня, пустила его галопом на холм. Приблизившись, она соскочила на землю и поцеловала Александра в губы. Шедшие мимо солдаты, увидев этот маневр, закричали: «Алалалай!», и царь, не отрываясь от губ жены, поднял руку в шутливом ответе на этот салют.
Неарх послал глашатая в части, чтобы собрать всех солдат, живших ранее в приморских районах: греков с побережья и островов, финикийцев, киприотов, понтийцев. И началось строительство судов. Сотни деревьев были повалены и распилены на доски; плотники начали сгибать доски в обшивку и скреплять корпуса при помощи шипов и пазов.
Расчет Неарха оказался верен: в конце концов, были изготовлены тысяча грузовых барж и восемьдесят кораблей на тридцать гребцов каждый. Под аплодисменты и радостные крики флот был спущен на воду.
Стоял солнечный день, и многие местные жители собрались у реки, чтобы полюбоваться великолепным зрелищем. Солдаты были вне себя от радости, полагая, что самый опасный, тяжелый и драматичный период их жизни остался позади. На самом же деле они понятия не имели о том, что ждет их впереди. Все известия о территориях, которые предстояло пересечь, поступали от местных проводников, но и из них никто не ведал, что находится дальше трех четырех дневных переходов пешком или по реке.
Неарх отправился во главе флотилии на самом большом корабле. На флагман взошли и царь с царицей. Флотоводец дал сигнал отправления, весла опустились на воду, и корабль отошел от берега, а за ним вереницей потянулись остальные. Когда весь флот отчалил, картина стала еще внушительнее: под форштевнями и веслами пенились волны, тысячи знамен и флагов развевались на ветру, щиты и доспехи сверкали.
На царском корабле вместе с другими философами находились Пиррон из Элиды, Аристандр и индийский мудрец, таинственно появившийся в лагере в Сангале. Он сидел на носу, скрестив ноги и положив на колени руки, и смотрел прямо перед собой, неподвижный, как статуя.
— Что ты узнал о нем? — спросил царь Аристандра.
— Его зовут Калан, что по-гречески звучит «Каланос». Он великий мудрец среди своего народа и обладает необыкновенными способностями, достигнутыми путем долгих упражнений в медитации.
— Этот народ, — вмешался Пиррон, — верит, что их души, жившие неправильно, после смерти переходят в другие тела, и так — много раз, пока полностью не очистятся от боли и страданий, как металл в печи. Только тогда они смогут раствориться в вечном покое, который они называют нирвана.
— Это напоминает мне мысль Пифагора в одной поэме Пиндара.
— Верно. Вероятно, эти мысли пришли к Пифагору из Индии.
— Откуда тебе все это известно?
— От самого Калана. Он выучил греческий меньше чем за месяц.
— Меньше чем за месяц? Как такое возможно?
— Возможно, раз это случилось. Однако я не могу этого объяснить. Но еще до того, как он научился говорить, — продолжил Аристандр, — он мог каким-то образом общаться со мной. Я слышал, как его мысли звучали у меня в голове.
Александр посмотрел на волны, ласкавшие борт корабля, потом поднял взгляд и обозрел речной простор и скопление судов на его середине. Усевшись на моток канатов на корме, Пиррон писал что-то на табличке, положив ее на колени.
Царь спросил своего ясновидца:
— Ты говорил с индийцем о своем кошмаре?
— Нет.
— А он все еще снится тебе?
— Нет, с тех пор, как этот человек явился в лагерь.
— А ты знаешь, зачем он явился?
— Чтобы познакомиться с тобой. И помочь тебе. Он давно знал, что с запада придет великий человек, и решил встретиться с ним.
Александр оторвался от борта и подошел к Калану.
— Что ты рассматриваешь, Калан? — спросил он.
— Твои глаза, — ответил мудрец странным, вибрирующим, как звук какого-то бронзового инструмента, голосом. — Это образ темной линии, пересекающей твою душу, граница между светом и тьмой, по которой ты бежишь, как по лезвию бритвы. Трудное и очень болезненное занятие…
Царь изумленно проговорил:
— Как можешь ты рассматривать мои глаза, не отрывая взгляда от волн? И как вышло, что ты заговорил на моем языке так хорошо, если никто тебя не учил?
— Я видел твои глаза еще до того, как встретился с тобой. А язык один, владыка. Поднявшись к истокам собственной души и натуры, человек в состоянии понимать все человечество и изъясняться с ним.
— Зачем ты пришел ко мне?
— Я следую за моими поисками.
— И куда же ведут тебя твои поиски?
— К миру, к спокойствию.
— Но я несу войну. Я готовился к этому с детства.
— Но ты готовился также и к знаниям. Я вижу в твоих глазах тень великой мудрости. Мировое спокойствие — это высшее добро. Высшему добру нельзя следовать, не пройдя ранее через огонь и меч. Ты уже миновал и огонь, и меч. Я хочу помочь тебе взрастить в себе мудрость великого государя, который когда-нибудь станет отцом всех народов. Для этого я пришел к тебе.
— Я рад тебя видеть среди моих гостей, Калан, но мой путь был предначертан еще в тот день, когда я впервые пересек море. Не знаю, смогу ли я изменить его.
— Скоро эта река вынесет нас к течению великого отца Инда, — ответил Калан, снова направив взгляд на быстрые волны. — Если ты поднимешься по его течению, то увидишь маленький ручеек с прозрачной водой. Но потом, спустившись в долину, ты найдешь и другие ручьи, смешивающие свои воды с его водами, и каждый малый ручей немного изменяет цвет отца вод и направление его течения. Ты увидишь деревья, склоняющие свои кроны к самой воде, увидишь всевозможных рыб, змей и крокодилов, вдруг выныривающих и снова погружающихся в глубину, увидишь птиц, что вьют гнезда на реке. Река, что течет перед тобой сейчас, — это одно; приближаясь к Океану, она постепенно становится другой. А там она погружается в вечные воды, во вселенское лоно, окружающее всю землю. И когда это произойдет — тогда больше не будет великого Инда, а будет часть единой живой жидкости, из которой рождаются тучи и птицы, реки и озера, деревья и цветы…
Больше он ничего не сказал и вновь погрузился в свое непроницаемое молчание.
В это время к царю с озабоченным видом подошел Неарх.
— В чем дело? — спросил Александр.
— Пороги, — ответил тот.
ГЛАВА 55
Неарх указал на угрожающее бурление воды прямо по носу, стадиях в десяти.
— Нужно немедленно причалить и исследовать течение реки, прежде чем подвергать опасности флот, — сказал он и велел поднять тревожный флаг, приказывая рулевым сворачивать к берегу.
Старший над гребцами крикнул:
— Весла правого борта — суши!
Одни гребцы подняли весла из воды, в то время как другие продолжали грести. Корабль совершил поворот к правому берегу реки. При виде сигналов и этого маневра флагмана остальные суда также повернули, подошли к берегу и бросили якоря. Но пока команды собирались пришвартоваться к берегу, послышался громкий крик, и с возвышающихся над рекой холмов появились тысячи воинов, с ходу бросившихся в атаку.
Александр велел трубить в трубы, и «щитоносцы» и штурмовики, попрыгав в доспехах в воду, побежали вперед, чтобы задержать врагов, подошедших уже совсем близко.
— Кто это? — спросил царь.
— Маллы, — ответил Неарх. — Мы близки к слиянию с Индом. Это лютые, непримиримые бойцы.
— Мои доспехи! — велел Александр. Оруженосцы принесли панцирь, поножи, шлем с гребнем.
— Не ходи, Александрос! — умоляла его Роксана, повиснув у него на шее.
— Я царь. Я должен быть первым. — Он поспешно поцеловал ее и крикнул своим солдатам: — За мной!
Схватив щит, царь бросился в воду и изо всех сил устремился к берегу.
Тем временем и с других кораблей высаживались тысячи воинов.
Оказавшись на суше, Александр тут же побежал к батальонам тяжелой пехоты, а выше по реке уже начали выводить лошадей, чтобы построить первые конные отряды.
После первого столкновения враги начали пятиться под натиском македонских частей, получивших подкрепление и перешедших в атаку сомкнутым строем. Увидев, что их не одолеть, маллы начали организованное отступление, упорно сопротивляясь, пока, поднявшись на склон холма, не получили позиционного преимущества, и тогда контратаковали с новой силой. Фронт заколебался, и поначалу было неясно, кто одолеет, маллы или македоняне. Но ближе к полудню с кораблей выгрузилось достаточное количество лошадей, чтобы сформировать два полных отряда конницы, которая охватила фланги противника. К этому времени и Александр сел на коня и возглавил атаку. Как раз в этот момент впереди на холмах появились вражеские конники и устремились вниз.
Разгорелся яростный бой, но к полудню македоняне, наконец, взяли верх и оттеснили маллов за линию холмов. Оттуда Александр смог обозреть пять городов, среди которых выделялся один — мощными укреплениями из грубых кирпичей.
Тогда царь разделил свое войско на пять колонн, каждая из которых направилась к одному из городов. Пятую, самую многочисленную, повел он сам, позвав с собой Пердикку, Птолемея и Леонната, чтобы атаковать столицу маллов. Но когда царь собрался дать приказ к штурму, Леоннат крикнул:
— Александр, смотри! Перитас сбежал с корабля.
И действительно, огромный пес что есть мочи мчался вверх по холму к своему хозяину.
— Великий Зевс! — воскликнул царь. — Если с моей собакой что-то случится, я велю высечь того, кто смотрел за ним. Вон, Перитас! Пошел вон! Возвращайся к Роксане. Прочь!
Собака на мгновение как будто послушалась, но, как только Александр поскакал во главе своих воинов, бросилась вслед за ним.
Во второй половине дня македоняне были уже под стенами, а маллы нашли убежище внутри города — трое ворот открылись, чтобы впустить их.
Александр, увлеченный азартом преследования, мельком заметил, что в одном месте стена частично размыта дождем или просто начала рушиться от плохого ухода. Соскочив с коня, он побежал к этому месту, намереваясь с ходу взять город. Александр взобрался на стену, не встретив ни одного защитника. Никто его не заметил, кроме Леонната, который бросился следом, крича:
— Александр, не надо! Стой! Погоди!
Но царь в пылу битвы и шуме криков не услышал его и спрыгнул с другой стороны.
Леоннат со своими солдатами бросился за ним, но несколько врагов уже устремились наперерез и устроили заслон, чтобы их товарищи за стеной могли убить царя.
Тем временем Александр, оказавшись в окружении один, отступил и, прижавшись спиной к огромной смоковнице, отчаянно отбивался от целой тучи противников. Леоннат, прорубая себе путь топором, отчего враги кубарем катились по валу, кричал:
— Александр, держись! Держись, мы идем!
Но сердце его грызла тревога при мысли, что царя могут вот-вот одолеть.
Тут за спиной у него послышался лай, и он вспомнил о псе. Не оборачиваясь, Леоннат что было силы крикнул:
— Перитас! Сюда, Перитас! Сюда! Беги к Александру!
Огромный пес, как фурия, взлетел на вал и оказался наверху как раз в тот момент, когда его хозяин, раненный дротиком в грудь, упал и из последних сил защищался, закрываясь щитом. Мгновение — и Перитас соскочил со стены и, молнией метнувшись в гущу врагов, заставил их попятиться. Одного он укусил за руку, с сухим хрустом раздробив кости, второго цапнул за горло, третьему разодрал живот, так что вывалились внутренности. Великолепное животное сражалось, как лев. Перитас рычал, обнажая окровавленные клыки, его глаза горели, как у дикого зверя.
Александр воспользовался этим, чтобы отползти назад, а между тем Леоннат, наконец взобравшийся со своими солдатами на стену, спрыгнул вниз и, бешено крича, устремился вперед, размахивая топором. Он набросился на нападавших и первого же разрубил надвое от головы до паха, а прочие, напуганные этой ужасающей силой, отступили. Через несколько минут внутрь ввалились сотни македонских штурмовиков и «щитоносцев», наполнив город отчаянным криком, яростным воем и бряцаньем оружия.
Леоннат опустился на колени рядом с царем и снял с него панцирь. В это время Александр повернул голову, и его глаза наполнились слезами и отчаянием.
— Перитас! Что они с тобой сделали!
Окровавленный огромный пес, скуля, подполз к нему с дротиком в боку.
— Позовите Филиппа! — закричал Леоннат. — Царь ранен! Царь ранен!
Перитасу удалось добраться до руки хозяина; он лизнул ее последний раз и упал бездыханный.
— Перитас, нет! — сквозь рыдания застонал Александр, прижав к себе друга.
Подошел изнуренный, весь покрытый кровью Пердикка.
— Филиппа нет. В сумятице атаки никто не догадался дать ему коня.
— Что будем делать? — еле дыша, спросил Леоннат упавшим голосом.
— Мы не можем так его нести. Нужно вытащить наконечник. Держи его. Ему будет очень больно.
Леоннат сжал руки Александра, обняв его со спины, а Пердикка разорвал на царе хитон, чтобы обнажить рану. Потом, упершись одной рукой ему в грудь, другой попытался вырвать наконечник, но тот застрял между ключицей и лопаткой.
— Нужно сделать рычаг из клинка, — сказал Пердикка. — Кричи, Александр, кричи что есть силы, больше мы ничем не можем облегчить твою боль!
Он обнажил меч и засунул клинок в рану. Александр взвыл. Пердикка уперся концом меча в лопатку и с силой толкнул ее назад, другой рукой держа древко. Дротик вдруг вышел, выпустив наружу поток крови. С последним криком царь без чувств упал на землю.
— Найди головню, Леоннат, скорее! Нужно прижечь, а то он истечет кровью.
Леоннат бросился прочь и вскоре вернулся с обломком бревна из горевшего неподалеку дома. Головню сунули в рану. Поднялся тошнотворный запах горелой плоти, но кровотечение остановилось. Между тем солдаты Пердикки соорудили носилки, на них положили царя и понесли к городским воротам.
— Отнесите и его, — с красными от слез и перенапряжения глазами сказал Леоннат, указывая на неподвижное тело Перитаса. — Это он — герой сегодняшнего сражения.
ГЛАВА 56
Глубокой ночью Александра доставили на берег, где Неарх разбил лагерь, и уложили в постель. Царь был без сознания и горел в лихорадке. Навстречу ему с отчаянными криками выбежала Роксана. Она опустилась на колени рядом с мужем и в рыданиях целовала его руку. Лептина смотрела на него краем глаза, бледная и испуганная. В ожидании Филиппа она готовила чистые бинты и кипятила воду.
Врач пришел почти сразу. Он разрезал грубую тряпку, которой Пердикка и Леоннат пытались перевязать его, и стал промывать рану водой.
Потом приложил ухо к груди Александра и долго прислушивался, в то время как друзья, в молчании пришедшие по одному, в тревоге ожидали приговора.
— К сожалению, эта рана не такая, как прежние, — проговорил врач, вставая. — Наконечник дротика задел легкое. Я слышу бульканье крови при каждом вздохе.
— И что это значит? — спросил Гефестион. Филипп покачал головой, не в состоянии говорить.
— Что это значит? — снова крикнул Гефестион.
В это время Александр застонал, и изо рта его вытекла кровавая слюна, оставив на подушке большое красное пятно.
Птолемей подошел к другу и положил руку ему на плечо:
— Это значит, что Александр может умереть, Гефестион, — проговорил он сквозь ком в горле. — Ну, пошли. Дадим ему отдохнуть.
В это время вместе с Кратером и Лисимахом вошел Селевк, возглавлявший атаку на город. Он сразу понял, что к чему, и, подойдя к Филиппу, тихо спросил:
— Есть надежда?
Врач посмотрел на него, и в этом взгляде Селевк увидел такое замешательство, такое бессильное отчаяние, что больше не стал задавать вопросов.
В шатре стало пусто и тихо. Слышался лишь сдавленный безутешный плач Роксаны, покрывавшей слезами и поцелуями бесчувственную руку мужа.
Лептина, всегда в глубине души тихо ненавидевшая всех, кто был близок с Александром, медленно подошла и положила руку ей на плечо.
— Не плачь, моя царица, — прошептала она. — Прошу тебя, не плачь. Он слышит тебя, понимаешь? Нужно набраться сил. Нужно подумать… Нужно думать о том, что все его любят… Все мы любим его, а любовь сильнее смерти.
Филипп снял окровавленный фартук и, уходя, сказал:
— Не спускайте с него глаз ни на мгновение. Я приготовлю все необходимое для дренажа раны. В случае чего сразу зовите меня.
Лептина кивнула, а врач взял зажженную лампу и ушел. В лагере он видел Птолемея и Леонната, опускавших тело Перитаса на кучу дров. Рядом они положили его украшенный серебряными накладками поводок, как ритуальное подношение на погребальный костер героя.
— Какой ужасный день, — тихо пробормотал Птолемей. — И как раз когда казалось, что горести и испытания уже позади… — Он погладил собаку, лежавшую на красном шерстяном покрывале, и со слезами сказал: — Мне будет тебя не хватать, славный пес. Ты всегда составлял мне компанию во время обходов.
В это время подошел Кратер с отрядом педзетеров. Они выстроились у костра в два ряда.
— Мы подумали, что он заслуживает воинских почестей, — объяснил Леоннат. — Он был первым телохранителем царя.
Потом он взял факел и зажег костер, а, дождавшись, когда пламя, потрескивая в темноте, разгорелось, крикнул:
— Педзетеры, салют!
Пехотинцы подняли сариссы, и душа Перитаса улетела с ветром, впервые с рождения покинув своего хозяина.
Филипп вместе с Роксаной и Лептиной всю ночь не смыкали глаз. Только к рассвету царица, сморенная долгим бдением, задремала, но и во сне продолжала стонать, мучимая тревожными мыслями.
Со светом дня пришли Гефестион и Птолемей, и было видно, что они тоже не спали.
— Как он?
— Ночь пережил. Больше ничего сказать не могу, — ответил Филипп.
— Если он умрет, мы сожжем этот город со всеми жителями. Это будет погребальной жертвой в его честь, — мрачно проговорил Гефестион.
— Погоди, — ответил Филипп осипшим от усталости голосом. — Он еще жив.
Прошло еще два дня, но жизнь царя, невзирая на некоторое улучшение, похоже, приближалась к печальному эпилогу. Грудь опухла, несмотря на сделанный Филиппом дренаж, лихорадка свирепствовала, дыхание оставалось прерывистым и хриплым, лицо приобрело землистый цвет, глаза потемнели и ввалились.
Товарищи постоянно несли караул у шатра, чтобы не беспокоить Александра, и сторожили по очереди, отходя лишь ненадолго поспать. Лагерь, обычно полный шума, погрузился в неестественное молчание, словно остановилось само время.
В тот вечер, когда лихорадка снова усилилась и дыхание царя стало еще более затрудненным и мучительным, Филипп вдруг встал и вышел.
— Куда это он? — спросил Леоннат.
— Не знаю, — ответил Гефестион. — Ничего не знаю. Я уже ничего не понимаю…
Филипп прошел через лагерь, мимоходом бросив взгляд на Аристандра, продолжавшего жертвоприношения на алтаре, дымящемся в ночи, и подошел к гигантскому баньяну. Там он остановился перед скелетообразной фигурой Калана, погруженного в медитацию.
— Очнись, — грубо окликнул его врач. Калан открыл глаза.
— Наши боги и наша наука бессильны. Спаси Александра, если можешь. А если нет, уходи и больше никогда не возвращайся.
Калан встал — легко, как будто невесомый.
— Где он?
— В своем шатре. Пошли, — ответил Филипп и повел его за собой.
Темнокожий индиец с Филиппом вошел в освещенный лампами царский шатер.
— Погасите все лампы, — велел мудрец твердым голосом. — И оставьте нас наедине.
Все повиновались, а Калан уселся на пятки позади ложа Александра, в темноте уставился на его голову и застыл так, словно окаменел.
Его видели все в том же положении на следующий день и через день. На рассвете четвертого дня Филипп вошел, чтобы сменить повязку и открыть край полога. Омывая в тазике руки перед перевязкой, он вдруг услышал за спиной голос:
— Филипп…
Врач резко обернулся.
— Государь!
Лихорадка отступила, дыхание Александра стало ровным, сердце билось слабо, но ритмично. Филипп прослушал больного — глухое бульканье в груди прекратилось. Он позвал Лептину:
— Сообщи царице. Скажи, что царь пришел в себя. И поскорее свари чашку бульона, его нужно покормить: он истощен.
Лептина удалилась, а Филипп выглянул из шатра, где в ожидании стояли Лисимах и Гефестион.
— Передайте всем, — сказал врач, — царь пришел в себя.
— Как он? — тревожно спросил Гефестион.
— А ты как полагаешь? — грубо оборвал его врач. — Как человек, получивший пядь железа под ключицу, как же еще?
Он вернулся в шатер, чтобы позаботиться об Александре, и только тут заметил Калана. Тот лежал на земле, неподвижный и холодный, словно труп.
— О великий Зевс! — вырвалось у врача. — Великий Зевс!
Он велел помощникам перенести мудреца в другой шатер и наказал им согреть его, во что бы то ни стало и заставить поесть, при необходимости — силой, а потом вернулся к Александру. Рядом стояла Роксана, не веря своим глазам, а Лептина пыталась накормить больного бульоном единственно возможным способом: намочив тряпочку в тарелке и давая ему пососать ее.
— Что случилось? — спросил Александр, едва увидев Филиппа.
— Всего тут наслучалось, мой государь, — ответил тот. — Но ты жив, и есть надежда, что так оно и будет дальше. Ты не поверишь, как я счастлив, — добавил он с дрожью в голосе. — Ты не поверишь… Но молчи, не напрягайся, ты очень ослаб. Ты спасся чудом, и, я думаю, благодаря Калану.
— Перитас… — удалось прошептать Александру.
— Перитаса больше нет, мой государь. Леоннат сказал мне, что он погиб, спасая тебе жизнь. Не сделай его жертву напрасной: постарайся поесть, а потом отдохни, пожалуйста, отдохни.
Александр еще немного попил из рук Лептины, а потом откинулся на подушку и закрыл глаза. Но сквозь сомкнутые веки вытекли две слезы и, скатившись по щекам, намочили подушку.
ГЛАВА 57
Много дней царь лежал в постели между жизнью и смертью, и попытки решительно вернуть его к жизни часто казались тщетными. Хотя организм уже пережил момент наибольшей опасности, общее состояние раненого оставалось настолько тяжелым, а улучшение — столь несущественным, что Филипп не знал, можно ли считать его спасенным или же Танат, на время отступивший перед героизмом Калана, вновь начнет наступление. Лишь у индийского мудреца не было сомнений. Он постоянно повторял:
— Я договорился. Он выздоровеет.
Но если кто-нибудь спрашивал его об этом «договоре», Калан ничего не отвечал.
Только через месяц Александр сумел опереться на спинку кровати, и прошло еще двадцать дней, пока с помощью Лептины, кормившей его с ложки под бдительным оком Роксаны, царь смог отведать густой похлебки. Говорил он мало и с трудом, но постоянно просил Евмена почитать ему стихи Гомера. По молчаливому соглашению между товарищами царский секретарь понемногу начал исполнять политические обязанности монарха.
Иной раз Роксана тихим голосом пела Александру свои горские песни под аккомпанемент струнного инструмента, звучащего просто и чарующе.
Через два месяца Филипп разрешил своему пациенту встать и сделать несколько шагов по шатру при поддержке Кратера и Леонната. Было очевидно, что даже это минимальное усилие стоило Александру огромного напряжения, и вскоре, обливаясь потом, он провалился в тяжелый сон.
Однажды, когда Лептина кормила его отваром, пришли Леоннат, Кратер и Гефестион. Леоннат почесал свою вечно взъерошенную голову и, словно осененный удачной мыслью, предложил:
— А что, если дать ему «чашу Нестора»?
Филипп снисходительно посмотрел на могучего воина:
— Ты сам не знаешь, что говоришь. Мед, мука, вино и сыр! Ты что, хочешь его убить?
— Может быть, ты и прав, — возразил Леоннат, — но знаешь, что говорят? Говорят, что царь умер, а мы скрываем это, чтобы не сеять панику.
— Как можно придумать такую глупость? — воскликнул Филипп. — Всем известно, что царь жив.
— Это не совсем так, — вмешался Гефестион. — Что царь жив, известно нам, и больше никому. Я отдал приказ, чтобы даже стража не видела его в таком состоянии. А солдаты пали духом. Они не видят своего царя, и он для них все равно что умер.
— Вот именно, — согласился Евмен. — Дело в том, что люди вот уже несколько месяцев наблюдают одно и то же: как мы то и дело входим и выходим из его шатра или собираемся вместе. Кое-кто приметил, как я ставлю царскую печать на отсылаемые в сатрапии документы.
— А в некоторых частях обсуждают, не пора ли устроить общее собрание македонского войска, — добавил Кратер. — Вы знаете, что это означает?
Евмен кивнул.
— Это означает, что они могут вынудить нас принять делегацию в царском шатре и показать им Александра. Когда он в таком состоянии!
Филипп обернулся к друзьям.
— Пока я здесь, никто не ступит внутрь без моего позволения: я главный царский врач и несу ответственность за…
Кратер положил руку ему на плечо.
— В отсутствие царя общее собрание является верховной властью — они могут сделать это. И почти наверняка сделают.
Вошли Селевк и Лисимах, чтобы осведомиться о здоровье Александра.
— Что тут происходит? — осведомился Селевк.
— Дело в том… — начал Кратер.
Все забыли о присутствии Александра; казалось, он глубоко уснул, но вдруг все вздрогнули при звуке его голоса:
— Послушайте меня.
Товарищи ошеломленно обернулись. Евмен, поняв, что царь, видимо, все слышал, попытался объяснить:
— Александр, тут такое дело, которое мы прекрасно можем решить сами…
Царь приподнял правую руку, недвусмысленно призывая всех к молчанию.
— Селевк…
— Повелевай, государь, — привычно ответил друг, взволнованный тем, что после столь долгого времени получит приказ Александра.
— Построй все войско. После захода солнца.
— Будет сделано.
— Леоннат…
— Повелевай, государь, — ответил тот, еще более потрясенный.
— Приготовь моего коня. Гнедого…
— Сарматского гнедого, да, да. Будет сделано.
— Ничего сделано не будет! — не сдержался Филипп. — Что здесь происходит? Вы все с ума посходили? Царь не может даже…
Александр снова поднял руку, и Филипп не договорил, пробормотав что-то себе под нос.
А царь продолжал:
— Гефестион…
— Слушаю тебя, Александрос.
— Приготовь мои доспехи. Они должны сверкать.
— Будут, Александрос — ответил Гефестион, чувствуя комок в горле. — Засияют, как звезда Аргеадов.
Все было подумали, что царь больше не хочет угасать в постели, а решил умереть в седле. Даже Филипп поверил в это. Он сидел в углу и бормотал:
— Делайте, что хотите. Если хотите убить его — валяйте. Я в этом не участвую, я…
— Леоннат, — снова проговорил царь. — Я хочу коня сюда, в шатер.
— Ты его получишь, — ответил друг, поняв, что царь не желает, чтобы солдаты видели, как ему помогают сесть в седло.
— А теперь ступайте.
Все повиновались, а Александр, как только они ушли, упал на подушку и заснул. Его разбудили голоса Гефестиона и Леонната. Открыв глаза, он увидел, что шатер погрузился в неясный свет заката.
— Мы готовы, — объявил Гефестион.
Александр кивнул, с усилием приподнялся, чтобы сесть, и попросил друзей отвести его умыться. Лептина вымыла его и умастила тело и волосы благовониями, а потом вытерла и стала одевать.
— Придай моим щекам немного цвета, — попросил он, и девушка повиновалась. Пока она оживляла щеки румянами и осветляла темные круги под глазами, он погладил ее по лицу и сказал: — Я отдам тебя в жены какому-нибудь владыке и дам приданое, достойное царицы. — Он говорил искренне, уверенным голосом.
Когда Лептина закончила, Александр спросил:
— Ну, как я?
— Неплохо, — ответил Леоннат с полуулыбкой. — Похож на актера.
— А теперь доспехи.
Гефестион завязал панцирь и поножи, повесил сбоку меч и перехватил волосы Александра диадемой.
— Приведите мне коня. Солдаты построились?
— Построились, — заверил его Гефестион.
Леоннат вышел и вернулся через задний ход, ведя под уздцы сарматского гнедого в полной сбруе. Гефестион встал на колени и сложил руки, сделав для Александра ступеньку. Царь уперся в них ногой, и друзья подняли его в седло.
Леоннат подошел с ремнями.
— Мы подумали, надо бы тебя привязать к конской сбруе. Никто ничего не увидит: ты скроешь ремни под плащом.
Александр не ответил, и его молчание было воспринято как согласие. Ремешки, которыми опоясали царя, привязали к сбруе гнедого, а сверху накинули пурпурный плащ.
— Поехали, — скомандовал Александр.
Гефестион вышел из шатра, Леоннат сделал знак, словно говоря: «Пора!» — и Гефестион взмахнул рукой. При этом жесте тягостная тишина сумерек разбилась мрачным громыханием. Оно прозвучало как отдаленный гром. Удар, потом другой, и еще! Александр прислушался, как будто не веря своим ушам, потом инстинктивно выпрямился и коснулся пятками брюха коня. Гнедой вышел, обошел шатер и, повинуясь удилам, направился к длинной линии выстроившегося войска.
Грохот, медленный и торжественный, отбивал величественную парадную поступь мощного жеребца, и Александр с трудом сдерживал слезы, чувствуя, как вибрирует воздух от низкого громового голоса огромного барабана Херонеи!
Солдаты, застыв в строю с сариссами в руках, ошеломленно смотрели, как их царь с величавой осанкой и твердым взглядом проводит смотр войска. У каждой части, к которой он приближался, командир выходил на шаг из строя, обнажал меч и кричал:
— Здравствуй, государь!
И Александр отвечал еле заметным кивком головы.
Когда он дошел до конца, «Гром Херонеи» замолк, и один пожилой командир из первой шеренги гетайров выехал на коне вперед и воскликнул:
— Повелевай, государь!
— Разойтись, — велел Александр и, пока трубы повторяли приказ, натянул поводья гнедого и трусцой направился к своему шатру.
— Он с ума сошел, — сквозь зубы пробормотал Филипп, наблюдавший за ним издали. — От каждого толчка он может упасть и…
— Он не упадет, — успокоил его Селевк, похлопав по плечу. — Не упадет.
Птолемей не мог оторвать глаз от спины Александра.
— Теперь все увидели его и знают, что он жив и снова на коне.
Александр въехал в шатер верхом, и друзья отвязали его и помогли слезть, потом начали освобождать от плаща, панциря и поножей, отстегивать меч.
— Скорее уложите его в постель, — велел Филипп. Александр покачал головой, все еще неуверенным шагом направился к своему походному табурету и положил руки на стол.
— Я голоден, — сказал он. — Кто-нибудь намерен поужинать со мной?
Все изумленно уставились на него. Леоннат застыл на пороге, держа за повод коня.
— Лептина, — позвал царь. — Убери со стола всю эту снедь и принеси мне «чашу Нестора»!
— «Чашу Нестора»? — воскликнул Филипп. — Ты хочешь умереть? Эта пища останется у тебя в желудке, тебе станет плохо, стошнит, от этого откроются раны, и…
— «Чашу Нестора», — повторил Александр.
Все уставились на него, разинув рот: он словно возродился, преобразился.
— Звук того барабана и вид солдат воскресили его, — шепнул Кратер врачу. — Дай ему поесть. Ничего с ним не случится, вот увидишь.
Лептина принесла «чашу», и Александр принялся есть. Единственным признаком усталости была легкая испарина на лбу. Филипп изумленно смотрел на Александра, его челюсти тоже инстинктивно двигались, словно помогая больному жевать. Прочие сгрудились вокруг стола, наблюдая за невероятным явлением.
Наконец Александр вытер рот и поднял глаза на ошеломленных зрителей.
— В чем дело? — спросил он. — Никогда не видели, как едят?
ГЛАВА 58
Царь полностью поправился к концу следующего месяца. В последние дни снова стал гулять пешком и верхом и тренироваться в борьбе вместе с Леоннатом. К концу лета он велел снимать шатры и грузиться на корабли.
Войско спускалось по течению два дня, пока не добралось до границ местности, называвшейся Синд. Там царь попросил Неарха причалить. Проводники говорили, что отсюда ведет дорога к горной долине, из которой можно добраться до Александрии Арахозийской.
Царь созвал товарищей в свой шатер на ужин. Показав им карту, которую топографы составили с помощью местных проводников, как персидских, так и индийских, он обратился к Кратеру:
— Завтра возьми половину войска, пройди через Арахозию и Дрангиану и восстанови порядок везде, где встретишь мятежи или нарушения. Индийские моряки говорят, что Инд — не приток никакой реки, он впадает прямо в Океан в Патале. И потому мой план таков: из Паталы Неарх и Онесикрит отправятся с флотом вдоль южного побережья державы, а я с остальным войском буду двигаться по суше, обеспечивая снабжение флота в пунктах высадки через каждый день плавания. Мы снова все встретимся на равнине близ Гармозия, города, господствующего над проливом между Океаном и Персидским заливом.
— Зачем тебе идти через Гедросию? — спросил Кратер. — Говорят, это страшное место, выжженная солнцем пустыня, без единой былинки, без единого деревца.
— Нам остается неизвестной лишь южная граница державы. Нужно побывать в тех местах.
Они поели и выпили весьма умеренно, так как рана царя еще иногда давала о себе знать, а потом легли спать. На следующее утро, на рассвете, все выстроились, чтобы попрощаться с отбывающим войском Кратера. Александр крепко обнял друга.
— Ты — один из самых дорогих моих друзей, — сказал он. — Мне будет не хватать тебя.
— И мне тебя, Александрос. Береги себя, пожалуйста. До сих пор ты слишком полагался на свою удачу. Да будут благосклонны к тебе боги.
— И к тебе тоже, друг мой, да будут они благосклонны.
Вскочив на коня, Кратер поднял руку, и длинная колонна двинулась под звуки трубы и приветственные крики товарищей, оставшихся с Александром. Как только последний отряд арьергарда скрылся в степной дали, Александр велел грузиться на корабли.
Они снова поплыли на юг, и при каждой остановке местные правители выказывали им свою покорность и почтение, пока войско не достигло Паталы, великого города неподалеку от устья Инда. Город был богат и густо населен, в нем бурлила жизнь. Со всех краев сюда прибывали корабли, многие приплывали с огромного острова на востоке, называвшегося Тапробане [27], и говорили, что он велик, как сама Индия.
Оттуда флот двинулся к самому устью. Река в этом месте разливалась так широко, что с одного берега еле виднелся другой, и Онесикрит подсчитал, что ширина составляет пятьдесят стадиев.
Вечером последнего дня плавания они достигли устья, и Неарх решил поставить корабли на якорь. Течение здесь было столь медленным, что вода казалась неподвижной. Флотоводец боялся, что, решительно выйдя в открытый Океан, не сможет найти укрытия в случае внезапной бури. Но случилась беда не менее страшная, чем буря: ночью начался отлив, так что корабли оказались на мели и многие опрокинулись. Неарх велел никому не двигаться и ждать, когда вода снова поднимется, а сам, обеспокоенный, пришел к Александру.
— Я не мог предвидеть такого явления, хотя и слышал, как один моряк из Массалии, некий Питей, рассказывал про одно место в южном Океане. Там есть водоворот, который каждые шесть часов засасывает воду, а потом извергает ее назад, осушая и вновь заливая обширные участки побережья. Тогда мало кто поверил этому Питею, а теперь мы сами оказались в южном Океане. Как мог я представить нечто подобное? Какое несчастье… Какое несчастье!
— Ты делал необычайные вещи, — ответил Александр. — Не стоит терзаться. Я знаю, что нам удастся с честью выиграть и эту битву против реки и моря. Мой предок Ахилл сражался со Скамандром и выиграл поединок. Выиграю и я. Подождем утра. При свете дня многое меняется.
Из-за новолуния ночь была темной, и темнота еще больше усиливала панику. Неарх велел трубить тревогу и передать корабельным командам, чтобы никто ни в коем случае не покидал кораблей, но многие моряки, испуганные незнакомым явлением, припомнили все те ужасы, что слышали у себя на родине, в кабаках, и попытались бежать, чтобы спастись на берегу. Все они погибли в зыбучих песках, как погибли и те, кто первым бросился им на помощь. Их отчаянные мольбы о спасении разносились в ночи, наполняя страхом оставшихся на кораблях товарищей, которые ничего не могли поделать. Потом вопли затихли один за другим, и слышались лишь крики ночных птиц да далекое рычание тигра, бродившего в чаще в поисках добычи. На флагманском корабле Роксана, обняв Александра, дрожала от страха, напуганная этой враждебной природой, так страшно отличавшейся от природы ее родных гор, от их ясного неба. Неарх и моряки корабельной команды тоже оставались на месте; все молчали, лишь изредка самые бывалые шепотом делились своим опытом. Незадолго до рассвета послышался какой-то отдаленный шум, и царь прислушался.
— Слышишь? — спросил он.
Неарх уже бежал на нос. Он склонился через борт, пытаясь рассмотреть, что вызывало этот шум, который с каждым мгновением делался все громче. Вдруг он увидел быстро приближавшуюся белеющую полосу и в бледных лучах рассвета разглядел угрожающее бурление пены, услышал грохот морских валов, несшихся на беззащитный, завязший в грязи флот.
— Трубы! — закричал адмирал. — Трубить тревогу! Трубить тревогу! Идет приливная волна! За весла! За весла, быстро! Кормчие, к рулю!
И пока звуки трубы пронзали серое утреннее небо, бросил царю канат, чтобы тот привязал себя и Роксану к мачте, а сам бросился к рулю, на подмогу, готовясь к удару.
Команды других кораблей тоже подняли тревогу, и все пространство реки огласилось возбужденными криками.
Удар огромного приливного вала был страшен: одни корабли подняло и, как тростинки, швырнуло назад; другие, слишком крепко завязшие в грязи, разбило, а третьи, принявшие удар бортом, опрокинуло и перевернуло силой колоссальных водяных масс.
Онесикрит, правивший царской пентиерой, кричал гребцам, чтобы они со всей силой выгребали против волн, не позволяя кораблю опрокинуться, а сам на корме отчаянно работал рулевым веслом, противостоя водовороту, созданному приливом.
Океанический вал наконец улегся, и Неарх смог оглядеться и оценить величину бедствия. Сотни судов были разбиты, многие — повреждены, а на поверхности плавали обломки, и люди судорожно цеплялись за влекомые течением бревна и куски обшивки.
Весь день ушел на спасательные работы. Александр лично отдавал все силы для спасения своих людей. Порой он даже сам бросался в воду, вытаскивая тех, кто выбился из сил и начинал тонуть.
К вечеру все оставшиеся корабли пристали к берегу близ устья, у песчаного пляжа Океана, и командиры устроили перекличку. Погибло более полутора тысяч человек. Все тела, что удалось выловить, положили на погребальные костры перед выстроившимся войском, и солдаты выкрикивали их имена ветру и морским волнам, чтобы память о погибших не исчезла бесследно.
Для всех пропавших царь исполнил погребальный ритуал и установил на берегу кенотаф, чтобы их души обрели покой в царстве Аида. От всего сердца он возблагодарил богов за то, что никто из его друзей не погиб в этом бедствии. Он также произнес похвальное слово Неарху и Онесикриту: ведь только благодаря их мужеству и искусству беда не обернулась окончательной катастрофой.
Войско встало лагерем на берегу на двадцать дней, чтобы отбившиеся от своих подразделений могли вновь соединиться с товарищами, а также, чтобы произвести ремонт поврежденных судов.
Неподалеку обнаружилось укрытое место, окруженное плодородными полями и граничащее с пустынной землей, населенной дикими племенами оритов. Там Александр основал город и поселил в нем всех тех, кто из-за пошатнувшегося здоровья не был в состоянии продолжить путь через пустыню Гедросия. Он построил пирс и хорошо укрытый порт и отвел место для храмов. Завершив все эти дела, царь назначил день отправления, как для флота, так и для войска.
Неарх ждал его на только что построенном пирсе, и Александр с чувством обнял его, как обнимал в час разлуки Кратера.
— Было бы здорово, если бы эта река, как утверждали некоторые, оказалась верхним течением Нила. Тогда бы мы отправились вместе до самого Египта.
— К сожалению, это не так, — ответил Неарх. — Темнокожих людей и крокодилов недостаточно для того, чтобы стать Нилом.
— Да, — согласился царь, — но ты никогда не теряй из виду берег и войско. Когда сможешь, приставай к берегу — там, где увидишь наши костры: так будет проще снабжать тебя провиантом и водой.
— Так и сделаю, если будет возможность, Александрос. Мне следует воспользоваться этим ровным восточным ветром, чтобы сберечь силы моих моряков. Не знаю, сумеете ли вы поспеть за мной. В любом случае мы встретимся в Гармозии. Онесикрит тоже хотел бы удостоиться чести попрощаться с тобой. Он прекрасный моряк и заслуживает знаков твоего внимания.
Онесикрит вышел вперед, и царь протянул ему руку.
— Да помогут тебе боги, и да снизойдет на тебя благоволение Посейдона. Сегодня утром вместе с Аристандром я принес жертву Океану, и мы попросили его милосердия и благоприятных ветров. Мы и так заплатили ему слишком большую дань.
Неарх и Онесикрит взошли на свои корабли и приказали отдать швартовы. Флот на веслах отошел от пирса, но почти сразу поднял паруса, и ветер тут же наполнил их своим мощным дыханием. Вскоре корабли стали маленькими, как детские лодочки, а Александр спустился к Океану и воткнул в дно копье в знак того, что овладел и этой отдаленной областью. После чего обернулся к своим товарищам и крикнул:
— А теперь пора отправляться и нам. Дайте сигнал!
Все — Гефестион, Леоннат, Птолемей, Селевк, Лисимах и Пердикка — сели на коней и отправились к своим отрядам. Царь тоже сел на коня, перед которым несли царский флаг, и с развернутыми знаменами, под звуки труб и бой барабанов длинная колонна двинулась в путь.
ГЛАВА 59
Заросли берегов Инда вскоре сменились болотистой равниной, где паслись огромные буйволы с изогнутыми рогами, олени, антилопы, а в отдалении появлялись небольшие группки львов, довольно схожих с теми, на каких охотились в Македонии. На высоких деревьях сидели птицы, в том числе и множество разноцветных попугаев. Потом болотистая равнина перешла в степь, где встречался редкий кустарник и паслись небольшие стада быков и овец, которые перегоняли пастухи дикого, почти первобытного вида.
— Ориты, — объяснил индиец-проводник. — Эти из прибрежного племени, но дальше мы встретим других, живущих в степи и пустыне. Те действительно дикие и свирепые. Они могут оказаться очень опасными. Они устраивают гнезда в песке, как скорпионы, и неожиданно нападают оттуда.
— Передайте это всем, — велел Александр.
Им приходилось удаляться от берега, чтобы следовать по более-менее проходимой дороге, и Океана уже не было видно.
На четвертый день марша войско подошло к краю пустыни. Люди с тревогой смотрели на простиравшиеся перед ними пески, раскаленные добела, на безжизненное пекло без единой травинки, без какого-либо укрытия, на этот ад, в любое время года выжигаемый неумолимыми солнечными лучами.
Проводники-индийцы вернулись назад, и Александру пришлось положиться на опыт нескольких персидских командиров, которые еще во времена Дария принимали участие в походах на Дрангиану и Арахозию.
Марш в таких жутких условиях почти сразу показал себя тяжелейшим, почти безнадежным делом. Вскоре командиры реквизировали всю воду и держали ее под постоянным надзором. Однако такая предусмотрительность имела лишь ограниченный успех: охрана тоже вскоре изнемогла. Возникла неотложная необходимость искать редкие колодцы, разбросанные вдоль пыльного, залитого солнцем пути. Запасов еды хватило чуть дольше, кроме прочего еще и потому, что проект по созданию пунктов снабжения для флота в действительности оказался неосуществимым: кораблей не было видно — восточный ветер, сильный и ровный, должно быть, угнал их далеко вперед.
Скифские проводники в одном месте неподалеку от пути следования заметили следы и предупредили царя. Существовала реальная опасность подвергнуться нападению: в столь скудных землях чужое войско являлось долгожданной добычей из-за припасов и большого числа вьючных животных и коней.
— Удвойте дозоры, — приказал Александр, — и держите зажженными костры, если можете.
Но было трудно отыскать топливо; лишь несколько стволов, как скелеты, выбросило на берег морским прибоем.
Нападение было внезапным. Оно произошло безлунной ночью, и первым подвергся атаке отряд Леонната. Его солдаты шли в арьергарде, растянувшись на несколько стадиев. Враги нанесли удар в темноте с губительной точностью. Они возникли, как призраки скалистых ущелий, выскочив злобными фуриями за спиной усталых воинов, и устроили настоящую бойню. Леоннат сражался с отчаянной отвагой. После того как внезапно появившийся из песков враг перерезал горло его трубачу, он сам схватил трубу и стал посылать протяжные сигналы тревоги, призывая на помощь Александра.
Царь с двумя отрядами конников устремился туда. Ему удалось прорвать окружение и выручить друга. Взошедшее солнце осветило более пятисот бездыханных солдат.
Их похоронили вместе с оружием в песке, так как для погребального костра не было дров. Воины Александра покидали эти могилы с тяжелым сердцем, понимая, что наспех созданные погребения скоро будут разграблены.
Как-то раз отряд разведчиков, вернувшись из дозора, доложил, что на берегу, близ устья жалкого ручейка, несущего в море струйку воды, обнаружено несколько сел. Царь решил напасть на них этой же ночью. В ту ночь было полнолуние, и луна, как днем, освещала меловую белизну пустыни.
Леоннат вставил в скобу у седла топор, схватил бронзовый щит весом в шестнадцать мин и вскочил на своего жеребца, но Александр удержал его:
— Твоя рана еще не зажила. Останься здесь и позволь нам самим справиться с этим.
— Не останусь, даже если вы меня свяжете, — прорычал друг. — Они мне заплатят за всех убитых солдат, подло зарезанных в темноте.
Царь, его друзья и отряд солдат, всего двадцать человек, отобрали вороных коней и надели черные плащи, чтобы раствориться в ночных тенях. Александр подал сигнал, и всадники пустились бешеным галопом, плечом к плечу, голова в голову, по пустынной равнине, как демоны, порожденные царством Аида.
Когда ориты заметили их, было уже поздно, но они все же бросились в контратаку, защищая свои селения, детей и жен. Их опрокинули при первом же столкновении и перерезали, как скот. Македоняне бросились грабить, а разъяренный Леоннат со своим топором ринулся за убегавшими врагами, кося их, как колосья, пока не ощутил, как сердце разрывается у него в груди, и не услышал голос Александра:
— Хватит, Леоннат!
Тогда он остановился, дымясь от пота, весь покрытый кровью.
Вскоре прибыл второй отряд легкой конницы, он привел вьючных животных с бурдюками и телегами, чтобы вывозить провиант. В селах нашли лишь овец и коз в загонах, сложенных из камней. Слой засохшего навоза говорил о том, что их довольно редко выводили на пастбище.
— Спрашивается, чем же их кормят, — проговорил Евмен, прибывший вместе с конвоем за припасами.
— Похоже, вот этим, — ответил Селевк, показывая на мешки из высушенных водорослей, набитые какой-то белесой пылью.
— Воняет рыбой, — заметил Лисимах.
— Это и есть рыба, — подтвердил Евмен, зачерпнув пригоршню и поднеся к носу. — Сушеная рыба, перемолотая в муку.
Они вернулись в лагерь с водой и угнанным скотом, но, когда его зарезали, от мяса тошнотворно воняло тухлой рыбой. Однако выбора не было, и пришлось питаться тем, что удалось добыть.
Еще много дней они шли под палящим солнцем, мучимые жарой и жаждой. Порой цвет пустыни менялся; она вдруг становилась ослепительно белой, и войску приходилось ступать по соляной корке, образовавшейся на месте древних морских лагун. Соль разъедала конские копыта и обувь пехоты, вызывая на ногах сначала глубокие трещины, а потом болезненные язвы. Много вьючных животных погибло от жажды и голода; вскоре начали умирать и люди.
Не было ни времени, ни сил похоронить их или воздать погребальные почести. Солдаты даже не замечали, если товарищ падал в изнеможении, а если замечали, то не могли ему помочь, и брошенное тело оставалось лежать добычей шакалам или стервятникам, что постоянно кружили над колонной. Царь терзался, глядя на страдания солдат. Не мог он без боли смотреть и на свою молодую жену, переносившую все эти тяготы и лишения. А тут еще тревога за судьбу флота, от которого не было никаких известий с того самого дня, как они расстались в Патале.
В этом тяжком испытании только Калан, казалось, не чувствовал никаких страданий: он шел босой по раскаленному песку, накинув на плечи лишь лоскут ткани. Вечером, когда темнота приносила относительную прохладу, мудрец садился рядом с царем и беседовал с ним, обучая своей философии и искусству контролировать плотские страсти и нужды. Роксана, несмотря на юный возраст, тоже держалась образцово, проявляя невероятную силу и твердость духа; часто видели, как она едет в согдийском камзоле рядом с мужем, иногда пытаясь из лука подстрелить пролетавших птиц.
Однажды, когда люди уже дошли до крайности, один солдат из царской охраны чудом нашел углубление на дне впадины, где как будто осталось немного влаги. Он начал копать клинком, пока не увидел, как капля за каплей появляется вода. Ему удалось собрать немного на дне шлема, и, чуть намочив себе губы, он принес драгоценную влагу Александру, который тяжело переносил лишения из-за последствий раны.
Царь поблагодарил солдата, взял шлем и хотел было поднести ко рту, но в то же мгновение осознал, что все войско смотрит на него. Глаза у солдат покраснели, кожа иссохла, губы потрескались. И у Александра не хватило духу выпить. Царь вылил воду на землю со словами:
— Александр не пьет, когда его солдаты умирают от жажды. — Потом, увидев, что многие еле держатся на ногах, крикнул: — Солдаты, мужайтесь! Подумайте: неужели боги позволили вам совершить столь великие дела, чтобы потом уморить в этой пустыне? Нет, поверьте мне! Обещаю, что завтра вечером мы выйдем из этого пекла и вы получите вдоволь воды и пищи! Хотите сдаться именно сейчас? Хотите остаться здесь и умереть в шаге от спасения?
При этих словах солдаты набрались мужества и продолжили путь до наступления темноты. Море уже давно осталось позади. Они поднимались к гряде каменистых холмов, где в знойную ночь надеялись найти хотя бы малую прохладу. На рассвете следующего дня они подошли к перевалу и увидели вдали стены какого-то города.
— Это Пура, — сказал один из персидских командиров. — Мы спасены.
Александр крикнул:
— Слышали, солдаты? Вы слышали? Мы спасены! Ваш царь держит свои обещания!
Солдаты взбирались на гребень один за другим. Они видели город и кричали от радости, подбрасывая в воздух оружие и обнимаясь, некоторые плакали.
Птолемей с изумлением на лице подъехал к Александру:
— Как ты это сделал?
— Помнишь, вчера мы оказались перед развилкой дорог? Там, где один путь шел на запад вдоль моря, а другой поднимался на холмы?
— Да, помню.
— Калан сказал мне тогда: «Лучший путь — тот, что труднее».
— И все?
— И все.
— Ты рисковал.
— Не в первый раз, кажется.
— Да, действительно.
К заходу солнца из последних сил они добрались до города, и командир крепости с подозрением вышел им навстречу.
— Кто вы? — спросил он.
Александр повернулся к Птолемею:
— Оксатр еще жив?
— Кажется, да, — ответил тот. — Я видел его пару дней назад.
— Разыщи его.
Птолемей удалился и вскоре вернулся с Оксатром, и тот объяснил персидскому командиру все, что ему следовало узнать.
— Александр? — ошеломленно переспросил тот. — Но разве он не умер?
— Как сам видишь, жив и здоров. Но прошу тебя, впусти нас. Мы совершенно измучились.
Командир гарнизона тут же отдал распоряжения, и вскоре ворота Пуры распахнулись, впуская войско, которое все считали пропавшим, и царя, которого мнили мертвым.
Они оставались в Пуре четыре дня, отдыхая и отъедаясь. Александр поинтересовался у местного правителя, не приходило ли в Гармозий каких-нибудь известий от флота. Перс ответил, что ему ничего не известно, но он может навести справки и доложить.
— Я не строю больших иллюзий, — сказал Селевк. — Я знал, что этот путь в некоторых местах опасен из-за мелей и кишит пиратами, которые нападают на разбитые корабли. Если бы Неарх прибыл, об этом было бы уже известно.
— Может быть, ты и прав, — ответил Александр, — но ведь нас тоже считали погибшими, и все же мы здесь. Никогда не надо отчаиваться.
Он возобновил поход в направлении Персиды, снова через знойные выжженные земли. Командир пурского гарнизона дал им опытных проводников, которые вели войско мимо колодцев с хорошей водой и пастушьих селений, где можно было запастись молоком и мясом, а также сушеными овощами, хранившимися в больших обожженных горшках.
Стояла уже середина зимы, когда войско подошло к Салмосу, городу на самой границе с Персидой. Александр послал отряд разведчиков на юг разузнать что-нибудь о флоте: двоих македонских командиров и дюжину солдат из вспомогательных войск с персом-проводником и полудюжиной верблюдов, груженных мехами с водой.
Они сделали два перехода по пять парасангов по совершенно пустынной местности и к полудню, когда солнце палило сильнее всего, что-то заметили вдали.
— Не можешь разобрать, что это? — спросил один из солдат, наемник-палестинец из Азота.
— Похоже, люди, — ответил его товарищ.
— Люди? — проговорил один из командиров. — Где?
— Вон там, — указал другой командир, видевший их уже отчетливо. — Смотри, они машут нам, кричат… Кажется, они нас увидели. Скорей!
Разведчики поскакали вперед и через несколько мгновений оказались перед двумя несчастными, почти утратившими человеческий облик: их одежды были изодраны, глаза впали, кожа покрылась язвами и обгорела на солнце, губы растрескались.
— Кто вы? — спросили они по-гречески.
— Это вы кто? — спросил командир. — И что делаете здесь?
— Мы моряки царского флота.
— Ты хочешь сказать, что флот Неарха…
Он не посмел закончить фразу, так как облик этих двоих недвусмысленно говорил о том, что они потерпели крушение.
— Спасся, — сказал человек, еле дыша. — Но ради всех богов, дай мне глоток воды, если хочешь услышать всю историю!
ГЛАВА 60
— По коням! — закричал царь вне себя от возбуждения, едва услышал известие. — Неарх со всеми кораблями на побережье. Не потерян ни один! Евмен, вели приготовить телеги с водой, мясом, со сластями, фруктами, ради всех богов! Тащи все вино, какое найдешь. И как только сможешь, возвращайся ко мне!
— Но для этого нужно время, — попытался образумить его секретарь.
— Если успеешь до вечера, будет прекрасно. Клянусь Зевсом, я хочу устроить торжество для этих людей. Мы закатим грандиозный пир прямо на пляже! Нужно устроить праздник, нужно устроить праздник!
Его глаза блестели волнением и нетерпением, он казался ребенком.
— И позаботьтесь об этих моряках. Обращайтесь с ними как с царями, как с самыми почетными гостями. И царица! Я хочу, чтобы царица была со мной.
Александр умчался вместе с товарищами; вслед бросились два отряда гетайров. На закате третьего дня вдали показался морской лагерь Неарха. Флотоводец был покрыт пылью и потом, но глаза его светились. Вода сверкала ослепительными золотыми бликами, и на светлом зеркале Океана черными силуэтами выделялись корабли Неарха, украшенные флагами и знаменами.
Едва завидев Александра, Неарх вышел к воротам лагеря. Царь спешился, и они оба в восторге пробежали расстояние, разделявшее моряков и прибывших всадников, чтобы поскорее сплести руки. Их встреча была скорее похожа на слияние, чем на объятие. Они с трудом разомкнули руки, чтобы, не веря, посмотреть друг другу в лицо. Их переполняли чувства, и оба не могли выговорить ни слова. Наконец Александр взорвался смехом и крикнул:
— От тебя несет тухлой рыбой, Неарх!
— А от тебя — конским потом, Александрос!
— Не могу поверить, что вы все остались живы, — проговорил царь, глядя на изнуренное лицо своего наварха.
— Это было нелегко, — ответил Неарх. — Одно время мне не верилось, что у нас получится. Мы выдержали две бури, но особенно страдали от жажды и голода.
Они уже подходили к лагерю, и таково было взаимное любопытство и желание рассказать о пережитых приключениях, что оба не заметили, как Птолемей выстроил конницу, чтобы поприветствовать обоих.
Их привел в себя крик командира:
— Царю Александру и адмиралу Неарху, алалалай!
— Алалалай! — прогремели всадники, подняв копья и бесконечно повторяя свой крик, пока последние лучи солнца гасли за огненными волнами Океана.
— Позволь мне упомянуть также Онесикрита, — проговорил адмирал, сделав знак своему кормчему выйти вперед. — Он проявил себя великим моряком.
— Приветствую тебя, Онесикрит, — поздоровался с ним Александр. — Я так рад тебя видеть.
— Приветствую тебя, государь, — ответил кормчий. — Я тоже рад тебя видеть.
— Мне очень жаль, — снова заговорил Неарх, — что немногое могу тебе предложить. Мы весь день ловили рыбу, но улов был скуден. Однако попалась парочка довольно жирных тунцов, и сейчас их жарят.
— Об этом не беспокойся, — ответил царь. — Я приготовил вам всем сюрприз, хотя, боюсь, он прибудет только завтра.
— Если это то, что мне представляется, жду не дождусь! — воскликнул Неарх. — Подумать только, что, отчаянно нуждаясь в провианте, мы пытались совершить набеги на прибрежные поселения. И знаешь, какова была добыча?
— Не знаю, но, пожалуй, могу догадаться.
— Рыбная мука. Множество мешков с рыбной мукой. У этих несчастных больше ничего нет.
— Мы тоже о ней кое-что знаем.
Они вошли в шатер Неарха, и вскоре к ним присоединились Птолемей, Гефестион, Селевк и прочие.
— Смотрите, — сказал Неарх, показывая папирусный свиток, развернутый на походном столе. — Эту карту составил Онесикрит за время нашего похода из Паталы.
— Великолепно! — одобрил Александр, проведя пальцем по линии бесконечного пустынного побережья, вдоль которой заместитель наварха поместил надпись «ихтиофаги» — «рыбоеды».
— Рыбоеды, — повторил Гефестион. — Хорошо сказано! В этих краях даже козы воняют рыбой. При одном воспоминании тошнит.
— Ты не представляешь, сколько мы думали о вас с тех пор, как потеряли с вами всякую связь, — сказал Александр.
— И мы тоже, — ответил Неарх. — Было нелегко замедлить движение, чтобы дождаться вас, а когда нам это удалось, мы вас не увидели.
— Рыба готова, — возвестил один из моряков.
— И пахнет неплохо, — заметил Селевк.
— Надеюсь, мы сможем расположиться на пляже, — сказал флотоводец. — На моих кораблях не хватит пиршественных лож и столов.
— Нас устроит что угодно, — вмешался Пердикка. — Голод есть голод.
Но когда все с шутками и смехом отправились на ужин, раздался тревожный сигнал трубы.
— Великий Зевс! — воскликнул Александр. — Кто здесь осмелился напасть на нас? — Он обнажил меч и крикнул: — Гетайры, ко мне! По коням, по коням!
Лагерь моментально наполнился сигналами труб и ржанием коней, защитный частокол отодвинули, и конники приготовились вылететь наружу, чтобы отбить вражескую атаку. И в самом деле, вдали показалось облако пыли. Оно угрожающе приближалось, как грозовая туча, и уже можно было различить оружие и металлические щиты.
— Но это же македоняне! — крикнул часовой.
— Македоняне? — переспросил Александр, жестом руки останавливая гетайров, уже готовых броситься в атаку.
Прошло несколько напряженных мгновений. Слышался лишь топот приближавшихся галопом коней. Потом в напряженной тишине вновь прозвучал голос часового:
— Там вино! — с ликованием воскликнул он. — Евмен прислал вина с отрядом штурмовиков!
Напряжение разрядилось океаническим хохотом, и вскоре под рукоплескания товарищей в лагерь ворвались штурмовики — каждый с двумя мехами вина, притороченными к крупам коней на манер переметной сумы.
— Ну что, поедим? — спросил Леоннат, слезая с коня и расстегивая панцирь.
— Поедим, поедим, — ответил Неарх.
— И выпьем, клянусь Зевсом! — расхохотался Александр. — Спасибо царскому секретарю.
Они уселись на теплом песке, и моряки начали подавать рыбу.
— Тунец кусочками по-кипрски! — торжественно объявил моряк из Пафоса. — Наше фирменное блюдо.
Все набросились на еду, и беседа тут же оживилась, так как у каждого нашлось что рассказать: то были истории о лишениях и опасностях, о бурях и штилях, о ночных засадах и морских чудовищах, о том, как долго боялись они больше никогда не увидеть своих друзей.
— А где-то теперь Кратер? — вдруг спросил Александр.
И товарищи на мгновение замолчали, переглянувшись.
ГЛАВА 61
Кратер со своим войском прибыл в Салмос через пятнадцать дней, и ликование Александра и его друзей вознеслось до небес. Они долго пировали, а когда войско вновь выступило в поход, царь не захотел прерывать празднества. Он велел построить повозки, на которых приказал установить пиршественные ложа и столы, так что пирующие могли лежать, выпивая и смеясь. Солдаты тоже получили возможность в свое удовольствие приложиться к мехам с вином, которые везли за колонной.
На одной из повозок ехал Калан, и порой царь и его товарищи подсаживались к мудрецу, чтобы послушать его поучения.
Все вокруг оглашалось песнями. Не стало войска, шагающего в сердце Персиды, — был комос Диониса, шествие в честь бога, освобождающего человеческое сердце от всех тревог радостью вина и весельем.
Между тем Неарх отбыл со своим флотом, выполнив необходимый ремонт и пополнив трюмы всем необходимым для долгого путешествия. Через пролив Гармозия корабли вышли в Персидский залив, направляясь к устью Тигра. Их целью были Сузы, куда можно было добраться по судоходному каналу. Тяжкие времена наконец-то остались позади, и моряки мощно гребли и бодро управлялись с парусами и шкотами, торопясь завершить свои приключения.
Был лишь один напряженный момент, когда на волнах близ флагманского корабля поднялись высоченные струи, а вслед за ними появились блестящие спины гигантских существ, которые вскоре снова погрузились в море, всплеснув огромными хвостами.
— Но… что это? — спросил перепуганный моряк-киприот, тот самый, что готовил ужин на пляже для царя и его товарищей.
— Киты, — ответил боцман-финикиец, которому доводилось плавать за Геркулесовыми столбами. — Они ничего нам не сделают, только нужно быть внимательными и не таранить их, ведь им стоит лишь хлопнуть хвостом, и… Прощай, флагманский корабль! Проглотят тебя одним глотком!
— Я предпочитаю тунцов, — пробормотал моряк и снова спросил, встревоженный: — Но ты уверен, что они не нападут на нас?
— На море ни в чем нельзя быть уверенным, — ответил Неарх. — Возвращайся на свой пост, моряк.
Войско Александра продолжило поход по дороге, ведущей в Пасаргады, и царь обнаружил, что гробницу Кира кто-то осквернил: саркофаг был открыт, и тело Великого Царя выбросили наружу. Желая узнать, кто это сделал, Александр велел допросить и судить магов, в чьи обязанности входило следить за гробницей, но они ничего не сказали даже под пыткой. Тогда царь отпустил их и велел вернуть гробнице прежний облик, после чего продолжил свой путь к Персеполю. Тем временем слух о его возвращении уже распространился, и многих сатрапов, а также наместников-македонян это привело в замешательство. Все они полагали, что Александр умер, и погрязли в воровстве и всевозможных грабительских поборах.
Царский дворец предстал перед Александром таким, каким был после ужасного пожара: только каменные колонны и гигантские порталы торчали на огромной площади, почерневшей от дыма, покрытой пеплом и сухой грязью. Драгоценные камни из барельефов вытащили, комки расплавившегося при пожаре драгоценного металла вырвали и растащили. Единственной памятью о величии Ахеменидов оставался огонь, горевший перед гробницей Дария III.
Царь вспомнил о Статире, которую не видел так давно. Получила ли она письмо, посланное ей с берегов Инда? Он написал ей снова. Сообщил, что любит ее и встретится с ней в Сузах.
Однажды вечером, когда Александр вместе с Роксаной отдыхал на веранде дворца сатрапа, ему объявили о госте, и вскоре вошел тучный плешивый человек, который приветствовал царя с широкой улыбкой.
— Мой государь, ты не представляешь, как я рад снова тебя видеть. Но… я не вижу собаки, — добавил он, подозрительно озираясь.
— Евмолп из Сол… Перитаса больше нет. Он погиб в Индии, спасая мою жизнь.
— Мне очень жаль, — ответил осведомитель. — Я знаю, что ты его очень любил.
Александр кивнул.
— Букефал тоже умер, как и многие, многие мои друзья. Это был тяжелейший поход. Но откуда ты взялся? Я считал тебя мертвым, ведь ты исчез, ничего не сказав, и больше я тебя не видел.
— Если уж говорить об этом, то и я считал тебя мертвым. Что касается моего исчезновения, то это нормально. Как только я понял, чего ты от меня хочешь, я, недолго думая, испарился при первой же благоприятной возможности: хороший осведомитель никому не сообщает о своих передвижениях, даже работодателю.
— Насколько я тебя знаю, — сказал Александр, — ты пришел сюда не только ради удовольствия увидеть меня снова.
Евмолп протянул ему свиток.
— Это действительно так. В твое отсутствие, мой государь, и согласно твоим пожеланиям, если помнишь, я был твоими глазами и ушами. Я не забываю добра, а ты оказал мне доверие и сохранил жизнь, когда все хотели предать меня смерти. Здесь написаны вещи, которые тебе вряд ли понравятся: это полный список всех злодейств, грабежей, разбоев и актов насилия, совершенных в твое отсутствие сатрапами и наместниками, в том числе македонянами. Здесь также список всех свидетелей, которых ты сможешь допросить, если захочешь устроить суды. Для начала — ответственный за царскую сокровищницу, этот хромец… Приятель Евмена…
— Гарпал?
— Он самый. Он забрал из сокровищницы пять тысяч талантов, завербовал шесть тысяч наемников и направляется в Киликию, если мои осведомители сообщают точно. Полагаю, он снюхался с некоторыми своими афинскими дружками, которые не слишком тебя жалуют.
— С Демосфеном?
Евмолп кивнул.
— По-твоему, куда он направился?
— Вероятно, в Афины.
В это время вошел Евмен с выражением большой обеспокоенности на лице.
— Александрос пришло ужасное известие! Я даже не знаю, с чего начать, потому что… в некотором смысле это моя вина.
— Гарпал? Уже знаю. — Царь кивнул на Евмолпа, который притаился в углу, стараясь остаться незамеченным. — И знаю много всякого другого, весьма неприятного. Вот что следует нам сделать: немедленно проверь обоснованность обвинений, приведенных в этом документе, и возбуди дела против всех указанных лиц, будь они македоняне, персы или мидийцы. После этого устрой показательные суды. Македонян, если окажутся виновными, будет судить собрание войска, и приговор будет исполняться по традиционному ритуалу.
— А Гарпал?
— Разыщи этого проклятого хромоножку, Евмен, — приказал Александр, побледнев от негодования. — Разыщи во что бы то ни стало. И убей, как собаку.
Евмолп из Сол встал.
— Мне кажется, мы сказали все, что следовало сказать.
— Да. Евмен щедро заплатит тебе.
Евмен кивнул, еще более встревоженный.
— Это не твоя вина, — проговорил Александр, вставая. — Ты никогда не обманывал моего доверия, и я знаю, что никогда не обманешь.
— Благодарю, но это не облегчает моего разочарования.
Он направился к выходу и в дворцовом коридоре встретил Аристандра. У ясновидца странно светились глаза, вид у него был потрясенный, и он не поздоровался. Возможно, он даже не заметил секретаря.
Аристандр вошел к Александру, и выражение его лица глубоко поразило царя.
— Что случилось? — спросил Александр и понял, что боится ответа.
— Мой кошмар. Он вернулся.
— Когда?
— Этой ночью. И есть кое-что еще.
— Говори.
— Калан заболел.
— Невозможно! — воскликнул Александр. — Он перенес самые страшные лишения, кровавые испытания, дожди и палящее солнце, голод и жажду…
— И, тем не менее, ему очень плохо.
— Давно?
— С тех пор, как мы прибыли в Персеполь.
— Где он сейчас?
— В отведенном ему доме.
— Проводи меня к нему немедленно.
— Как изволишь. Следуй за мной.
— Куда ты, Александрос? — встревожено спросила Роксана.
— К другу, которому плохо, любовь моя.
Он пересек город, на который опустилась вечерняя тень, и оказался перед красивым домом, окруженным портиком; раньше здесь жил персидский вельможа, но он пал в сражении при Гавгамелах. Александр отдал этот дом Калану, чтобы тот мог расположиться там с удобствами после утомительного похода.
Вдвоем с Аристандром они прошли по тихим коридорам и добрались до комнаты, едва освещенной последними лучами солнца. Калан лежал на расстеленной на полу циновке. Его глаза были закрыты. Он совсем исхудал.
— Каланос, — прошептал царь.
Мудрец открыл глаза, черные, огромные, лихорадочные.
— Мне плохо, Александрос.
— Не могу поверить этим словам, учитель. Я видел, как ты шел через всевозможные испытания, не чувствуя боли.
— А теперь я страдаю. И страдание мое невыносимо. Александр обернулся и встретил нахмуренный взгляд ясновидца.
— Что за страдание? Скажи мне, чтобы мы могли помочь.
— Это страдание души, самое жестокое, и от него нет лекарства.
— Но что у тебя болит? Разве ты не прошел весь путь, ведущий к невозмутимости?
Глаза Калана и Аристандра встретились, и в них отразилось мрачное взаимопонимание. Мудрец с трудом заговорил снова:
— Прошел. Пока не встретил тебя, пока не увидел в тебе мощи бурного океана, дикой силы тигра, грандиозности заснеженных пиков, подпирающих небо. Я хотел узнать тебя и твой мир. Я возжелал спасти тебя, когда слепая ярость толкала тебя к разрушениям. Но я знал, что сделаю, если ты падешь. И я заключил договор с самим собой. Я полюбил тебя, Александрос, как и все, кто знал тебя. Я мечтал следовать за тобой, чтобы защитить тебя от твоих инстинктов, научить мудрости, отличной от той, которой обучали тебя философы и воины — все, кто сделал из тебя несокрушимый инструмент разрушения. Но твою тантру нельзя согнуть таким образом, теперь я знаю это. Теперь я вижу то, что грядет, что неотвратимо. — Он снова поднял глаза и встретился с трепетным взглядом Александра. — И это увеличивает безмерность моих страданий. Если я доживу до того, чтобы въяве увидеть грядущее, боль никогда не позволит мне достичь высшей невозмутимости и растворить душу в бесконечности. Ты же не хочешь этого, Александрос, не хочешь, правда?
Александр взял его за руку.
— Нет, — ответил он сорвавшимся от волнения голосом. — Не хочу, Калан. Но скажи мне, прошу тебя, скажи, что это за страшное грядущее?
— Не знаю. Я лишь чувствую. И не могу этого вынести. Позволь мне умереть так, как я поклялся умереть.
Царь поцеловал скелетоподобную руку великого мудреца, потом взглянул на Аристандра и сказал:
— Выслушай его последнюю волю и скажи Птолемею, чтобы исполнил ее. Я… я… не могу…
И ушел, плача.
В условленный день Птолемей выполнил все, о чем его просили, и начал готовить Калана в последний путь к бесконечной невозмутимости.
Он велел воздвигнуть погребальный костер — в десять локтей высотой и в тридцать шириной. Вдоль дороги, ведущей к костру, выстроились пять тысяч педзетеров в парадных доспехах, и Птолемей велел молодым девушкам разбросать по пути розовые лепестки. Потом прибыл Калан, столь ослабший и изможденный, что не мог идти, и четыре человека несли его на носилках — по индийскому обычаю, в венке из цветов. Его положили на костер голым, каким он пришел в мир, и хор юношей и девушек пел красивейшие гимны о его земле. Потом из рук в руки передали зажженный факел.
Сначала Александр решил не присутствовать на погребении. Однако в последний момент вспомнил, как Калан пробудил его к жизни, когда он умирал, и решил оказать ему последние почести. Александр смотрел на мудреца, голого и хрупкого, и ему опять вспомнился Диоген, лежавший с закрытыми глазами перед своей амфорой на солнце. Тем далеким вечером, наедине, философ сказал Александру то же самое, что говорил Калан, — говорил, не открывая рта, в темноте шатра, когда раненый царь боролся со смертью:
«Нет такого завоевания, которое имело бы смысл; нет такой войны, где стоило бы сражаться. В конце концов, единственная земля, что останется нам, — та, в которой нас похоронят».
Александр поднял голову и увидел, как тело Калана охватило пламенем. Невероятно, но в этой огненной плазме мудрец улыбнулся, и показалось, что он шевелит губами, шепча. Шум пламени был слишком силен, чтобы что-то расслышать, но в голове Александра отчетливо прозвучал голос мудреца:
«Увидимся в Вавилоне».
ГЛАВА 62
Вскоре Александр покинул Персеполь с его печальными воспоминаниями и направился в Сузы, куда и прибыл в середине зимы.
Почти тотчас он нанес визит царице-матери, которая разволновалась, увидев его, и вышла навстречу поприветствовать на греческий манер, по-дружески:
— Хайре, пай!
— Твой греческий безупречен, царица, — поздравил ее Александр. — Счастлив застать тебя в добром здоровье.
— Я плакала, получив известие о твоей смерти, — ответила царица. — Представляю горе твоей одинокой матери в Македонии.
— Я послал ей письмо, как только прибыл в Салмос, и думаю, сейчас она уже получила его и утешилась.
— Могу я надеяться, что ты соизволишь пообедать со мной?
— Конечно. Мне это доставит большое удовольствие.
— В моем возрасте я ни от чего не получаю такого удовлетворения, как от визитов, и твой — самый желанный. Садись, мальчик мой.
Александр сел.
— Царица, я пришел не только поздороваться с тобой.
— А зачем еще? Говори, не стесняясь.
— Я слышал, что у царя Дария была еще одна дочь.
— Да, это правда, — признала Сизигамбис.
— Так вот, я хочу жениться на ней.
— Зачем?
— Я хочу собрать наследие Дария. Его семья должна стать моей.
— Понимаю.
— Могу я надеяться на твое позволение?
— Если бы был жив ее отец, он бы все равно выдал ее замуж, желая укрепить какой-нибудь политический союз или упрочить преданность своего сатрапа. Он не стал бы возражать; однако ее имя напомнит тебе великую утраченную любовь. Знаешь, как ее зовут? Барсина.
Александр опустил глаза, охваченный воспоминаниями. Образы, казавшиеся поблекшими от времени, вдруг ярко вспыхнули в его памяти.
— Этот ужасный день при Гавгамелах, — продолжала царица-мать. — Никогда его не забуду… Статира будет счастлива жить со своей старшей сестрой. Но Роксана?
— Роксана меня любит. Она знает, что царица — она, а также знает долг царя. Я с ней уже поговорил.
— И что она сказала?
— Она заплакала. Как плакала моя мать, когда мой отец Филипп привел новую жену. Но я люблю ее больше всего на свете, и она знает это.
— Я охотно отдам тебе Барсину. Ты уже соединил дом Аргеадов с домом Ахеменидов: ты и мы больше не победители и побежденные. Но как ее воспримут твои солдаты?
— Я смогу убедить их.
— Ты так полагаешь?
— Уверен. И у меня есть к тебе еще одна просьба: прошу у тебя и младшую сестру Статиры и Барсины.
— Ты хочешь и Дрипетис? Естественно.
— Не для себя. Для моего друга Гефестиона. В детстве мы думали, что будет здорово, если мы женимся на сестрах и наши сыновья станут двоюродными братьями. Теперь это возможно, если ты согласишься.
— Я согласна всей душой. Остается лишь надеяться, что этот брак будет принят твоей знатью.
— Не сомневаюсь и в этом, — ответил Александр. — Многие мои солдаты уже живут с персидскими и мидийскими женщинами и имеют от них детей. И правильно делают. Для некоторых я сам выбираю персидских жен. В конечном итоге, я подсчитал, свершилось около десяти тысяч браков.
Старая царица вытаращила глаза, и морщины на ее лице разбежались по скулам.
— Десять тысяч? О великий Ахура-Мазда, такого в мире еще не видывали! — Она улыбнулась с невинной хитростью. — А с другой стороны, полагаю, ты прав: брачное ложе — самое подходящее место для основания долгого мира.
Пока все устраивали к новой свадьбе, Александр начал замышлять новые походы, чтобы открыть еще неведомые земли, и потому с нетерпением ждал прибытия Неарха с флотом. Флотоводец сообщал, что с началом весны прибудет в устье Тигра.
Флагманский корабль, подняв знамя Аргеадов с золотой звездой, наконец, бросил якорь в плавучем доке канала, который подходил почти под самые городские стены. Вслед за ним под радостные возгласы, рукоплескания, звуки труб и бой барабанов пришвартовался остальной флот.
Неарх, облаченный в доспехи, принял почести от строя двух отрядов педзетеров, а потом был принят Александром, восседавшим на троне рядом с Роксаной. Она была ослепительна в царских одеждах с золотым шитьем, вся осыпанная драгоценностями.
Едва завидев своего флотоводца, царь встал, пошел ему навстречу и расцеловал в обе щеки, а потом принял Онесикрита и командиров всех кораблей, чтобы поздравить их и каждого наградить подарками.
В тот же вечер царь созвал на ужин всех друзей, включая Неарха и Евмена, чтобы изложить свои планы. Пир устроили в тронном зале, и обеденные ложа поставили вдоль трех стен, чтобы все могли видеть и слышать царя. Не было ни женщин, ни музыкантов, и если бы не пиршественные ложа, собрание могло бы показаться скорее военным советом, чем праздником.
Александр начал:
— Я решил, что пришло время вам жениться. Все в замешательстве посмотрели на него.
— Вы уже достигли определенного возраста, — продолжил он, — и должны подумать о создании семьи. Я выбрал вам прекрасных жен, высочайшего ранга… Все персиянки.
На мгновение воцарилось молчание.
— И не только это, — снова заговорил царь. — Я решил отпраздновать все браки между македонянами и азиатскими девушками, фактически уже заключенные. У многих, как сами знаете, успели родиться дети. Я также выплачу приданое всем тем, кто решит устроить свадьбу сейчас. Разумеется, при условии, что невеста будет персиянка. Это единственный способ обеспечить будущее нашим завоеваниям, погасить взаимную ненависть, уничтожить желание отомстить. Одна родина, один царь, один народ. Таков мой план, и такова моя воля. Если кто-то из вас возражает, пусть говорит без стеснения.
Все затаили дыхание. Только Евмен поднял руку.
— Я не македонянин, а также не герой, как все вы. Я не собираюсь участвовать в основании великой державы. Если бы меня освободили от этой весенней оргии размножения, это было бы для меня большим облегчением. От одной мысли о жене в моей постели у меня мороз по коже, и…
— Твою будущую жену, — с улыбкой перебил его Александр, — зовут Артонис, это дочь сатрапа Артаоза, очень изящная и преданная. Она тебя осчастливит, я уверен.
Церемония состоялась весной, под огромным шатром, по персидскому ритуалу. В заранее установленном порядке были расставлены кресла с высокими спинками. Прибыли женихи, чтобы по обычаю произнести тосты и взаимные пожелания счастья. Вскоре после этого вошли невесты в брачных одеждах, и каждая села рядом со своим женихом. По примеру царя, возглавившего церемонию, новобрачные взяли друг друга за руку и поцеловались. Каждому гостю подарили по золотому кубку. Накрыли столы для ужина — шумного пира на двадцать тысяч приглашенных. Вино лилось рекой, и каждый мог пить сколько угодно, а хоры девочек и мальчиков распевали свадебные гимны под аккомпанемент вавилонских и индийских арф, флейт и тимпанов.
За два дня до свадьбы из Экбатан прибыла Статира. Она тоже приняла участие в церемонии в качестве подруги своей сестры Барсины. Когда пришла пора уходить, она проводила сестру до порога спальни, где той предстояло соединиться со своим новым мужем. Александр приветствовал Статиру поцелуем.
— Я рад, что ты приехала, Статира. Прошло так много времени с тех пор, как мы виделись в последний раз.
— Это так, мой господин, много времени прошло.
— Надеюсь, ты в добром здоровье.
— В добром, — ответила она с загадочной улыбкой, — но спрашиваю себя, в таком ли добром здоровье и ты.
— Возможно, я немного выпил, — отозвался Александр, — но в такую ночь вино не принесет ничего, кроме добра.
— И верно, ведь твоего внимания жаждут тридцатилетняя девственница, а также жена, не видевшая тебя более четырех лет.
Александр как будто на мгновение задумался над этими словами.
— Как летит время…
Потом подошел к ней поближе, посмотрел прямо в глаза и спросил:
— Ты хочешь предложить мне свою любовь или откажешь?
— Отказывать тебе? С чего бы это? Я буду ждать в соседней комнате, пока ты осчастливишь мою дорогую сестру: она новая жена и имеет право снять сливки твоих сил, — ответила Статира с самой ласковой улыбкой.
Она поцеловала его и удалилась в свою комнату, закрыв за собой дверь.
В эту ночь царь возлег с обеими своими персидскими женами — сначала с Барсиной, а потом со Статирой, но, когда Статира наконец заснула, накинул на плечи хламиду и вышел в коридор. Он огляделся и, увидев, что все спокойно, спустился по лестнице, пересек двор и пришел в царские палаты к Роксане. Александр старался не шуметь, но едва он улегся рядом, как она вдруг повернулась к нему и набросилась, словно фурия, молотя кулаками и царапая ногтями.
— На тебе еще запах этой бабы, и ты смеешь приближаться ко мне! — кричала она.
Александр схватил ее за запястья и прижал к постели. Он чувствовал, как она пытается вырваться и пыхтит под ним, но ничего не сказал. Он позволил ей кричать, сколько заблагорассудится, а потом она заплакала и плакала долго и безутешно. Наконец Александр отпустил ее и снова лег рядом, дожидаясь, когда пройдет ее гнев.
— Если хочешь, я уйду, — сказал он. Роксана не ответила.
— Я тебе говорил, что женюсь на Барсине и что вернется Статира. У царя есть обязанности…
— Это ничего не меняет! — крикнула Роксана. — Думаешь, от этого мне легче?
— Нет, не думаю, — ответил Александр. — Вот почему я и спросил, хочешь ли ты, чтобы я ушел.
— И ты правда уйдешь? — спросила она.
— Только если ты меня попросишь, — ответил царь. — Но надеюсь, что этого не случится, потому что ты единственная женщина, которую я любил за всю мою жизнь.
Роксана долго лежала, ничего не говоря, а потом проговорила:
— Александрос…
— Да?
— Если ты сделаешь это, ты убьешь меня, а вместе со мной умрет и твой ребенок. Я беременна.
В темноте Александр крепко сжал ее руку.
На следующий день царь объявил, что лично оплатит долги всех солдат-македонян, которые брали денежные ссуды. Сначала многие не посмели признаться, подозревая, что это военная хитрость, чтобы выяснить, кто не в состоянии вести свои дела должным образом и кому не хватает щедрого жалованья.
Но Александр, видя, что заявлений о возмещении долгов мало, дал понять: он не хочет знать личности должников, но намерен лишь уточнить общую сумму задолженности. Тогда все набрались мужества, представили Евмену документы, подтверждающие ссуды, и получили деньги на погашение долга.
Царский секретарь подсчитал расход: он составил десять тысяч талантов.
К концу весны царь устроил маневры близ Описа, вдоль Тигра, где к нему присоединились тридцать тысяч персидских юношей, обученных на македонский манер. Состоялся грандиозный парад, на котором молодые азиатские воины, получившие имя Преемников, проявили исключительную доблесть и отличную выучку. Это вызвало раздражение у македонских солдат, боявшихся, что их поставят на одну доску с теми, кого они разбили на поле боя. Их недовольство усилилось еще более, когда они узнали, что Александр собирается уволить всех раненых, инвалидов и калек и отослать их на родину вместе с Кратером, которому надлежало заменить старого Антипатра на месте регента Македонии.
— Они разъярены, — доложил царю Кратер, — и просят, чтобы ты принял от них делегацию.
Маневры закончились, и молодые Преемники вернулись в свои шатры. Александр велел вынести наружу свой трон и сказал другу:
— Пусть придут, — но было видно, что он не в духе и очень раздосадован.
Кратер отправился в македонский лагерь, строго отделенный от персидского, и вскоре показался отряд солдатских представителей от разных частей войска: конницы, тяжелой пехоты, штурмовиков, «щитоносцев», конных лучников.
— Чего вы хотите? — холодно спросил у них царь.
— Это правда, что ты отправляешь домой ветеранов, инвалидов и калек? — спросил командир отряда педзетеров, самый пожилой в делегации.
— Да, — ответил царь.
— И ты считаешь, что это хорошо?
— Это необходимо. Будут новые походы, а ветераны уже не в состоянии сражаться.
— Но что ты за человек? — крикнул другой. — Теперь, когда у тебя есть эти маленькие варвары, разодетые, как дамочки, играющие в солдатики и устраивающие пируэты, тебе не нужны твои солдаты, потом и кровью завоевавшие для тебя полмира!
— Верно! — воскликнул третий. — Теперь ты посылаешь их домой, но какими? Такими ли, какими оторвал от семей десять лет назад? Нет! Тогда они были молодыми, сильными, совершенными! А теперь они измучены, опустошены, изранены, искалечены, они инвалиды. Какова будет их жизнь на родине? А ты подумал о тех, кто уже не вернется? Кто погиб, попав в засаду, кто замерз в снегах, разбился, упав с горных скал, утонул в илистых водах Инда, кого сожрали крокодилы, укусили ядовитые змеи, кто погиб от жажды и голода в пустыне! О них ты подумал? А об их вдовах и детях? Нет, государь, не подумал, а то не принял бы такого решения. Мы всегда тебя слушали, всегда повиновались, но теперь ты выслушай нас! Мы, твои солдаты, устроили собрание и решили: всех или никого!
— Что ты хочешь сказать? — спросил Александр, мрачнея все больше.
— Я хочу сказать, — ответил командир роты, — что если ты соберешься отправить домой ветеранов и инвалидов, то тебе придется послать домой всех. Да, мы возвращаемся. Оставайся со своими варварами в золоченых панцирях, и посмотрим, способны ли они потеть кровавым потом, как мы. Прощай, государь.
Солдаты легко кивнули царю, повернулись и размеренным шагом пошли в лагерь.
Александр встал, побледнев от гнева, и обратился к всадникам своей личной охраны:
— Вы думаете так же? Их командир молчал.
— Вы думаете так же? — снова крикнул царь.
— Мы думаем так же, как и наши товарищи, государь, — последовал ответ.
— Тогда уходите! Я освобождаю вас от службы: вы мне больше не нужны.
Командир кивнул в знак того, что понял, после чего собрал своих солдат, и они галопом ускакали в лагерь.
Вскоре их место заняли персидские Преемники, до того красовавшиеся перед царским шатром в новых блестящих доспехах, узорчатых одеждах, под пурпурно-золотистыми знаменами.
Два дня Александр отказывался видеть своих солдат и сообщать им о своих намерениях, но его жест вверг всех в замешательство. Солдаты чувствовали себя, как стадо без пастуха, как дети без отца, одни посреди чужой страны, которую завоевали и которая теперь смотрела на них снисходительно-насмешливо. А над всеми этими чувствами преобладало одно: страдание оттого, что царь лишил их своего присутствия. Теперь он без них замышляет новые походы, без них предается новым мечтам, без них затевает новые удивительные приключения. Боль оттого, что больше они не видят Александра, не чувствуют его близости. Прошло два дня, а царь все не показывался. На третий день некоторые солдаты сказали:
— Мы поступили нехорошо. В глубине души он всегда любил нас, всегда страдал вместе с нами, ел то же, что и мы, и был ранен больше, чем любой другой. Он заваливал нас подарками и наградами. Пойдем в его шатер и попросим у него прощения.
У других это вызвало смех:
— Да, да, идите, идите, и получите пинок под зад!
— Может быть, и получим, — сказал тот, что заговорил первый. — Но я пойду, а ты как хочешь.
Он снял доспехи и в одном хитоне, босой, пошел из лагеря. Другие последовали его примеру. Их становилось все больше, пока половина войска не собралась вокруг царского шатра под удивленными взглядами персидской стражи.
В это время их увидел проходящий мимо Кратер. Прибывший с задания на Тигре Птолемей спросил:
— Что здесь происходит?
Они вошли в шатер, и Кратер сказал:
— Там снаружи люди, Александр.
Тут кто-то рядом с шатром крикнул:
— Прости нас, государь!
— Я слышу, — ответил Александр с очевидным бесстрастием.
— Александр, выслушай нас! — раздался другой голос. Птолемей не смог сдержать своих чувств:
— Почему ты не выйдешь к ним? Это же твои солдаты.
— Это больше не мои солдаты. Не я отверг их, а они отвергли меня. Они не захотели меня понять.
Птолемей больше ничего не добавил: слишком хорошо он знал своего друга, чтобы настаивать в такой момент.
Прошел еще день и ночь, и еще один день, и еще одна ночь, и жалобные крики солдат становились все громче, а просьбы все настойчивее.
— Все, хватит! — крикнул Птолемей. — Хватит! Они не спят и не едят двое суток. Если ты человек, выйди к ним! Ты что, действительно не можешь их понять? Ты царь, тебе знакомы интересы власти и политики, а они знают одно: ты привел их на край света, позволил им проливать кровь за тебя, а теперь отсылаешь прочь и окружаешь себя теми, с кем до вчерашнего дня они сражались. Неужели тебе не понять их чувств? Или ты думаешь, что заплаченные им деньги могут заглушить эти чувства?
Александр как будто очнулся и посмотрел в лицо Птолемею, словно впервые услышал такие слова. Потом встал и в угасающем свете дня вышел из шатра.
Там было все войско: тысячи солдат без оружия и доспехов сидели в пыли на земле, многие в слезах.
— Я услышал вас, солдаты! — воскликнул царь. — Думаете, я глухой? А вы знаете, что по вашей вине я две ночи не спал?
— И мы две ночи не спали, государь! — ответил чей-то голос из толпы.
— Потому что вы неблагодарные, потому что не хотите понять меня, потому что… — закричал Александр.
Но вперед вышел однорукий седобородый ветеран с длинными спутанными волосами; он посмотрел ему прямо в глаза и сказал:
— Потому что мы сильно тебя любим, мальчик.
Александр закусил губу, почувствовав, что сейчас расплачется, как маленький, — он, царь Македонии, Царь Царей, фараон Египта, владыка Вавилона, расплачется, как глупый мальчишка, перед всей этой проклятой солдатней. И он расплакался. Горючими слезами, безудержно, даже не закрыв лица. А когда, наконец, успокоился, то ответил:
— И я вас сильно люблю, мерзавцы!
ГЛАВА 63
Александр, сидя в своем кресле на возвышении, смотрел на солдат, которых трубой созвали к нему. Потом сделал знак Евмену, и тот начал читать:
Александр, царь македонян и всегреческий гегемон, постановляет:
Ветераны, признанные врачом непригодными к военным действиям, возвращаются на родину с Кратером.
Они получат от царя личный подарок, чтобы всегда помнили о том, как боги соизволили оставить им жизнь. Кроме того, каждый из них получит золотую корону, чтобы по праву носить на всех публичных мероприятиях, на атлетических состязаниях и театральных представлениях. В таких случаях они должны сидеть в первых рядах на отведенных им почетных местах.
Кроме того, царь постановляет, что они получат пожизненное содержание, а сироты, чьи отцы с честью пали на поле брани, получат содержание до достижения двадцатилетнего возраста.
Македоняне из царской охраны восстанавливаются в своей должности. Получившие легкие ранения или заболевания после излечения возвращаются в строй. Царь выделяет своего личного врача Филиппа, чтобы занялся ими, и всем выражает свою глубокую благодарность и добрые чувства. Навсегда!
При этих словах раздались стук мечей по щитам, восклицания, песни и восторженные крики.
Через четыре дня колонна во главе с Кратером отправилась в направлении Евфрата и моря. Александр смотрел им вслед, пока последний человек не скрылся за горизонтом.
— С ними ушла и частица меня, — проговорил он.
— Ты прав, — откликнулся Евмен, — но ты издал прекрасное постановление. Можешь не сомневаться: теперь все они будут ходить в театр, даже те, кто раньше туда ни ногой, просто ради возможности сесть на специальные места в первом ряду и покрасоваться на публике золотой короной.
— А как, ты думаешь, воспримет это Антипатр?
— Замену Кратером? Не знаю. Он всегда был тебе предан и верно служил. Испытает горечь, это точно, но не более того. А с другой стороны, он — последний из старой гвардии твоего отца. Что ты собираешься делать теперь?
— Помнишь уксиев?
— Кто забудет этих дикарей!
— На севере есть племя еще более дикое — касситы. Они склонны попытаться восстановить прежнюю власть. Нужно уладить это дело. Потом пойдем в Экбатаны, последнюю столицу, и утвердим там нашу власть, чтобы провести ревизию в царской сокровищнице и осудить лихоимцев-правителей. Оттуда — в Вавилон, будущую столицу державы.
— Сколько это займет, на твой взгляд?
— Два, может быть, три месяца.
Александр ошибался: на покорение касситов ушла вся весна, и большую часть лета он провел в Экбатанах. Три высоких македонских военачальника — Геракл, Мелеагр и Аристоник — были обвинены во взяточничестве, воровстве и святотатстве в стенах персидских святилищ и казнены. Таким образом, царь продемонстрировал, что не делает различия между македонянами и персами. И действительно, немало правителей-персов, уличенных в мздоимстве и расхищении казны, были подвергнуты мучительной казни. Во всех случаях сведения, полученные от Евмолпа из Сол, подтвердились.
Завершив эти дела, царь решил объявить праздник с играми и представлениями, тем более что из Греции прибыло три тысячи атлетов, актеров и постановщиков. Их разместили в царском дворце вместе с Роксаной. Статира вместе с сестрой поселилась во дворце в Сузах. Таким образом они избежали ревности со стороны Роксаны, которая становилась все сильнее, поскольку царица осознавала свою власть над сердцем мужа — он ни в чем не мог ей отказать. Однажды вечером после любовных утех, когда она, как обычно, лежала рядом с ним, положив голову ему на грудь, Роксана сказала:
— Теперь я совершенно счастлива, Александрос.
Царь крепко обнял ее.
— И для меня это счастливое время, — ответил он. — Мой флот вернулся целым и невредимым, я закончил все военные походы, помирился с моими солдатами, объединил два рода браком, и скоро у меня будет сын.
— Погоди говорить, — засмеялась Роксана. — Еще может быть и дочь.
— Ну нет, — возразил Александр. — Я уверен, что будет мальчик, Александр Четвертый! Ты станешь матерью наследника трона, Роксана. И чтобы отметить это, я устрою грандиозные празднества с состязаниями и театральными представлениями. Есть вещи, которых ты не знаешь, но я уверен, что быстро освоишь их и полюбишь. Представь себе сотни колесниц, запряженных четверками коней, которые несутся с безумной скоростью; представь истории, изображаемые на сцене людьми, которые притворяются персонажами этих историй; представь атлетов, состязающихся в беге, борьбе, прыжках, метании копья. А еще танцы, музыка, песни…
Девушка смотрела на него в восхищении. Оставив родные горы, населенные одними пастухами, она навидалась всяких чудес, и жизнь с всемогущим Александром представлялась ей бесконечным сном.
Начались празднества и пиршества, но во время этих торжеств заболел Гефестион. Получив от Евмена известие об этом, царь тут же поспешил к его постели.
— Что с ним? — спросил он.
— Сильная лихорадка и тошнота, — ответил Евмен.
— Позови Филиппа.
— Ты забыл, что оставил его в Сузах? Я велел прийти Главку, он прекрасный врач.
Несмотря на лихорадку, Гефестион сохранил способность шутить:
— Не нужно врачей. Лучше пришлите мне кипрского вина, и все пройдет.
— Не паясничай, — осадил его Александр. — Делай, что скажет врач.
Спешно явившийся Главк обнажил грудь больного и прослушал его.
— Интересно, почему у врачей всегда такие холодные уши, прямо лед! — воскликнул Гефестион.
— Если хочешь врача с теплыми ушами, достаточно только позвать, — пошутил Евмен. — Твой друг — владыка мира и найдет все, чего пожелаешь.
Главк начал щупать надутый и твердый живот пациента.
— По-моему, ты заболел оттого, что съел какую-то дрянь. Я пропишу тебе слабительное, а потом тебе придется поголодать по меньшей мере три дня и пить только воду.
— Ты уверен, что это хорошее средство? — спросил Александр.
— Думаю, Филипп прописал бы то же самое. Если бы он был не так далеко, я бы послал гонца проконсультироваться с ним, но думаю, дело того не стоит. Подобная болезнь должна пройти скорее, чем гонец доберется до Суз.
— Тем лучше. И все же не спускай с него глаз. Гефестион — мой самый дорогой друг.
При этих словах взгляд царя упал на украшение, висевшее на шее у Гефестиона, — это был оправленный в золото молочный резец, зуб Александра. А сам царь носил при себе детский зуб Гефестиона — первый залог дружбы, которым они обменялись давным-давно.
— Не бойся, государь, — ответил врач. — Мы поставим Гефестиона на ноги в кратчайший срок.
Александр вышел, а врач скорее дал пациенту слабительного и предписал диету.
— Через три дня, если станет лучше, можешь выпить немного куриного бульона.
И действительно, через три дня Гефестиону полегчало: лихорадка спала, хотя и оставалась еще довольно сильной, и живот уже не так пучило. В этот день были назначены гонки квадриг, и Главк, страстный любитель лошадей, зайдя проведать пациента и увидев, что ему лучше, попросил разрешения отлучиться на несколько часов:
— Сегодня гонки, на которые мне очень хотелось бы посмотреть. Я бы пошел туда, если у тебя нет никаких возражений.
— Конечно нет, — ответил Гефестион. — Иди спокойно, развлекись.
— Можно не волноваться? Ты будешь осмотрителен?
— Можешь быть совершенно спокоен, ятре. После того, что я перенес за последние десять лет, какая-то лихорадка мне не страшна.
— Во всяком случае, до вечера я вернусь.
Главк вышел, а Гефестион, не в силах больше терпеть голодания и слабительных, позвал слугу и велел приготовить пару жареных цыплят и подать к ним ледяного вина.
— Но, господин… — попытался возразить слуга.
— Ты послушаешь меня или велеть тебя высечь? — заорал на него Гефестион.
Перепуганный слуга сдался: приготовил цыплят и сходил за вином, хранившимся в погребе в снегу. Гефестион жадно набросился на мясо и выпил пол-амфоры ледяного вина.
К вечеру Главк вернулся в превосходном настроении и вошел в спальню пациента.
— Как тут наш доблестный воин? — спросил врач, но тут его взгляд упал на цыплячьи кости, а потом на валявшуюся в углу пустую амфору, и он побледнел.
Главк медленно повернул голову к постели: Гефестион даже не смог добраться до нее. Он лежал навзничь на полу. Мертвый.
ГЛАВА 64
Об этом немедленно доложили Александру, и царь поспешил в дом друга в слабой надежде, что это какое-то недоразумение. Когда он вошел, там уже находились Евмен, Птолемей, Селевк и Пердикка, и по их лицам и взглядам стало ясно, что никакой надежды нет.
Его друг лежал на постели, причесанный, побритый и переодетый в чистые одежды. Александр бросился на его тело и громко, безутешно зарыдал. А потом сел в угол, обхватив голову руками и молча проливая слезы. Так он сидел всю ночь и весь следующий день. До дежуривших у двери друзей то и дело доносились его стенания и всхлипывания.
На закате следующего дня они решили войти.
— Выйди, — сказал Александру Птолемей. — Выйди отсюда. Мы уже ничем не можем ему помочь, только приготовить к погребению.
— Нет, оставьте меня, я не могу покинуть его. Мой бедный друг! — зарыдал Александр, охваченный отчаянием.
Но товарищи вывели его силой, подняли, как груз, и вынесли прочь, чтобы дать египетским бальзамировщикам подготовить тело должным образом.
— Это моя, моя вина, — стонал Александр. — Если бы я не оставил Филиппа в Сузах, он бы его спас и Гефестион был бы сейчас жив.
— К сожалению, все дело в простой небрежности, — сказал Селевк. — Врач оставил его одного, чтобы пойти на бега, и…
— Что ты говоришь? — вскричал Александр с исказившимся лицом.
— К сожалению, это так. Может быть, он думал, что нет никакой опасности, но… Оставшись один, Гефестион стал есть и пить без меры: объелся мясом, напился ледяного вина, и вот…
— Разыщите его! — закричал Александр. — Разыщите этого червя и немедленно доставьте ко мне!
Стражники разыскали несчастного врача, который укрылся в погребе, и привели к царю, трясущегося и бледного, как полотно. Главк пытался что-то лепетать в свое оправдание, но Александр заорал:
— Молчи, несчастный!
Он со всей силы ударил врача кулаком в лицо, так что тот покатился по земле с расквашенными губами.
— Казнить немедленно, — велел царь, и бедняга повис на руках стражников, плача и умоляя о милосердии.
Казнь состоялась в глубине двора. Главка поставили к стене, а он все плакал и умолял. Командир крикнул:
— Стреляйте! — и лучники одновременно отпустили тетивы.
Врач без единого стона осел в лужу крови и мочи.
Несколько дней Александра одолевала черная меланхолия. Потом, почти в одночасье, на него напало странное безумие — страстное желание воздать честь своему самому любимому другу такими пышными похоронами, каких еще не бывало в мире. Он отправил посольство к оракулу Амона в Сиве, чтобы спросить бога, дозволяется ли устраивать жертвоприношения Гефестиону, как герою, а потом отдал войску приказ отправиться в Вавилон и перенести туда забальзамированное тело, чтобы справить похороны там. Но его товарищи сочли это проявление горя несоразмерным, хотя все они тоже любили Гефестиона. Леоннат никак не мог понять, зачем Александру понадобилось задавать оракулу в Сиве подобный вопрос.
— Александр создает религию для своего нового мира, — объяснил ему Птолемей, — со своими богами и своими героями. Гефестион умер, и Александр хочет, чтобы он стал первым из этих мифических героев. Он уже начал превращать нас в легенду, понимаешь?
Леоннат покачал головой.
— Гефестион умер от несварения желудка. Не вижу в этом ничего героического.
— Потому-то Александр и готовит столь пышное погребение. В конце концов, церемония-то и останется в памяти людей: скорбь Александра по умершему Гефестиону — это скорбь Ахилла над мертвым Патроклом. Не так уж важно, отчего умер Гефестион; важно, кем он был при жизни: великий воин, великий друг, юноша, безвременно сраженный судьбой.
Леоннат кивнул, хотя не был уверен, правильно ли понял мудреные рассуждения Птолемея. Ему подумалось, что Танат пробил брешь в турме Александра, выведя из строя первого из семерки, и он поневоле задумался над тем, кто же станет следующим.
Во время переноса тела в Вавилон царь встретил гадальщиков-халдеев, которые предостерегли его, посоветовав быть начеку и не входить в этот город; если же войдет, то ему уже оттуда не выйти. Александр обратился к Аристандру:
— Что ты об этом думаешь?
— Может ли что-либо помешать тебе сделать то, что ты уже решил?
— Нет, — ответил царь.
— Тогда иди. В любом случае наша судьба в руках богов.
Они въехали в город в начале весны. Александр поселился в царском дворце и сразу стал отдавать приказы по подготовке погребального костра — башни высотой в сто сорок локтей, установленной на искусственной платформе в полстадия шириной.
Проект осуществлял главный инженер Диад из Ларисы, возглавлявший целую армию плотников, декораторов и скульпторов. Чудесное сооружение возвышалось пятью этажами, его украшали статуи слонов, львов и всевозможных мифологических зверей, а также огромные панно со сценами гигантомахии и кентавромахии. По углам установили колоссальные, покрытые чистым золотом факелы, а на верху катафалка водрузили статую сирены в человеческий рост.
Когда огромный погребальный костер был готов, гетайры из отряда Гефестиона перенесли на плечах забальзамированное тело своего командира к основанию башни. Александр и товарищи следовали сзади. Оттуда тело подняли наверх специально построенной машиной и положили на катафалк. Как только солнце скрылось за горизонтом, жрецы разожгли огонь. Сооружение тут же охватило пламенем, которое с ревом поднялось, пожирая статуи, панно, украшения и принесенные в жертву богатства.
Александр без слез созерцал это потрясающее варварское зрелище, сознавая изумление присутствующих, потрясенно взирающих на столь нелепое проявление мощи. Но вдруг, подняв глаза к вершине охваченной огнем башни, начавшей рушиться со зловещим треском, Александр снова увидел двух мальчиков во дворе царского дворца в Пелле. «До смерти?» — спросил тогда Гефестион. «До смерти», — ответил Александр.
Рука инстинктивно потянулась к шее, к оправленному в золото залогу вечной дружбы. Александр разорвал цепочку и бросил медальон в огонь, чтобы растворить его в урагане пламени. И царя охватила бесконечная печаль, глубочайшее страдание. Первый из них, первый и самый любимый из семи друзей, связанных единой клятвой и объединенных мечтой, уходил навсегда. Смерть унесла его, и прах его развеяло ветром.
Весна закончилась, и Александр принялся осуществлять планы мирового господства, а тем временем живот Роксаны рос в ожидании сына. На берегах Евфрата вырыли огромный док, способный принять более пятисот судов, и Неарх собирался начать строительство нового грандиозного флота для исследования Аравии и берегов Персидского залива. Финикийцы перевезли сорок разобранных кораблей к Тапсакскому броду в Верхней Сирии, а потом собрали их и спустили на реку. Они добрались вниз по течению до столицы; в Сидоне, Араде и Библе укомплектовали команды и были готовы пуститься в плавание к самым отдаленным местам таинственной Аравии. Флот состоял из двух пентиер, двух тетриер, двадцати триер и тридцати пентеконтер [28]. За два месяца его переправили из Средиземного моря в южный Океан; ничто не казалось невозможным молодому монарху, не знающему поражений.
Со всего мира — из Ливии и Италии, из Иберии и с Понта, из Армении и Индии — прибывали посольства, чтобы выказать почтение, принести дары и попросить союза, и он принимал всех в своем грандиозном дворце, среди чудес Вавилона, из которого готовился сделать столицу Ойкумены.
Однажды, ближе к началу лета, во время разлива Евфрата, Александр решил спуститься по реке и войти в Паллакоп — канал, служивший для отвода воды, чтобы она не заливала поля.
Он сам встал к кормилу рядом с Неархом и дивился на широкие лагуны, открывавшиеся вдоль канала, из которого высовывались полузатопленные гробницы древних халдейских царей. И вдруг порыв ветра сорвал с его головы широкополую шляпу, защищавшую от солнца, вокруг которой была повязана золотистая лента — символ царского достоинства.
Шляпа утонула, но лента осталась, зацепившись за пучок ивовых прутьев.
Один моряк тут же нырнул и сумел ее поймать. Боясь повредить столь драгоценную вещь, он повязал ленту себе на голову и так поплыл к кораблю. Когда он поднялся на борт, всех поразило это предвестие беды, и следовавшие с царем маги и халдеи шепотом посоветовали ему наградить моряка за спасение царской диадемы, а сразу после этого предать смерти, чтобы остановить злую судьбу.
Царь ответил, что за подобное кощунство довольно и порки, и снова повязал диадему.
Неарх попытался отвлечь Александра разговором о великом походе к Аравии, но увидел во взгляде царя тень — точно такую же, как в тот час, когда он смотрел на сожжение Калана.
Через несколько дней царь, сидя на троне, наблюдал за маневрами своей конницы, проходившими за городской стеной. В какой-то момент он встал, чтобы подойти к командирам, и вдруг, пока все были отвлечены, какой-то незнакомец прошел меж царедворцев и с безумным смехом уселся на царское место. Персидская стража тут же убила его, но халдейские жрецы стали бить себя в грудь и царапать себе лица в знак отчаяния, утверждая, что это — худшее из знамений.
Однако, несмотря на несчастливые предзнаменования, любовь Роксаны и желание увидеть своего сына позволяли Александру отогнать печальные мысли.
— Интересно, на кого он будет больше похож: на тебя или на меня, — говорил он. — Мой учитель Аристотель утверждал, что женщина — всего лишь сосуд для мужского семени, но, по-моему, он и сам в это не верил. Очевидно, что некоторые дети больше похожи на мать, чем на отца. Например, я сам.
— Да? А твоя мать, она какая?
— Ты с ней познакомишься: я привезу ее, когда родится мой сын. Она была прекрасна, но прошло десять лет… Десять очень тяжелых для нее лет.
Слух о тревожных знамениях распространился и среди друзей, и все наперебой стали приглашать царя на обеды и ужины, чтобы развеселить его. И тот принимал все приглашения: он никому не говорил «нет» и проводил дни и ночи за пиршественным столом, ни в чем себе не отказывая. Однажды вечером, вернувшись с пирушки, Александр почувствовал себя странно: тяжесть в голове, шум в ушах. Однако он не придал этому значения, а принял ванну и лег рядом с Роксаной. Та уже спала, но лампа в спальном покое горела.
На следующий день у царя началась лихорадка. Он все равно встал с постели, несмотря на настойчивые просьбы царицы. Александра ждал к обеду один его друг-грек, недавно прибывший в Вавилон, некто Медий. К вечеру, будучи за столом, царь внезапно ощутил резкую боль в левом боку — такую сильную, что закричал. Слуги подняли его, уложили в кровать, и через некоторое время боль как будто утихла.
С готовностью прибежал врач и осмотрел его, но не посмел прикоснуться к больному месту. Александра сильно лихорадило, и он чувствовал смертельную усталость.
— Я велю перенести тебя во дворец, государь.
— Нет, — ответил Александр. — Я останусь здесь на ночь. Уверен, что завтра мне полегчает.
Он остался ночевать у Медия. На следующий день лихорадка не ослабла, а усилилась.
Состояние царя продолжало ухудшаться час от часу, но Александр словно не придавал этому значения. Он созвал своих командиров. Неарх и товарищи поняли, что царь болен. Тем не менее он продолжал обсуждать с ними подробности похода и дату отправления.
— Почему бы нам не отложить все? — предложил Птолемей. — Тебе надо полежать в покое, подлечиться, восстановить силы. Может быть, сменить климат: здесь жара невыносимая, ты плохо и мало спишь. Ты когда-нибудь задумывался, почему Дарий лето проводил в Экбатанах, в горах?
— Мне некогда уезжать в горы, — ответил Александр, — и некогда дожидаться, когда пройдет лихорадка. Когда пройдет, тогда и пройдет, а я хочу идти вперед. Неарх, что тебе известно о протяженности Аравии?
— По некоторым сведениям, она размером с Индию, но мне трудно в это поверить.
— В любом случае скоро мы это узнаем, — ответил Александр. — Подумайте только, друзья: земля ароматов — фимиама, алоэ, мирра.
Товарищи изобразили энтузиазм, но в глубине души даже эти слова прозвучали для них знамением: царь перечислил благовония, которые использовались для бальзамирования умерших.
Встревоженная Роксана послала за Филиппом, который в это время находился с войсками на севере от города по случаю эпидемии дизентерии. Но когда в лагерь пришел вызов от царицы, врач уже отбыл дальше на север, никому не сообщив, как его найти.
Следующие три дня Александр продолжал выполнять свои обязанности и решать текущие вопросы, выполнять жертвоприношения богам и собирать товарищей, организуя поход в Аравию. Его состояние ухудшалось на глазах.
Наконец разыскали Филиппа. Царю как будто стало лучше: лихорадка отступила, и Александр немного поговорил со своим врачом.
— Я знал, что ты приедешь, ятре, — сказал он. — А теперь уверен, что вылечусь.
— Конечно, вылечишься, — ответил Филипп. — Помнишь тот случай, когда ты чуть не умер после купания в ледяной воде?
— Как будто это было вчера.
— А записку от бедняги Пармениона?
— Да. Там говорилось, что ты хочешь меня отравить.
— Это была правда, — со смехом проговорил врач. — Я давал тебе яд, который убил бы и слона, а тебе ничего! Ты стал еще здоровее. Что тебе какая-то лихорадка?
Александр улыбнулся.
— Я тебе не верю, но мне приятно это слышать.
На следующий день ему стало еще хуже.
— Спаси его, ятре, — умоляла Роксана. — Спаси, заклинаю тебя.
Филипп бессильно качал головой, а Лептина в слезах смачивала Александру лоб, чтобы хоть немного охладить.
На следующий день Александр не смог встать, и температура подскочила выше мыслимого. На носилках Александра перенесли в летний дворец, где к вечеру становилось прохладнее, и Филипп велел делать ему холодные ванны, чтобы снизить жар. Все оказалось тщетно. Роксана в отчаянии не отходила от него ни на мгновение и покрывала тело мужа поцелуями и ласками. Товарищи дежурили без отдыха и сна день и ночь.
Селевк отправился в святилище Мардука, покровителя города, бога-врачевателя, и попросил жрецов перенести Александра в храм, чтобы бог исцелил его, но жрецы ответили:
— Бог не хочет, чтобы царя переносили в его дом.
Расстроенный Селевк вернулся в царский дворец и сообщил о результатах своей миссии.
— Тебе следовало перебить этих святош: если они не могут исцелить царя, зачем им оставаться в этом мире? — воскликнул Лисимах.
— А я говорю, он выкарабкается и на этот раз, — сказал Пердикка. — Не беспокойтесь, он и не такое переносил.
Филипп посмотрел на него печальным взглядом и ушел в царскую спальню. Александр еле слышным голосом попросил воды.
На следующий день он уже не мог говорить.
Тем временем среди солдат распространился слух, что царю совсем плохо; кто-то говорил даже, что он умер. Они снова собрались у входа во дворец и угрожали выбить двери, если их не впустят.
— Я выйду к ним, — сказал Птолемей и спустился в караульное помещение.
— Мы хотим знать, что с царем! — крикнул один из ветеранов.
Птолемей склонил голову.
— Царь умирает, — ответил он. — Если хотите увидеть его, поднимитесь сейчас по одному, но тихо. Не тревожьте его в предсмертный час.
Длинной вереницей, один за другим, солдаты потянулись по лестницам, по коридорам, до царского изголовья. Плача, они чередой проходили мимо ложа и приветствовали своего владыку поднятием руки. И Александр всем отвечал взглядом, кивком головы, еле заметным движением губ.
Его солдаты, его товарищи по тысячам приключений, железные люди, покорившие Нил, Тигр, Евфрат и Инд, они видели его в последний раз. А Александр на прощание опять смотрел в их лица, задубевшие от мороза и опаленные зноем, видел их загрубевшие щеки, мокрые от слез. И вот опустилась тьма… Он еще слышал отчаянные рыдания Роксаны и всхлипы Лептины, а потом — голос Птолемея:
— Конец… Александр умер.
В это мгновение он подумал о своей матери, о ее тщетном и горьком ожидании. Ему показалось, что он различает ее на башне дворца — она кричит сквозь слезы и отчаянно зовет его: «Александрос, не уходи, вернись ко мне, прошу тебя!» И этот крик на мгновение позвал его назад… но всего лишь на мгновение. И вот ее голос, ее лицо исчезли вдали, унесенные ветром… Александр увидел бескрайнюю равнину и цветущие луга, услышал собачий лай, но то был не мрачный вой Кербера — это гавкал Перитас! Он бежал навстречу своему хозяину, обезумев от радости, совсем как в тот день, когда Александр вернулся из изгнания. И вскоре по необъятной степи разнесся топот копыт, и вдруг послышалось ржание. Прибежал Букефал с развевающейся на ветру гривой, и Александр вскочил на него и крикнул: «Вперед!» Жеребец бросился вперед, подобно огненному Пегасу, и бешено помчался к последнему горизонту, к бескрайнему свету.
ЭПИЛОГ
«Не успело остыть твое тело, а мы уже спорили о твоем наследстве. Мы продолжали сражаться за него долгие годы. Тебя больше не было с нами, а вместе с тобой ушла и объединявшая нас мечта. Лептина захотела последовать за тобой — мы нашли ее на полу у твоего ложа с перерезанными венами. Царица-мать Сизигамбис покрыла голову черным платком и уморила себя голодом. Роксана решила жить, чтобы дать жизнь твоему сыну.
Пердикка исполнил свою мечту и женился на Клеопатре, но он же первым пал в попытке удержать в целости твою державу. Он пал, сражаясь против моих войск. Бедный Пердикка!
Странно: хотя мы жестоко бились, постоянно создавая и разрывая союзы, у нас не было ненависти друг к другу. Наоборот, в определенном смысле мы оставались друзьями. Один раз через несколько лет после твоего ухода мы все встретились в Вавилоне, чтобы прийти к согласию, однако вместо этого наше собрание превратилось в безобразную склоку. Но вдруг из-за двери появился Евмен и бросил на опустевший трон твой плащ и твой скипетр, и как по волшебству свара прекратилась, крики затихли, лица стали задумчивыми. Мы стояли перед этим плащом и пустым троном, словно ты вдруг чудом возник перед нами.
Мы были недостойны тебя и все же пытались во всем подражать тебе: мы велели изображать себя в тех же позах, с головой, слегка наклоненной к левому плечу, с откинутыми со лба волосами, даже когда волос осталось совсем мало, — лишь бы воспользоваться твоим образом. У нас не хватило мужества даже на то, чтобы сберечь твою семью, она была погублена, безжалостно уничтожена одной-единственной фразой в конце договора о разделе наследия: "В том случае, если с ребенком что-то произойдет, Македония переходит к… " Тем самым мы приговорили его к смерти. Твоя жена, твоя мать, твой сын — все они погибли… Жажда власти иссушила наши души, превратила нас в чудовищ.
И почти все мы вскоре отреклись от персидских жен, которых ты нам дал. Исключением стал лишь Селевк, полюбивший свою Апаму и посвятивший ей прекрасные города.
Селевк… На какое-то время он стал новым Александром, и ему почти удалось вновь собрать твою державу. Теперь он старик, как и я, множество хворей одолевают его. Несколько раз мы воевали друг с другом, или, точнее, наши войска встречались на границах Келесирии, слишком нечетко определенных последним договором — одним из множества. Но сами мы оставались в хороших отношениях, как старые друзья.
Не знаю, как он поживает теперь. Полагаю, он тоже приближается к закату, как и я. Что касается меня, я уже два года как передал скипетр и царство моему сыну Птолемею II, а сам пишу вот эту историю. Единственной своей заслугой, если не считать добровольного отказа от власти, прежде чем меня вынудила к этому смерть, я считаю перемещение тебя сюда, в Александрию, единственное место, достойное тебя. О, как бы я хотел, чтобы ты увидел ее теперь! Знаешь, как она прекрасна? Это чудесный, цветущий город — такой, о котором ты мечтал. Помнишь?
Тогда мы были молоды и наши души горели мечтами, которые ты рисовал перед нами. Мы были подобны богам, когда скакали рядом с тобой, великолепные в своих сверкающих доспехах.
Я завершил последнюю главу моей истории. Пока я писал, она отдавалась эхом у меня в голове, как будто я переживал все заново. Я вновь слышал наши беседы, споры, шутки. Помнишь, каким дремучим был всегда Леоннат? Конечно, все будет записано должным образом: получится хороший текст, отредактированный в соответствии с правилами, которым нас учили в Пелле и Миезе. Однако я предпочитаю видеть нашу историю вот так, как будто переживаю ее вновь, день за днем, мгновение за мгновением.
Сегодня, ощутив на затылке ледяное дыхание Таната, я решил спуститься сюда, чтобы забыть все случившееся после того, как ты покинул нас, и заснуть спокойно рядом с тобой, друг мой.
Пришла пора турме Александра построиться вновь, как в тот день, когда мы встретили тебя в Иллирии на заледеневшем озере, под крупными хлопьями снега. Пора и нам, слишком долго зажившимся на этом свете, закрыть глаза… А когда мы проснемся, то снова будем вместе, молодые и красивые, как раньше, чтобы скакать рядом с тобой — навстречу последнему приключению. И на сей раз это будет продолжаться вечно».
ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА
Последняя часть истории о жизни Александра, возможно, самая важная и сложная для понимания, поскольку содержит много событий, которые и в первоисточниках не совсем ясны, например сожжение Персеполя, убийство Клита Черного и два заговора: заговор Филота и так называемый «заговор оруженосцев». Роман как художественное произведение не ставит перед собой задачу решить проблемы, достаточно широко обсуждаемые в историографической критике. Тем не менее, повествование может дать некоторые толкования, вполне заслуживающие внимания, особенно если учитывать общую картину, которая часто ускользает от узкопрофессионального взгляда или специализированного исследования. Пример тому — сцена, где Парменион спрашивает у Александра о смысле разрушения Персеполя.
Во всяком случае, македонский завоеватель изображен максимально правдивым образом, в том числе и в наиболее щекотливые моменты его истории, не самые славные в его жизни. Только несколько эпизодов, представленных явно в искаженном свете неполных источников, были некоторым образом подправлены.
У читателей, а особенно у читательниц может создаться впечатление, что некоторые женские персонажи должны занимать в душе главного героя большее место. Но даже здесь я предпочел воссоздать ситуацию в максимальном соответствии с обществом той эпохи и характером Александра. В античных источниках женские персонажи, даже наиболее важные, едва обозначены; и на основании логических размышлений я постарался придать им некоторое значение и восстановить их присутствие.
Топография описанной местности приближена к действительности лишь в самых общих чертах: утерянные «Эфемериды», вероятно отредактированные Евменом из Кардии, и ссылки бематистов («путевых топографов»), дающие точное описание маршрута, позволяют лишь приблизительно воссоздать пейзажи и их особенности.
Валерио Массимо Манфреди