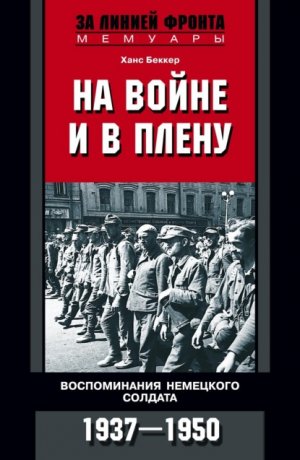
Серия «За линией фронта. Мемуары» выпускается с 2002 года
Hans Becker
DEVIL ON MY SHOULDER
© Перевод, ЗАО «Центрполиграф», 2012
© Художественное оформление серии, ЗАО «Центрполиграф», 2012
Глава 1
Малла
Это – рассказ о смерти и о границах человеческого существования. Те, кому не пришлось пройти через все это, как это случилось со мной, могут прочитать его и возблагодарить судьбу. Те же, кто в свое время разделил мою участь, почти все мертвы, и немногим из нас удалось выжить и вернуться из Сибири в цивилизованное общество.
Я пишу эту книгу в память о казашке Малле, в память о том, как мы любили друг друга. Она была пухленькая, со смуглой кожей, с черными волосами и глубокими таинственными глазами. Эта девушка обладала дикой жаждой жизни, и даже мысль о ней в бескрайних просторах за Уральскими горами со всеми ужасами происходившего там была для меня как глоток воды в пустыне.
Итак, как мы встретились. Было лето, один из тех теплых безоблачных дней, о которых мы, заключенные, мечтали всю зиму. Я решил спокойно, наслаждаясь одиночеством, искупаться в протекающем поблизости канале. С любезного позволения охранника я покинул зону, огороженную колючей проволокой территорию исправительно-трудового лагеря. В некоторые дни нам официально разрешалось в определенное время выходить за пределы зоны, но сейчас был не тот случай. Я пообещал вернуться до наступления темноты. Охранники, которые зачастую сами были бывшими заключенными, прекрасно сознавали, что у меня не было никаких шансов совершить побег: тысячи километров безлюдной территории Сибири охраняли заключенных гораздо эффективнее, чем ограждение из колючей проволоки.
Канал, к которому я направлялся, был частью ирригационной системы, питающей водой близлежащие поля, на долю которых в летние месяцы приходилось всего четыре или пять дождей. Это вовсе не был живописный журчащий ручеек из романтических историй, и деревья, возвышавшиеся по обоим берегам, очень походили на всех нас, обитателей лагеря. Они стояли, будто бы раздумывая о том, стоило ли им вообще появляться на этом свете. Я шагал вдоль берега, что-то напевая и выискивая, где бы мне поплавать, когда вдруг увидел перед собой женский силуэт. К каналу с двумя ведрами в руках спускалась девушка. По длинной цветастой одежде я легко опознал в ней казашку.
В поселке Алматинка казахи являются коренным населением. Некоторые девушки и женщины очень хороши собой. Они живут в убогих избушках или в небольших округлых юртах, обеспечивая себе существование разведением на степных пастбищах овец и лошадей. Некоторые, не особо удачливые в ремесле скотовода, подаются на работу в шахты, где добывают уголь в основном русские. Казахи не очень любят советскую власть, ведь прежде, до того, как их завоевали русские, они были свободны и могли кочевать там, где им нравилось, не подчиняясь ничьим законам и не выплачивая налогов. (Казахов русские не завоевывали. Перед лицом уничтожения со стороны Джунгарского ханства в 1731 г. Младший жуз, а в 1740-м Средний жуз приняли российское подданство. Поэтому, когда в 1741-м джунгары вторглись, уничтожая все на своем пути, в пределы вышеупомянутых жузов, их встретили русские военные посты, и джунгары были вынуждены повернуть назад. А в 1756–1758 гг. Джунгарское ханство было захвачено маньчжурским Китаем, и казахи снова оценили преимущества российского подданства, когда китайцы поголовно вырезали джунгар (тогда же в российское подданство срочно (и добровольно) обратились и алтайцы). В 1846 г. в российское подданство добровольно обратился Старший жуз (Семиречье), до этого находившийся под властью Кокандского ханства. В 1854 г. здесь было построено укрепление Верное (позже город Верный, ныне Алма-Ата). Естественно, что присоединение казахских земель к империи влекло за собой значительные изменения в жизни. Было ликвидировано рабство, постепенно упразднена власть ханов, заработала русская администрация областей, на которые было разбито Туркестанское генерал-губернаторство. Некоторые казахские земли, пригодные для земледелия, заселялись русскими переселенцами. Но в целом присоединение к России было для казахов (кроме потерявших власть и привилегии ханов) положительным процессом, сохранившим их как народ и приобщившим к достижениям цивилизации. – Ред.) Дети казахов никогда не ходили в школу, и лишь примерно двое или трое из сотни умели читать и писать.
Забыв о своем намерении побыть в одиночестве, я поспешил к девушке. Когда она обернулась, я увидел, что ей примерно восемнадцать лет и она невероятно мила. В казахских девушках есть какая-то дикая красота, которую европейцы находят очень привлекательной. Малла сразу же сумела вызвать во мне те чувства, каких никто больше и никогда не вызывал. Я обратился к ней сначала на русском, а потом на немецком, но она говорила только на своем языке и не понимала меня.
Но в делах любви слова – это совсем не главное. Мы общались знаками и постепенно стали понимать друг друга. Она жестами объяснила мне, что хочет искупаться и что я тоже могу искупаться вместе с нею.
– Снимай одежду. – Она подкрепила слова жестом, и мы оба засмеялись.
– А ты? – не остался я в долгу, правда постаравшись, чтобы мои жесты были достаточно скромными.
– Снимай и это тоже, – смеясь, показывала она, видя мои колебания.
Я повернулся к ней спиной, снял с себя пиджак, рубашку, брезентовые туфли (которые сшил сам из куска брезента от палатки) и штаны, оставшись в самодельных плавках, изготовленных по той же технологии, что и туфли. Я снова обернулся к девушке и обнаружил, что она по-прежнему стоит все еще в своей длинной хламиде и все так же смеется. Обуви на девушке не было, и я просигналил ей, чтобы она снимала верхнюю одежду и шла купаться в том, что было под ней.
Девушка подошла ко мне и пристально посмотрела прямо в глаза. В ответ я быстро обнял ее, но, неожиданно выскользнув из моих объятий, она сбросила одежду. Под верхней одеждой у нее не было ничего, кроме короткой красной рубашки, закрывавшей снизу не больше, чем мои импровизированные плавки. Я был хорошим солдатом, но в данном случае колебался, раздумывая, следует ли мне идти в атаку или, наоборот, будет лучше отступить. Моя нерешительность понравилась девушке. Подавшись вперед, она слегка укусила меня за кончик носа, потом оттолкнула меня и прыгнула в воду. Я последовал за ней. Мы плавали, громко плескаясь и дурачась, но, поскольку глубина там была не более метра, а тело Маллы выглядело очень соблазнительно, я в смущении отводил взгляд.
Искупавшись, мы лежали на берегу под ветвистыми деревьями и загорали на солнце. Когда мне пришло время возвращаться в лагерь, мы договорились встретиться в четыре часа на следующий день. Часть дороги назад я помогал ей нести ведра с водой. Вместе с поцелуем на прощание я подарил девушке колечко, которое сделал из русской монеты и которое носил на пальце.
Во время смены на шахте с десяти утра до шести вечера я не мог думать ни о чем, кроме своей новой подруги, о предстоящей новой встрече с ней. Работа давалась мне вдвое легче, чем обычно, и вместо того, чтобы, как всегда, подняться после той ночной смены наверх вместе с последними, я неожиданно для себя оказался среди первых. Мои товарищи заметили, что со мной происходит что-то необычное. Начались расспросы, и вскоре мой секрет стал всем известен.
– А ты не боишься? – спросил меня один из знакомых.
– О чем ты? – недоуменно спросил я, хотя на самом деле очень хорошо понимал, что он имел в виду.
Все засмеялись. В лагере ходили слухи о том, что, если кто-то смел вступить в связь с девушкой-казашкой, это значило для него реальную перспективу лишиться головы, которую отрежет ее отец. Казахи были гордым народом с жестокими обычаями, которые они неукоснительно соблюдали. И среди этих обычаев была месть за бесчестье.
Пока мы смывали с тел угольную пыль, мне жестами показывали, что могло случиться со мной, но я был слишком счастлив, чтобы все это меня хоть немного беспокоило. С трудом дождавшись второй половины дня, я снова миновал охранника у забора и отправился к месту назначенной встречи.
Малла была уже там и ждала меня. Вместе мы долго прогуливались через заросли кустов вдоль берега канала к пруду, посередине которого находился маленький островок. Мы шли по воде, не обращая внимания на то, что происходит в это время в мире. Казалось, вокруг нас таинственный мир, а в самом центре его, полностью изолированный от всех, лежал наш остров счастья. Мы были так счастливы, что не замечали, как все быстрее бежит время. Вдруг стало совсем темно.
– Давай пойдем ко мне домой, – попросила Малла на нашем языке жестов.
Хорошо зная, что меня могло там ждать, я ясно дал ей понять, что не хочу этого.
– Казахи не признают смешанных браков, – просигналил я, стараясь, чтобы она меня поняла.
– Я хочу, чтобы ты вместе со мной пришел в наш дом и познакомился с моими родителями, – несколько раз показала она мне руками.
В ответ я несколько раз резко рубанул рукой в районе горла, показывая девушке, чего я боюсь.
– Мама и отец не сделают тебе ничего плохого, – ответила она. – Вчера я рассказала им о нашей встрече, и они хотели бы познакомиться с тобой.
Я снова задумался над ее предложением и решил, что, пожалуй, риск того, что мне отрежут голову, вряд ли был серьезной угрозой по сравнению с тем, что мне пришлось пережить в прошлом. Малла была очень рада, что я согласился с ней, и я чувствовал, что она не позволит отцу сделать мне ничего плохого, даже если он очень захочет.
Она вела меня к себе домой за руку, будто хотела продемонстрировать в своей семье очередную игрушку. Девушка крепко сжимала мою ладонь, наверное, на случай, если я передумаю и попробую бежать. Ее маленькая ладошка уютно устроилась в моей. Родители девушки встретили меня в странной восточной манере; скрестив руки на груди, они кланялись мне в пояс. Я неуклюже попытался ответить на поклон, но, поняв всю нелепость этого, застыл где-то на середине попытки. Про себя я решил отрепетировать жест на досуге, чтобы к следующему разу отработать это приветствие, а пока ограничиться рукопожатиями.
Внутри домика, где жила семья Маллы, все для меня было новым. Стол возвышался над полом не больше чем сантиметров на тридцать, стульев не было совсем. У открытого огня располагалась деревянная скамья, на которую мне было предложено присесть. Все остальные сели прямо на расстеленный на полу толстый ковер.
В отличие от остальных родственников Маллы ее отец говорил на русском языке, и, поскольку за годы неволи я научился бегло говорить по-русски, мы могли с ним свободно общаться. Он рассказал мне о том, где и как он жил последние пятьдесят лет. В прежние времена Казахстан был так редко населен, что домик или юрта могла располагаться на расстоянии полутора сотен километров до ближайших соседей. Каждая семья считала, что земля до самого горизонта, насколько видел глаз, всецело принадлежит только ей одной. Любой посторонний, попавший на эту территорию, считался нарушителем границы чужой территории со всеми вытекающими последствиями. Семья владела примерно пятьюстами – тысячью овец, дюжиной или больше лошадей, держала кур и иногда одну-две коровы. Все это было во времена, пока казахи не попали под власть русских с их законами. (Выше уже говорилось, что казахи «попали под власть русских с их законами» значительно раньше. – Ред.) Теперь же, как заключил старый казах, они были бы рады любому новому завоевателю, ведь ничто не может быть хуже, чем советская власть. (Возможно, этому и другим местным казахам досталось во время голода в начале 1930-х гг., организованного здесь «пламенным революционером», одним из убийц царской семьи в 1918 г. в Екатеринбурге, «верным ленинцем» по имени Шая Голощекин (в 1926–1933 гг. 1-й секретарь Казахского крайкома ВКП(б), в 1941 г. расстрелян). – Ред.}
Поговорив еще немного о казахских обычаях и традициях, я осторожно коснулся вопроса о судьбе своей головы. Неожиданно тон собеседника стал суровым. Он резко пролаял:
– Ты сказал, что иностранец, но говоришь на хорошем русском языке. Откуда ты?
– Я немец, – признался я, – попал в плен во время одного большого сражения на Украине.
Я немного рассказал ему о своих злоключениях, чтобы убедить старика в том, что не был советским шпионом. Именно тогда мне в голову пришла мысль о том, что если я выживу, то когда-нибудь напишу свою историю. Тот момент навсегда запечатлелся в моей памяти: маленькое, наполненное дымом помещение, старый казах с седой бородой, который важно кивает, слушая мой рассказ, сидящие на полу и молчаливо прислушивающиеся к разговору (из которого не могли понять ни одного слова) Малла, ее мать и четверо младших братьев и сестер.
Малла ни на секунду не отводила взгляда от моих глаз.
Глава 2
Первые кампании
Всегда и повсюду в мире в недобрые времена упадка, беспорядков и голода, вызванного плохим урожаем, отчаяние и жажда славных подвигов гнали мужчин на призывной пункт. Присяга, подпись или оттиск большого пальца – и со свободой было покончено.
Со мной такое произошло весной 1937 года. Все мы тогда были заражены нацизмом, который захватил народ всей Германии. Моя зарплата шофера в тот момент составляла семьдесят пять марок, и меня мало что удерживало на гражданке. Я легко обменял бы свою износившуюся спецодежду на более красивый военный мундир. В те времена самую красивую форму носили солдаты вновь создаваемых частей ПВО (или Flak, как их называли). Одна из таких частей была расквартирована в казармах Кохштедт в городе Дессау, где я тогда работал.
Итак, в один из дней, когда моя жизнь показалась мне слишком скучной, я решил полностью изменить ее и вступил в армию. Когда с небольшим дешевым чемоданчиком в руке я шел в казармы, моя жизнь вдруг стала другой и показалась мне даже слишком прекрасной, чтобы это было правдой. Я был молод и уверен в себе, а армия предлагала мне военную карьеру и приключения. Чего еще я мог желать? Как искренне я уверял унтер-офицера, что всю жизнь мечтал стать солдатом! С какой гордостью я думал о том моменте, когда впервые надену этот замечательный мундир!
Часовые и их начальник-ефрейтор, стоявшие у ворот в казарму, наблюдали весь мой путь по длинной улице. Они сразу же поняли, кто я такой, по моему чемодану и, как мне казалось, смотрели на меня тяжелым испытующим взглядом. Но вскоре мне пришлось убедиться, что они, должно быть, просто усмехались в душе, видя перед собой еще одного новобранца с набитой романтическими бреднями головой, грезившего о будущих наградах. На следующий день по одному слову команды ему предстоит бросаться плашмя на грязную, мокрую землю. Сейчас, где бы я ни увидел военного в форме, сразу же представляю себе, как он лежит лицом вниз и ждет, когда последует разрешение вынуть нос из грязи.
Первые дни прошли в повседневных хлопотах. Например, мне выдали форму. Надев мундир, я впервые, воспользовавшись случаем, посмотрел в зеркало, разглядывая себя с ног до головы, спереди и сзади. Результаты осмотра мне очень понравились: я выглядел так привлекательно, что сам себя не узнавал. В перспективе я предвкушал будущие многочисленные победы над представительницами слабого пола.
Позднее, когда я поделился этими мыслями с одним из товарищей, изучавшим английский язык, тот рассмеялся и процитировал мне несколько строк из английского стихотворения.
Тогда я понял, что каждый солдат, наверное, испытывает одни и те же чувства.
Но спустя несколько дней, когда мы приступили к программе тренировок, куда входили и упражнения в поле, я снова несколько раз наблюдал за собой в зеркало, но теперь видел совсем другое. Я недоуменно спрашивал себя: неужели это позорного вида существо, которое вижу перед собой, это действительно я? К тому времени я дошел до того состояния отупения, когда каждая клеточка внутри меня кричала только одно: спать! Мой прошлый энтузиазм превратился в отчаяние, я клял себя за совершенную недавно глупость, когда согласился стать солдатом. Призывники имеют возможность клясть власти, мне же, как добровольцу, оставалось обвинять во всем только себя.
В конце курса начальной подготовки мне снова пришлось почувствовать себя в шкуре водителя. Только на этот раз я вел не обычный автомобиль, а бронемашину производства заводов Круппа. Я управлял этим монстром на маневрах в Силезии, Восточной Пруссии и где-то еще. Как и всякому солдату, мне пришлось пережить и хорошее, и плохое. После года службы я прошел большую программу дополнительной подготовки, после чего мне присвоили звание ефрейтора. После этого жизнь сразу же стала намного приятнее: в казарме ефрейтор считается старшим, и все почтительно обращаются к нему heir gefreiter.
В своем рассказе я не стану подробно рассказывать о тех первых днях службы. Эта глава является лишь основой для рассказа о последующих событиях. Поэтому я лишь коротко упомяну о тех победах, о которых истерично трубили во все фанфары и которые, как оказалось, были не более чем последними теплыми солнечными лучами перед наступлением сумерек.
В марте 1938 года мы с триумфом вступили в Австрию. Мне довелось проехать через Гармиш-Партенкирхен и Миттенвальд в родном округе в Баварии, пересечь границу у австрийского городка Шарниц и далее направиться в Инсбрук. Родившись на самой границе Германии, я часто думал о том, что находился лишь в паре шагов от того, чтобы быть австрийцем, и поэтому был очень рад, что две великие страны (Австрия – в прошлом, до 1918 г. – Ред.} объединились мирным путем. Осенью того же года мне довелось участвовать в захвате Судетской области. (В результате Мюнхенского сговора Германии с Англией и Францией, в результате чего Чехословакию заставили отдать Германии Судетскую область. – Ред.} При этом нам оказали лишь слабое сопротивление.
Когда закончились те две «поездки на пикник», как их смело можно было считать, нам вручили медали за австрийскую и чешскую «кампании». Я с гордостью носил эти награды на груди, особенно в то время, когда лишь очень немногие солдаты имели награды. Легионеров, носивших «испанский крест» (то есть воевавших на стороне Франко в ходе гражданской войны в Испании 1936–1939 гг.), в стране чествовали как национальных героев, а теперь и на меня падал отблеск их славы. Награды оказывали просто магическое воздействие на девушек. Они любили прогуливаться с ветераном военных кампаний, и при этом не имело значения то, что герой мог позволить себе провести с нею не более чем один вечер в неделю, когда парочка могла отправиться в местный танцевальный зал или в кино.
За захватами новых территорий последовал довольно приятный период отдыха, хотя призыв новых рекрутов продолжался. Все они проходили изнурительный курс подготовки. Здания казарм были заполнены до отказа. Польская кампания, в отличие от предыдущих, уже не была похожа на пикник. Несмотря на ее кратковременность, а она продолжалась всего восемнадцать дней, бои были довольно упорными. (Германо-польская война началась 1 сентября 1939 г., 16 сентября польское правительство бежало в Румынию. Однако польская армия продолжала сражаться: Варшава сдалась только 28 сентября, Модлин – 30 сентября, полуостров Хель – 2 октября, группа «Полесье» – 5 октября. Немцы потеряли 10 600 убитыми и 3600 пропавшими без вести, поляки – 66 300 убитыми и около 420 000 пленными (еще 452 500 было пленено Красной армией). – Ред.)
Моя дивизия впервые перешла в наступление в Верхней Силезии. Мы потеряли немало людей убитыми и ранеными и впервые по-настоящему почувствовали, что такое настоящая война. Мне повезло, и я остался невредим, но был очень рад, когда тот страшный блицкриг, наконец, закончился. Пока шла война, мы вели жизнь цыган, не имея возможности даже помыться. Иногда даже лица близких друзей становились неузнаваемыми, скрытые бородой. А в последних боях, когда война достигла апогея своей ярости, порой не было времени даже немного перекусить, чтобы поддержать силы.
После окончания войны многие части вернулись домой. Другим пришлось остаться в Польше в составе оккупационных войск. За службу одного или двух офицеров наградили Железным крестом 1-го класса, а некоторые мои товарищи получили кресты 2-го класса. Наконец-то к нам пришла настоящая слава, но, отдыхая в Позене (Познани) и зализывая раны, мы были скорее во власти задумчивости, чем безудержной радости. Новость о том, что мы воюем еще и с Францией и Англией, дошла до нас только после того, как закончилась польская кампания. Тогда мы поняли, что наша победа, как оказалось, была не полной.
Но после возвращения в Германию к нам вернулось хорошее расположение духа. В Позен (Познань) прибыл сменный гарнизон, а нас отправили домой. Что это была за поездка! Мы пели военные песни, пили и играли в карты. Наше возвращение домой, возвращение победоносных воинов в фатерлянд, было незабываемым. Нас повсюду обнимали и целовали, старались поприветствовать и обласкать, забрасывали цветами, шоколадом и конфетами. Но то тут, то там среди всеобщего ликования я наблюдал то старую мать, то молодую вдову, которым никогда уже не доведется увидеть своего сына или мужа. Он исчез навсегда, ушел, не сказав последнее «прощай» семье и родной стране, и эти женщины молча стояли в веселящейся, кричащей толпе с улыбкой и слезами на глазах одновременно.
Что касается меня, то в то время я был полностью уверен, что мне удастся выжить. Ведь я был слишком молод, чтобы погибать. Погибнет кто-то другой, но никак не я. А я обязательно выживу и вернусь домой. В бою я никогда не напоминал себе, что это не маневры, что пули были настоящими и они несут смерть. Точно так же, как игрок, который верит в свой выигрыш, я верил в то, что сумею выжить.
Сегодня я часто думаю о том, стоило ли тогда моей вере помогать мне избежать гибели. После того как я провел в армии многие годы, побывал в боях и в плену, я уже не жалею Ульриха и Георга, которые погибли рядом со мной в Польше. Сегодня я бы сказал: солдату, которого убили в польской кампании, удалось избежать несчастий, голода и лишений, ошеломляющих ударов Красной армии и общения с НКВД. Он избежал и тех бед, которые мы навлекли на нашу бедную Германию, которые больно ранили в самые сердца нас, ветеранов, когда мы были далеко от дома, и еще больше, когда мы наконец туда вернулись.
Во время войны можно было приехать домой в отпуск и узнать, что твоим отцу и матери нечего есть, что им приходится не только беспокоиться о том, что сейчас происходит с их сыновьями, но и страдать от недоедания. Можно было наблюдать за тем, как членов вашей семьи унижают официальные власти, для которых настоящими людьми были только члены партии. Так случилось и с моей семьей, а ее палачами были те уклонившиеся от войны, которых национал-социалистическая партия, в отличие от нас, решила приберечь на будущее. В таких условиях даже самый лучший боец легко мог потерять волю к победе. Лично я упорно сражался с врагами и редко задумывался над тем, что происходило вокруг меня и к чему это могло привести.
Но тогда, во время отпуска осенью 1939 года, все эти тягостные мысли были еще далеко в будущем. Я любовался красотами баварских пейзажей, того, что было моим родным домом, благодарным взглядом солдата, которому может быть не суждено когда-нибудь увидеть снова эти картины, как, например, Ульриху и Георгу, что родились среди гор, а были похоронены на бескрайних равнинах.
После отпуска меня перевели в другую часть, потом еще в одну: было похоже, что в армии происходила грандиозная реорганизация. Проходя программу подготовки горных стрелков, я упал и сильно расшибся. После выздоровления медицинская комиссия признала меня негодным для службы в этом роду войск, и меня снова направили в другую часть. Теперь я снова вернулся в артиллерию, где и начинал службу. Сначала я служил в обычной артиллерийской части, потом – в моторизованной.
После того как я, по моему мнению, окончательно оправился после болезни, я вновь попал на курсы переподготовки в Йютеборге, к югу от Берлина. Интенсивная программа обучения длилась три месяца. Но за длительной муштрой последовала награда. В конце программы тем, кто прошел экзамены, было присвоено звание унтер-офицера. Меня направили в мою прежнюю пехотную часть на должность артиллериста, а вскоре мое имя уже стояло в списке солдат, которых направляли на фронт во Францию в качестве пополнения.
К тому времени война во Франции шла всего несколько месяцев (автор ошибается. Боевые действия во французской кампании начались 10 мая 1940 г., 14 июня был сдан Париж, а 22 июня подписано перемирие. – Ред.) но общее настроение сильно отличалось от того, что было в Польше: это был мой первый опыт того, что принято называть маневренной войной. Мне пришлось участвовать в нескольких беспорядочных боях, затем как-то я повел двух других солдат в атаку на французский опорный пункт. Мы захватили семерых пленных, за что меня наградили Железным крестом 2-го класса.
Вскоре после этого бои разгорелись с новой силой, в моем подразделении потери были ужасными, а я сам был ранен. К счастью, ранение было легким, в мягкие ткани. После оказания мне медицинской помощи тут же, на переднем крае, я вернулся к тем своим товарищам, которым посчастливилось выжить.
После тех боев мы часто усаживались вместе и просиживали так до поздней ночи. Звезды светили точно так же, как и в мирное время. Доживем ли мы когда-нибудь до времени, когда снова наступит мир? Я всегда был уверен в том, что я-то точно доживу, но, может быть, доживет и кто-то из моих товарищей. Но кто? На их лицах я иногда читал печать смерти, и тогда вскоре, после следующего боя, их закапывали в холодную землю. Бывало, что кого-то взрывом просто разносило на куски. Тогда мы думали, что это было самое худшее время в нашей жизни. Я и представить себе не мог, что в недалеком будущем я буду вспоминать о тех наших посиделках, как чуть ли не о счастливых днях.
И снова пуля противника поставила на мне свою метку. На этот раз я был ранен более серьезно. Война во Франции для меня закончилась. Меня отправили в тыловой госпиталь, а оттуда – домой в отпуск. Там меня встречали как героя. Принимали тепло, однако без прежнего всеобщего воодушевления. Герои перестали быть редкостью, а война стала менее притягательным событием.
Вскоре мне предстояло вернуться на службу. Я получил новое назначение, которое оказалось последним в моей военной карьере. Позже меня чуть не казнили только за то, что я принадлежал к этому соединению, и, в конце концов, это стоило мне долгих лет заключения. Но тогда я не испытал никаких неприятных чувств, когда моя мать за завтраком прочитала мне это сообщение:
– Тебя направляют в 12-ю танковую дивизию.
Глава 3
Восточный фронт
Как и любому незваному гостю на русской земле, мне понадобилось какое-то время на то, чтобы понять, что, как и представителей других народов, русских нельзя было грести под одну гребенку. По моему первому впечатлению, все они поголовно были злобными нищими людьми и походили больше на зверей, чем на людей. В бою они не знали жалости, как стадо голодных волков.
Однако как-то произошел случай, который я не смогу забыть до конца жизни. Со мной никогда больше не происходило ничего подобного ни до ни после. И я до сих пор вспоминаю о нем, как о ночном кошмаре. Возможно, найдутся скептики, которые мне не поверят, но, как свидетель, я готов чем угодно поклясться, что это действительно произошло. Если правда то, что те, кто побывал на пороге смерти, не способны солгать, то это в полной мере относится ко мне: ведь я несколько раз испытал это чувство, следовательно, давно потерял всякий вкус к тому, чтобы приукрашивать то, что произошло со мной на самом деле.
Я оказался на Восточном фронте сразу же после того, как началась война с Россией. И по моему мнению, нам противостоял противник, который принадлежал к какой-то другой, ужасной породе людей. Жестокие бои начались буквально с первых же дней нашего наступления. Кровь захватчиков и защитников лилась рекой на жаждущую этой крови землю «матушки России»: она пила нашу кровь, а мы уродовали ее лицо пулеметным и артиллерийским огнем. Раненые кричали ужасным криком, требуя помощи санитаров, остальные продолжали двигаться вперед. «Дальше! Еще дальше!» – так нам было приказано. И у нас не оставалось времени на то, чтобы оглядываться назад. Наши офицеры гнали нас в восточном направлении, как злые демоны. Каждый из них, по-видимому, решил для себя, что именно его рота или его взвод завоюет все мыслимые и немыслимые награды.
Большая танковая битва под Тернополем, а за ней – другая, под Дубно, где три дня и три ночи нам не пришлось отдыхать. Пополнение боекомплекта и запасов горючего здесь осуществлялось не в составе подразделений, как обычно. В недалекий тыл один за другим отводились отдельные танки, которые спешно возвращались обратно, чтобы снова броситься в пекло боев. Мне довелось вывести из строя один русский танк в сражении под Тернополем и еще четыре – под Дубно. Местность в районе боев превратилась в беспорядочный ад. Наша пехота вскоре перестала понимать, где противник и где свои. Но враг находился в еще более сложном положении. И когда бои здесь закончились, многим русским пришлось либо остаться лежать мертвыми на поле боя, либо продолжить свой путь в бесконечных колоннах военнопленных.
Пленным приходилось довольствоваться водянистой похлебкой и несколькими десятками граммов хлеба в день. Мне лично пришлось стать свидетелем этого, когда я был ранен под Житомиром и получил на период восстановления назначение на склад запчастей для бронетанковой техники, для того чтобы обеспечить мне, как считалось, более «щадящий режим». Там мне однажды пришлось побывать в лагере для военнопленных, чтобы отобрать двадцать заключенных в рабочую команду.
Пленные размещались в здании школы. Пока унтер-офицер – австриец – подбирал для меня рабочих, я осмотрел территорию лагеря. Чем они здесь занимались, спрашивал я себя, насколько плохими или хорошими были условия их содержания?
Сначала я попал в большое пустое помещение, где сидели пленные, по внешнему виду настоящие монголы (очевидно, киргизы и казахи. – Ред.) Вонь, почти полное отсутствие света – атмосфера была довольно жуткой. К тому же в воздухе витало то, что не поддается описанию, какая-то агрессия. После того как я вдохнул воздух, меня едва не стошнило. Помещение походило на свинарник, с той только разницей, что в настоящем свинарнике свиньи содержались в гораздо больших чистоте и уюте, чем эти люди. Мне было трудно понять, как они умудрялись выживать в подобных условиях. Сам я предпочел бы от стыда скорее вовсе перестать дышать, чем вдыхать этот смрад. А мое тело умерло бы от стыда за то, что источает вонь и служит прибежищем для паразитов.
Так я думал в те дни, не подозревая о том, что пройдет не так уж много времени и мне самому придется в точно таких же обстоятельствах бороться за выживание, не обращая внимания на все явные признаки человеческой деградации. В течение нескольких лет на такую борьбу уходили все мои жизненные силы и устремления. Я часто с усмешкой размышлял о том, как же радикально изменились мои убеждения после того дня в лагере под Дубно. Как легко осуждать окружающих, какими незначительными кажутся их несчастья и как благородно, по собственному мнению, мы вели бы себя, окажись в их отчаянном положении! Ну же, поддразнивал я себя впоследствии, отчего же ты не умираешь от стыда теперь, когда ни одна уважающая себя свинья не согласится поменяться с тобой местом и поселиться в той грязи, в какой обитаешь ты?
И вот, когда я стоял у порога лагерного барака, размышляя о том, какие, должно быть, странные существа эти «монголы», произошло это. Из дальнего угла помещения донесся дикий крик. Сквозь темноту вихрем прорвался комок тел, рычавших, яростно сцепившихся, казалось, готовых разорвать друг друга. Одна из человеческих фигур оказалась прижатой к нарам, и я понял, что нападению подвергся один человек. Противники выдавливали ему глаза, выворачивали руки, старались ногтями выцарапать из его тела куски плоти. Человек был без сознания, его практически растерзали.
Ошарашенный таким зрелищем, я крикнул им, чтобы они остановились, но без всякого результата. Не решаясь войти в помещение, я так и застыл от ужаса перед происходившим. Убийцы уже запихивали куски оторванной плоти себе в глотки. Я сумел разглядеть голый череп и торчавшие ребра человека на нарах, а в это время в другом углу комнаты двое бились за его руку, каждый с хрустом тянул ее на себя, будто бы в соревновании по перетягиванию каната.
– Охрана! – закричал я.
Но никто не пришел. Я побежал к начальнику караула и взволнованно рассказал ему о случившемся. Но на него это не произвело никакого впечатления.
– В этом для меня нет ничего нового, – заявил он, пожимая плечами. – Такое происходит каждый день. Мы давно перестали обращать на это внимание.
Я почувствовал себя совершенно опустошенным и обессилевшим, будто после тяжелой болезни. Погрузив свою партию рабочих в кузов грузовика, я поспешил прочь из этого ужасного места. Проехав примерно километр, я резко прибавил скорость, осознав, что тяжелое чувство постепенно начало отпускать. Если бы я мог так же легко вытравить из памяти воспоминания!
Отобранные пленные оказались ближе к нам, европейцам. Один из них хорошо говорил на немецком языке, и я имел возможность пообщаться с ним во время работы. Он был уроженцем Киева, и, как многих русских, его звали Иваном. Позднее мне пришлось встретиться с ним еще раз при совсем других обстоятельствах. А тогда он удовлетворил мое любопытство относительно «монголов»-среднеазиатов. Похоже, что эти люди пользовались каким-то словом-паролем. Стоило его произнести, как все они дружно бросались на того, кому была уготована участь пополнить их мясной рацион. Беднягу тут же убивали, и прочие обитатели барака спасали себя от голода, который не мог быть утолен скудным лагерным пайком.
От Ивана, а также на основе собственных наблюдений я смог многое почерпнуть о нравах и обычаях русских. Обитателей лагеря близ Дубно кормили довольно сносно, но в помещениях, где они жили, царила невероятная грязь и антисанитария. Не думаю, что где-либо в мире существовало другое место, которое могло бы похвастать таким поражающим воображение количеством паразитов. Несмотря на такое неприятное начало знакомства, оно пробудило во мне интерес к русским реалиям, который обострился после дальнейших событий.
Одежда местных жителей была сшита из простой неокрашенной ткани, в основном из домотканого льна. В деревне их обувь представляла собой что-то вроде тапок из соломы или деревянной стружки. Такая обувь годилась только для сухой погоды, но купить грубые кожаные ботинки, которые надевали в непогоду, мог себе позволить далеко не каждый. На ноги надевали также домотканые носки либо их просто обматывали от ступней до колен кусками грубой ткани, которую закрепляли толстой бечевкой.
В такой обуви местные жители, мужчины и женщины, проходили многие километры через поля на рынок с мешком за плечами и толстой палкой на плечах, на которую подвешивали две емкости с молоком. Это был тяжелый груз даже для крестьян, несмотря на то что для них он был неотъемлемой частью их сурового быта. Впрочем, мужчины были в более привилегированном положении: если у них были жены, то им не так уж часто приходилось переносить тяжести. В большинстве случаев русские мужчины предпочитали работе водку, и походы на рынок превратились в чисто женскую обязанность. Они шли туда под тяжестью своих нехитрых товаров, предназначенных на продажу. Первым долгом женщины было продать продукты сельского труда, а вторым – покупка спиртного для мужской части населения. И горе было той женщине, что посмеет вернуться с рынка домой без вожделенной водки! Я слышал, что при советской системе значительно упростилась процедура брака и развода и, наверное, этим часто пользовались.
Большинство людей работали в колхозах и совхозах. Первые представляли собой коллективные фермы, объединявшие одну или несколько деревень. Вторые были государственными предприятиями. Но и в том и в другом случае заработка едва хватало на то, чтобы свести концы с концами. Понятие «среднего класса» отсутствовало, здесь жили только бедняки-работники и их зажиточные руководители. У меня создалось впечатление, что все здешнее население не жило, а безнадежно барахталось в вечном болоте самой жалкой нищеты. К ним больше всего подходило определение «рабы». Я никогда не понимал, за что же они воюют.
Несколько самых крупных дорог поддерживались в хорошем состоянии, но остальные были просто ужасны. На изрезанной колеями неровной поверхности лежало до полуметра пыли в сухую погоду и, соответственно, столько же вязкой грязи в период дождей. Самым обычным видом транспорта на таких дорогах были низкорослые русские лошадки. Как и их хозяева, они демонстрировали чудеса неприхотливости и выносливости. Безропотно эти лошади в любую погоду покрывали расстояния по двадцать – тридцать километров, а в конце пути их оставляли под открытым небом, без всякого намека на крышу над головой, несмотря на ветер, дождь или снег. Вот у кого можно было брать уроки выживания!
Дома были примитивными. Они строились из дерева или глины. В этих зданиях обитало множество голодных людей и всегда сытых насекомых-паразитов. Пища была самой простой, в основном капустный суп (щи) и картошка. И если и того и другого было достаточно, чтобы наполнить желудки всех обитателей дома, то такая семья по меркам жизненных стандартов страны считалась благополучной.
Тяжелую жизнь скрашивала музыка. Национальный инструмент, знаменитая трехструнная балалайка, была, наверное, в каждом доме. Некоторые, в качестве исключения, предпочитали гармонь. По сравнению с нашими гармошки русских обладают более низким тоном. Наверное, именно этим вызван тот эффект грусти, которая неизменно слышится в их звучании. Вообще, все до единой русские песни, которые я слышал, были в высшей степени грустными, что, на мой взгляд, совсем неудивительно. Но зрителям, как оказалось, нравилось неподвижно сидеть, отдаваясь ауре звуков, которые лично у меня вызывали непереносимую печаль. В то же время национальные пляски требовали от каждого танцора умения живо двигаться и совершать сложные прыжки. Так что воспроизвести их мог лишь человек, обладающий врожденной грацией и пластичностью.
Неожиданно мне пришлось прервать эти мои частные исследования жизни в чужой стране: мне было приказано вернуться на фронт. Я оставил склад танковых запчастей и оказался одним из тех, что продвигались через Житомир на Киев. К вечеру на третий день пути я вновь присоединился к своим товарищам. Среди них я увидел много новых лиц. Постепенно темп нашего наступления становился все более низким, а потери все более высокими. За время моего отсутствия, казалось, половина личного состава подразделения успела отправиться в госпиталь или в могилу.
Вскоре мне самому пришлось стать свидетелем того, какого накала достигли бои. Нас отправили в бой в тот же вечер, как я вернулся в свою часть. В ближнем бою в лесу экипаж моего танка действовал с таким умением, что нам удалось подбить шесть русских Т-34. Среди сосен бушевал настоящий ад, но мы не получили ни царапины. Я уже про себя благодарил Бога за это чудо, как вдруг прямым попаданием вражеского снаряда был разбит правый каток нашего Pzkpfw IV, и мы остановились.
У нас не было времени долго раздумывать над этим несчастьем: под огнем вражеской пехоты нас могла спасти лишь молниеносная стремительность. Я отдал приказ на эвакуацию, а сам, как капитан корабля, покинул свой танк последним. Прощаясь со старым товарищем-танком, я вывел из строя пушку, выстрелив двойным зарядом, а также гусеницы, которые взорвал с помощью мин Теллера. Это было все, что я мог сделать, чтобы максимально повредить машину.
К тому моменту мой экипаж был уже в безопасности, и у меня было более чем достаточно времени, чтобы присоединиться к моим товарищам. Они ждали меня в относительно безопасном убежище, спрятавшись в канаве. Я быстро пополз к ним, и все приветствовали меня радостными возгласами. Мы все были довольны результатом. Счет был шесть – один в нашу пользу; при этом ни один из членов экипажа не получил ни царапины.
Моей следующей обязанностью было написать рапорт командиру взвода. Мы не забыли глубоко укоренившееся в каждом из нас чувство дисциплины, хотя те жестокие бои превратили даже взводных командиров в наших лучших товарищей. Так и должно быть на фронте, где общая угроза витавшей над всеми смерти нивелирует звания и должности. Поэтому я мог писать рапорт в простой форме, без особого соблюдения формальностей:
«Уничтожено шесть танков противника, мой командир. Наш танк потерял ход и был нами подорван. Экипаж благополучно вернулся на позиции».
Я вручил командиру это скупое описание того боя. Он остановил меня, широко улыбнулся и, пожав мне руку, отпустил.
– Хорошая работа, мой юный друг, – похвалил меня командир. – Теперь можете идти и немного поспать. Вы заслужили отдых, и еще до начала завтрашнего дня может оказаться, что он не напрасен.
Он оказался прав в отношении второй части фразы. Еще не наступил рассвет, когда прозвучал сигнал тревоги. Все побежали к своим танкам, чтобы быть готовыми в любую минуту отправиться туда, куда прикажут. Все, но не я и мой экипаж: наш танк так и остался на ничейной земле. Но мы не могли позволить, чтобы наши товарищи отправились в бой без нас, и я уговорил командира выделить для нас одну из резервных машин. Он дал свое согласие.
К сожалению, у нас не было времени на то, чтобы нарисовать на стволе пушки число наших побед. Эта традиция указывать кольцами на пушке количество уничтоженных вражеских машин значила для экипажа очень много. Без этого принадлежавшего нам по праву отличия мы чувствовали себя несколько не в своей тарелке. Кроме того, новый танк, пусть он и был той же модели, что и предыдущий, был незнаком нам своими мелкими деталями. И помимо всего прочего, все мы до сих пор переживали последствия вчерашнего вечернего боя.
Но все эти неудобства, волнения и тревоги были мгновенно забыты, как только снова послышались выстрелы. Наша атака продолжалась без перерыва четыре с половиной часа, и за это время я успел поджечь два вражеских танка. Уже потом, когда мы стали разворачиваться, чтобы отправиться «домой», вдруг раздался хватающий за сердце хлопок, за которым последовал удар. Так оправдались утренние нехорошие предчувствия. На этот раз дело не ограничилось потерей катка. Наш танк получил прямое попадание в корму справа. Машину объяло пламя, и я лежал внутри в наполовину бессознательном состоянии.
Из этого состояния меня вывело ужасное понимание того, что мы горим. Я огляделся, чтобы попытаться оценить ущерб и шансы на спасение, и обнаружил, что русский снаряд убил двоих моих подчиненных. Окровавленные, они скорчились в углу. А мы, оставшиеся в живых, быстро выскочили наружу, а затем через люк выволокли тела наших товарищей, чтобы те не сгорели.
Не обращая внимания на плотный огонь пехоты противника, мы оттащили наших мертвых сослуживцев от пылающего танка для того, чтобы в случае, если поле боя останется за нами, достойно похоронить их. В любую минуту могли взорваться боеприпасы внутри горящего танка. Мы нырнули в укрытие и ждали, когда земля содрогнется от мощного взрыва, который поднимет в воздух куски раскаленного металла и известит нас о том, что нашего танка больше нет.
Но взрыва не последовало, и, подождав еще немного, мы воспользовались временным затишьем вражеского огня и поспешили назад, к своим. На этот раз все шли повесив голову, настроение было скверным. Двое из пятерых членов экипажа были мертвы, а танк по непонятным причинам не взорвался. А это значило, что боеприпасы и, возможно, пушка попадут неповрежденными в руки врага. Погруженные в уныние, мы пробрели три или четыре километра обратно в расположение, выкуривая одну сигарету за другой, чтобы успокоить нервы. После взрыва вражеского снаряда все мы были забрызганы кровью. У меня на лице и в руках застряли осколки, а от глубокого осколочного ранения в грудь меня чудесным образом защитил мой идентификационный жетон. У меня до сих пор осталась небольшая вмятина в том месте, где этот жетон, толщиной примерно с крупную монету, вошел мне в грудину. То, что этот небольшой жетон помог мне сохранить жизнь, лишний раз укрепило мою уверенность в том, что мне суждено пережить эту войну.
В расположении взвода уже успели доложить об остальных потерях. Два экипажа танков полностью погибли, а сам командир взвода был тяжело ранен. Но он все еще был на месте, и я успел с горечью доложить ему о наших злоключениях в тот несчастный для нас день, пока не прибыла санитарная машина и его не увезли в госпиталь.
Позже в тот же день меня вызвали в штаб дивизии, где я и двое уцелевших товарищей из моего экипажа получили Железные кресты 1-го класса. А еще через несколько дней мне вручили обещанную за первый успешный бой медаль за уничтожение танков противника. Еще через три недели я получил знак за участие в ближнем бою, который, когда я оказался в руках русских солдат, стал причиной того, что я получил новые ранения. (Очевидно, это был знак «Общий штурмовой» (Allgemeines Sturmabzeichen), учрежденный 1 января 1940 г., в частности, им награждались военнослужащие, уничтожившие не менее восьми единиц вражеской бронетехники. – Ред.)
Победные почести после сражения! Я был горд, но не особенно весел. Слава становится ярче с течением времени, а самые громкие битвы давно уже произошли.
Глава 4
Жестокость
Рассказы о том, как вела себя немецкая армия на оккупированных территориях, можно смело назвать хроникой бесчестия. И несмотря на любовь к своему народу и своей армии, я говорю это открыто как живой очевидец тех событий.
Непривычно суровый климат, ставший причиной душевных страданий солдат частей, направленных на Восток, был лишь небольшим неудобством по сравнению с многими другими, которые сыпались как из рога изобилия. И многие из этих бедствий мы навлекли на свою голову сами. В армии слишком много таких, кто думает только о возможности пограбить и захватить добычу. Они отнимали последние пожитки у тех, чья жизнь и так была постоянной борьбой за существование, а война сделала эту борьбу почти безнадежной. Имущество и домашний скот, свиньи, овцы и коровы всегда были легкой добычей для мародера. То же самое можно сказать о валенках, теплых пальто и белье.
В основном именно этим и было вызвано то, что партизанская борьба с каждым днем становилась все более ожесточенной. Эти банды жили в лесах, а иногда даже в деревнях. Насколько я могу судить, мужчины русских деревень были вынуждены присоединяться к партизанским отрядам, и происходило это по вине немецкой армии! Ведь жилье русских занимали немецкие солдаты, а бывшим хозяевам было приказано прислуживать непрошеным гостям. Одно злое слово или другой признак неповиновения – и человека могли выгнать из собственного дома или даже просто объявить партизаном. В последнем случае его могли пристрелить на месте или отправить в тюрьму, где рано или поздно беднягу ждала жуткая жестокая казнь.
И несмотря на то что так вели себя только отдельные немецкие солдаты и некоторые подразделения, их жестокость имела самые серьезные последствия для всех. Когда многих русских, этих Иванов, Петров и Сидоров, подвергали пыткам, а потом казнили как партизан даже за самые легкие формы протеста против нежеланных пришельцев, захвативших их пусть убогие, но принадлежащие им жилища, разве удивительно, что вся зона оккупации была охвачена ненавистью к нам?
В тюрьмах у людей практически не было шансов выжить. По русской традиции друзьям и родственникам разрешается передавать заключенным еду, но оккупационные власти запретили это с вполне предсказуемым результатом. Несмотря на непритязательность русских и их необычную живучесть, этот запрет нес всем заключенным голодную смерть.
Достаточно прикинуть, сколько человеку нужно еды, чтобы не умереть с голоду, и сравнить эти цифры с тем, что обычно составляло рацион узников тюрем: миска жидкого капустного супа два раза в день, а также менее полукилограмма хлеба один раз в день. Кроме того, на завтрак выдавали кипяток. Но и такой рацион предназначался далеко не всем заключенным. Пресловутая система нормирования сортировала людей по категориям точно так же, как и тех, кто якобы оставался «на свободе». Полный паек получали лишь при условии полного выполнения нормы работ. Но хуже было то, что к работе допускались только «привилегированные» заключенные, проще говоря, обычные уголовники. Только у них была возможность выполнять эти нормы. Партизаны и лица, подозреваемые в любой деятельности, направленной против властей, не выводились на работы. Соответственно, для них становилось невозможным получать полные пайки.
В период, который последовал за временем стремительного наступления и жарких схваток с противником, который я уже описывал, меня несколько раз отправляли в тыл, где я мог собственными глазами видеть то, что происходило на оккупированных Германией территориях советской Украины и Польши.
Сразу же после последнего боя полковые санитары перевязали мне раны, которые оказались легкими. Но через несколько дней меня и оставшихся в живых членов моего экипажа направили на неделю в дивизионный центр для выздоравливающих. Там мы действительно получили возможность отдохнуть от наших прошлых бед, тем более что обращались с нами как с лицами королевской крови. Не нужно было быть постоянно настороже, ловить на себе угрюмые взгляды местных жителей. Мы были среди друзей, и та теплая атмосфера сама была лучшим лекарством для наших душ.
Несмотря на прекрасное отношение к нам всего персонала, мне хотелось бы отдельно отметить одного из них. Речь идет о хирурге, который был родом из Мюнхена. Очень часто этому человеку приходилось работать без всякого отдыха день и ночь, но и тогда он никогда не забывал о том, что это учреждение представляло собой центр отдыха для нас и нужно было обеспечить, чтобы мы провели там время как можно лучше. Он никогда не козырял своим званием, как делали многие, всегда с удовольствием участвовал вместе с нами во всех увеселительных мероприятиях, и каждый из нас считал доктора своим другом.
Следует рассказать о тех совместно проведенных с доктором вечерах более подробно. Мне особенно запомнился один из них, который состоялся ближе к концу недели отдыха, когда раны меня уже не беспокоили. Мы играли в карты, пили вино, что было настоящей роскошью в те времена, затевали шутливую возню и состязания по борьбе в каждом уголке комнаты, радуясь, как дети, которым разрешили отправиться спать попозже. По возвращении из центра каждый из нас искренне желал этому человеку благополучного возвращения домой, но позже, когда в войне произошел резкий поворот и нам пришлось оставлять свои позиции, я слышал, что доктора застрелили, когда он, как обычно, оперировал очередного раненого. Возможно, судьба сжалилась над этим человеком, решив, что он слишком хорош и ему не стоит переживать горькие минуты поражений и позора.