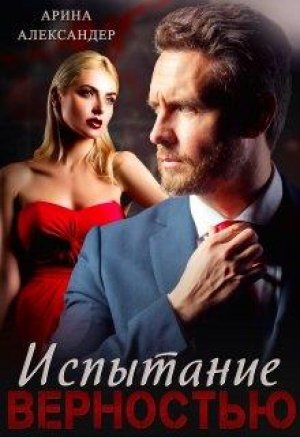
© Александр Семёнович Брейтман, 2022
ISBN 978-5-0056-8198-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
*Перечень новых подглавок, вошедших в полную версию повести: Еврейское счастье (пролог); ч.1: Предательство?, Как я съел шляпу, Идеологическая диверсия, Вшивый домик; ч.2: Школьные радости и печали; ч.3: Дядя Изя; ч.4: Гений общения, Страсти по Балабанонову, Дзенское мышление; ч.5: Большая Эльза, Зачем маляру Фауст?, Привет из Сан-Донато, Дар Фи Тале, В поисках золотой середины, Читайте святых отцов, Неуставные взаимоотношения, Ун-ца-ца, Таможенный досмотр, Священная корова правопорядка, Тумнинский r-фактор.
Выражаю признательность своей жене, Анастасии Викторовне Брейтман, вдохновителю, первому слушателю и умному критику «Персоны»; своей молодой коллеге Марии Эдуардовне Кулян-Козионовой за дизайнерскую помощь в создании обложки для книги; моим первым читателям и слушателям за их терпение и, подчас, лестные для меня отзывы, а так же людям, ушедшим и ныне здравствующим, ставших по моему авторскому произволу персонажами повести.
Насте – жене, вдохновителю, первому слушателю и строгому критику моего скромного труда с благодарностью и любовью
Вместо предисловия
Я всегда был персоной нон грата. И в первую очередь для тех, для кого переживание административного восторга приобрело характер клинического недуга. Кто они, эти люди? Это хорошо понимал Ф. М. Достоевский. В своих «Дневниках» он писал о тех, кто, получив даже самую малую толику власти, вдруг ощутили ни с чем несравнимую сладость этой самой власти над другими, пусть даже над самыми малыми и сирыми. С младых моих ногтей они на каком-то органическом уровне распознавали во мне чужака. И не то, чтобы я претендовал отщипнуть хоть клочок от того, что отныне составляло для них вожделенную радость бытия; напротив, я, сколько себя помню, всегда бежал и сторонился власти в любой её форме и проявлении – чьей-то надо мной или моей над кем-то, не существующих порознь. Скорее всего, откровенно её не любя, я её не желал и никак не ценил. Не ценил то, что было для них «измлада и труд, и мука, и отрада». Такое не прощают! Судите сами: меня переводили как неисправимого из одного детского сада в другой и устраивали самосуд; меня изгоняли решением директора из пионерского лагеря; меня исключали, недоисключив, из школы по окончании восьмого класса; меня, выпускника пединститута, «изгонял» из деревенской школы, где меня успели полюбить мои пятиклассники, директор этой самой школы; запрет на работу учителем в хабаровских школах, при остром дефиците учителей, был наложен на меня в период «царствования» лично одним из начальников КрайОНО; меня за публично эмоциональную оценку руководствахотел хотел уволить из рабочих начальник строительного управления, (правда, уволить гегемона тогда было не так просто); не имея возможности уволить со службы в в/ч 02008, дважды отравлял меня на гауптвахту и придержал до «дембеля» присвоение очередного звания командир этой части; меня уволил директор профтехучилища с самой непрестижной должности воспитателя общежития, где я уже добился кое-какого успеха; я ушёл сам с поста завуча СПТУ, не дожидаясь пока меня отстранят от должности проверяющие, пережившие что-то близкое к аффекту, когда я отказался сотрудничать с ними против моих коллег-учителей; по окончании испытательного срока из соображений «неблагонадёжности» я был переводом уволен из Дальневосточного зонального учебно-методического кабинета, хотя мой месячный отчёт о проделанной работе был признан лучшим; меня уволила директриса Краевого института усовершенствования учителей, несмотря на протесты и делегации этих самых учителей; наконец, отмены моей кандидатской защиты требовал бывший директор музея атеизма, а тогда – инспектор ВАКа при министерстве образования и член Диссертационного совета при СГПУ им. Герцена. В своём университете, где работаю уже более тридцати лет, от заведования кафедрой отказался сам. С началом 90-х накал «изгнаний», казалось бы, сошёл на нет. Был моложе, думал – навсегда. А вот вступил, как сформулировали добрые чиновники, в возраст дожития, и опять сомневаюсь. Наверное, возрастное.
Да, я всегда был персоной нон грата. В этом есть правда, но не вся. За свою уже немалую жизнь я сумел найти друзей. Они всегда где-то рядом. Среди них есть даже однокашники (может, правильнее было бы – одногоршечники или одногоршковцы) по детскому саду. И по школьной парте (самые-самые), и по студенческой скамье и – дальше, дальше, дальше… Мой научный руководитель тех далёких 90-х, известный питерский профессор из «Русского музея» М. Ю. Герман, как-то, по случаю (может быть с долей присущей ему иронии), обронил в мой адрес: «гений общения». Я не стал с ним спорить. Правда я не стал спорить и тогда, когда, в некотором замешательстве, один знакомый режиссёр-документалист из Владивостока, вдруг, произнёс: «В тебе есть какое-то отрицательное обаяние». Что, согласитесь, тоже неплохо. А родители? А семья? А сёстры, племянники и внуки? А сын? А внучка, что одна перетянет любую чашу весов? Их, как видите, немало. И я их любил и люблю. И они мне отвечали и отвечают тем же. Для них я, всё-таки, персона грата.
Или я ошибаюсь?
Еврейское счастье (пролог)
С лёгкой руки Шолом-Алейхема словосочетание «еврейское счастье» вот уже более века гуляет по миру. В словах известного писателя и сочуствие, и горькая ирония: «еврейское счастье» – нечто вроде рокового невезения или даже беды, когда только неистребимое чувство юмора какого-нибудь Тевье-молочника или Менахема-Мендла способно уберечь от последней степени отчаяния. При этом совсем не обязательно быть евреем, чтобы таки иметь «еврейское счастье».
Мой троюродный дядя Борис, одессит и ещё на минуточку генеалог, многие годы собирал по веточкам и листочкам родословное древо семьи Брейтман. Завершил же сей славный труд (как и свой земной путь) он уже в Торонто, куда попал после массовой алии советских евреев, наконец то (к вящему ликованиюю «истинных русских патриотов»1), обретших к началу 90-х свою историческую родину. Согласно семейному преданию, основателем рода явился ближе к середине 19 века Берл, а основателями фамилии – его сыновья: Моше, Хаим и Шломо (Моисей, Ефим, Соломон). При этом, я не очень понимаю: а Берл (что по-немецки – медведь) был Брейтман или тогда у ашкеназских евреев ещё не было фамилий? И вообще: что означает эта фамилия? В немецком и английском brayt /в идишский варианте-breyt – широкий, яркий (см. Брайтон-бич – широкая яркая улица Нью-Йорка). Был ли Берл широк натурой или большой и сильный как медведь? – сегодня, увы спросить не у кого.
Как сложилась судьба Моше и Шломо – спросить тоже не у кого. Моего отца уже нет в живых, как нет на этом свете и, любившего при случае вспомнить как попал под аварию, моего двоюродного деда Изи (Израэла), отца упомянутого летописца дяди Бори. Кстати именно дед Изя, маленький одесский портной, сумел по окончании войны собрать в Одессе (спросите: чего ему это стоило?) разбросанных по эвакуациям четырёх своих сыновей. По мере умножения семейства город у Чёрного моря становился некой землёй обетованной всех широких и ярких Брейтманов России.
О своём же прадеде Хаиме я знаю, всё-таки, немного больше. Родился он где-то в конце 70-х годов позапрошлого 19-го века. В семейном альбоме есть старая чёрно-белая фотография маленького человека в костюме, галстуке и шляпе. Это снимок Хаима из Аргентины 1909 года (удивительно на него похож названный в его честь мой покойный дядька Ефим), куда он уехал на заработки и пробыл там три года. Тогда евреям, поражённых в правах жестоким самодеожавием, таки и разрешалось свободное пересечение государственной границы (как известно, при новых хозяевах долгие десятилетия граница была на замке). Он вернулся в свою Ободовку, что под Виницей, а в 1918 году во время очередного еврейского погрома был зарублен петлюровцами. На руках моей пробабки (её имени не знаю тоже) осталось семеро детей – два мальчика и пять девочек. Среди них – и моя бабка Сурка (Сара).
В 19 веке, как известно, браки между двоюродными братьями и сёстрами (кузенами и кузинами) были делом обычным. В дворянских семьях – из опасений мезальянса, а среди евреев – по религиозным предписаниям. Так, по законам Российской империи, где православие объявлялось государственной религией, брак между православым и иудейкой становился возможным лишь в случае, если последняя официально принимала православие. В еврейской же черте оседлости, впитавшей в себя память о двухтысячелетнем изгнании и гонениях, не было страшнее преступления, чем отступничество от веры отцов. Таким образом, самые привилегированные и самые бесправные подданные империи «уравнивались» в этом частном, даже интимном, перед лицом неумолимого закона и столь же неумолимой традиции. Так вот, мой прадед Герш, муж Сурки, будучи сыном Шломо, был её двоюродным братом, что нисколько им не помешало произвести на свет трёх сыновей – Фимку, Сёмку и Лёвку – не худших, я вам скажу, пробы и достоинства.
Сёмка — мой отец Семён Брейтман. Он Родился в 1926 году в селе Песчанка Виницкой области – местечке Ольгопольского уезда Подольской губернии. На то время евреи Песчанки составляли примерно 1/3 от общего населения примерно в 3000 человек. По данным на 2012 год евреи в Песчанке (Пiщанке) не проживают.
Старший брат отца, мой дядька Ефим, подвижный, весёлый, любящий дружеские застолья и закончивший войну в Берлине, в возрасте 79 лет умер в Израиле, где прожил последний год в семье своей младшей дочери, моей двоюродной сестры Любы. Младший, второй мой дядька, Лёва, порядочный и трудолюбивый, будучи ещё совсем молодым, упал с высокого воза с сеном прямо под копыта лошади. После ряда неудачных операций получил инвалидность. Сколько его помню (в школьные годы отец часто, почти каждые выходные, навещая мать, брал меня с собой: они жили «за мостом» в частном доме), он никогда не жаловался на свои болячки (а они давали о себе знать всё больше и больше) и, продолжая работать в совхозе, держал большое приусадебное хозяйство с огородом, курами и свиньями; поставил на ноги детей, моих двоюродных брата и сестру, Гену и Свету. Умер до срока, прожив всего 58 лет. Совсем недавно, встретившись с Геной, я узнал от него, что отец в молодости играл на мандолине. А я никогда даже не видел инструмента в их доме. Видимо, в трудах и заботах и послевоенной, да и всей последующей жизни было не до мандолины.
В середине 30-х годов Сара и Герш Брейтманы с сыновьями (старшему Ефиму было к тому времени 13—14 лет) приехали как переселенцы в созданную тогда Еврейскую автономную область, первоначально – Биробиджанский еврейский национальный район Дальневосточного края. Жили в посёлке Приамурском (иногда его называли Покровкой), что сразу за знаменитым железнодорожным мостом через Амур. (Трудные, подчас трагические, судьбы евреев-переселенцев не только из СССР, но и Канады, Австралии, Польши… требуют отдельного разговора2).
Дед, по словам отца, был еврейским учителем или меламедом. Ближе к вечеру по пятницам он, облачившись в талес, произносил пятничный кидуш, обязательную молитву, с которой начинался шаббат – один из важнеших еврейских праздников для всех верующих и неверующих. В этот вечер вся семья, включая детей, вымытых и переодетых в чистое, собиралась за накрытым столом. По правую руку от главы семейства, как правило, садили приглашённого к семейному столу – одного из тех, у кого в силу тех или иных причин такой возможности не было. Накормить голодного и одинокого в шаббат для еврея – большая мицва (в обиходе – всякое доброе, богоугодное, дело, похвальный поступок). За несколько минут до захода солнца мама зажигала субботние свечи.
Но, увы, даже в семьях, соблюдающих традиции Торы и почитающих субботу, не всё благо… Мой дед оставил жену и сыновей. Почему он поступил так? Я не мог задать такого вопроса отцу, а сам он никогда об этом разговора не заводил. От мамы же я узнал, что случилось это примерно за год за два до начала войны.
Пытаясь выяснить хоть какие-то подробности восьмидесятилетней давности, я позвонил в Биробиджан к старшей дочери моего дядьки, моей двоюродной сестре Полине. Я хотел лишь уточнить год призыва в армию её отца, но узнал от неё то, о чём раньше даже никогда не слышал. Например, то, что дядька мой, призванный накануне войны в армию, таки и дошагал пехотой до Берлина, и, может быть, его выцарапанная штыком роспись где-нибудь и сохранилась на стенах разрушенного Рейхстага. Я краем уха слышал, что его военная служба каким-то образом продолжилась в Ташкенте, но уже в какой-то военной (?) типографии. В 1947 году у них с Броней, его женой, родилась Полина, а в 1948 они пережили печально знаменитое Ташкентское землетрясение. Но вот, что для меня оказалось полной неожиданностью, так это то, что покинув Ташкент, они оказались (!?) где-то под Киевом: Ефим как опытный типографщик получил то ли назначение, то ли приглашение и хорошую должность. А кругом, по воспоминаниям Полины, были сады, сады, цвели сливовые деревья… и певучий украинский говор, и родители были молоды, и отец играл то на мандолине, то на балалайке, и пел… Это было самое счастливое время в их жизни. Но в год смерти тирана они были уже в Хабаровске. Прошло ещё немало лет, прежде чем дядя Фима получил приглашение на работу в газете «Биробиджанер штерн» – «Биробиджанская звезда» на языке идиш. Знание языка ашкеназских евреев и опыт печатника положили конец их многолетнему существованию в старом деревянном бараке. (Когда-то, в середине прошлого века, принявшие благодарных жильцов, в том числе, из переселенцев, новенькие деревянные бараки давно превратились в трущобы Хабаровска. Они и сегодня, обветшалые и полуразрушенные, являются главным «украшением» бывшей Гаражной, ныне – Проспекта 60-летия Октября). С переездом в Биробиджан семья, наконец, обрела долгожданные коммунальные удобства.
Так вот: накануне войны Ефима призвают на службу, а бабка, забрав младшего Лёву, возвращается на Украину. Оставшись один, отец какое-то время жил у людей и начал работать на железной дороге. К тому времени ему исполнилось 13 лет. Эта тема, куда более болезненная, никогда и ни под каким видом в нашей семье не обсуждалась. По прошествии некоторого (видимо, недолгого) времени баба Сара с Лёвой вернулась, и они вновь были вместе. С началом войны с пятнадцатилетним Семёном и девятилетним Лёвой баба Сара едет на Сахалин: то ли на добыче, то ли на переработке рыбы требовалась повариха, и там можно было пережить с двумя подросшими сыновьями трудные времена. Но сахалинские годы запомнились отцу не только рыбным изобилием. Так отец на всю жизнь запомнил, как однажды, находясь на берегу моря, они вдруг потеряли маленького Лёню. Его, тонущего и унесённого волной в открытое море, случайно сетью выловили рыбаки. Какой-то прямо евангельский сюжет с обращением Исуса из Назарета к двум рыбакам – Петру (Симону) и Андрею: были ловцами рыб, а станете ловцами человеков. Вот и выловили сахалинские Петры и Андреи из пучины морской и возвратили Саре любимое её дитя.
В 1944 году отцу исполняется 18 лет и его призывают на службу. К тому времени уже произошёл коренной перелом в войне, немцы отступали по всем фронтам, но на дальневосточной границе – на оккупированной территории Китая – была сосредоточена образцовая трёхсоттысячная Квантунская армия Японии, азиатского союзника Германии по военному блоку. Пройдя краткосрочные курсы стрелков-радистов, отец в составе танкового экипажа участвовал в освобождении Маньчжурии. Он вспоминал, как, заняв какую-то деревушку и развернув полевую кухню, они кормили солдатской кашей испуганных крестьян. Сам деревенский, да и выросший не в хоромах, он поразился тогда нищете, в которой жили эти люди. Там же, в Маньчжурии, отец был ранен в ногу и попал в госпиталь. Не знаю причин, но в часть после ранения он вернулся с большим дефицитом массы тела. Его вес тогда, по собственному определению, бараний, был всего 47 кг.
По завершении японской кампании отец, отслужив ещё несколько лет (до 1950 или 1951 гг.) в частях связи, был в звании ефрейтора демобилизован. За годы службы военнослужащий Семён Брейтман окреп и приобрёл хорошую физическую форму: на гражданку он прибыл худощавым и стройным. 7 ноября 1951 года в день рождения моей мамы и очередной годовщины Октябрьской революции Семён Григорьевич Брейтман сочетался законным браком с Розой Григорьевной Харитон. С этого дня начался отсчёт существования ещё одной советской семьи.
Моя мама, Роза Харитон, родилась в Умани, небольшом городке (местечке) Черкасской области, месте традиционного компактного проживания еврейского населения. По данным на 1926 год – год рождения мамы – на сто, примерно, тысяч населения приходилось в среднем 50% евреев; украинцев, соответственно, – 43%, русских – около 5%. (На 1959 год евреев там оставалось всего 5%, русских – 16%, украинцев – почти 77%. Сколько евреев проживает в Умани сегодня – одному Богу известно).
Роза была младшей из четырех дочерей Григория (Герша) Харитона и Фримы Скульской. Незамужние Мася (Мария) и Дося (Дора), модницы и красавицы (о чём красноречиво свидетельствуют старые фото), умерли молодыми. В их столь раннем уходе много неясного. Обе работали в уманьских партийных органах. Мама (тогда ей было лет 10 – 11) вспоминала, что просыпалась ночью и слышала, как сёстры, плача, рассказывали об арестах хороших людей, и мудрая их мать тихо плакала вместе с ними. Вскоре, по возвращении с южного курорта, посланная туда от работы для поправки здоровья, Мася скоропостижно скончалась. Через год та же история повторилась и с Досей. И те же врачи поставили тот же диагноз – тиф. Произошло всё это в печально знаменитые 1936 и 1937 гг. Куда исчезали и почему внезапно умирали молодые и здоровые люди в те годы сегодня, увы, очень хорошо известно. Во многом знании много печали… Кто не повторял этих горьких слов, которым уже без малого 3000 лет!
Так третья сестра Аня (впоследствии любимая нами тётяня) стала для нашей мамы во всём старшей на все последующие годы. Красивая, как и все сёстры, она была смешлива и больше всего любила распевные украинские песни. Эту любовь она сохранила до конца жизни. До сих пор помню её песенно-украинскую мову с русско-идишскими фонетическими вкраплениями:
Потом уже жизнь научила её быть и рациональной и прогматичной; такой же она воспитала и Яну, единственную свою дочь и нашу с Галей двоюродную сестру.
К началу войны у Ани оставался незавершённым год на филфаке киевского университета. (Родня и друзья подшучивали, что старшая Харитон учится в университете на доходы от пивной пены: Герш Харитон в последние довоенные годы был завпивной и имел с этого небольшой доход. Он не скопил себе никакого состояния и умер в эвакуации от болезни желудка, вызванной недоеданием). Наша тётяня была профи в лучшем значении этого слова. Я и сейчас готов прибегнуть к её запоминалкам, если понадобится просветить не ведающих русской грамматики теперешних компьютерных гениев по поводу звонких и глухих согласных:
м ы же не забывали друга (звонкие)
стёпка фец хочешь щец (глухие)
У молодой и весёлой студентки киевского университета был жених Дудик (Додик, Давид) – парень, как тогда говорили, из хорошей еврейской семьи. Парень из хорошей еврейской семьи, как и его младший брат Моня (что смеясь спрашивал у полыхающей смущением пятнадцатилетней Розы: дождётся ли она его?), погибли на фронте в первые дни войны. Потом уже в эвакуации под Ташкентом Аня выйдет замуж за бухарского еврея Романа (Рашеля), будущего отца Яны.
Мама же к началу войны закончила седьмой класс. Была отличницей, старостой и помнила наизусть список всего класса. До глубокой старости (она прожила 88 лет) писала без единой ошибки убористым биссерным почерком и декламировала на «бис» горьковскую «Пенсню о буревестнике». В те годы семилетка – неполное среднее – было вполне себе образованием, что и оказалось весьма кстати всего лишь несколько месяцев спустя.
«22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война» – поётся в известной песне Ежи Петербуржского. А от Киева до Умани всего 200 км. Надо было срочно эвакуироваться. Ещё ничего не было известно о тотальных зачистках еврейского населения на оккупированных территориях. Официальные органы и пресса хранили молчание – ведь СССР и фашистская Германия на начало войны, по сути, были союзниками. Но вэй из мир! что хорошего мог ожидать еврей от этих шлэйгэрс?
Считанные дни на сборы… И вот с узлами, где самое необходимое (что-то из мебели и другое добро оставили «до лучших времён» под присмотром соседей-поляков: состоятельный пан Станислав, захаживал в другой раз к Гершу, с которым дружил уже многие годы, и, щедро одаривая сестёр конфетами, всегда с большим уважением относился к пани Фриме, что угощала его щучьей головой той самой, собственноручно приготовленной, рыбы-фиш), они грузятся в эвакоэшелон. Мама на всю жизнь запомнила эту дорогу в эвакуацию. Запомнила, что в ужасе бежали как можно дальше от эшелона, становившимся лёгкой мишенью при авианалётах; как прибыли со своими узлами в станицу Маныч, а ночью местный председатель совхоза скрыто отправил их на подводе дальше, тихо пояснив, что слышал, как немцы поступают с евреями… Спасибо добрым людям, что помогли выжить Гершу Харитону с семьёй на этом пути, спасибо, что я, сын младшей из его дочерей, Розы, могу сегодня без различения национальностей произнести слова благодарности этим незнакомым и давно умершим людям – русским, украинцам, полякам, конечно, узбекам… Именно в Узбекистане и прошли пять лет эвакуации.
Семья Харитон среди прочих других оказалась в Беговате (Бекабаде) – маленьком, с чуть более чем тридцатитысячным населением, городке в 115 километрах от Ташкента. Не могу сказать (и уже не у кого спросить), на какой общественно-полезной работе были заняты дед с бабой. Аня же преподавала в школах Беговата, иногда – Ташкента, обязательные на всей территории СССР русский язык и литературу, а Роза как несовершеннолетняя без какой-либо квалификации была определена в разнорабочие на строительстве Фархадской ГЭС. Вот тут-то её семилетка (сразу хочу умерить пыл взахлёб повествующих о преимуществах всего советского, в том числе, школы: по первому своему образованию и по начальной работе я – школьный учитель, и знаю отнюдь не понаслышке и о достоинствах, и о недостатках этого самого образования, и школьного и вузовского. А то, что из числа выпускников и средних и высших советских школ хватало непроходимых невежд, никаких специалистов и откровенных дураков вам скажет любой мало-мальски уважающий себя представитель всё той же советской интеллигенции), и хорошая память, и умение перемножать в уме двузначные числа, и письмо без ошибок… сыграли свою роль – её, пятнадцатилетнюю то ли девочку, то ли девушку, переводом из разнорабочих поставили учётчицей и назначили паёк служащего, что значительно превышал паёк неквалифицированного большинства строительей Фархадской ГЭС. Мама вспоминала, как отец грустно шутил о своём еврейском счастье, когда младшенькая, и отличница и умница, кормит своих постаревших (тогда совсем ещё и не старых) родителей. Как я уже упомянул, мой дед умер от обострившейся в эвакуации болезни желудка: отделяя от своего скудного рациона часть, он старался как мог уберечь от недоедания дочерей и свою тохтер, так, любя, доченька, он иногда называл Фримэню (уменьш. от Фрима) – свою жену и мою бабку.
Закончилась война. Вчетвером, уже без деда, но с будущим отцом Яны – Рашелем – они вернулись в Умань. Семья Станислава в годы оккупации выжила, более того, сохранила оставленные Харитонами вещи и даже извинилась (это по поводу повального польского антисемитизма) за невесть куда задевавшийся ковёр. Да что там ковёр, когда кругом послевоенная разруха и безработица, а в оставленном почти пять лет назад доме живут незнакомые тебе люди? Как жить, если муж похоронен на чужбине, если потерян дом, если средств к существованию нет?.. И тут – письмо от Яши, Яшуни, – бабушкиного старшего брата, Якова Моисеевича Скульского, моего двоюродного деда. В годы войны он с семьёй оказался в Хабаровске и теперь звал к себе. Других предложений не было, авторитет брата не подвергался сомнению, и она решила: «Если Яшуня зовёт, надо ехать». Тогда Хабаровск нуждался в специалистах, в том числе, учителях. Учителями были Аня (университет она «добила» заочно) и Рашель. В составе одной семьи школа получала сразу двух специалистов по главным тогда школьным дисциплинам – литературе и математике. Это была редкая удача, и они сразу получили маленькую без удобств квартирку в учительском доме, в которой все и жили: Аня с Рашелем и Яной, что родилась в 1946 году, моя бабка и моя мама, которой к тому времени было уже 20 лет. Заочно окончив Биробиджанское педучилище, она начала работать учителем начальных классов.
Потом уже мы жили в бараке по соседству через дорогу, и я в возрасте от трёх до пяти из окна второго этажа мог наблюдать, как от учительского дома к нашему переходит улицу маленькая, согнутая в пояснице старушка – моя бабка, Фрима Моисеевна Харитон. Она умерла в тот год, когда я должен был пойти в первый класс. По словам моих близких она любила меня, заботилась и жалела как младшего из своих внуков. Я не помню по малолетству никакого с ней разговора, не помню, как звучал её голос. Жалею об этом до сих пор. Ей, пережившей и наступление нового, двадцатого, века, и первый полёт братьев Райт, и еврейские погромы, и три революции, и три войны – две мировые и гражданскую, и репрессии 30-х, и эвакуацию, и «дело врачей», и гонения на «безродных космополитов»… было бы что рассказать мне. В год её смерти, 1961, весь мир узнал имя Юрия Гагарина.
Рождение детей (сначала моей сестры, а через два – меня собственной персоной) становится причиной перехода молодой учительницы начальной школы – Розы Григорьевны Брейтман – воспитателем в детский сад: чтобы и дети оказались под присмотром, и чтобы заработок, пусть и более чем скромный, не потерять. По той же причине она уходит с третьего курса заочного отделения истфака Хабаровского пединститута, хотя, по воспоминаниям тётки, второго декабря 1954 года она с самого утра со всей серьёзностью собиралась на экзамен, но лишь благодаря настойчивости матери осталась дома, а уже днём отец на служебном «по случаю» грузовике доставил её в роддом. Я знаю, что мама, живя долгие годы в барачной тесноте, мечтала о высшем образовании как некоем залоге будущей интеллигентной, с высокими помыслами, жизни. Думаю, эта её мечта каким-то незримым образом передалась и, в известной степени, осуществилась в моей, её сына, судьбе. И она знала об этом, и всегда первая радовалась моим профессиональным успехам и человеческим удачам.
Лишь малой части того, что пришлось пережить моей еврейской маме (аидишн мамэ – символ самоотверженной и не рассуждающей материнской любви) пока я посещал детский сад, учился в школе; а потом – в вузе, аспирантуре, докторантуре… я коснусь в последующих «детских» главах. Но до глубокой старости, она ровно так же продолжала переживать за меня, вполне взрослого уже человека, потом уже за внука и правнучку. Конечно, всё, что связывало меня с мамой, касается и моей сестры. Но, может быть, она когда-нибудь сама напишет свои воспоминания…
Это, действительно, была типичная советская семья, похожая на все другие советские семьи: разве что отец чуть меньше обыкновенного пил, хотя и не был трезвенником; чуть меньше полагался на «авось», хотя, иногда, и бывал до наивности доверчив; да, его не вдохновляла «истина» о работе, которая не волк.., но и в ударники коммунистического труда он тоже попасть не торопился. Как и многие люди его поколения он не умел жить без дела: и в Строительно-монтажном управлении, где проработал большую часть жизни и пользовался, как было принято тогда говорить, заслуженным уважением; и дома по хозяйству; и на дачных шести сотках…
Насквозь пронизавший повседневность деформирующий речь и мышление канцелярит, с головой выдаёт колоссальное неуважение наших «эффективных менеджеров» к большинству населения, названному электоратом. Так, зачисленная в возрастную категорию дожития, с трудовым стажем в сорок лет, мама становится пенсионером. Отец продолжал работать. И работал бы ещё многие годы, если бы «добрые» чиновники «эффективно» не оптимизировали производство по «вдруг» открывшимся несоответствиям возраста и диплома (которого у него и в прежние годы никогда не было) занимаемой должности. С выходом на пенсию, отец стал чаще и дольше бывать на продуктовом рынке: он любил и умел, обойдя с десяток прилавков, со вкусом и не торопясь выбрать товар; а давно работающие и занозистые продавщицы, понимая что имеют дело с профи, долго и уважительно с ним разговоры разговаривали. И всё бы ничего, а даже и хорошо, и правильно, да вот отец всё чаще и чаще «брал» меня с собой. А это требовало времени. Но когда некоторые молодые торговки по неопытности обвешивали дедушку, то мои досада и нетерпение вознаграждались сторицей. Со словами: «И как же тебе не стыдно обманывать пенсионера», – он, к вящей радости других посетителей рынка, возвращал товар обратно, невзирая на торопливые посулы возмещения, конечно же, случайно причинённого ему ущерба.
Приученный прожитой жизнью к бережливости, отец, вместе с тем, был гостеприимным хозяином. Об этом знали и на себе испытали в былые времена мои школьные друзья, хотя отец, в силу разных причин, не всегда так уж и рад был их появлению в нашем доме в неустановленное время. Кулинарный талант отца признавался всеми и безоговорочно. Безусловно, он наследовал его от своей матери, Сурки, что ещё в годы НЭПа в Виницкой Песчанке умело управлялась то ли с корчмой, то ли с постоялым двором, где была и хозяйкой и поварихой в одном лице. Практически по наитию, никогда не держа в руках поваренной книги, он интуитивно прозревал тайны кулинарного мастерства и был Мастером. На его дни рождения приходили многочисленные родственники и друзья: никому просто не могло бы прийти в голову пропустить по доброй воле и без уважительной причины застолье у Семёна. И немудрено: несмотря на жару (в конце июня нередко бывало и под 30°, а бытовые кондиционеры в квартирах простых людей появились только в перестройку), скромные размеры холодильника и отсутствие морозильных камер, стол, раздвинутый и приставленный, всегда был тщательно сервирован. Неотменяемый тандем двух признанных вершин кулинарного гения – знаменитый русский холодец из свинных ножек и не менее знаменитая еврейская фаршированная щука (рыба-фиш как говорят в Одессе) – позволяли думать, что сама идея межнационального единства не столь уж и утопична, если вместо благих посулов подвести под неё здоровую материальную основу.
Что нужно пенсионеру и инвалиду войны (отец ко времени описываемых событий был и тем и другим)? Конечно же, забота. И «добрые» чиновники вновь о нём «позаботились». Хорошо известно, как любят они к датам вспоминать о ветеранах войны. Вот так в очередную дату Победы отец в числе других стариков был приглашён на торжественное мероприятие, которое никак не могло начаться в связи с неприбытием какого-то начальника для торжественного зачтения запланированного приветствия. Ну ничего: начальство, известно, при делах, а ветеранам и прочей инвалидной команде спешить некуда. Так то оно так, да вот эти самые ветераны простояли в ожидании радетеля и благодетеля несколько часов на своих траченых ревматизмом ногах. В суматохе административного рвения, конечно же, было не до стульев… Отец тогда своим ходом с трудом добрался до дому – после многочасового стояния резко обострилось сосудистое заболевание ног. С того времени он перестал бывать на продовольственном рынке; более того, ему всё труднее и труднее становилось просто выходить из дому. Последние два года большую часть жизни он провёл в кресле. После смерти мамы отец, которому было тогда 88 лет, не захотел ни к кому переезжать: он рано стал самостоятельным, и уже по-другому своей жизни не представлял. И я и сестра помогали ему во всём, но готовить он продолжал сам: пусть даже и не так и не то, чему в прежние годы позавидовал бы и иной шеф-повар из ресторана. Настя (моя жена во втором браке), с которой я так и не успел познакомить маму, была новым человеком в нашей семье, и отцу нравилось, когда мы приходили вместе. Они даже завели обычай расцеловываться при встречах и расставаниях; и отца это чрезвычайно трогало.
В последние годы отец всё чаще вспоминал о своём отце, которого больше никогда не видел с тех самых предвоенных лет. Знал только, что жил тот где-то в Биробиджане. По его просьбе Володя, внук Ефима (на то время – зам. начальника Биробиджанской милиции) делал запрос в городской архив. Следов Герша Брейтмана обнаружить не удалось. Но вот недавно, внук Лёвы, Сергей, вернувшийся в Хабаровск после службы в боевых частях Армии обороны Израиля, озадачил всех вопросом: кто изображён на карточке более чем девяностолетней давности? Знакомый снимок (семейное фото), который, в своё время, я тоже внимательно разглядывал: в верхнем ряду я узнавал отца (Сёмку) в возрасте примерно пяти лет рядом со старшим братом (Фимкой). А кто остальные? Не найдя ответа тогда, я и забыл об этом думать. Но вот заново вглядываясь в лица давно минувших дней, я вдруг понял, что это семья Герша Брейтмана: в верхнем ряду – отец, рядом – Ефим, приобнявший пожилую женщину. По всему – это их бабушка (моя, значит, прабабка. Вот по чьей линии?). Иначе, что бы ей делать на семейном фото. Во втором ряду – молодые мужчина и женщина. Кто? Ну конечно, Сара (фамильное сходство прослеживается у всех Брейтманов), а рядом, естественно, Герш, снимок которого отец безуспешно искал. На кого же, мне хорошо знакомого, он похож? Точно, на Лёву (вернее, Лёва на него), который тут же, на отцовских коленях. Портретное сходство с Гершем «читается» и в лицах сына и внука Лёвы, Гены и Сергея. Вот вам и семейный портрет в интерьере времени и долгих поисков. Полина, старшая дочь Ефима, полностью согласилась с моими физиономическими наблюдениями. Но что же получается: я снимок видел и прежде. А отец, выходит, нет? Не могу сказать определённо. По меньшей мере, теперь мы знаем, как выглядел наш дед Герш.
Мама умерла в больнице в 2015 году – к тому времени ей уже было 88 лет. Я не хочу писать, как отвозил её туда, как трудно «сдавал» её, потерявшую силы, врачам с рук на руки… Я не хочу превращать эти не самые радостные воспоминания в выразительный литературный эпизод. Я не помню имени заведующего отделением, первоначально не хотевшего принимать больную не по профилю, но затем, оставившего её и назначившего под свою ответственность сильные обезболивающие, чем и облегчил муки последних её дней. Я благодарен этому человеку, честно исполнившему свой профессиональный долг: в силу многих причин сделать это оказывается не всегда просто. А ещё я благодарен своему ангелу-хранителю (хотя, по большому счёту, не верю в его существование; да и не положен мне, некрещённому, таковой. Разве что таким вот хранителем всю жизнь была моя аидишн мамэ): в очередной раз, покидая больничную палату, я наклонился, чтобы поцеловать её, и вдруг, сквозь обезболивающее забытьё, она открыла глаза – «Наклонись, я тебя тоже поцелую…».
Думаю, что в каком-то высшем смысле таким вот ангелом-хранителем является для каждого его мама. Хотя мы об этом если и догадываемся, то слишком поздно.
Через день из отделения сообщили, что мама умерла.
Это произошло в разгаре зимы, в январе. Мне тогда пришлось собрать и оформить много разных документов. Пришлось поездить по морозу по разным учреждениям, не подхватив даже насморка. Уже потом, похоронив маму, с полгода я был подвержен каким-то долго не проходящим простудам.
Отец успел отметить своё девяностолетие, пережив её на два года.
Своё 90-летие, с неизменной присказкой, в которой слышалась надежда, «если доживу», отец впервые решил праздновать на стороне: мол, гостей будет много, и все не поместятся. Я понимал: место должно соответствовать крестьянской закладке человека, не искушённого в тонкостях дизайна. Им оказался загородный армянский ресторан «Моцарт», с гипсовой лепниной и копиями известных картин… (До сих пор не понимаю выбор названия… почему хотя бы не «Азнавур», учитывая, что исконная фамилия известного шансонье – Азнавурян). Размещённая там и сям восточная пышность с позолотой, заявляла себя во всех интеръерных подробностях: сам юбиляр на высоком стуле-троне, обтянутом то ли веллюром, то ли бархатом цвета бордо и изукрашенном золотым тиснением, восседал в центре стола, принимая здравица и тосты. В довершение всему, сам хозяин ресторана пришёл лично поздравить юбиляра… А тот, в свою очередь, был чрезвычайно доволен всем, что в этот вечер происходило в «Моцарте».
Худа без добра, как известно, не бывает: проводя большую часть времени в кресле, отец стал больше читать. Читать и думать. Так, перечитывая «Тихий Дон», он кусками пересказывал нам трагические шолоховские сюжеты, поражаясь какой-то запредельной жестокости и белых и красных; не отказываясь от своего партийного прошлого, он перестал быть сталинистом, что, учитывая возраст, согласитесь было совсем нелегко; к концу жизни он освободился и от ложного патриотизма, которым, увы, были заражены многие его сверстники, и полагал, что миллиарды, потраченные на ракетные залпы по Ливану, могли бы обеспечить куда более достойное существование миллионам пенсионеров, находящихся «на» и «за» чертой бедности.
На многое по-новому посмотрел и мог ещё посмотреть отец. Но всему есть срок. С сердечным приступом его увезла скорая. В больнице отцу стало лучше и он даже просил принести ему тапочки; а через пару дней вообще собирался домой. Он умер во сне ночью в первый день марта на 91-м году жизни. В тот день с утра небо было чистым, светило солнце, а к полудню началась первая весенняя капель…
В самом начале я писал о том, как понимал «еврейское счастье» Шолом Алейхем. Скорее, как бесконечную череду несчастий, чуть согретых улыбкой великого писателя. Оглядываясь на двухтысячелетнюю историю изгнания «избранного» народа, я не нахожу аргументов «против». И всё-таки, были ли несчастливы мои родители? Сестры мамы? Братья отца? И да, и нет. В их судьбах было много горя, много страданий: семейные конфликты и драмы, смерть близких и потеря любимых, советский антисемитизм, война и эвакуация… Они пережили войну, а ко времени «разоблачения безродных космополитов» и «дела врачей-отравителей» избежали депортации, удачно оказавшись дальневосточниками. Это была главная удача в их жизни – выжить. В дальнейшем, отец, не получив никакого, кроме 4-х классов еврейской школы, образования, оказался незаменим в своём СМУ; маму со словами благодарности часто узнавали на улице солидные дядьки и тётки – бывшие её детсадовские воспитанники; тётяня была из лучших школьных руссоведов, её любили ученики и их родители; один мой дядька дошёл с победой до Берлина и успел поработать может быть в единственной, если не во всём мире, то в СССР, газете на языке идиш; другой, несмотря ни на что, прожил свою жизнь достойно, что дай Бог каждому… У всех у них выросли дети, мои двоюродные братья и сёстры, люди вполне себе достойные и благополучные; они дождались внуков, а некоторые – и правнуков. И я, при всём моём уважении к авторитету Шолом Алейхема в вопросх еврейского счастья, берусь утверждать, что оно таки и не поддаётся однозначному толкованию.
Мои родители были советскими людьми во всей непростой многозначности этого определения. Они прожили в браке 64 года, что и по прежним временам срок немалый. В своей долгой, отнюдь не безоблачной, жизни были, по-своему, счастливы. Всегда были со мной рядом, даже если я вдруг и оказывался далеко от них. Их любовь согревала и наполняла душу. Я и сейчас чувствую их любовь, только к ней прибавилась тоска по тому, чего уже никогда не вернёшь. Теперь они, как и хотели, похоронены вместе на городском кладбище в одной ограде с бабушкой (маминой мамой), о которой при жизни мама так часто вспоминала.
По большому счёту, еврейское счастье-несчастье никогда не было проблемой лишь «избранного» для гонений народа. С разрушением Второго иудейского храма еврейский вопрос существует в историческом времени в неразрывной связке с итальянским, французским, испанским, немецким… и, уже целое тысячелетие, с русским вопросами. Так что нет отдельного счастья для какого-то одного народа. Ведь каждый народ, более того, каждый человек, и счастлив и несчастлив одинаково. Конечно, индивидуальных различий много, даже с избытком (я бы сузил как сказал некто, хорошо известный), но счастья хотят все. По меньшей мере те, кого принято называть широкими народными массами, то есть, нас. История же моих родителей – всего лишь частный пример стремления к чему-то очень простому и очень человеческому.
И над собственною ролью плачу я и хохочу.
То, что вижу, с тем, что видел, я в одно сложить хочу
(Ю. Левитанский).
Ч. 1. За наше счастливое детство…
Я иногда разглядываю фотографии из своего раннего детства. Их немного. Вот на карточке мои молодые родители: отец в редко надеваемом с широкими плечами по моде пятидесятых костюме, тщательно зачёсанными набок начинающими редеть волосами; мать, ещё молодая, привлекательная, в праздничном платье из тонкого шелка. Запомнилось странно звучащее иностранное название этой красивой ткани – «креп-жоржет». Посредине – моя сестра и я. Сестре примерно три года, значит, мне нет и года. Этот снимок из фотоателье: лица застывшие, чуть напряжённые, как по команде «внимание! снимаю». Ещё снимок сестры, отретушированный и раскрашенный, с двумя заплетёнными косицами и куклой Светланой на руках. Тоже позирует, как попросили. Мой снимок: круглое младенческое лицо, круглые удивлённые глаза, короткий чубчик, в цветную полоску (наверное, тоже раскрашенная) кофточка. Но это снимки. А что помнится из жизни самое первое? Говорят, что память сохраняет всё когда-либо с тобой случившееся – надо только нащупать самый кончик клубка и слегка потянуть…
Помню младшую группу детского сада – первый коллектив, куда меня определили по малолетству. А любой коллектив (кто этого не знает) – то место, где индивида, прежде всего, «пробуют на зуб» … и вот уже покатился клубок, и нижутся на ариаднову нить бисерины разной пробы и величины, и лабиринт гостеприимно распахивает перед тобой таинственные двери… А что там дальше? Какие повороты тебе уготовила судьба? За каким из них прячется чудовище? Когда неотвратимая `Антропос внезапно оборвёт нить?…Этого не знали даже и могучие олимпийские боги…
Первая такая проба – та самая младшая группа. Про ясельную ничего сказать не могу: моя память, увы, не столь универсальна как, например, у Льва Толстого, помнящего себя младенцем, сосущим (!) материнскую грудь. При всей неясности самого процесса пробирования, хотелось бы думать, что выбор, начиная с самых первых младенческих слов, остаётся всё же за индивидом. Выбитая бестрепетной рукой таинственного «ювелира» проба эта, буде в том нужда, как потонувшая Атлантида непременно всплывёт из потаённых глубин детской памяти. Ну, тогда вперёд! И пусть будет, что будет…
Самосуд
До детского сада, куда меня водила за руку мама, примерно два километра своим ходом. Мимо проезжают грузовики. Легковых тогда, примерно с полвека назад, почти ещё и не было. Да и откуда им было взяться? Все живут одинаково бедно, думаю, и не догадываясь об этом. Идти с ребёнком тяжело, времени, как всегда, мало, и мама голосует. Иногда машины тормозят, дверь кабины открывается, и нас подвозят, если «по пути». Мама благодарит, неизменно называя всех шоферов, несмотря на возраст, «папашами». А может, они и были «папашами» для молодой тогда мамы?
Помню воспитательницу Галину Алексеевну и себя, обмочившегося во время мертвого часа. Мои трусы по её приказу отнесены няней на просушку. Мертвый час окончен. Дети интересуются, почему не встаю, одеваются, бегают. А я голый один лежу на мокрой простыне. Воспитательница, выдерживая паузу, кривя накрашенные губы, посылает детей за трусами. Помню воспитательную минутку в детском «концлагере». Я стою посреди группы голый и мокрый, вокруг меня ходят хороводом дети и дружно (видно не в первый раз) скандируют «Самосуд! Самосуд!» Эти слова заставляют повторять и меня. На моей голове – не успевшие высохнуть трусы.
Трудно сказать, что сохранила травмированная детская память, а на какие детали мне указала сестра. Будучи в старшей группе, она каким-то образом стала свидетелем этого показательного воспитательного мероприятия.
И то верно. Преисполненные административного восторга благодетели наши верят искренно и истово: всё, что они ни делают – в наших же собственных интересах.
Петух и мальчик
На дворе зима. Мы живём в двухэтажном бараке, что в городской слободке. Я, одетый по-зимнему, выхожу на крыльцо. На мне чёрная цигейковая шапочка, перехваченная вкруговую от подбородка до темечка узкой белой резинкой. Вдруг ко мне на голову вспрыгивает огромный (а кто не огромный, если тебе от трёх до пяти?) петух и клюёт в то самое, прикрытое чёрной шапкой, темя. Я падаю на крыльцо и в ужасе ору… На сей раз моя жизнь была спасена. Спасибо чёрной шапке.
Случай то, думаю, пустячный, но моя двоюродная сестра Яна всерьёз утверждает, что после того, как меня в темя клюнул петух, в моих глазах каким-то образом обозначилась не свойственная слободскому мальчишке мечтательность и любовь к произнесению малопонятных, а подчас совсем мудрёных слов типа «электрификация» или «антропос».
Ну, да ведь и вправду не знаешь, когда и где петух тебя клюнет в темя.
Три заветных слова
Зима благополучно завершена. Все во дворе. Я со всеми. На крыльце стараюсь не задерживаться. Ко мне наклоняется мой защитник и старший тёзка, поклонник двоюродной сестры и двоечник, немножко хулиган, а в совокупности характеристик – хороший парень. Шепчет: «Скажи х…, п…, б…». Я старательно и громко повторяю. Уроки не прошли даром – я до сих пор знаю, куда посылать тех, кого петух не клевал…
Вот такое оно – дворовое просвещение.
Плоды просвещения
Детский сад, куда вместе со мной и сестрой перешла из школы работать мама, я посещал недолго. Что было причиной тому – то ли унаследованный от отца буйный нрав, то ли врождённая тяга к отклоняющемуся поведению – сказать не берусь. Чашу терпения коллектива дошкольных педагогов переполнил последний из ряда вон поступок. Вместо того, чтобы со всеми разумно и правильно есть гороховый суп (сейчас я его ем с удовольствием, а тогда он казался чем-то жёлто-зелёным до неприличия), я, размахнувшись, запускаю резиновую игрушку в тарелку сидящего за соседним столом хорошего мальчика.
Как представляющего угрозу для здорового дошкольного коллектива меня переводят в другой (подальше от родной мамочки) детский сад. Представление о переводе и прочая самым решительным образом было положено на стол заведующей всё той же Галиной Алексеевной со змеисто-красными губами.
И то верно: если враг не сдаётся, его переводят в другой детский сад!
Один в под-лодке
Мы играем во дворе – ребята постарше и я, самый маленький. Уже вечер. В глубине двора чья-то перевёрнутая лодка, подпёртая с одного края обломком доски. В образовавшуюся щель можно пролезть. Мы сидим под лодкой тихо. Нас никто не видит. Темнеет. Старшие по очереди выползают наружу. Я, готовый следовать за ними, вдруг погружаюсь в темноту – подпорка убрана, оба края лодки плотно прижаты к земле. Юные пионеры, всегда и ко всему готовые, разбежались по домам. Я остаюсь в кромешной темноте. Под лодкой. Один.
Трудно сказать, сколько времени я провёл в этой подлодке. Почему-то было стыдно звать кого-то на помощь. Замерев и сжав плечи, я ждал, что эта помощь придёт сама… И действительно, через некоторое время я услышал голоса: «Саша!», «Саша!». То были отец и сестра. Я как-то по-собачьи, указывая направление поиска, заскулил и был извлечён на свет божий. Потом отец ходил жаловаться к родителям и главного обидчика Дзюни – здоровенного двоечника, излюбленным развлечением которого было, поймав очередную жертву, свалить её на землю и, придавив голову широким мужицким задом, душить газами, как душит хорёк зазевавшуюся курицу – и Лаврищева, с молчаливого согласия которого малолетний, но вполне себе сложившийся садист обижал, кого послабей. Мы не раз всем двором собирались устроить «тёмную» нашему тирану и даже в один прекрасный момент предприняли отчаянную попытку. Но, свалив его с ног, как-то растерялись, замешкались. Зато он, струсивший поначалу, не мешкая и безжалостно уничтожил ростки оппозиции в зародыше. К третьему, Беликову, отец уже не пошёл, думаю, от того, что последний, по выражению моей любимой учительницы, сам был «пыльным мешком из-за угла трахнутый».
Конечно, права на восстание широких народных масс никто не отменял, но, как сказал поэт «настоящих буйных мало». Да и откуда им взяться? Оппозицию у нас никто не любит.
Ход свиньёй
Двор дома с прячущейся среди тополей перевёрнутой лодкой, развевающимися на ветру, словно вымпелы морских кораблей, цветными полотнищами вывешенного на просушку белья, ветхим рядом сараев для хранения угля, дров и прочего хозяйственного хлама венчал дощатый и щелястый сортир. Неподалёку от этой обеспечивающей простое биологическое функционирование организмов дворовой постройки, заслуживающей отдельного похвального слова – добротный, под зиму сработанный сарай из бруса. Он был построен объединёнными усилиями моего отца и соседа дяди Тимы, жившего с нами дверь в дверь со своей женой тётей Фимой. Внутри сарай был разделён надвое перегородкой: отец, хозяйственный и непьющий, и дядя Тима, как положено доброму соседу, работящий и пьющий, держали свиней. Каждый – свою. А в лучшие времена, для приплоду – по две: чушку и кабана. Вот об этой то проживающей за перегородкой частным порядком свинье и пойдёт речь.
В повседневности трудовых будней отец, уходя на работу, поручал сестре кормить свинью. Свинья неизменно приветствовала свою кормилицу мощным арпеджио. Сестра твёрдо знала, что её, слободскую девчонку, обстоятельство это отнюдь не украшает и всячески старалась скрыть от живущих на соседних улицах одноклассников сам факт столь трогательной привязанности. Свинья же на этот счёт держалась других мыслей. Как-то, привычно откинув запор, Галя в очередной раз появилась в сарае с ведром густо замешанных отрубей. Давно мечтавшую о свободе свинью, глядящую сквозь узкие, с красными радужками и белёсыми ресницами, щелочки на свою маленькую хозяйку, неожиданно осенило: «Сейчас или никогда!» И вот, забыв всё сделанное для неё добро, вместо привычной трапезы, она, сметая всё что ни есть с пути своего, неудержимо устремилась к зияющему проёму двери…
Яркий день и напоенный весенней свежестью воздух не на шутку растревожили и без того некрепкую на голову хавронью. Быстрые ноги неудержимо понесли грузное тело к оврагу с его стремительными водами. Боясь упустить из виду свою подопечную, Галя, уже исчезая в облаке поднятой свиньёй пыли, только и успела крикнуть: «Яна, свинья сбежала!» Вместе с Яной, вслед за возглавившей гонку преследования Галей, бросились и видавшие виды дворовые пацаны. Достигнув береговой линии оврага, животное резко свернуло – впереди разворачивалась широкая перспектива улицы Большой. Видимо там она и намеревалась вкусить этой неведомой (слаще ведра круто замешанных отрубей) свободы. Но вдохнув полной грудью отравленного свободой воздуха Большой, ушлое животное утратило бдительность и оказалось в железном кольце погони… Свободолюбивая свинья была благополучно водворена на место своего постоянного проживания.
Происшедшее ли произвело своё скрытое действие, соседский ли хряк не на шутку постарался, но по прошествии четырёх месяцев хавронья опоросилась. Отец, зная теперь её легкомысленный нрав, ночевал в сарае и принял поросят в собственные руки. Их оказалось пятнадцать (!) Последний, то ли ему не хватило мамкиной титьки, то ли недополучил чего другого, рос плохо и к трём месяцам ни росту, ни весу не набрал. Выдавала его только не в меру отросшая щетина. Дядя Тима, вооружившись позаимствованными у тёти Фимы портновскими ножницами, в отсутствии отца ловко остриг замухрышку и затем удачно его кому-то продал, выдав за месячного. Всё в итоге и завершилось к всеобщему благу. Вот ведь свинья, а тоже творение божие…
Воспитание чувств
В первый раз я влюбился в старшей группе детского сада. Девочку звали Оля. Светловолосая, стриженная (тогда ещё девочки по преимуществу были с косами), с чёлочкой. Мы с ней в силу моей стеснительности и общались то не очень. Но, видимо, женская интуиция что-то ей подсказывала. Однажды, ловя взгляды моего молчаливого обожания, она подошла ко мне совсем близко: «А мы завтра уезжаем». В смятении чувств я не нашёл лучшего ответа: «Ну и что».
Потом уже в первом классе я был влюблён в девочку из танцевального кружка. Думаю, что и ходил то я туда лишь ради неё. Помню, с каким сладким и томительным чувством я, переиначивая слова знаменитого хита Иосифа Кобзона, про себя бесконечно повторял: «А у нас в танцевальном есть девчонка одна…». Увы, все слова и признания так и остались не произнесёнными. До сих пор помню тот её адрес: Зелёная,2, да танцевальную фигуру, что успел разучить: обертас с подыграсом (а может, чем чёрт не шутит, и подыграс с обертасом).
Повзрослев и, возможно, поумнев, я понял, что причиной несчастной любви и прочих страданий чаще всего оказывается малодушная трусость мужчин.
Детские любови – главные воспитатели наших чувств. Они подобны эпидемиям. Так к концу первого класса нас накрыла любовь к красивой (и что-то там ещё) однокласснице Гале Мелеховой. Мы – мальчики 1-го «А» или «Б» – даже составили по моей инициативе какое-то коллективное признание в любви, упомянув и других девочек класса. В виду же имели только её.
Но, как известно, в таких делах коллективные действия ни к чему хорошему не приводят. В самый разгар любовных страстей путём взаимной переписки некая группа будущих радетелей за светлое будущее, заикаясь и предвкушая, вдруг сообщила, что меня любит… Было названо имя никем не замечаемой девочки, с рыжеватыми косичками и близорукими под толстыми оптическими стёклами в круглой оправе глазами. Кажется, её звали Валя. Самая тихая и безропотная среди других. Но как снизойти до какой-то Золушки, если рядом принцесса?… Годы спустя я с досадой не раз вспоминал, как приблизившись к ней под взглядами маленьких доносителей и глядя в её доверчивые глаза, несколько раз толкнул её – знай, мол, своё место.
И маленький человек может совершать большие подлости.
Уже будучи взрослым мне выпал редкий (почти чудо!) случай как-то исправить происшедшее много лет назад. В какой-то аптечной очереди вдруг голос: «Вы учились в такой-то школе?» Те же рыжеватые, но уже с проседью, волосы, те же (или почти те же) очки. Правда, глаза уже не беспомощные. И на ногах стоит крепко. Жизнь научила. Я как-то бестолково и смутно пытался сказать, что до сих пор помню и сожалею… Не знаю, поняла ли она мою странную речь. Но всё же счёт, который я сам себе предъявляю, после той встречи стал короче на один пункт.
Скажи, кто твой друг?
В начале 60-х началось великое переселение народов: из ветхого барачно-коммунального жилья простой советский человек массово переселялся (спасибо Никите Хрущёву) в железобетонные коробки с индивидуальным тёплым сортиром, с ним же совмещённой девственно-белой ванной и прочим сантехническим раем. Мои родители с радостью и некоторым даже испугом от свалившегося счастья покинули двухэтажный барак-сарай, живописно расположившийся близ оврага, где летом слободские стоки вольно и плавно несли полные воды свои, а зимой местные пацаны гоняли пустую жестяную банку. И мы с сестрой с некоторой, как выяснилось позже, ностальгической, грустью (ещё долгие годы мне являлись во снах образы моего барачного детства) готовились к встрече с чем-то новым и неизведанным.
Новое и неизведанное оказалось совсем рядом, за дверями 11-й школы Первого микрорайона, куда я пришёл уже видавшим виды второклассником. Но откуда же мне, ещё неискушённому в сложной социальной иерархии моей новой жизни, было знать, что старший брат клетчато-пиджачного мальчика, к которому я по неведению не проявил должной почтительности, уже отсидел, вышел и опять сел, что автоматически делало этого клетчатого Женю лицом неприкосновенным. Помнится, кто-то меня всё же предупредил: «После уроков будут ждать». Будут ли при этом бить? – я спросить постеснялся. По окончании уроков я долго стоял в фойе школы, не решаясь выйти. Во дворе меня ждали мои новые товарищи. Бить, нужно отдать должное, не били. Но толкали. И я то ли искал пятый угол, то ли был третьим лишним. Конечно «врагами» были все, но, как мне тогда казалось, особенно усердствовал черноголовый пацан с раскосыми азиатскими глазами. Может быть, он и не усердствовал больше других, а всему виной эти раскосые глаза и его какая-то синяя с чем-то там вельветовая курточка?
Так продолжалось несколько дней, пока родители не обнаружили на моей одежде следы этих ежевечерних внеклассных мероприятий. И вот к началу 1-го урока весь класс построен для проведения следственного эксперимента. Рядом с учителем стоит моя матушка. Мне, с учётом воспитательного момента и в лучших традициях советского коллективизма, предложено (скорее, предписано) указать обидчиков, что, конечно же, никак не соответствовало понятиям дворовой чести. Поэтому я молчал, как коммунист на допросе. Но в первом ряду стоял тот раскосо-черноголовый в курточке – и это решило исход дела. Я указал на него. Вовка Душкин оказался крайним. Через несколько дней я привёл его в наш дом. Он был моим лучшим другом все оставшиеся школьные годы. Таковым, надеюсь, остаётся и сейчас.
Прав был Создатель: ищи друзей своих среди врагов своих!
Предательство?
Итак в 1962 году мы переехали на новую квартиру в первом хабаровском микрорайоне («микрашке»). Как и все новые районы он возник на городской окраине. Западная его сторона выходила на Дунайскую (ныне – Проспект 60-летия октября). Вдоль Дунайской – железная дорога, за ней – посёлок Хасан. Там же за дорогой – кинотеатр «Юбилейный». Собираясь на фильм, мы обычно шли туда толпой, а в тот раз почему-то я пришёл один. Меня, как и положено, встретили хасановские. Их было человек семь или восемь.
– Дай ему, дай!.. подзуживали они упирающегося пацана. Тот, повинуясь злой их воле, замахнулся ногой. Я, как-то извернувшись, скорее, случайно, отбил удар. Потеряв равновесие, мой противник повалился на спину. После этого хасановские уркаганы претензий ко мне больше не имели.
А первого сентября в наш класс привели новичка – Володю З. В нём я узнал того самого пацана. Он жил на посёлке и пришёл доучиваться в нашу городскую школу. Мы долго учились вместе: раньше – в школе, затем – на филфаке местного пединститута. Он был беспокойный, суетный, быстро и много говорящий, вечный, пионерский, затем уже – и комсомольский, активист. Закончив институт годом раньше меня, он получил распределение в Болонь, что в 65 километрах к юго-западу от Амурска. Я даже приезжал туда на его свадьбу с выпускницей того же педа, «брошенную» на ниву народного просвещения двумя или тремя годами позже. По возвращении в Хабаровск мы несколько раз встречались. Я даже бывал в их доме. Родились дети: девочка и мальчик. Но что-то не задалось в их совместной жизни. Семья распалась и В. жил один. Стороной слышал, что выпивает. По прошествии лет от общего с знакомого узнал, что он, не дойдя до дому после очередной попойки, замёрз насмерть. Вот такая предыстория моего собачьего рассказа.
Примерно классе в пятом-шестом В. неожиданно принёс мне щенка, помесь лайки и овчарки. Ему было меньше месяца. Чёрно-серый, беспомощный, скулящий – и я решил его взять. Уж не помню, как удалось уговорить отца, но с того времени Бинго (я тогда взахлёб читал «Рассказы о животных» Сентона Томпсона) стал, по меньшей мере для меня, на несколько лет пятым членом семьи на наших общих 36 метрах двухкомнатной хрущёвки со слабой звукоизоляцией, проходными комнатами и совмещённым санузлом.
Отскуля своё, наделав должное колличество луж и изгрызя нужное колличество обуви, Бинго вырос. Для сна ему был отведён угол в коридоре. Я кормил его три раза в день. Водил гулять. Возил в ветпункт на прививки. Вычёсывал шерсть. Под присмотром других, опытных, собачников учил ходить рядом, выполнять команды… В общем, старался быть для него хорошим хозяином. Как мог. И он, как мог, старался служить мне. Почуяв только, как, возвращаясь из школы, я поднимаюсь по лестнице, радостно лаял. А стоило мне лишь приоткрыть дверь, начинал вилять не только хвостом, но и всей нижней частью своего собачьего тела. Суетился. Встав на задние лапы, подпрыгивал, стараясь облизать лицо. Когда же отец ругал меня за очередную провинность, рычал на него и показывал зубы.
Постигая всю эту нехитрую собачью премудрость, он незаметно преватился в большую собаку. И хотя обувь он уже не грыз и луж не оставлял, проблем меньше не стало. Их стало больше. Он пугал соседей, когда, рвясь с короткого поводка на улицу, стремительно преодолевал этажи с пятого по первый. Встречая и провожая гостей или соседей, заглянувших по случаю, мы уводили его из коридора, который он охранял как свою законную жилплощадь. Иногда, оставаясь один, просто лаял. Соседи жаловались…
Отец всё чаще заводил разговор о том, что большой собаке в маленькой квартире – не место, и что нужно что-то делать. И не то, чтобы он не любил собак. Скорее, наоборот. Но в силу своих деревенских корней, знал, что место собаки – во дворе, а не в квартире, и жить ей – в будке, а не в коридоре. После очередного напоминания, почти ультиматума, я поздним вечером вместе с с собакой приехал к тётке. Они с дочерью, моей двоюродной сестрой, жили в онокомнатной малометражке в районе ж/д вокзала. Уже стемнело. Нас пустили на ночлег. На одну ночь. С уговором, что рано утом я уеду домой и успокою родителей: в конце 60-х не то, чтобы мобильная связь, обыкновенный телефон в квартире было встретить крайне сложно.
В конце концов я согласился отдать Бинго в хорошие руки. На грузовике (отец – в кабине рядом с шофёром, я с Бинго – в кузове) мы едем куда-то загород. Там живут знакомые отца. Семейная пара. У них – дочь примерно моего возраста. Подъезжаем. Большой деревянный дом, двор, хозяйство, прочие атрибуты, как тогда называли, частного сектора. Спрыгиваем на землю.
– Ему здесь будет лучше, – в десятый раз повторяет отец.
Я передаю поводок и забираюсь в кузов. Какое-то время пёс недоумённо смотрит на отъезжающий грузовик. Затем округу оглашает истошный визг вперемешку с лаем. Пёс отчаянно рвётся из рук нового хозяина.
– Отпусти, отпусти его, – почти в истерике кричит девочка…
Я стучу по кабине. Машина останавливается. Успеваю открыть задний борт – и пёс с болтающимся на шее поводком запрыгивает в кузов. Увы, счастливое возвращение Бинго было недолгим. Второй раз отец отвёз его сам.
Он снился мне ещё примерно два года.
С того времени прошло уже более полувека, а я всё помню, как он бежал за машиной, как прыгал вокруг, как лизал руки и лицо. Помню его преданные глаза… И до сих пор не могу решить: действительно ли ему там лучше или я, всё-таки, его предал?
А ваш Саша утонул…
Затон – примерно там, где заканчивается Уссури перед впадением в Амур – главное место нашего летнего отдыха на протяжении многих лет. Перейдя трамвайную линию, Краснореченское шоссе, огибая какие-то заборы и немногочисленные строения, мы оказывались на территории рэбфлота (о смысле этого аббревиатурного сокращения – Ремонтно-эксплуатационная база флота – мы никогда, как и многие другие, не задумывались). Такой путь в составе дворовой команды я проделывал бесчисленное множество раз, пока волею судеб (к тому времени уже был окончен институт) мы не поменяли место жительства.
Один из таких походов в Затон запомнился на всю жизнь. Лето. Жара. Близнецы братья Горшенины, Сашка Сафронов по кличке Орангутан, Сашка Максимов (Максим), совершивший первую ходку ещё по малолетке, в последствии – профессиональный квартирный вор, так и сгинувший где-то в непроглядной лагерной тьме, кто-то ещё из мальчишек нашего двора и я. Мы до цыплячего озноба плескались в воде, грелись до точки плавления в перегретом песке и опять с наслаждением заныривали в сокровенную прохладу реки. В какой-то странной оптике я вдруг разглядел на берегу свою мать: её лицо, с остановившимся взглядом и какую-то пугающую одержимость во всём её облике… В её руках были мои (!?) штаны и рубаха… И лишь после того, как её глаза выделили меня из общей массы, они приобрели более естественное и знакомое выражение.
Что же произошло? Да ничего особенного. Просто кто-то из мальчишек по-хорошему пошутил. Судите сами: звонок. Дверь открывает мать. Соседский мальчик со словами: «Возьмите, а ваш Саша утонул», протягивает ей мою одёжку. Не берусь оценивать, насколько шутка удалась. Видимо, что-то с чувством юмора… Помнила ли моя еврейская мама как проделала путь от порога дома до берега реки, держа в руках одежду утонувшего сына?
После этого я два раза уже по-настоящему тонул. Но жив, как видите. Не судьба!…
Лагерное воспитание
Летние смены в пионерском лагере – обычное дело для тогдашних моих сверстников от 10 до 15. Первые свои лагерные сроки я отчаянно тосковал. И если бы не сестра, то точно бы сбежал. Галя была не только старше, но уже бывалой и дерзкой. А я, что называется, мамин сын, правда, подверженный по обстоятельствам приступам неуправляемого гнева, которого боялись даже пацаны постарше: в ярости (реакция самосохранения малого да слабого) я мог запустить обломком кирпича в голову обидчика. Сестра же запросто могла дать сдачи любому пацану. Её боялись во дворе и, обижая меня, следили, не вышла ли она гулять. Играя с мальчишками старой жестяной банкой в хоккей на замёрзшем льду оврага, она укладывала меня поперек ворот в качестве то ли защитного мата, то ли бревна. Я часто приходил к ней в корпус, что как-то скрашивало беспросветную лагерную тоску.
Поэт-интернбэт
Дотошный гипотетический читатель, конечно же, помнит мою сентенцию о коллективе, где человека, в первую очередь, «пробуют на зуб». Увы, проба оказывается далеко не всегда высшей или, даже, средней. Хорошо помню ссору с каким-то рыжим пацаном в одну из первых «лагерных» ходок. Обидчика, поначалу показавшимся каким-то маленьким и невзрачным, я сам вызвал на драку. Начало ссоры, как видите, жизнеутверждающее и бодрое, да продолжение – не очень. Преисполненный решимостью проучить наглеца, я вдруг обнаружил, что он не один – вокруг были пацаны, явно признававшие его авторитет. Да и ростом он оказался не таким маленьким, во всяком случае, повыше меня и в плечах покрепче. Уж и не припомню, как и почему я оказался в палате своего отряда – меня ждали на улице неприятности, и нешуточные. Не найдя ничего лучшего, я выбрал худшее – спрятался под чью-то кровать. Ожидавшие на улице пацаны, в поисках вдруг пропавшего смельчака, начали заглядывать в окна: в косых лучах заходящего солнца моё «укрытие» оказалось на прямой линии визуального обзора. Я отчётливо слышал их голоса, они показывали на меня пальцами и смеялись. Накрытый липкой волной позора, я не знал, что делать. Думаю, только явная комичность ситуации спасла меня, совсем не уличного драчуна, в тот памятный вечер.
Помню, как покойная моя матушка, смеясь, называла какого-то доморощенного рифмоплёта поэт-интернбэт (производное от идиша – поэт под кроватью). Вот и я оказался под кроватью – не герой и, даже, не поэт.
Р.S. Признаюсь, в дальнейшей своей жизни я потратил много усилий, чтобы больше не оказаться таким вот «интернбэтом».
Принуждение к предательству
Ещё одна лагерная проба как иудина метка «горит на моём сердце». Правда, огонь уже попритих, но до конца так и не погас.
Весь день под руководством вожатых и воспитателей мы осуществляем коллективные действия: утром – зарядка и завтрак, в полдень – отрядные (а то и общедружинные) мероприятия (казённое универсальное слово из советской жизни), полдник и обед; затем – «тихий („мёртвый“) час», и ещё – час «свободы», ограниченной высоким лагерным забором; новые, вечерние уже, мероприятия и ужин. И всё это – в строю, на марше, со звонкими песнями и чеканными речёвками:
И только уже потом – отбой. И только после отбоя мы оставались одни (об «один», совсем один – речи быть просто не могло). Одни, но вместе – в составе коллектива подростков, где утрачивали силу предписанные днём правила, и начинали действовать другие. Какие? О подростковом коллективе с его жёсткой иерархией и подавлением слабых вам расскажет любой подростковый психолог, а ещё лучше – роман Уильяма Голдинга «Повелитель мух» или его одноименная экранизация Питером Бруком. Конечно, присутствие за стенкой старших не позволяло стихии первобытных инстинктов бесконтрольно править свою колею. И всё же при тусклом свете Луны, вдруг, становились видны клыки Шерхана, угодливая мордочка доносчика Табаки, лихорадочный блеск глаз стаи голодных рыжих псов, объединённые страхом бандерлоги… При желании я бы мог припомнить и иное, но мудрость Каа, надёжность Балу, отвага Акелы или неотразимая грациозность Багиры…, если и присутствуют в коллективе подростков, то в латентной форме и, скорее, на перспективу. Хотя, если честно, то и в любых группах взрослых с этим тоже всегда не очень.
Типичная мизансцена в палате после отбоя: все (сколько нас там – человек 15—20?) по кроватям. Пока свет не выключен – время вечерних разговоров. Здесь уже другие приоритеты, другие, вечерние, лидеры – говоруны, затейники и умники. Хорошо помню одного такого умника. Помню даже его имя – Серёжа Фокин. Городской (из центра) мальчик, в отличие от многих деревенских и слободских. Никогда и ни с кем не дрался. Круглолицый отличник, он знал много больше, чем лагерные его сотоварищи. Любил, с едва заметной угодливостью к дневным лидерам, повеселить «публику» рассказами о соседях – дяде Шлёме и тёте Каске. Здесь неискушённому в загогулинах советской власти молодому читателю необходимо пояснить, что «дядя Шлём» – не столько незатейливый юмор простолюдина, сколько след сдутого и в мирное время неопасного антисемитизма. Шлём – от местечкового еврейского Шлёма, восходящего к библейскому Шломо – Соломон. (А чем, скажите, хуже Абрам из анекдотов – карикатурная модификация библейского пророка и праотца народов Авраама?) Имя же жены дяди Шлёмы, тёти Каски, есть продукт игры словами – любимого развлечения простого русского человека.
Умник Серёжа, видимо, допущенный к разговорам взрослых, потихонечку наматывал себе на ус досужие разговоры этих умудрённых жизнью людей. Как-то незаметно (вот где «след» и обозначился) он перешёл к главному вопросу «русского мира» (тогда же просто СССР): о еврействе, в данном случае, моём. То, что евреем быть зазорно, в СССР знали все. В том числе и я. Правда, не знал: а, собственно, почему? В чём истоки этого недоброго иррационального чувства? (После снятия с евреев ответственности за смерть Христа – хорошего парня из Назарета из хорошей еврейской семьи – казалось бы, двухтысячелетний «театр абсурда» закончился. Но не тут-то было! А с кого спросить за все наши беды и разрушение скреп…?)
Малолетний инквизитор тогда так далеко и глубоко не глядел. Он даже пытался протянуть мне «руку помощи»: «А мать твоя что – еврейка? Если нет, то и ты не еврей». Откуда он, шестиклассник Серёжа, знал этих тонкостей? Может быть, и сам, того…? Я так до снятия железного занавеса и начала алии 90-х об этом, что называется, ни ухом, ни рылом. И вот я, сын еврейской мамы, вместо простого «да», начинаю пережёвывать какую-то невразумительную жвачку о каком-то там нееврействе моей мамы, Розы Харитон. Вот это я и называю принуждением к предательству. «Принуждали», конечно, они, но предавал, всё-таки, я.
Как ни странно, но это «предательство» исподволь готовило меня, человека русской культуры и, что самое главное, русского языка к своей еврейской идентификации. По сути, к тому, чем, аз многогрешный, сейчас и являюсь.
Спасибо тебе, мальчик Серёжа, за твои «ум, честь и совесть»
Лагерные печали и радости
Но вот пришло время, когда я сам, став чуть постарше, заказывал родителям очередную лагерную смену. Ведь там уже были друзья и, что особенно привлекало, девочки того возраста, когда сами, ещё не подозревая, превращаются в девушек. Знаки этого превращения волновали особенно… И вот меня, взволнованно-заинтересованного, начинают выгонять (что-то там поведение, непослушание…) из лагеря. Я взываю о снисхождении, и меня ведут к начальнице лагеря, которую пионеры окрестили Гитлером. И вот – мудрое гитлерово решение: оставить с испытательным сроком. На время испытательного срока спать мне, 14-15-летнему (ещё не муж, но уже и не мамин сын), в младшем (!) отряде, т.е. с детьми младшего школьного возраста. В этом странном пространственно-временном континууме в кроватке-маломерке я пребывал три, если не более, ночи. Видимо, я должен благодарить судьбу за то, что на мои девиантные наклонности вовремя обратила внимание лагерная администрация. И не только их пресекла, а, простки-напростки, выжгла калёным железом (не здесь ли истоки моей иррациональной ненависти к любой бюрократической процедуре?).
Не хотелось бы завершать свои лагерные истории похвальным словом лагерному начальству. Лагерная тема не столь однозначна.
По выходным за воротами лагеря начинали появляться родители с сумками в руках. В этих сумках вся суть: домашние пирожки, конфеты, ситро и что-то там ещё… В этот день с утра на небе были тучи. Уже не раз от ворот прибегал дежурный пионер с криком: «Такой-то, приехали!» И только я все ждал и ждал. Начался дождь, перешедший в какой-то обвал, предвещающий второй всемирный потоп. И я перестал ждать. Хотелось завыть и даже залаять на эти тучи, на этот дождь, и вообще на все. Неожиданно в яростных раскатах грома и блеске молнии прорезался голос доблестного пионера: «К Брейтману приехали!». У ворот стояла мама. До нитки промокшая, измученная дождём, жуткой дорогой и…с сумкой в руках.
Каждый человек желает знать, что его любят. Просто так любят. Ни за что.
«Француз» и крутоног
Борис Самойлович Крутоног – школьный трудовик. Он умел многое: работать молотком и напильником, отвёрткой и ножовкой по металлу, чинить моторы и электропроводку, сбирать авиамодели и картинги. А ещё он был выдающимся педагогом. Однажды на урок труда в 7 или 8 классе, что проходил в слесарной мастерской, пришла вездесущая Маряковлевна, директор школы. Она в целях внешнего контроля учебного процесса пробыла не более 15 минут лишь на теоретической части, которая почти импровизационно возникла только в связи с присутствием директора (те, кто не отличался особым пристрастием к железякам и рукастостью, пилили и ошкуривали драчёвым шерхеблем вечную металлическую болванку). По окончании теоретической части Маряковлевна (директор должен знать всё!) задала лишь один вопрос: «Вот тут Борис Самойлович говорил биметаллы. А что это такое, почему би, а не ди, например?». Впервые прозвучавший в этих стенах вопрос такой сложности повис в изумлённом молчании.
Ответа не знал и сам Борис Самойлович.
Ну, это пример, что называется, из ряда вон. А вообще Борис Самойлович – шутник и балагур. Так во время очередного своего довольно путаного объяснения темы, он, желая выпутаться, перевёл стрелки на меня: «А ты, француз, чего не пишешь?». В обстановке неявного, но регулярного госантисемитизма, это было вполне себе шуткой. Но я то вам ни какая-нибудь там Спиноза, чтобы эдакие шутки терпеть, возьми да и скажи: «Такой же, Борис Самойлович, француз, как и вы». Шутки шутками, но, как-то даже и нешуточно выкручивая ворот моей рубахи и придавая всё более ускорения, Борис Самойлович повлёк меня в директорский кабинет. Подозреваю, его мучил вопрос: так кто же из нас двоих француз? За отсутствием Маряковлевны, мы оказались в кабинете завуча – настоящего филолога и умницы. Что тут сделалось с крутоногим шутником и балагуром! Со стороны могло показаться, что человека неожиданно настиг эпилептичесий припадок. Его трясло и ломало от этой небывалой наглости ученика, которую он терпеть больше не намерен. Завуч, напротив, терпеливо (в её голосе слышались интонации любимых персонажей русской литературы) успокоила непонятого в своих лучших побуждениях педагога. Потом уже в разговоре с нанёсшей в школу очередной визит матушкой она поведала о тайне ранимой французской души трудовика, более всего озабоченного решением французского же вопроса.
Конечно же, прав был председатель Мао, однажды воскликнув: «Пусть расцветёт тысяча цветов!»
Спартаковцы нашего двора
Голливудский «Спартак» 1960 года с Кирком Дугласом шёл у нас почти десятилетие спустя. Его смотрели все: и хорошие мальчики, ударники и отличники; и завзятые троечники, и, конечно, двоечники и прогульщики, составляющие, как правило, уличную свиту дворовых «королей», уже имевших за плечами, по меньшей мере, собственные сроки по «малолетке». «Королям» ещё предстояло сыграть важную роль в событиях, от которых они поначалу предпочитали держаться подальше. Кто же станет обращать внимание, как мелюзга начальных классов с деревянными игрушечными (кусок рейки с поперечиной) мечами снуёт во дворах, оглашая улицы победными воплями и плачем из-за содранных в кровь пальцев и набитых шишек? Затем к этим потешным боям присоединились пацаны постарше, чья подростковая агрессия искала выхода. Отряды дворовых спартаковцев возглавляли, обычно, те самые прогульщики-двоечники двумя-тремя годами старше остальных. И здесь сражения уже были нешуточные, двор на двор: и оружие поувесистей, и синяки и ссадины ощутимей. Родители насторожились. Но было поздно.
Дремлющие в каждом отдельном мужчине, и большом и малом, инстинкты завоевателя со всей неизбежностью пробудились для осуществления единых коллективных действий. Всё чаще в междворовые разборки вовлекались «бойцы» с суровым опытом уличных баталий, и, наконец, во главе отрядов, объединивших в «полки» целые уже улицы (Космическая, Юности, Калараша), встали, в промежутках между «ходками», те самые «короли», чьи имена (кликухи) произносились во дворах со страхом и уважением.
Отдельного упоминания заслуживают «спартаковцы» с Бурейской (их называли бурейские или бурея) – улицы барачных старожилов в тесном кольце железобетонных монстров. Каждый микрорайоновский шкет знал, что к бурейским лучше не забредать – в них бушевала классовая ненависть обитателей трущоб к владельцам тёплых сортиров. Хорошо помню их уличные «полки», вооружённые уже не безобидными деревяшками, а длинными по 2—3 метра шестами, осуществляющие боевой манёвр под началом непререкаемых своих сюзеренов.
Были и «битвы», были и раненые, но был и дворовой кодекс: «до первой крови» и «лежачего не бьют». Сегодня, увы, эти уличные конвенции забыты, как забыты и другие, куда более важные принципы.
Ни я, ни мои друзья не стояли в первых рядах дворовых дружин. Но опыты уличных баталий не раз пригодились мне в моей не такой уж, увы, ровной и гладкой жизни. Надеюсь, больше не пригодятся.
Нам не дано предугадать…
В промежутке между начальной школой и, как тогда называли, неполным средним, я был закоренелый троечник. Мои родители (за что им отдельное спасибо) никогда не требовали отчёта по домашнему заданию. Это было очень кстати: сколько себя помню школьником, я никогда его не делал. Никогда не понимал, как решаются алгебраические задачи, чем тангенс отличается от котангенса, не говоря уже о монструозных секансе и косекансе. Я, например, до сих пор уверен, что валентность есть некое химическое соединение, специально созданное в застенках средневековой инквизиции для подноготных пыток.
Троечнику положено быть или олухом, или хулиганом. Я, по мнению педколлектива школы №71, скорее, был хулиганом. На моем счету были бесконечные урочные дискуссии за справедливость, заставляющие учителей забывать о педагогическом такте, самовольные оставления уроков, приводы к директору и т. п. Последней каплей в чаше с ядом оказалось огромное окно актового зала, разбитое мной на пике коллективного возмущения тех, кого не пустили на школьный вечер. То ли я пришел позже назначенного часа, то ли я оказался в окружении местных уркаганов?… Короче, нас не пустили, и мы пошли в обход с тыла, к пожарной лестнице. Но и она была предусмотрительно заблокирована. Вот тут-то и раздался клич: «Бей окна!» Кричали все обиженные, но орудием возмездия стал обломок кирпича, конечно же, случайно оказавшийся в моей руке. Огромная стеклина с нарастающим треском съехала по стене, а мы, что называется, рвали когти.
На следующее утро я вместе с родителями был любезно приглашен к директору. Какой-то юный пионэр таки успел выполнить свой долг перед Родиной: на директорском столе лежал кирпич – оружие пролетариата. Видимо, оно должно было стать последним гвоздём в крышку гроба моего неполного среднего. Директор школы, сухая старица, быстрая и стремительная, как зигзаг молнии, вынесла вердикт – в ПТУ. Мол, получит хорошую рабочую профессию, станет человеком. Может быть, так было бы и хорошо и правильно. Но моя матушка, видимо не смогла оценить по достоинству всей педагогической тонкости директорской мысли – в её глазах появились слёзы. В итоге было решено: оставить с испытательным сроком с переводом из «А» в «Б». Событие, которое было призвано лишь закалить во мне неистребимую девиантность, неожиданно круто (что я понял лишь годы спустя) изменило мою дальнейшую жизнь.
Всем лучшим в своей жизни я обязан людям (и, конечно, о чём в своё время писал М. Горький, книгам). Правда, не всем, а некоторым. Ну конечно, родители, сёстры, тётушки … – отдельная тема. Я имею в виду учителей и наставников. С некоторыми из них впоследствии меня связывали долгие годы дружбы. Первая (хронологически) в этом ряду – учитель литературы, к которой я и попал в результате замены отчисления переводом, и которая уже однажды защитила меня от праведного гнева трудовика.
Энергия протеста за справедливость на уроках литературы естественно и без натуги преобразовалась в интерес поговорить за литературу: что этим, к примеру, хотели сказать Печорин или Раскольников? А что имел в виду автор? Главное же, «что обо всём этом думаю я?».
За умение сформулировать и возможность выразить то, что «хотел сказать я» по гроб жизни буду благодарен своей, по гамбургскому счёту, первой учительнице – Анне Николаевне Масюкевич.
Из пункта «А» в пункт «Б»
С переводом из «А» в «Б», как я уже успел заметить, началась моя новая жизнь.
Говоря по совести, в 9 «Б» встретили меня не очень. Ира П., похожая на рыжую лису (острый любопытный нос и длинный каштановый «хвост» только усиливал сходство), с вполне себе грудью, сразу о чём-то меня спросила. По простоте нравов, принесённых из «А», я, не чуя подвоха, с готовностью отвечал. И тут же получил радостно припечатанную домашнюю заготовку: «Что с дурака возьмёшь, кроме анализа!» Ну и как после этого (привет Дейлу Карнеги) приобретать друзей?
Вот он мне сразу и не понравился: высокий и худой, с длинными, как бы отвязанными от туловища руками, да ещё с каким-то там мальчишеским чубчиком. Вечно среди девчонок. В общем, куда не кинь – «ботаник». «Ботаник» Серёжа. Он действительно жил среди «девчонок»: мать, Марта Фёдоровна, прямая и властная; старшая сестра, Люда, учителка-филологиня (тут без лишних слов всё ясно); Лена-двойняшка, училась тоже в «Б». Все её подружки были, естественно, и «подружками» брата. (Я помню, был и отец: высокий, с прямой спиной и спокойным лицом. Как-то слишком рано он умер). Одним словом, бабье царство. Вот и был он один – жёлтый сухой подсолнух с длинной кадыкастой шеей и машущими невпопад руками-листьями среди целого поля беленьких и кудрявых ромашек. Но, как известно «враги человеку – домашние его» (Матф.10:36)
Каждый, кто умеет шагать не в общем строю и не в ногу знает: человека делают не столько обстоятельства, сколько противодействие им. И чем обстоятельства неотвратимее, тем противодействие жёстче. Думаю, Сергей сам захотел сойти с уже начертанной любящей рукой колеи. Кажется, он поступил, как и ожидалось, в юридический, но бросил его и ушёл в ДОК учеником плотника. Оттуда, и совершенно сознательно, – в армию. Видимо тогда и начал он упрямо вычерчивать свою мужскую линию. Отслужив, вернулся уже опытным и бывалым в ДОК. Заочно – на истфак. А потом удивил всех: стал замполитом в одном из районных отделений милиции. Замполит-силовик (как, впрочем, и армейский его коллега) – номенклатура КПСС, своего рода, луч света в суровой череде милицейских будней. Ему было предписано повзводно и поротно доносить до страждущих и жаждущих рядового состава партийную догму. Должность по тем временам архиважная, по негласному убеждению немногословных строевиков была пятым колесом в телеге. Интеллигенту в шляпе трудно усвоить исчерпывающую универсальность трёхчлена «так точно-есть-никак нет!». Место его известно: сиди, лопух, и не рыпайся. А он рыпался. Да как! В кратчайшие сроки – лучший замполит. Его отдел – первый по наглядной агитации и мероприятиям к датам. Разработки размножаются по краю как образцы… Вот оно заветное поле для взлёта! Вот где бы и воспарить! А он, к неудовольствию начальства, жаждет засад и задержаний: вот вам «ботаник» и опер в одном флаконе! Не только жаждет, но и участвует как простой оперативник. И зачем ему грязь, кровь, да ещё и с риском для жизни? Но, закусив удила, остановиться трудно. Для оперативной работы требуется специальное образование. На стремительном взлёте партийной карьеры ст. лейтенант (а то и капитан) Кирилюк – курсант Высшей школы милиции. И уж затем (правда, не сразу: впереди «лихие» 90-е) – боевой генерал. Слово боевой следует понимать буквально, поэтому не заковычиваю и никак его не выделяю. Да, карьеру он сделал. Но не в кабинете. А там где грязь и кровь. И ещё немножко стреляют. Как и кем? писать не буду. Он и сейчас большой начальник3. Но это там, у них, он – начальник. А для меня, как и прежде – Серёжа. Мосластый и на вид неуклюжий. С плотницкой ухваткой и мальчишеским чубчиком (признаться, то, что осталось, чубчиком может быть названо лишь условно). Интеллигентствующий. Читающий на память бунинское «Одиночество»:
Как я съел шляпу
В первой половине 60-х прошлого века самой популярной передачей на Центральном телевидении (других каналов тогда ещё просто не было) был КВН – клуб весёлых и находчивых. Официально участниками этой всесоюзной игры были студенты вузов – по общему признанию самые весёлые и самые находчивые. В игре более всего ценился юмор – дитя свободного ума. А без этой молекулы свободы – «с закрытыми глазами, с преклоненной головой и запертыми устами» – разрешённый «юмор» оказывался лишь жалкой пародией на самоё себя. Поэтому в кэвээне (при том, что недреманное око бдило днём и ночью) позволялось то, чего никому больше тогда позволено не было.
А уже во второй половине 60-х в КВН играли повсеместно, и только ленивый не попытался хотя бы разок, выйдя за рамки дозволенного, подразнить гусей. И наша школа не была исключением. Готовилась игра двух девятых – «А» и «Б». Конечно, никаких гусей никто дразнить не собирался. Ни наши классные руководители, ни старшая вожатая (их право на контроль даже не обсуждалось) этого бы просто не допустили, да и мы тогда в конце 60-х ещё не были тотально подвержены губительному влиянию вездесущего госдепа.
Подготовка шла полным ходом: выбиралось название команды, готовились вопросы сопернику, шли беспрерывные консультации на дому теми из наших, у кого братья или сёстры были студентами… Шёл строгий отбор участников команды. Я был отобран единогласно как любитель публичных дебатов на уроках. Каюсь, было дело: адвокатствовал за всех, кого «несправедливо» оценили или удалили с урока. Признаю, и сам не раз был удалён, когда по подоброй воле, а когда и по воле пославшего меня… Ведь такое, с позволения сказать, хобби, не нравилось никому из учителей, кроме нашей крутой филологини – Анушки. Она же, напротив, всячески поощряла мои девиации, мудро перенаправив мутный поток клокотавшей во мне энергии на дебаты с героями (а то и самими авторами) Достоевского или Толстого.
Но одно дело, получив слово, самому вступать в спор с убивцем Раскольниковым или миротворцем Каратаевым и, ораторствуя, от своего имени соглашаться или не соглашаться с ними. Другое – быть частью команды и, что самое противное, всё время оправдывать ожидания. В этом, как я интуитивно чувствовал тогда, и как осознал потом, и была главная ошибка единогласно избравших и пославших меня на сцену.
И вот в актовом зале школы при полном стечении учеников и учителей объявляется начало игры. Под аплодисменты зала на сцену выходят команды – «А» и «Б». Всё под копирку как в большой игре: звучат поздравления и приветствия, объявляется первый конкурс – «Домашнее задание»… Если бы в тот момент я оказался способен на простейшее умозаключение, то наверное бы подумал: «Ох, не стоило бы искать славы там, где тебя ждёт позор». Но думать надо было раньше. А сейчас ты на сцене, как голый, что по ошибке, открыв не ту дверь, оказался перед ждущей развлечений публикой, и кажется все глаза устремились только на тебя в ожидании: как будешь ты, умник, прикрывая публичную свою наготу, выкручиваться из ситуации.
Зацикленный на своём нервическом состоянии, я не заметил, как был объявлен очередной конкурс: ведущий называет тему, и члены команды по эстафете придумывают рассказ с продолжением. Мои одноклассники, Витя и Саша, заявляют о своей готовности. Напряжение чуть отпускает меня. Подходит их очередь, а они, о чём-то там ещё не договорившись, буквально вталкивают меня на середину сцены: типа, что ему стоит, пока мы тут совещаемся, потрепаться на отвлечённую тему пару минут как он делает это на многих уроках. И тут время, словно в немом стоп-кадре, останавливается: моё нервическое состояние сменяется чем-то, напоминающем апатический ступор. Словно со стороны наблюдаю некую странную театральную мизансцену: перестаю видеть многоголовую гидру зала… вижу себя в каком-то бумажном колпаке – атрибуте команды, своё бледное лицо и руки, с какой-то каталептической медленностью отрывающие от колпака клочки и так же медленно отправляющие их в рот… Эта процедура повторяется несколько раз, и во рту постепенно образуется слипшийся бумажный комок… Но вот «замедленная съёмка» будто завершена – я вновь вижу зал и слышу оглушительный смех, переходящий в какой-то истерический рёв. Смеялись ученики девятых-десятых и, даже, просочившихся пятых, смеялись учителя вместе с директрисой Марьяколевной и Анушкой, казалось, что даже стены этого, немало повидавшего зала, тряслись и подпрыгивали в унисон…
При желании можно было бы сказать, что я блестяще справился с ролью: ведь на самом деле, мало кто способен заставить сотрясаться от смеха целый зал! Но, независимо от результата, этот школьный кэвээн расставил важные акценты, и главный из них – не каждому дано играть в команде. Я ведь и на самом деле никогда не хотел оправдывать чьих-то ожиданий или соревноваться с кем-то публично. Рядом со мной всегда было много людей, но, закоренелый индивидуалист, я добивался успеха лишь там, где был возможен «театр одного актёра». Видимо поэтому уже как тридцать лет я в одиночестве «актёрствую» перед студенческой или любой другой аудиторией. Мне даже кажется, что со временем я начал понимать тот ужас и восторг укротителя, который он испытывает каждый раз, входя в клетку ко львам или тиграм.
Речь фюллера на 23 съезде КПСС
Мы, мой школьный друг Володя (тот самый – в вельветовой курточке – раскосый и черноголовый) и я, снова переступили скучные временные ограничения…
Тогда опять стемнело неожиданно быстро. В пятиэтажках, чьи дворы мы давно и успешно обживали, началось веерное «выключение» окон – никто не вправе лишать советских граждан их законного права на сон. Неумолимо как восход, заход и долгота дня приближалась минута гневного родительского вопрошания: «Сколько ещё можно терпеть эти ваши ночные гуляния?». И только неясное ощущение чего-то недоговорённого и неисполненного удерживало уже готовое сорваться с языка: «Ну, пока. До завтра»… Неожиданно для себя самого я, вытянувшись во все свои 165 см., объявил: «Речь фюллера на 23 съезде КПСС!»
В подражание киношному Адольфу, доводящему слушающих его до истерических конвульсий, я выкрикивал бессмысленный набор «немецких» слов, начиная и заканчивая каждый период речи, на вдохе и выдохе, услышанным в какой-то советской ленте «про дураков немцев» «зибен нау»… Гулкое застигнутое врасплох эхо испуганно металось в пустом пространстве двора между двумя железобетонными монолитами. Мой друг, исполняющий на дворовом английском битлов в очередь с воровским романсом, перемежал мои обращения к дойче зольдатен унд официрен взволнованными и восторженными восклицаниями!
Но не каждому дано так чувствовать красоту. В двух пятиэтажках, замыкающих двор, практически симметрично веерному «выключению», началось веерное «включение»… Мы, жаждущие признания, всё же не были готовы к встрече с разбуженным среди ночи простым русским человеком. С детства нас учили быть скромными. Поэтому мы, не дожидаясь заслуженных почестей, удалились скромно и с достоинством. Точнее, с достоинством, но поспешно.
Мог ли я тогда предугадать, как слово наше отзовётся? Мои дворовые опыты имели продолжение: вот уже как плюс-минус 30 лет я произношу с университетской кафедры речи перед студентами. Правда, они не приходят в такой бурный восторг как мой школьный друг тем поздним вечером. Но всё же слушают и даже приходят снова.
А всё-таки, хорошо бы узнать, что подумали тогда о моей первой публичной речи люди, живущие за теми «включёнными» окнами?
P.S. Кстати, сближение в названии той моей «речи» вождя немецких фашистов (фюллер, намеренно искажённое от фюррер) и высшего партийно-правительственного органа Советского Союза – Съезда КПСС – не заключало в себе никаких скрытых намёков на далеко идущие аналогии. Да и какие аналогии могли возникнуть в голове 17-летнего молодого человека образца 1971г.? Здесь, скорее, известная юношеская придурковатость и неудержимое, почти иррациональное, стремление «подразнить гусей».
О каких «гусях» речь? – может спросить любознательный, но наивный молодой читатель. Думаю, что ответ на такое весьма похвальное любопытство он без труда найдёт в каком-нибудь любого года издания словаре «Русские фразеологизмы и идиоматические выражения».
Смычка города и деревни, или
По правилам дворовой чести
Кто не знает, что такое «ехать на картошку», тот не жил в СССР (интересно, где же он тогда мог быть, когда мы все как один… в едином строю… и прочая?)
В 1971г. нас, 17-летних учащихся школы №71 (кто дружит с нумерологией и легко прозревает астральные миры, объясните эту мистическую игру цифр 1 – 7, 7 – 1), послали «на картошку» то ли в Гаровку, то ли в Розенгардовку. Ну, в общем, послали далеко… в помощь труженикам села. Это была такая всесоюзная игра: хочешь быть румяным и здоровым, собери картошку сам!
В том, что начало учебного года переносится почти на месяц, не было ничего дурного. Напротив, это нас даже радовало и сулило новые впечатления на свежем воздухе. На свежем воздухе – значит с пользой для здоровья. А это, как известно, главное!
Новые впечатления не заставили себя ждать. На второй день по прибытии, когда только ещё обживались отведённые «городским» корпуса, прибыли «деревенские» с проверкой нас на вшивость, а заодно на энурез и энкопрез. Проверяющими были два брата – два сельских качка. Тогда ещё, чуть ли не полвека тому, ни о каком боди билдинге и бодибилдерах речи быть не могло. Просто они были коренастыми, крепкими (как говорила моя матушка: больше в ширину, чем в длину), с рельефной мускулатурой. Поэтому, ничего и ни кого не боясь, они и пришли только вдвоём. Но нам было кого выставить против. Наш друг Коля Фоминцев (Фома) давно уже занимался поднятием и переноской тяжестей. К 10-му классу он, добрый и не самый скорый на язык, превратился в атлета, а поэтому, несмотря на массивные надбровные дуги и крупный барабулистый нос-шнобель, в красавца-мужчину. Вот этого-то красавца по общему молчаливому согласию мы и «выставили» против давно и слаженно работающих в паре деревенских бойцов.
Не будь Коли, не возьмусь судить об исходе этого визита дружбы: мы были как-то даже деморализованы плечистостью, рукастостью, а главное, уверенностью братанов… Не то Коля! Он принял бой. Один. Мы, воспряв духом, могли «замолотить» непрошенных гостей. Но стояли, понимая, что следом придёт «деревня» и тогда уже будет «зачистка» по полной. Надо признать, что и один против двух – тоже «не очень»… Но Коля был один против двух – и победил! Братья, не раз и не два сбитые с ног, знакомые с законами улицы, честно признали поражение. После этого, как водится, началось братание. Коля стоял бледный и у него дрожали руки…
Всё оставшееся время мы дружили с деревенскими уркаганами – так обозвал их на утренней «разборке» наш физик, начальник лагеря. Вроде бы героями, водившими дружбу с деревенскими уркаганами оказались все названные: доморощенный цицерон – Брейтман, парень с гитарой – Душкин, строгий юноша с крепкими кулаками – Фоминцев…
На деле же подлинным героем был только Коля.
P.S. Коля закончил мед и в турпоездке познакомился со словачкой. Почти 40 лет он живёт в Словакии (тогда ещё Чехословакии). Он подтвердил свой диплом, стал там хорошим врачом и даже возглавил хирургическое отделение больницы. Уже многие годы ни я, ни мои друзья, увы, ничего не знаем о судьбе нашего школьного друга.
Идеологическая диверсия
На рубеже 60-70-х прошлого, такого ещё недавнего и близкого, века само слово «джинсы» было неким знаком той далёкой заокеанской свободы, так тщательно у нас маскируемой под панцирем москвошвея. Причём, на необъятных просторах нашей родины первая часть москво- этого неологизма конца 30-х легко могла бы замениться на любую другую, например, самаро- или биробиджаншвея. А уж об иметь джинсы – большинство просто и не заморачивалось: ведь никому из нас не пришло бы в голову желание иметь в своём гардеробе королевскую мантию, подбитую мехом альпийского горностая. Джинсы, по тем временам, было нечто покруче.
И вот у нашего друга Коли появляются джинсы – классические пятикарманные blue jeans Regular Fit. То ли его двоюродный брат был связан с фарцой, то ли по по линии комсомольской дружбы с прогрессивной молодёжью капстран…, но наш друг становится счастливым обладателем и прочее… Прошло года два. В нашем гардеробе так и не появилось ни горностаевой мантии, ни джинсов. А Колины постепенно поизносились, попротёрлись… Всему есть срок: и вот Коля лёгким движением руки, так, как это давно и привычно делали там, за бугром, превращает дырявые и старые джинсы в целые и новые шорты. На его мускулистых ногах (в рассказе «По правилам дворовой чести» я вспоминал, как Коля, спасая честь городских, десятиклассников, посланных в совхоз «на картошку», вырубил двух деревенских, братьев-качков, благородно признавших его победу) эти шорты, чуть не доходящие до колена, выглядели ничуть не хуже, а то и лучше, чем сами джинсы в их молодые годы.
Этим же вечером мы с Колей (он в своём новом прикиде, я – в обычной, как все, москвошвее) ехали в центр, на молодёжном сленге того времени – на брод или бродвей. Видимо (не помню точно) на встречу друзей-приятелей. Всего-то пять-шесть остановок трамваем. Беспокоились ли мы о чём-то, садясь в трамвай? Разве, подспудно, самую малость – ведь по тем временам шорты носили лишь женщины, да и то преимущественно на пляже. Но могли ли мы себе представить, что произойдёт на маршруте буквально в ближайшие минуты? С того времени, как мы, преодолев две трамвайные ступеньки, поднялись в вагон и сели на свободные места, прошло полвека. Некоторые детали просто стёрлись из памяти. Но хорошо помню среди немногочисленных пассажиров нескольких старух… Может быть, и не старух вовсе, но память сохранила образ старых мегер, вдруг впавших в неистовство. Что же могло стать причиной буйства почтенных матрон? Ну конечно же, Коля. Вернее, не он сам, молодой и спортивный, а любовно изготовленные им накануне шорты. Что же такого ужасного могло быть в них, так ловко сидящих на его загорелых и как-то даже элегантно слегка покрытых светлой растительностью ногах? – Только то, что ноги эти принадлежали мужчине. Да как он вообще смел появиться на людях в таком виде? Да что себе позволяет эта молодёжь! Добродушный Коля, совсем не готовый к направленной на него агрессии, и привыкший как будущий хирург больше полагаться на свои крепкие руки, чем на слово, молчал: не мог же он, на самом деле, поднять ту самую руку на женщин, пусть и злых мегер! Его лицо тяжело наливалось какой-то нездоровой краснотой. Защитить друга мог только я. Но мои доводы и вопрошания: чем короткие брюки хуже длинных, а мужские по колено закрытые ноги хуже предельно открытых женских!? И что некоторые мужские ноги выглядят куда приличнее, чем… не возымели должного действия. Мегеры бились в пароксизме праведного гнева. В голосах их всё явственнее нарастали нотки истерического фальцета. Коля продолжал сидеть с теперь уже бледным лицом и сжатыми губами. На его челе были видны капельки холодного пота…
P.S. Мы вышли на нужной нам остановке. Сквозь закрытые двери отъезжающего трамвая ещё какое-то время были слышны визгливые женские голоса.
Мои нешуточные университеты
С конца 60-х мы были страстными поклонниками The Beatles. Володя, наделенный всевозможными талантами к музыке, пению и рисованию – гитара-соло; и Толя, по кличке «Гвоздь» – бессменный ударник – выступали в содружестве с другими самодеятельными бит-музыкантами на школьных вечерах. Я же был страстным поклонником и тех, ливерпульских, и этих, хабаровских, что меня вполне устраивало. Основной репертуар, конечно же, «The Beatles» с коронным исполнением «Кент бабилон», что оказалось в дальнейшем «Сan`t by me love» («Нельзя купить любовь»). Длинные прически и брюки клеш – дань нашей любви к знаменитому бит-квартету и хиппи, пробудивших в нас неистребимую тягу к этому сладкому и совсем ещё непознанному слову «свобода». Но это, как говорится, видимая часть айсберга. Его скрытая часть там, где талант моего друга был признан безоговорочно и всерьёз – вечерние, плохо освещенные улицы микрорайона и деревянная беседка во дворе его дома. Облюбованная для вокального самовыражения, она, слегка подсвеченная окнами пятиэтажки, привлекала под покровом темноты тех, с кем родители и учителя настрого запрещали дружить. Это был колоритный и опасный сброд изгнанных из школы двоечников-переростков, имеющих за плечами, как правило, срок по малолетке, а кто уже и вполне сформировавшийся рецидив. И привлекало их не обрусевшее обаяние чудесных жуков-ударников, а совсем иные мотивы. И они там звучали. И еще как звучали! Ну, что-то вроде:
или
или
Откуда мой школьный друг из вполне благополучной советской семьи брал эти песни, вызывая у бывалых его слушателей шумное одобрение? Нередко, когда его голос под блатные гитарные переборы звучал особенно пронзительно, быстрые и вороватые глаза этих битых жизнью и отнюдь не добрых парней наполнялись слезами. (Воровская сентиментальность и даже истеричность – хорошо известный феномен.) Что ж брежневская эпоха нашей юности была все ещё насквозь прострочена недавним гулаговским духом и блатной ностальгией. Подозреваю, что большая часть моих соотечественников, увы, так и не прочитала «Колымских рассказов» Варлаама Шаламова, начисто сдирающих как дурную коросту это заразное обаяние насквозь фальшивой блатной романтики.
Нередко мы становились свидетелями событий и отнюдь не сентиментальных. Беседочные аккорды, далеко разносящиеся по опустевшим улицам, обеспечивали экзотический и подлинно самобытный подбор слушателей. Старые разборки-тёрки, неоплаченные счета и обиды вдруг подымали мутную волну, выхлёстывая в кровавый мордобой и поножовщину.
Нас, дворовых менестрелей (хотя, говоря по совести, менестрелем был лишь Володя; я шёл прицепом), никогда не трогали и в разборки не вовлекали. Это были не наши разборки. Ответ на такое «благородство» мог быть лишь один – поменьше болтать языком. Тем более, в случае чего его могли очень быстро и без наркоза укоротить.
Вшивый домик
В годы благословенного брежневского застоя (немалое число моих соотечественников и по сей день сокрушаются о потерянном регламентированном советском рае с его старыми песнями о главном) о мужской моде говорить было не принято и даже неприлично. А что вы хотите? – страна ещё не успела окончательно стереть отвратительный яркий грим, состричь уродливый нафиксатуаренный «кок», срезать возмутительные галстуки-«селёдочки», наконец, распороть эти просто неприлично короткие брюки-дудочки с тысяч лбов, губ, век, шей и ног порочащих светлый облик молодых строителей коммунизма «стиляг», а уже на западных границах маячили какие-то ещё более ужасные забугорные длиноволосые «хиппы» и «битлы».
На выбор молодым людям – мальчикам начальных, подросткам средних и юношам старших классов – предлагались два вида причёсок: спортивный или военный бокс с максимально короткими волосами не более 4 см. и окантовкой по высшей точке затылка (как подвид – полубокс) и универсальная классическая канадка или морпех, сохраняющая чуть большую длину волос в теменных зонах и максимально короткую (до 1 мм.) на затылке и висках. При столь богатом выборе, большинство, не будучи ни боксёрами, ни хоккеистами, ни, даже, морскими пехотинцами, выбирали канадку: в отличие от настоятельно рекомендуемых бокса и полубокса в ней присутствовали виски. Более того, в случае удачи, можно было уговорить доброго парикмахера заменить короткие косые, на чуть более длинные – прямые. Длина прямых висков недвусмысленно указывала на степень разрешённой свободы в тех или иных семьях и школах. Был, конечно, и третий вид стрижки – под ноль. Но она, как правило, назначалась либо по медицинским показаниям для получения формы 204, либо в случае призыва на действительную военную службу, либо при попадании, по выражению В. М. Шукшина, в места прекрасные и строгие.
Но разве способен железный занавес, какой бы длины и высоты он не был, уберечь истомлённый цензурно-отфильтрованным репертуаром слух от всепобеждающей сексуальности мелодий детей-цветов и чарующих модуляций неповторимых жуков-ударников? На необъятных просторах нашей родины, во всех её городах и весях началась сплошная битломания. Вместе с музыкой пришли, взамен дудочкам, брюки-клёш, но главное – длинные, развевающиеся на ветру волосы, «говорящие» о любви и свободе, а не о спортивных и военных достижениях. Поскольку такие официально не одобренные брюки вам не пошили бы ни в одном ателье, а такую ещё более неофициальную стрижку вам не сделал бы ни один мастер, приходилось обходиться своими силами: вручную вшивать клинья в фабричные изделия и своими руками подравнивать там и сям торчащие патлы. От такой самодеятельности брюки с несовпадающими по цвету и тону клиньями выглядели нелепо, а причёски, в большинстве своём, приобретали форму каре под горшок.
И вновь по всей территории СССР объявлялся очередной крестовый поход против всё того же тлетворного влияния «запада»5. Но, то ли перед партийными идеологами стояли тогда задачи поважнее, то ли сами «крестоносцы» поутратили боевого духа, поход этот не принёс сколько-нибудь ощутимых результатов. Так, в нашей школе с «влиянием» боролись без затей и прямо с уроков отправляли в парикмахерскую. Самые продвинутые из педагогов предлагали 20 коп. на стрижку. Но не всё простое – гениально. Как правило, в этот день отправленный больше в школу не возвращался. На следующий день всё начиналось по новой: то же и те же. Процедура эта по своей бессмысленности и малоэффективности напоминала снятый в режиме замедленной съёмки бесконечно длинный сериал, где каждая последующая серия была похожа на предыдущую как однояйцевые близнецы. Иногда для разнообразия на классный час приглашался школьный врач: его аргументы о негигиеничности и трудностях ухода за длинными волосами поражали своей оригинальностью и новизной. И никакие экивоки на отважных длиноволосых мушкетёров и закованных в латы рыцарей не могли пробудить сочувствия в неподкупном сердце медика.
– Ваши причёски – ни что иное как вшивый домик! – таков был её окончательный вердикт.
В этом был вызов всем школьным битломанам. По малолетству и невежеству я тогда ещё ничего не знал о концепции А. Тойнби «Вызов – Ответ», но вызов всё же принял:
– А что ваша причёска и причёски наших девчонок тоже – вшивый домик?
Оскорблённая до самой глубины своего верноподданического сердца медичка с лицом цвета варёной свёклы досрочно тогда покинула ещё не завершённый классный час. И пусть моральная победа была за нами, дело не могло так просто закончиться.
С переходом в десятый класс мы все попадали в зону особого внимания районных военкоматов. А явиться для очередной сверки в 3-й отдел районного военкомата с причёской а'ля битлз не рискнул бы даже самый забубенный битломан. Надо было что-то делать. Не знаю: были ли среди моих предков парикмахеры? Но портные и моэли (специалисты по обрезанию) точно были. И бестрепетной рукой я взял ножницы…
Первым моим «клиентом» был мой школьный друг – главный битломан и исполнитель, по слуху подбирающий и музыку и слова к забугорным хитам. Его прямые чёрные и даже какие-то упругие волосы (в нём была 1/8 китайской крови) легко поддавались стрижке. Меньше повезло кудрявым и курчавым – их причёски нуждались в постоянной доводке. Но выбор в ситуации между традиционной канадкой у профи и бунтарским либерти у меня был предрешён.
Увы, я так и не стал модным визажистом. Уж как 30 лет я преподаю в вузе, а в последнее время ещё немножко пишу.
Интересно, были в нашем роду цадики и маггиды?
Перст судьбы
Если мальчик из хорошей еврейской семьи не играет на скрипке («чтобы всегда иметь верный кусок хлеба»), он идёт во врачи, на худой конец – в учителя. Я имею сказать, что среди моих многочисленных родственников – это, примерно, 50 на 50.
На скрипке я не играл, но читал, много и беспорядочно, а так же имел склонность к публичному произнесению речей. Значит – в учителя. Но любимая нами тётка, давно и успешно учительствующая, сказала: «Зачем мальчику эта головная боль за такие деньги? Инженер, вот что нужно для жизни». Про школьную головную боль я что-то знал и был согласен, а вот про инженера как-то полной уверенности не было.
Перед тобой жизнь, и кто скажет, как надо? Чей голос должен быть услышан? Твой собственный, неуверенный и запинающийся, или убедительно-ясный, как у многомудрой тетки? Торг казался неуместным. Сменив либерализм длинных волос а`la Beatles (результат многоходовых комбинаций той же тётки) на правильные косые виски выпускника советской школы, я пошёл в инженеры. В железку (тогдашний ХабИИЖТ, теперь ДВГУПС), сдав алгебру на «три», физику – на «четыре» (!?), а сочинение – на «два» (!!), я не поступил. Как говорится, Бог шельму метит. Не надо гневить судьбу и, уж тем более становиться поперек…
Проработав на стройке год учеником плиточника-мозаичника с получением второго разряда и как-то там объехав на кривой козе военкомат, я подал на учителя. Правда, и здесь были свои заковыки. С одной стороны, мальчики на филфаке – большая редкость. Да и те, что называется, из-за угла пыльным мешком трахнутые. В школе же, на учительстве, и того хуже. С другой стороны – куда девать «инвалидность» по пятому пункту (дискриминацию по национальному признаку) при наличии негласно установленного госпроцента на зачисление. Превысить – себе же на голову. Такая вот партийная загогулина.
Как-то мне с затаённой нелюбовью бывшего зека к власти поведал по пьянке один знакомый работяга: «Партийная жизнь сурьё-ё-ёзная, заду-у-умчивая». Но, как известно, пока дурень думкою богатеет, судьба правит свою колею. В назначенный день был оглашён список поступивших. В числе семи «мальчиков» из ста зачисленных абитуриентов названы были (видимо, результат тяжёлого административного компромисса борьбы за чистоту рядов и необходимости) Винников и Брейтман. С присвоением почетных 99 и 100 мест, мы, Саша Винников с не совсем удобным отчеством Аронович, будущий мэр Биробиджана и губернатор Еврейской автономной области, что само по себе не так уж и мало; и ваш покорный слуга, будущий скромный философствующий профессор, что само по себе не так уж и плохо, радостно обнаружили себя в прекрасном цветнике, половина которого – деревенские девчонки, принятые по разнарядке местной власти.
Дабы поставить точку и уже не возвращаться в своём повествованию к этому, не скрою, важному, но не главному для меня вопросу, приведу одно недавно по случаю возникшее соображение, само собой как-то сложившееся в несколько стихотворных строк:
Но тогда, в начале 80-х, такие вопросы и не могли возникнуть. И не только по цензурным соображениям. Скорее от того, что у нас у всех, несмотря на все заковыки и загогулины советской власти, была одна Родина – Россия, без разделения на «историческую» и «по факту рождения».
Как и все нормальные люди, диплом о высшем образовании я получил по окончании института, но предыдущие школьно-дошкольные и дворово-лагерные опыты – мои главные университеты.
Ч. 2. В тени Пушкина: лучшие годы нашей жизни
Перед входом в пединститут, где мы были молоды и счастливы, стоял памятник А. С. Пушкину. С того времени прошло уж более сорока лет, а он все стоит, тихий и задумчивый. Как ни крути, а время, проведённое в alma mater, прошло в тени гения. Хотелось бы думать, не напрасно.
В тот год среди ста зачисленных (о чём я уже упоминал) на филфаке оказалось семь мужчин. Правда, одного (некоего Кузина) отчислили сразу по окончании совхозного «семестра» по уборке каузики – гибрида кормовой капусты, брюквы и турнепса. Причина отчисления была совершенно неожиданная, даже нелепая, но, действительно, не совместимая с сеянием разумного и доброго: демобилизованный несостоявшийся учитель русской словесности задушил собственными руками, предварительно облачёнными в кожаные перчатки, кошку. Как говорится, без комментариев. Года два проучился с нами Виталя, как мантру повторяющий, видимо в чём то себя самого убеждая: «У меня протеже, протеже, протеже…». И всё же, несмотря на скудность мужского присутствия в этой сплошь женской филфаковской оранжерее, он был отчислен по причине полной необучаемости.
Те, кого помню и люблю…
Ромео из Биробиджана
Ещё через год «забрили лоб» забросившему учёбу по причине страстной и безответной любви к красавице-однокурснице обладателю тонкого литературного слуха с вечной каплей на кончике рельефно изогнутого носа, обаятельному и остроумному Юре Шульману. Он добросовестно выполнил свой гражданский долг, честно отмотав два долгих солдатских года на бескрайних просторах нашей необъятной Родины…
Недавно я обнаружил его в лабиринтах интернета как гражданина Израиля и блогера. Переписка по эл. почте отчего-то не задалась. Настаивать я не стал.
Возвращение в Свободный
В том же году подал заявление об отчислении совершенно обалдевший после первой педпрактики всеобщий наш любимец Серёжа Дорохов, некогда поведавший нам о своих французских корнях и родовом дворянском имени – Анри Мари Этьен Серж (чуткий к слову Шульман тут же продолжил – Огюстен Луи Камилл). Ладно скроенный и крепко сшитый, успевший поработать помощником кузнеца, он капитулировал перед суетной повседневностью «этого безумного, безумного, безумного мира» среднеобразовательной школы. Я часто вспоминал о нём, ярком и ни на кого не похожем парне из заштатного уездного городка. Что означали его аристократические манеры? А страстная приверженность к английской поэзии 16 века (из 154 сонетов Шекспира он знал наизусть больше половины)? Да и откуда вообще в мальчишке французская грусть? Что это – миф, спасающий от вязкой повседневности или вдруг проснувшаяся родовая память?
Возвратившись в Свободный, он вернулся и к прежней работе кузнеца. Помню, как однажды к слову он обронил, что, видно, его судьба – быть кузнецом. Правда, была в его жизни ещё одна попытка пойти наперекор. Лет через пять я неожиданно встретил его в Хабаровске. Тогда он как раз восстанавливался на заочное отделение и устроился на работу по кузнечному делу в какую-то эстетическую студию, где ему даже выделили небольшую комнатку. Мы с пятилетним сыном несколько раз там бывали. Они симпатизировали друг другу – простодушный ребёнок и неприкаянный взрослый.
Дойдя до ГОСов, он не явился на экзамен и уже окончательно возвратился в свои пенаты. Стал главным кузнецом. Был нелюдим и странен. Выпивал. Жил бобылём и умер до срока. Об этом несколько лет назад я узнал на занятиях в одной из студенческих групп, увидев в списке знакомую фамилию. Его племянница мне и поведала о судьбе того, кого мы знали под именем Анри Мари Этьен Серж Огюстен Луи Камилл – с крепкими ладонями кузнеца и выдававшими его близорукими за круглыми стёклами очков глазами.
Дядька
Дядька объявился у нас со второго курса: то ли переводом (то ли простым перезачётом учебных дисциплин) из Полтавского пединститута. Я запомнил его фамилию, Харитонов, по созвучию с девичей фамилией моей матушки – Харитон. В его же прозвище – дядька – выразилось не только наше почтение к возрасту: он был восьмью-десятью годами старше нас (но ведь и наш несменяемый студсоветовский бог – «опричник с глазами цвета небесной сини» – Коля П., не снискавший ни уважения, ни доброй славы, был примерно тех же лет), среднего роста и сухощавого телосложения, с длинными по тогдашней моде волосами и очках в тёмной роговой оправе. Мы просто полюбили его как старшего товарища, не очень нам понятного но, главное, ни на кого не похожего. Судите сами: оставив (по чьей инициативе?) семью, друзей, институт, родной город, наконец, приехал из умеренно-климатической благодатной Полтавы (с температурой воздуха от -6° зимой до +20° летом и среднегодовой скоростью ветра 3,5 м/с) в продуваемый зимой ледяными ветрами и изнуряемый летом знойной влагой Хабаровск. После зачисления он получил комнату в общежитии, но занятий почти не посещал: не имея других источников дохода, где-то работал. Экзамены при этом сдавал успешно. Но деканат филфака (при всей любви нашей к alma mater – всего лишь слепок бездушной административной машины) никак не мог пережить такого небрежения принципом явки и присутствия. За это, несмотря на мужское малолюдство и наше коллективное ходатайство, был, вскорости, отчислен.
Что же нас связывало? – меня не обстрелянного, скорее бойкого на язык, чем знающего и, поэтому, неугомонного; и его – молчаливого, тёртого, познавшего (до сих пор помню его панегирик армянскому философу Давиду Анахту, мной, увы, так и не прочитанному). Конечно, любовь к слову – устному, письменному, дружескому, застольному… По прошествии лет могу сказать более определённо: это сладкое слово – свобода! Хотя по сути своей Слово и есть свобода в изначальном его проявлении.
По человеческой неопытности и какому-то неизжитому ещё юношескому задору я позволял себе спорить с ним, почти даже обвинять в отсутствии в его жизни какого-то конечного смысла. (Коля П. из студсовета сомнений не ведал и высказался куда более определённо: проходимец, бродяга, в общем, пустой человек). Кем же на самом деле был Володя Харитонов? Мне кажется, здесь в самый раз вспомнить слова Достоевского из его знаменитой речи о Пушкине в Обществе любителей российской словесности: «тип русского скитальца, беспокойного мечтателя на всю жизнь». Конечно, дядька наш – не возжелавший воли Алеко, что «презрев оковы просвещенья… без забот и сожаленья ведёт кочующие дни», и не Онегин из девятой главы, что «спустя три года» вслед за его создателем, «скитаясь в той же стороне», совершает путешествие по городам и весям России. И всё же скиталец! И маршрут его покруче онегинского – к берегам Тихого океана; и оторопь от бесконечной череды лиц и просторов необъятной своей родины…
Я не успел с ним попрощаться: он, привычно собрав нехитрый скарб свой, ушёл, когда я из-за какого-то недомогания пару дней не выходил из дому. И всё же прощание состоялось. Мне передали оставленный им тетрадный листок с его стихами. Приведу их целиком, так как они были написаны, ничего не прибавляя и не убавляя:
Этот листок до сих пор хранится у меня в альбоме среди фотографий тех лет. Как память о дядьке, что добавил к моей неуёмности каплю мудрости.
Магеллановы облака Ю. В.
Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости… Имеют ли эти слова Пушкина хоть какое-то отношение к той эпидемии густопсового «патриотизма», что обрушилась сегодня на и без того некрепкие головы многих несчастных моих соотечественников?
В минувшем, как моём, индивидуальном, так и в нашем, коллективном, между белым и чёрным – огромный спектр полутонов и переходов. Ничего не хочу забыть и не от чего не отказываюсь. Сейчас же выбираю из всего этого многоцветия тон светлый и лучший – благодарность. «Мгновенный кадр» из той, конечно же, счастливой жизни: здание с памятником Пушкину у входа, учебная аудитория. Перед нами, нога за ногу, так что открывается полоска модного носка, боком сидит худой длинноволосый человек. Он курит! Вот это «курит» невозможно было представить даже в либеральные 90-е («ельцинские»), не то, что тогда – застойные 70-е («брежневские»). Мы – студенты филфака хабаровского пединститута. Худой, длинноволосый и так вольно курящий – Юрий Викторович Подлипчук, выпускник театрального института, друг Юлия Кима и учитель литературы в знаменитой московской физматшколе Колмогорова; теперь – наш преподаватель.
С того времени прошло много лет. У меня, его ученика, за плечами – учёная степень доктора философских наук, несколько десятков опубликованных работ, погружение в научную среду Москвы, Петербурга, Хабаровска, Владивостока, Комсомольска… Он же не был (так сложилось) даже кандидатом наук, но более яркого гуманитария, чем Юрий Викторович, за эти четыре десятка лет я так и не встретил. Имея за плечами нетривиальный актёрский и режиссёрский опыт, он и в студенческой аудитории предлагал отнюдь не хрестоматийное прочтение русской классики: в его исполнении звучащее слово приобретало не только особую выразительность, но и особую глубину. Именно Подлипчук «повинен» в том, что трудный и даже отторгаемый в школе Достоевский стал главным писателем на всю мою последующую жизнь. Вместе с тем, учебная дисциплина, которую «доверили» Подлипчуку дипломированные и остепенённые коллеги и вузовские чиновники, была отнюдь не «Русская литература 19 века» (с его любимым Достоевским), а «Выразительное чтение». Но, пожалуй, именно занятия по выразительному чтению (конечно и спецкурс по Достоевскому) оказались главными в нашей (по меньшей мере – моей) филологической подготовке.
Подлинным артистизмом (студенческий театр Подлипчука до сих пор помнят многие из тех, для кого ХГПИ – alma mater) и талантом к научной интерпретации текста можно объяснить его неожиданный интерес к «Слову о полку Игореве». Тогда многие из коллег (особенно специалисты по истории языка и литературы) восприняли это скептически: с какой стати – не специалист и «вдруг»…? Тем не менее, несколько лет труда (то ли подвижника, то ли безумца) – и новый перевод «Слова» с учёными комментариями был представлен на суд самому Д. С. Лихачёву, главному специалисту по древнерусским текстам из Института русской литературы (Пушкинский дом). Не время (да и не к месту) разбирать сейчас причины резкого неприятия, даже враждебности, авторитетного учёного к работе самозваного автора, но, даже несмотря на положительные отзывы других, не менее авторитетных специалистов6, труд Подлипчука не был принят к рассмотрению, тем более, к опубликованию7. Остро переживая неудачу, он, как мне тогда казалось, ищет спасения в поэзии. Так появляются его «Магеллановы облака» – поэма почти в сто страниц.
Из материалов «Тихоокеанской звезды» (15.01.1997) С. Подзноевой, тоже ученицы Подлипчука, я узнал, что Юрий Викторович – коренной хабаровчанин. Семьи его родителей перебрались на Дальний Восток с Украины ещё в XIX веке. 1937 году отец, работавший в Управлении железной дороги, был репрессирован. Семью лишили квартиры и выслали из Хабаровска. Пришлось начинать жизнь с нуля в маленьком городке под Ростовом. А через несколько лет эту территорию уже оккупируют немцы. В «Магеллановых облаках» есть эпизод, где они со школьным другом Валькой, нарвавшись на немецкий патруль, чудом остаются живыми лишь благодаря юркиному книгочейству. После войны Подлипчук вместе с друзьями (за компанию) подаёт документы в театральное училище. Друзья не проходят по конкурсу. Юрий Викторович поступает. Затем были работа в провинциальных театрах юга России, приглашение в Ереванский драматический, отказ (по причине солидарности с неприглашенными). Были попытки получить высшее образование в ГИТИСе и Полиграфическом институте. Работа диктором на радио. Потом уже – знаменитая физматшкола академика Колмогорова при Московском государственном университете…
На некоторые подробности из московской жизни Ю.В. я случайно натолкнулся в книге его ученика по физматшколе, писателя Сергея Яковлева «Та самая Россия: Пейзажи и портреты» (гл. Волшебный круг. Материалы к одной биографии). В частности, он вспоминает, что там хорошо учили не одним математике с физикой; и что это была, прежде всего, не в пример нынешней, школа свободомыслия и демократии, где ученики запросто спорили с академиками, а молодых учителей называли по имени. Историю одно время там преподавал известный бард и драматург Юлий Ким, а литературу – Юрий Викторович Подлипчук. Московской прописки он не имел, жил вместе с учениками в интернате и не признавал школьных учебников. Учились же по конспектам его лекций, которые торопливо записывали неумелой рукой (всё-таки не студенты, девятый класс). Ещё считалось важным знать тексты, то есть собственно литературу (при этом Достоевский, например, требовался почти весь, вплоть до «Братьев Карамазовых»). На контрольном сочинении могла возникнуть такая тема: «Ваши чувства при чтении Евангелия». Его эрудиция и начитанность были феноменальны. «Мастера и Маргариту», задолго до журнальной публикации, он сам читал ученикам после уроков. Я, не колеблясь и минуты не сомневаясь, готов подписаться под словами автора очерка: «За минувшее с той поры время я слышал немало профессиональных чтецов, в том числе известных и титулованных, но по силе воздействия никого не поставлю даже близко. До сих пор не могу постичь, в чем была магия этого сухощавого близорукого человека в сильных очках-линзах?»
«Добил» высшее образование Юрий Викторович уже в родном городе, куда вернулся после реабилитации отца. Заочно окончил филфак Хабаровского пединститута. Здесь же остался преподавать. Так институт получил преподавателя, ставшего легендой для многих поколений студентов…
Я всегда помнил Юрия Викторовича, но только спустя почти сорок лет мне удалось выполнить то, что все эти годы считал своим долгом перед учителем (хотя ни о чём таком у нас никогда с ним разговоров не было): в декабре 2017 в журнале «Дальний Восток» в моей редакцией были опубликованы его «Магеллановы облака». Только готовя поэму к печати, я понял, что Юрий Викторович не «поэт по случаю». Уже были, как оказалось, и «Арлекин на кресте» и «Транссибирская-2». Вчитываясь в текст рукописи, которую много лет назад мне передала его вдова Наталья Михайловна, я открывал для себя прежде мне неизвестные, пафосно выражаясь – судьбоносные, обстоятельства жизни моего учителя. Так постепенно, из отдельных ярких лоскутов сложилось прочное, как паруса магеллановых каравелл, полотно жизни этого незаурядного человека, оставившего столь глубокий след в моей памяти.
Осенью 1993 года, уже аспирантом, прошедшим «боевое крещение» в Гайд-парке у Гостинки (об этом разговор впереди), в самый разгар бабьего лета я вернулся в Хабаровск. Светило нежаркое октябрьское солнце, мимо, как и положено, проплывали невесомые паутинки, воздух был свеж и прозрачен. В районе Детского парка знакомая молодая женщина, шедшая мне навстречу (не могу сейчас её вспомнить), спросила: еду ли я на кладбище? Так я узнал, что Юрий Викторович умер. Я успел прийти в кабинет литературы, где для прощания был выставлен гроб с телом моего учителя; был на отпевании в храме св. Анастасии; успел произнести прощальные слова у его могилы. Не успел одного: сказать ему, что с его давнего благословения я, наконец, стал питерским аспирантом.
Опричник с глазами цвета небесной сини
Обратив взоры «во внутренность свою», вдруг обнаруживаешь, что в прихотливой памяти сохранились и образы иных, по-своему, неповторимых, двуногих и прямоходящих. В этом нет ностальгии (как по Юре, Серёже или Дядьке), или печали и благодарности (как о Ю.В.), скорее холодное удивление: тоже ведь homo sapiens-ы!
Старше нас десятью годами, спортивный, с опытом армейской службы и глазами цвета небесной сини, в которых так и высвечивался его молчалинский талант умеренности и аккуратности, он был бы хорош собой, если бы не длинная, тщательно лелеемая и уложенная вкруг наподобие турецкого тюрбана затылочная прядь, под которой явственно проступала там и сям старательно скрываемая лысина, что придавало всему его облику нечто комическое. Вот вам отнюдь не полный портрет нашего бессменного, никем не избранного, но назначенного председателя студсовета Коли, уже допущенного в коридоры власти, в то время, пока мы, вновь поступившие, дружно месили деревенскую грязь, обеспечивая кормовое благополучие совхозного стада в предстоящий зимне-стойловый период.
Если бы кто-то озаботился созданием музея карьеры, то лучшего экспоната, чем Коля, нельзя было бы и придумать. О скромных же успехах его на студенческом поприще сказать особенно нечего. Да он, собственно, и не учился, а был принят в службу на должность ректорского опричника, верой и правдой отрабатывая обещанный диплом. Основной задачей председателя студсовета было наведение и поддержание должного порядка в общежитии филфака, где за малым исключением селился женский контингент. Собственной персоной там проживал и сам председатель. Самым страшным преступлением по консолидированному мнению руководства в соответствии с советским госханжеством было проникновение посторонних лиц в женские комнаты после установленного часа. Администрация решительно и бескомпромиссно боролась с половой распущенностью в подведомственном ему учреждении.
Коля обладал феноменальным чутьём на присутствие «чужих». Чужими были мужчины любого возраста, задержавшиеся хотя бы на долю секунды против установленного в «Правилах внутреннего распорядка в общежитиях ХГПИ». Коле было чем гордиться. В хорошем расположении духа он любил вдохновенно повествовать о проделанной работе:
Рассказ «опричника»: Стучу в дверь. <Коля точно рассчитывал время, когда парочки, оставшись наедине, будут готовы к совершению действий, не совместимых с моральным обликом будущих педагогов советской школы>. Не открывают. Ключа в двери нет. У меня запасной. Вставляю. Резко открываю дверь. Никого. <Кроме, конечно, «злоумышленницы», кутающейся в простыню>. Но точно знаю: должен быть. Внимательно осматриваю комнату, чувствую мужской взгляд. Резко одёргиваю штору: стоит, в трусах. В одной руке брюки, в другой – туфли…
По Колиным донесениям и представлениям девчонок лишали места в общежитии и даже отчисляли из института. Открывая левой, по его собственному выражению, ногой дверь ректорского кабинета, председатель студсовета торжествовал: сквозь рутину повседневности уже явственно проступали радужные горизонты и бескрайние перспективы…
Как и всякий подвижник, Коля многое претерпел. Однажды в общежитие, которое всё более начинало напоминать женский монастырь (где зело борзой опричник возжелал быть сразу и строгим настоятелем и личным исповедником), нагрянули крепкие парни из СКИФа – у каждого из них к Коле был личный счёт. Суровый радетель за чистоту нравов долго бежал по гулким знакомым до боли коридорам, но в районе вахты был изловлен. Состоялось публичное аутодафе. Народные мстители, приложив председателя щекой к радиатору отопления, отчего зализанная маскировочная прядь свесилась до самого пола, обнажая великолепный цвета топлёного молока с рыжими подпалинами череп, и пообещав в следующий раз возмездие куда более суровое, удалились. Убедившись, что последний скиф растворился в проёме входной двери, Коля, уложив ловким движением непокорную прядь, скрылся в своей комнате. Через полчаса, пробегая мимо вахты со словами: «Всё в порядке, всё в порядке», он покинул место недавнего своего ничем не заслуженного позора. Что ж, путь наверх тернист и суров.
В дальнейшем, ближе к диплому, Коля, женившись на тихой отличнице с инфака, с помощью её отца получил руководящую должность промежуточного звена в отделе народного образования Амурска.
Десять, примерно, лет спустя (к тому времени я работал в Краевом институте усовершенствования учителей) по делам службы я оказался в Москве в Министерстве образования СССР. Каково же было моё удивление, когда, ошибившись дверью, я заглянул в какой-то кабинет – за одним из столов сидел Коля. Я вошёл. Почувствовав на себе чей-то взгляд (а мужской взгляд, как помнит читатель, Коля чувствовал даже через плотно задвинутые шторы), он поднял глаза. Что-то изобразилось на его лице: от начального неузнавания до какого-то, даже, испуга. Коля помнил о моём, слишком, на его взгляд, свободном отношении к власть придержащим и, видимо, подумал о возможно спланированной провокации. Приблизившись, я объяснил причину своего здесь появления. Он с облегчением захохотал и, схватив за руку, потащил к столам своих коллег: вот, мол, Саша из Хабаровска приехал его навестить.
В гости он не позвал, сославшись на стеснённость проживания на московских метрах, но долго, в пароксизме административного восторга, рассказывал мне в министерском коридоре о своём теперешнем начальнике, к которому в кабинет директора техникумов входят на коленях. Вот он в тайне взлелеянный заветный идеал столоначальника – «на коленях!».
Уже потом пёстрая мозаика Колиной жизни сложилась в моей голове в завершённую конфигурацию: бросив жену с сыном, он отбыл в Москву для продолжения карьеры. Туда его вызвала новая жена, прописав на своих московских метрах и устроив в Министерство. Неплохой получился бартер: натуральный обмен эпохи социализма.
Что сталось с Колей в «лихие 90-е»? Выжил ли он в суровых штормах перестройки или был сметён гигантской волной, не знающей ни правых, ни виноватых? Навряд ли теперь это кому-то интересно.
Школьные радости и печали
На педпрактику (их было две – на третьем и выпускном четвёртом курсах) в 71-ю школу, в которой я учился с пятого по десятый, я попросился сам. На первой, пассивной, ничего запоминающегося не произошло, разве, что один почти курьёзный случай. За каждым из практикантов-дублёров закреплялся тот или иной класс. Мне достался пятый, где классным руководителем была географичка. Она не была прирождённым педагогом, легко раздражалась, повышала голос, подчас, не умея справиться с «хулиганами», выгоняла их с урока, ходила жаловаться на своих учеников завучу… и с радостью «передала» мне контроль за одним из таких наиболее ей досаждающих. Конечно, это был по терминологии тех лет – мальчик педагогически запущенный из так называемой «трудной» семьи. Он, скорее, нравился мне: открытый для общения, в чём-то наивный фантазёр и балабол, с большим дефицитом внимания у себя дома и его негативным избытком в школе. Конечно, уличное «воспитание» наложило свой отпечаток на его манеры и речь.
Со всем энтузиазмом неофита я взялся за дело, и он, не привыкший к такому вниманию, охотно пошёл на контакт. Принципиально важным шагом по реабилитации был запланированный ответ моего подопечного на уроке географии. Расчёт был такой: ничего не подозревающая географичка, удивится, увидев поднятую руку, и, конечно же, вызовет его к доске. И вот этот день настал: закончилась перемена, прозвенел звонок. В классе шум. Учителя нет. Вот-вот появится. Мой подшефный ходит в ожидании вдоль доски и возбуждённо скандирует застрявшее в памяти с предыдущего урока:
В ту самую минуту в дверях появляется географичка с классным журналом и какими-то книжками, сложенными в стопку. Не замечая её, он завершает четверостишье:
Не подумав, не разобравшись (Опять! Да сколько можно терпеть эти выходки!), она с размаху опускает на голову наладившегося к исправлению «хулигана» свою книжно-журнальную стопку. Книги летят на пол; ученик, что-то выкрикивая, с рёвом выбегает из класса. Я поднимаюсь следом. И только тут она замечает, что в классе кроме учеников был ещё кто-то.
Это «чп» масштаба в один ученический класс вполне можно назвать курьёзом, особенно, если учесть, что, выслушав меня и взвесив всё на холодную голову, учительница на следующем уроке всё ж таки вызвала «хулигана» к доске. И комментарий её, на сей раз, был иным: ну, прям, как профессор.
Другой же случай курьёзом уже не назовёшь.
На дворе – осень. Школьные раздевалки полны плащами и куртками. Кое-где висят пальто. Начался первый урок. Дежурные обнаруживают в раздевалке маленького карманного воришку – мальчишку 4—5 класса из неблагополучной семьи. Я случайно в тот момент был рядом. Вызывают по инстанциям завуча по воспитательной работе – сухого сложения даму, «великого школьного инквизитора» и ханжу, люто ненавидящую учеников любого возраста. Как выпускник этой школы, я знал об этом не по наслышке. Её суд был скор:
– Немедленно собрать общешкольное собрание. Выставить перед всеми и опозорить (не пристыдить, не поговорить, а именно, опозорить).
В её голосе слышались тщательно скрываемые нотки какого-то сладострастного садизма. Мои возражения, естественно, в расчёт не принимались. Конечно, чистить карманы своих товарищей не очень хорошо. И без последствий нельзя оставить. Но ведь не так по-инквизиторски. Только своевременное вмешательство моей любимой Анушки – Анны Николаевны, главного завуча и филологини (ради неё, собственно, я и записался на практику именно в эту школу) – предотвратило неизбежное аутодафе.
Вторая практика – активная, преддипломная. И здесь совсем другая песня. В первой было много для отчётности: главное, чтобы директор школы подписала нужные бумаги, а в деканате их приняли и пассивную практику засчитали. Правда быть пассивным, как видно, у меня получалось не очень. В этот раз, многое было мне по душе – и дающий некоторую уверенность опыт прошлого года; и иной статус – не пассивного стажёра, но почти коллеги, готовящегося к проведению первого в своей жизни урока; и старшие классы, а значит, и литература 19 века, русская и зарубежка; главное же – всё это под началом Анны Николаевны, так неслучайно вошедшую в мою жизнь после перевода с последним предупреждением из «А» в «Б». С которой мы потом долгие годы просто дружили.
Урок, который я тогда готовил, был по «Фаусту» Гётте. Из всей философской поэмы (на знакомство с творчеством Гёте по программе отводилось два учебных часа), раскрывающей, как писали, гигантские горизонты, ставящей и разрешающей основные вопросы человеческого бытия, я выбрал «Вальпургиевую ночь» со злодеями, монстрами и шабашем ведьм, с их голыми танцами и прочими непотребствами. Возьми я для «презентации» иные сцены, меня ждал бы неминуемый провал: в философских воззрениях Гёте тогда я разбирался не намного лучше, чем мои первые ученики.
Зачем я об этом вспоминаю? Ну уж точно не для того, чтобы вставить очередную клизму моим беспамятливым соотечественникам по поводу их ностальгии о прошлом, хорошем только отого, что советское; но и не ради какой-то там нарцистической фиксации на собственной своей персоне. Не об этом мои радости и печали. Я хотел бы, чтобы прошлое это представлялось не одномерно плоским или – или, а реальным и живым. Таким, каким запомнил его я.
Что-то ещё сохранила память из той относительно беззаботной и, оттого, может быть, счастливой жизни.… Своеобразным завершением студенческой лёгкости бытия и прологом ко всему, что случится после, разного, но уже никогда беззаботного, стали два же совпавших по времени события лета 1977 года – окончание института и рождение сына. Нам, молодым специалистам с обязательным по тем временам распределением и грудным младенцем на руках, была назначена местом работы восьмилетняя школа села Красивое Еврейской автономной области.
Село Красивое и его обитатели
Начало оказалось неожиданно обнадёживающим и для молодого специалиста даже лестным: то ли от директора красивенской школы из Еврейки8 пришло письмо, то ли она как-то связалась со мной по телефону, уже и не вспомню. Главное, была обещана бортовая машина для переезда. Таким образом, отправной точкой моей педагогической кривой оказалась должность учителя русского языка и литературы сельской восьмилетней школы.
Под жильё нам была выделена половина довольно ещё нового дома из крепкого бруса (другую половину занимала семья из местных). В те времена привычной практикой на селе было строительство домов на двух хозяев, разделённых поровну и разными входами. И хоть на нашей половине уже жили до нас год или два такие же молодые специалисты, она совсем не была подготовлена к предстоящей зимовке. Да как и что могли подготовить городские девчонки, брошенные на алтарь просвещения и образования в русской глубинке? Для обустройства на новом месте, вместе с нехитрым скарбом и невесть откуда взявшейся мебелью, прибыл и мой отец. Деревенский по рождению, он предложил обнести дом завалинкой, что, учитывая наши зимы, оказалось очень кстати. Но даже и сколоченная вкруговую из хорошего материала и засыпанная опилками (лучше бы шлаком – он лучше держит тепло и в нем не живут мыши), она не спасала плохо утеплённые стены, потолок и пол от промерзания – в тридцатиградусные морозы вдоль плинтусов под кроватями и по углам вырастали шершавые пятаки инея. Время, когда наш подрастающий сын должен был, как и все дети, осваивать способ передвижения по полу на четвереньках, пришлось как раз на зиму. От четверенек пришлось отказаться. Не научившись ползать и делая по окончании зимы свои первые шаги, он падал на пол, не подгибая колен, что, при желании, можно было бы объяснить особенностям национальной адаптации молодых специалистов.
Под зиму нам привезли машину дров в виде распиленных на полуметровые чурбаны брёвен. Я до сих пор помню как (колуном, а не топором) лучше всего их колоть. Когда в хорошо промороженную поверхность чурбака врезается, не столько с усилием, сколько со сноровкой, лезвие колуна, и та смачно расходится на две половинки, ещё несколько секунд в морозной и сухой тишине утра слышится ласкающий слух, тонкий и чистый, как бывает от лопнувшей туго перетянутой струны, звук. Но это бывает, если тебе привезли хороший, а не сучковатый, с вертикальными и горизонтальными перевивами пиломатериал. В противном случае, тяжёлый стальной колун отскакивает от вязкой древесной поверхности как от тугого резинового муляжа. И тогда уже звонкую тишину утра прорезывает не тонкий и чистый элеганто и грациозо, но непереводимый на другие языки экспрэсси'во и брускамэ'нтэ руссо нецензуро.
По выходным ходили греться в местную красивенскую баню. Главным техническим устройством парной (парной – в слишком буквально понятом значении этого прекрасного слова) была нисходящая откуда-то с потолка и не достающая около полуметра до пола, дюймовая труба, завершающаяся привычным водопроводным краном. При повороте вентиля из крана с шипением вырывалась струя сжатого, перегретого пара. Ударяясь в пол, пар поднимался густыми клубами вверх, застилая молочной пеленой и без того сырое помещение. В образовавшемся тумане постепенно начинали исчезать очертания тел, оставались лишь контуры. В этот момент парная становилась похожей на мрачное Царство теней мифологического Аида. Ассоциации с царством мёртвых как-то нешуточно обозначились после того, как директор школы, женщина вполне себе ещё молодая и крепкая, поскользнувшись на сырых ступеньках, полгода потом охала, хватаясь за спину, превратившуюся в один сплошной сине-чёрно-жёлтый отёк. После баньки, следуя широко известным рекомендациям фельдмаршала Суворова (портки продай, а выпей), мы принимали гостей – молодую пару, фельшерицу и её мужа, кажется, агронома – наших товарищей по красивенским будням. Что ж, всё как у людей.
Иногда в нашу повседневность вторгались события не то, чтобы из ряда вон, но и не сказать, чтобы совсем уж рядовые. Так, в один, отнюдь не прекрасный вечер или, даже, ночь мы были разбужены громкими криками из другой половины дома за стенкой. Семьёй из местных были наши коллеги: он – молодой голубоглазый красавец-физрук, немножко от лубочного Бовы Королевича, она – тоже ничего, то ли биологиня, то ли химичка. А шум был оттого, что муж её фигуристой и симпатичной сестры, хороший мужик и запойный пьяница (тоже ведь национальная особенность), приревновав её к свояку (тому самому Бове Королевичу), принял на грудь и с топором в руках пошёл разрубать внутрисемейный гордиев узел. А ведь и шёл буквально разрубать: слава Богу, у физрука руки мускулистые и топор вош6л в мышцу правого предплечья по косой сантиметра на полтора. Дело по-семейному замяли, как-то уговорились и в суд подавать не стали. Решили, как говорится, по совести. Две верных подруги – пьянство и ревность – сожрут любого, кто так опрометчиво взлелеял их в собственном сердце.
И всё-таки не поиски единственно верного слова с колуном в руках, и не банные радости, и не застольные наши, под водочку, дружеские беседы, и даже не преступления на почве страстей человеческих, а моих сельских учеников, пяти- и восьмиклассников, более всего сохранила избирательная и отнюдь не фотографическая память. Классы были относительно небольшими, человек по десять-двенадцать. Часть учеников была из семей переселенцев. Что заставляло людей с детьми, покидая насиженные места, переезжать из центральной полосы России в далёкие регионы рискованного земледелия? – Бедность? Не знаю. Могу сказать лишь одно: среди приезжих было больше работящих и меньше пьющих. А дети были разные, в том числе, талантливые. Их помню до сих пор. Вот небольшого росточка, худенькая, нервического склада пятиклассница Галя из крепко пьющей семьи. Как-то принесла мне на тетрадном листочке в клеточку своё стихотворение: в этих несогласованных и плохо зарифмованных строчках было что-то странное, напряжённое, болезненное, почти безумное и не отпускающее…. Или мальчик из семьи переселенцев, того же класса, что и Галя, тоже худенький, с узким, острым лицом и длинными (по сравнению с другими мальчишками) светло-русыми, почти белыми, волосами на уроке по Гоголю. Он что-то отвечал по «Тарасу Бульбе», вернее, пересказывал близко к тексту страницу за страницей. Я его не останавливал: так интонационно завораживающе и по-гоголевски выразительно звучал его ответ…. Где они теперь эти дети застойных лет России?
По-деревенски открытые, в чём-то ещё наивные пятиклассники (скорее всего та же активистка Галя) однажды показали мне написанное ими письмо, адресованное в областной ОНО9. В нём неумело по-детски, но очень экспрессивно, были изложены просьбы что-то там улучшить в их бедной на события жизни. Признавая, фактическую правоту написанного, я никак не препятствовал их намерениям, но лишь выправил орфографию и стиль. На следующий день мы с оказией выехали в областной центр, в Биробиджан, с тем, чтобы оттуда отправиться поездом домой для празднования среди своих первого нашего учительского Нового года. Примерно через неделю по возвращении, я заметил в детях какую-то, что ли, пришибленность, а в глазах – отчуждённость. Долго упиравшаяся моя любимица Галя, наконец, выпалила: «Вы опозорили честь нашей школы!» Письмо, каким-то образом доставленное в ОНО, вернулось (кто бы сомневался) к директору школы. Думаю, с предписанием: разобраться и наказать инициаторов! Поверить, что советские дети сами… – выше самого смелого чиновного разумения. Мои осторожные попытки сказать моим пятиклассникам, что я всего лишь как их учитель не мог не отозваться на их же просьбу; и что писали они сами, и отправляли сами… Но, увы, слова директора и, вероятно, других, объяснивших им, кто есть кто? видимо, уже успели заразить совсем ещё юных пионеров недоверием и страхом.
В конце года директор без каких-либо проволочек подписала приказ о моём увольнении по собственному желанию.
Прощай, Красивое! Я возвращаюсь в свой родной Хабаровск.
Ч. 3. Между Сциллой и Харибдой
Вернувшись из Красивого, я оказался перед выбором, своего рода, вратами будущего, по одну сторону которых мне радостно улыбалась сразу всеми своими шестью головами с тремя рядами зубов загадочная Сцилла, а с другой – гостеприимно распахнув бездну, подмигивала таинственная Харибда. Сциллой неожиданно оказался не сумевший вернуть меня в село и посему наложивший запрет на мою педагогическую деятельность в городе тогдашний начальник КрайОНО (Краевой отдел народного образования), вскорости снятый с должности по причине беспробудного пьянства. Может быть, истерзанный после «расправы» со мной муками совести, он запил горькую и… гори оно всё синим пламенем. Не знаю. Только я давно ему простил и, более того, даже благодарен: выписывая волчий билет, он, по сути, выдал мне пропуск в новую жизнь… Харибда же, выдержав паузу, материализовалась через пять лет в образе кировского военкома, лихо закатавшего меня двухгодичником на политработу в строительный батальон в/ч 02008. О его дальнейшей судьбе и нравственных угрызениях сказать ничего не могу. Но и на него зла не держу. А если честно, то за такой военно-тюремный опыт, что я получил в строительном батальоне, могли бы и плату запросить. Не верите? Коли соврал, то пусть, – как гласит текст советской воинской присяги, — меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение советского народа.
Проверка «на слабо»
История о том, как я был замполитом, ещё впереди, а пока вернёмся к первому (пока единственному и, надеюсь, последнему) в моей жизни запрету на профессию; тем более что в течение двух последующих недель он был неожиданно преодолён: я был принят на работу воспитателем в общежитие Технического училища №1. Дело в том, что Госкомитет РСФСР по профтехобразованию существовал тогда независимо от Министерства среднего образования РСФСР, и подведомственные его училища нуждались в воспитателях – вакантных мест было много, а количество желающих их занять, по причине крайней хлопотности и мизерности денежного вознаграждения, стремилось к нулю. Формулируя базовый тезис о том, что бытие определяет сознание, Маркс, безусловно, имел в виду то, что потребности повседневного быта способны преодолевать даже проникнутые высокой духовностью постановления самих (!) министерств и ведомств.
В обязанности воспитателя общежития технического училища, поверх всех должностных инструкций, входило неписанное главное: удерживать своих подопечных, особливо женского полу, от решения стоящих перед страной демографических задач в ущерб задачам профессиональной подготовки рабочих кадров. В актуальности неписанного я убедился в первое же своё дежурство (воспитательный процесс в общежитиях, естественно, начинался с окончанием занятий, т.е. во вторую смену). За окном стояли ясные и прохладные сентябрьские сумерки. Дежурство плавно двигалось к завершению. Вдруг (а все коллизии возникают, как правило, вдруг) на втором этаже в женской части послышался какой-то шум. Поднимаюсь наверх и открываю дверь одной из комнат. Отчётливо слышу женский с нарастанием плач. Мне объясняют: что-то с одной из девушек (имени не помню). На кровати по пояс раздетая (развитая девичья грудь, казалось, сошла с полотен Рубенса) в истерике катается юная особа. В памяти мелькает где-то прочитанное: при истерическом припадке отхлестать по щекам. Прошу прикрыть простынкой беззащитную в горестях девичью наготу, решительно подхожу и действую по ситуации – наношу две пощёчины. По недостатку практики вторая, скорее, напоминает боковой удар. Воспитанница приходит в себя: глаза смотрят осмысленно, вопросительно и с каким-то даже интересом. Я же с удовлетворением от содеянного и увиденного покидаю комнату. Первую проверку юного воспитателя «на слабо» я выдержал с честью, ни на секунду не уронив достоинства советского педагога. Однако дело имело продолжение. «Пострадавшая» оказалась не только способной на смелый эксперимент актрисой, но и бывалой интриганкой с задатками манипуляторши.
Встреча с чёртом
Вечером следующего дня во дворе общежития появился чёрт. Ну, не совсем чтобы чёрт, а ловкий в движениях, с нагловатой уличной повадкой и быстрыми азиатскими глазами, смуглый и черноволосый парень по кличке Чёрт, бывший в большом авторитете у местной шпаны разного статуса и калибра. Он был дружком той самой приводимой в чувства «несчастной». Видимо, с её подачи (а девушке совсем не хотелось возвращаться под надзор мамы в глухую сахалинскую деревню) он «наехал» на меня, несколько истерически угрожая расправой, если я «не дай боже»» предприму что-то против нашей скромницы-праведницы. Представление происходило на глазах замерших в ожидании и некотором даже предвкушении обитателей мужской половины общежития, а так же и кое-кого из местных. В голове моей наметился некий план, и я, сославшись на позднее время и серьёзность темы, предложил наехавшему перенести разговор на завтра в воспитательский кабинет. Без посторонних глаз. Видимо, польщённый предложением, он, не заметив коварства, согласился. И тут же потерял главное своё преимущество – улицу и тёмное время суток. Теперь предстояло играть уже на моём поле, и тут главным было не лохануться и суметь нащупать нужные кнопки в душе моего завтрашнего забубённого гостя.
И вот сам Чёрт явился ко мне на переговоры. Они, используя клише советской дипломатии, проходили в атмосфере дружбы и взаимопонимания: заранее подготовленный и лежащий на письменном столе «меморандум» был передан заинтересованной стороне. В нём излагалась суть вчерашнего инцидента со всеми отягчающими угрозами… Прочитав, Сергей (у чёрта оказалось вполне человеческое имя) поспешно разорвал изложенное на двух станицах машинописного текста. Пояснив, что точные копии этого же документа в виде заявлений директору училища и местное отделение милиции лежат в сейфе (а мой гость, как чёрт ладана, избегал любых контактов с представителями правопорядка), я предложил ему договориться полюбовно: я никак не препятствую (я и пробовать бы не стал) его романтическим встречам с нашей воспитанницей и закрываю глаза на её сверх установленного порядка поздние возвращения, а он – обеспечивает мою личную безопасность на «подведомственной» ему территории и защиту от попыток проникновения местных «мачо» в женскую половину общежития тем или иным способом. Так всего лишь через пару дней была подвергнута вторичному испытанию «на слабо» правильность моего педагогического выбора. Следует признать, что договор с Чёртом, хоть и не скреплённый кровью, ни разу не был нарушен не одной из договаривающихся сторон.
Проработав четыре месяца на ответственном поприще воспитателя технического училища, я уволился, идя навстречу устному пожеланию директора, крайне болезненно воспринявшего мои конструктивные предложения по реорганизации работы общежития.
Эх, товарищ директор, отнесись он внимательнее к конструктивным предложениям молодого воспитателя, может быть, и не завершилась бы так скоро его карьера на доверенном ему партией и народом высоком руководящем посту!
Наше дело телячье…
Мало сменить учительское перо на мастерок штукатура-маляра, нужно ещё суметь удержать его в слабых интеллигентских руках. Штукатур-маляр или даже плиточник-мозаичник с дипломом филолога в кармане, конечно, дело вкуса. А вкус, как счёт в банке: либо он есть, либо его нет. Хотя, как утверждают сведущие люди, и то и другое – дело наживное. И я оставил на неопределённое время сомнительную, что ни говори, интеллигентскую среду (будь то даже и учительская кафедра) ради смычки и суровой выучки в рядах передового класса. Чтобы, как сказал поэт, «класс влиял на вас», нy и, конечно, способствовал…
Как и семь лет назад я вновь очутился на том же строительном участке того же управления. На сей раз – в корейской (эмигранты из КНДР) бригаде штукатуров-маляров. Там было и несколько русских. Бригадирствовал тогда Чон Ду Хван (для простоты – Николай Кван). Бригада выезжала по нарядам для выполнения штукатурно-малярных работ на те или иные объекты. Когда работы не было (не завезли, не согласовали, не учли…), бригада вскладчину посылала гонца в ближайший вино-водочный магазин… Гонцом был пьяница и шестёрка Юра, типичный продукт советского конформизма. В очередной раз, трепеща от предвкушения, Юра доставил к общему обеденному столу красное креплённое вино-бормотуху и белую водку. Закуски, включая неизменно жгучую корейскую кимчи, мы приносили с собой. Пока Юра бегал, у нас с бригадиром завязался интересный разговор. Чон Ду Хван, в свободное от штукатурно-малярных работ время, был отчасти романтиком, отчасти – философом. Помню его риторическое вопрошание:
– Что есть любовики?»
И его же вариант ответа:
– Любовики – это как нераспустившийся цветок! Знаешь? Какой аромат! Когда распустился, уже нет любовики».
Я не избалованный такими разговорами в рабочей бытовке активно включился в обсуждение. В этот момент и вернулся Юра с сумкой. Надо сказать, что за'день-за'два до событий, Юра, раздражённый моими инвективами в адрес тех, кто не согласовал и не учёл, учил меня жизни: «Студент, не суетись. Наше дело телячье – обосрался и стой». Конечно, стоять по горло в г…, не совсем удобно (хотя, может быть, и тепло); но боюсь, для многих моих соотечественников эта «мудрость» давно стала основным правилом жизни. С возвращением гонца наш диалог с бригадиром временно прервался, чтобы затем с новым градусом возобновиться. Захваченный разговором, я стоял в дверном проёме нашей бытовки-вагончика. Бригадир оставался за столом. Где в этот момент находился Юра – было совсем не интересно. И тут я справа получаю удар кулаком в лицо. Очки летят на пол, оставив на переносице кровавый след металлического наносника. С закипающей яростью бросаюсь на обидчика и… оказываюсь в руках своих корейских товарищей. Они, дядьки почтенного возраста, просят меня, как сына, остыть и успокоиться… Разговор продолжился. Я как будто даже и забыл про Юру. Да вот он – не забыл, и через несколько минут я получаю ещё один боковой удар… Опять очки летят на пол, опять корейцы перехватывают и удерживают меня… Юра с позором изгоняется из бытовки… Но теперь уже с холодной яростью я наблюдаю за происходящим: дверной проход свободен – я выпрыгиваю из вагончика. И вот уже Юра смят и сбит с ног, а я, не думая о последствиях, бью своего обидчика ногами по лицу… Теперь спасать уже надобно Юру… Признав справедливость возмездия, бригадир мудро отправляет его домой.
Юра явился на работу лишь на следующий день, к обеду, представляя собой зрелище весьма живописное: на опухшем с жёлто-красно-синими отёками лице почти не было видно глаз. Скромно попросил лишь об одном: поддержать предложенную им версию, что вчера после работы был избит бомжами около вино-водочного магазина… Уж больно не хотелось пролетарию и гегемону быть так наглядно отретушированным каким-то там очкариком… Просьба товарища, конечно же, была учтена. Но с того времени не только пьяница и шестёрка Юра, но и другие вдруг увидели, что интеллигенция умеет не только п****ть… И, даже, почти признали за своего.
Разглядывая из «прекрасного далёка» свою трудовую биографию, вынужден признать, что по сей день так и не научился подставлять правую щёку, получив удар по левой.
Сменив строгий костюм учителя на строительную робу, я стал ближе не только к своему брату рабочему, но и, как оказалось, куда более дальним родственникам – руководству. А что: рабочий парень с дипломом педагога. Не пьющий. В порочащих связях не замечен… Вот тут-то наш строительный парторг и раскрыл карты: пора тебе, Саша, расти. У тебя впереди жизнь. Подумай, и пиши заявление в партию. Я, подумав, что партбилет в кармане, куда лучшая защита от житейских невзгод, чем учительский диплом, последовал его совету. И вот мы на парткомиссии райкома:
– А почему вы ушли из школы? Государство затратило на вас деньги, в школах не хватает учителей. Мы будем рекомендовать вас в одну из школ края (строгая реплика строгой дамы, третьего секретаря по идеологии, а значит, и по культуре и по образованию).
– Но он и на стройке не пыль с пряников обметает…
Ответное замечание первого секретаря райкома (с нерайкомовской фамилией Пастернак) подвело черту под развернувшимися, было, прениями. Мою кандидатуру утвердили, и всё покатилось по давно накатанной колее. Мог ли я тогда предположить, что «накатанная колея», вдруг, сменится бездорожьем