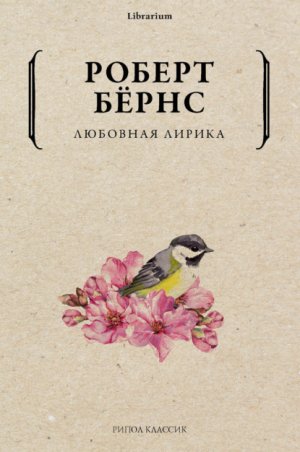
© Евгений Фельдман. Перевод с английского языка, 2021
© Александр Марков. Вступительная статья, 2021
© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2021
Защитник неповторимого и хранитель чувственного мира
Национальный поэт – не просто создатель стихов, которые все учат в школе, повторяют наизусть и слушают как музыку. Это genius loci, гений данного места, который всегда уже здесь, уже стал собеседником доброжелательного разговора или участником вечернего ужина. Когда мы говорим «чудесный» или «печальный», всегда с каким-то чувством и напором, мы не обязательно вспоминаем «день чудесный» или «печаль моя светла», но без Пушкина эти слова звучали бы плоско, не так живо, как они раскрываются даже в самых случайных наших репликах. Таков национальный поэт – он не создает отдельные образы или слова, но показывает, сколь живой и горячей может быть речь.
Мы лучше поймем, как Роберт Бёрнс создал шотландскую национальную поэзию, если окинем взглядом историю шотландского языка, который называют скотс и обычно считают диалектом или местным вариантом английского. Уния 1707 года, объединившая Англию и Шотландию в единое государство, Великобританию, положила конец литературному употреблению скотса: законы должны были создаваться на литературном английском языке, на нем же писались любые документы, его учили в школе, а значит, ожидалось, что книга, лежащая в суде или университете, будет если не на латыни или, скажем, французском, но на том английском, который в Лондоне, а не который в Эдинбурге. Сходное представление о том, что высокий язык права и образованности противостоит разговорным наречиям, было тогда нормой тогда во многих странах: можно вспомнить, как у нас М. В. Ломоносов понимал язык церковных книг с их интеллектуальной культурой как высокий стиль языка, подходящий для од. Конечно, рано или поздно везде, во всяком случае в поэзии, победила норма, близкая к современной разговорной речи и понятная большинству читателей – кто будет покупать, читать и запоминать высокопарные оды кроме участников официальных празднеств? А вот для народной жизни подойдет скорее поэзия на народном языке, и взрывное развитие типографского дела во второй половине XVIII века вместе с рядом реформ самой музыки от Моцарта до Луи Шпора (музыка перестала быть прикреплена к торжествам и так же пошла в свободный оборот концертов, как до этого книги) определило судьбы поэзии, расставшейся с прежней торжественностью.
Родился Бёрнс в семье фермера 25 января 1759 года, стихи стал сочинять еще подростком, но окончательное решение записывать стихи на местном диалекте возникает в 1783 году после знакомства с поэзией соотечественника Роберта Фергюссона. Этот поэт прожил всего двадцать четыре года, и за год до смерти, в начале 1773 г., успел выпустить томик своих стихов, который и попал в руки Бёрнсу. В отличие от Бёрнса, закончившего сельскую школу, Фергюссон учился в университете, собирался стать врачом, но из-за частого пьянства не получил диплом, работая писарем в конторе, иногда ночуя на улице и устраивая дебоши, – его иногда даже называют предтечей французских «проклятых поэтов». Впрочем, Фергюссон в университете прочел античных классиков, усвоил все правила риторики, которые и позволили ему в стихах непритязательно, несколькими мазками изображать весь городской и сельский быт. Риторика минималистической наглядности – самая искусная риторика, и без изощренности Фергюссона у нас не было бы задушевности Бёрнса.
Бёрнс принадлежал к широкому общеевропейскому движению, связанному с деятельностью типографов, издателей, композиторов, молодых аристократов и политиков, которых чаще всего объединяли тайные масонские ложи. Масоном Бёрнс стал в молодости, в возрасте двадцати двух лет, 4 июля 1781 г. – в Шотландии, лишенной политической самостоятельности, масонство сделалось главной формой общественной жизни для всех амбициозных людей. Само по себе масонство, независимо от всех его мистических притязаний, было прежде всего движением за свободное распространение информации, которое можно сопоставить с современными антикопирайтными движениями, сторонниками свободных лицензий.
В разных странах в масонские ложи вступали люди, недовольные засильем иностранцев при тогдашних монархических дворах, которые присваивают себе власть над ресурсами и информацией, люди, выступавшие за свободный рынок искусства, идей и литературы, в противовес поощряемому сверху иноземному влиянию. Можно вспомнить русского издателя-просветителя Николая Ивановича Новикова или великого австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта, с которыми Бёрнс точно нашел бы общий язык. Первый успешный политический проект масонов и близких им тайных обществ, освобождение Греции от власти Османской империи, был запущен только через четверть века после смерти Бёрнса, а он узнал ранний расцвет этого движения, объединившего лучших шотландцев. Масонская ложа стала его университетом, а его школой, конечно, был фольклор.
Впрочем, мы очень обижаем Бёрнса, когда говорим, что он закончил только сельскую школу.
Его учителем и другом его отца Уильяма был Джон Мёрдок, составитель грамматик и хрестоматий, умевший часами читать наизусть античных классиков и Шекспира. Он приходил учить маленького Роберта еще в детскую и дал ему как первую взрослую книгу трагедию Шекспира «Тит Андроник». Бёрнс вдохновенно декламировал в семейном кругу ямбы Шекспира, но как только дошел до отрубленных рук и отрезанного языка, не смог продолжать чтение и разрыдался. Отец возмутился, что сын растет плаксой, но Мёрдок объяснил, что такая чувствительность говорит о Роберте лучшее – это значит, что он не просто вычитывает из книг отдельные мысли или реплики, но воспринимает происходящее со всей живостью воображения. Поэтому книги станут верными спутниками на его жизненном пути, и хотя сейчас он обижен на Шекспира, но после будет благодарен и Шекспиру, и родителям с учителями за лучшие уроки.
Мёрдок был педагогом-реформатором: если другие учителя просто требовали переписывать аккуратным почерком в тетрадь фразы из книг, то он просил учеников писать не подглядывая, запоминать целые реплики, излагать и пересказывать на письме прочитанное. Мёрдок внушил юному Роберту Бёрнсу любовь к Александру Поупу, великому английскому поэту-классицисту, который в «Опыте о человеке» открыл независимость области чувств от области разума: чувство призвано поощрять к добру, а разум – размышлять, достаточно ли добра в данном добре. Чувство, согласно Поупу, лишено памяти, но обладает проницательностью, которая разлита по всей природе и позволяет даже животным предвидеть будущее, например, землетрясения и ураганы. Поэтому разум без чувства оказывается замкнут только на бытовом настоящем, тогда как чувство без разума беспамятно и посему часто ошибается. Вдохновенные построения Поупа были развита Бёрнсом: что для Поупа моральные схемы, то для Бёрнса – предмет самозабвенного высказывания. И главное, в схеме Поупа есть данности, но нет предчувствий, тогда как для Бёрнса важнее любого события – подготовка к событию, чаяние, канун. Невозможно узнать, что такое праздник, если ты не чувствуешь запаха готовящегося пирога, но и не знаешь разумом, что праздник не сводится к пирогу. Ты должен идти дальше, и за пирогом предчувствовать дружбу или любовь. Мы складываем несколько таких устремленных ввысь, к любви и дружбе, к самым отвлеченным вещам, предчувствий и получаем мировоззрение Бёрнса.
Бёрнсы дружили с Мёрдоком и после того как Роберт вырос. Так, в 1777 году Мёрдок написал для Уильяма Бёрнса и его детей катехизис – наставление в религиозной вере и нравственности, которое должно было смягчить суровость тогдашнего шотландского протестантизма. Этот протестантизм восходил к учению Жана Кальвина о безжалостном суде Всевышнего, тогда как Мёрдок был приверженцем Якоба Арминия, богослова, говорившего, что любой человек может постичь божественное откровение и спасение открыто для всех вершителей добрых дел. Шотландские писатели в то время уже не выдерживали моральной сухости и безжалостности эдинбургского кальвинизма: достаточно вспомнить знаменитого Джеймса Боссуэла, автора «Жизни Сэмюэля Джонсона», который будучи воспитан в строгих нравах, бежал в Лондон, где кутил, влезал в авантюры, потом путешествовал и всю последующую жизнь показывал свое презрение к послушанию и благочинию. Такое поведение тогда называли «либертинаж» – творческая самореализация, основанная на презрении к религии и нравственным устоям, но в Бёрнсе не было ни тени либертинажа, он умел быть послушным, внимательно выслушивал любого собеседника, добросовестно выполнял поручения везде, где бы ни работал (а он был деловым человеком, инспектором по акцизам), и успевал все в срок, даже если играл и веселился всю ночь.
Вера для Мёрдока – это практическое убеждение, а не долг: человек, выполняющий все заповеди, убеждается в их разумности и благодатности. Понимая, что моральный долг становится невыполним, если просто суетливо браться за выполнение всех обязанностей сразу по велению рассудка, невозможно сделать все и сразу, христианин ценит слезы покаяния и развивает в себе ту чувственность, которая и позволяет почувствовать смысл каждой заповеди. Тем самым, Мёрдок внушил семье Бёрнсов то самое задушевное христианство, без которого не понять поэзию Роберта Бёрнса: когда наш поэт говорил, что временное заблуждение или чрезмерное увлечение может вполне быть угодно небесам, он не бунтовал против строгости заповедей, а погружался в область добрых чувств, со временем исправляющих пороки.
Бёрнс имел множество увлечений, был не против азартных игр или алкоголя, но не губил себя, как Фергюссон, а всегда останавливался вовремя. В молодости он был неумерен в любви (молва приписывала ему по меньшей мере трех незаконных отпрысков), но тоже одумался и в 1787 г., обосновавшись окончательно в Эдинбурге, женился на Джин Армор, родившей ему пятерых детей, – родила она двенадцать детей, но семеро умерло во младенчестве. Пятый ребенок Бёрнса, сын Максвелл, родился 25 июля 1796 г., как раз когда гроб с поэтом опускали в могилу. Он умел ценить свободу, но любил и семейное счастье. Жизнь в Эдинбурге открыла для поэта новые возможности: он сразу же вступил в главную масонскую ложу Шотландии, издал уже большое собрание своих стихотворений (вторым, расширенным изданием вышедшее в 1793 году), но главное, сделался первым профессиональным шотландским фольклористом. Подружившись с гравировальщиком нот Джеймсом Джонсоном, имевшим в Эдинбурге собственный музыкальный магазин, он стал издавать под его редакцией и в его доме «Шотландский музыкальный музей», шесть выпусков нотных записей шотландских народных песен. Это издание получило большое распространение среди композиторов всей Европы, оно стояло на видном месте у Гайдна и Бетховена, его знал Гёте, который восхваляя «песни» Роберта Бёрнса, вспоминал явно не только собственные стихи поэта, но и популярные музыкальные пьесы из «Музея», которые тогда исполняли везде. Как говорил Гёте в разговоре с Эккерманом: «Возьмем Бёрнса. Не потому ли он велик, что старые песни его предков жили в устах народа, что ему пели их, так сказать, тогда еще, когда он был в колыбели, что мальчиком он вырастал среди них и сроднился с высоким совершенством этих образцов, что он нашел в них ту живую основу, опираясь на которую, мог пойти дальше? И еще не потому ли он велик, что его собственные песни тотчас же находили восприимчивые уши среди его народа, что они затем звучали ему навстречу из уст жнецов и вязальщиц снопов, что ими приветствовали его веселые товарищи в кабачке? Тут уж и впрямь могло что-то получиться».
В этих словах Гёте угадал главное: что Бёрнс живет не просто в стихии народной жизни – он знает, что даже самым простым людям нужны образцы, нужны как бы иконы, вдохновляющие на новые свершения. И правильность образцов нельзя обеспечить прямым контролем – важно действительно, чтобы простые люди обменялись приветствиями, улыбками, как обмениваются письмами о самом главном, и тем самым постигли что-то самое важное в общей жизни.
Музыкальная и поэтическая слава Бёрнса обязана при этом не столько Джонсону, сколько Джорджу Томсону, дружившему с Бёрнсом и с 1799 года выпускавшему, с учетом и опыта Джонсона, фундаментальное издание шотландских песен, куда он включил как аранжировки народных песен, так и собственные сочинения на стихи Бёрнса и других поэтов. В частности, Томсон побудил Вальтера Скотта собирать и редактировать шотландский фольклор, баллады, некоторые из которых он и издал вместе со своими аранжировками, а также легенды, а потом писать собственные стихи и романы. Неутомимый Томсон, состоявший в переписке со многими литературными и музыкальными знаменитостями Европы, был посредником между немецким и шотландским мирами и это посредничество напрашивалось: сам Вальтер Скотт создал свой поэтический стиль, переводя Гёте, Бюргера и других поэтов, а Гайдн и Бетховен, как мы уже сказали, не переставали интересоваться шотландскими мелодиями.
В 1793 г. Томсон выпустил прототип будущего свода шотландских песен, куда включил и двадцать пять песен собственного сочинения на стихи Бёрнса. Когда Томсон прислал Бёрнсу отпечатанный сборник вместе с гонораров в пять футов, поэт возмутился до глубины души – поэзия и деньги были для него немыслимы в одном ряду. Бёрнсу показалось, что Томсон хочет его подкупить и лишить настоящего вдохновения. В письме он пригрозил навсегда разорвать с музыкальным издателем отношения, впрочем, вскоре они помирились. Бёрнсу понравился элегантный вид книги и он пообещал Томсону, что в каждом письме к нему будет сообщать какую-то народную песню в первозданном услышанном виде или в собственной обработке. Обещание свое он сдерживал до последних дней жизни, они много спорили с Томсоном в письмах, можно ли менять тексты, добавлять куплеты или припевы, Бёрнс, впрочем, некоторые из собранных или придуманных песен продолжал отдавать Джонсону. Томсон не всегда слушался поэта, но зато убедил его в том, что песни надо бы снабдить и английским текстом, тогда сборник будет лучше продаваться.
Томсон не всегда был проницательным издателем: например, он решил изменить мотив одной из песен Бёрнса, не зная, что ее уже поет половина Эдинбурга. Бёрнс уже был готов уступить издателю, но сам Томсон вовремя одумался, что на него рассердятся его же верные читатели. Но создавая вместе с Бёрнсом новые аранжировки, выстраивая востребованные читателями сюжеты, думая о том, где сделать песню еще эмоциональнее, они вносили вклад в создание стандарта литературной баллады.
Вершиной профессионализма великого поэта часто становится создание своей строфы: мы знаем «алкееву строфу» и «сапфическую строфу», дантовские терцины и петрарковский сонет, «онегинскую строфу» и «ахматовскую строфу». Не обязательно этот поэт был первым, кто писал таким размером, – понятно, что у любой строфы есть фольклорные или литературные истоки и много сонетов было и до Петрарки. Но создать свою строфу – это показать свою универсальность, умение писать на все темы, брать любой материал и превращать его в поэтический, это как для художника придумать свой способ нанесения красок на холст или хотя бы свой пигмент или для композитора – свою ритмическую систему или по крайней мере новый музыкальный инструмент. Если поэт создал свою строфу, значит, он не ограничен готовыми темами и мотивами, но властвует над поэтическим словом как таковым. Такую строфу создал и Роберт Бёрнс, и у нас в России ей писал Пушкин, у которого в библиотеке стоял двухтомник 1793 года. Вот пример бёрнсовской строфы у Пушкина:
Основное повествование и припев не разделены, а слиты вместе, – у Пушкина мы узнаем о свойствах эха, никогда не встречая само эхо, а только повторенные знакомые звуки. Этот парадокс, что мы можем знать свойства предмета, не зная самого предмета, был немыслим для классической философии, хотя привычен нам – мы же знаем свойства тех химических элементов, которые еще не открыты, в соответствии с закономерностями периодической таблицы. Для Аристотеля субстанция всегда первична, но для романтической мысли это уже не так.
Та к и в поэзии Бёрнса, пожалуй, самый частый мотив, что мы знаем и жизнь нашего ума только по проявлениям в мысли, и наши чувства только по их любимым предметам, и наше существование только по разрозненным событиям, но при этом мы знаем, сколь стремительна мысль, сколь необоримо чувство, сколь трепетно и неповторимо наше существование. Основной вопрос романтизма о невыразимом и неповторимом, как мы можем говорить о неповторимости личности или нации, когда вдруг кто-то возьмет и нас повторит (на этом основаны все романтические страхи, боязнь тени или доппельгангера, получившего самостоятельное существование и способного потому нас уничтожить), у Бёрнса был решен сразу и без всяких страхов. Неповторимое и невыразимое принадлежит не историческому порядку существования, а фактичности тому, что мы уже с ним встретились и уже вполне это пережили и поэтому подделать неповторимое невозможно, как невозможно вернуться в детство или поставить влюбленность на поток.
Умер поэт 21 июля 1796 года. Сначала над его могилой был скромный камень, но в 1817 г. был построен мавзолей с колоннами и куполом, где в 1834 г. нашла вечный покой и его вдова. В настоящее время в Шотландии числится девятьсот прямых потомков поэта. Конечно, вспоминая Бёрнса, в Шотландии вспоминают разное. Одни – что он горячо приветствовал Французскую революцию, ожидая, когда все народы объединятся в единое мировое братство, и не разочаровался в ней, даже узнав о терроре, – для него ошибки французов на то и были, чтобы их не повторили прочие народы. Другие – что он воспел множество примет шотландской жизни, включая крепкий виски, и, по сути дела, создал все национальные бренды как таковые. Третьи – что он был настоящим патриотом Шотландии и просвещенным вольнодумцем, создавшим историческую память, например, напомнившим, что шотландские солдаты поддерживали французское войско Жанны д’Арк и тем самым всегда были за свободу и за самостоятельность женщин. Четвертые – что обличая протестантское духовенство и разделяя ценности Просвещения, он исповедовал глубинное, сердечное христианство, так важное и для многих почитателей Бёрнса, таких, как Василий Андреевич Жуковский или Тарас Шевченко. Пятые – трудно сказать, что вспомнят пятые, слишком много тем вызывает в памяти великий шотландец. В Шотландии просто празднуют день рождения поэта с пирогом и многочасовым пением.
Одно можно сказать – история русского Бёрнса продолжается. Для нас Бёрнс – это ясная нота поэзии Пушкина и Жуковского, это попытки Лермонтова и Некрасова переводить поэта, это огромный труд С. Я. Маршака по воссозданию самих настроений Бёрнса в русском стихе. Конечно, Бёрнс в России – это не просто поэт, открывающий нам Шотландию и ее культуру, хотя русский Бёрнс был признан шотландцами – в 1959 г. Маршак был избран почетным председателем Федерации Бёрнса. Роберт Бёрнс – поэт, показывающий, где живет поэзия, что она не живет там, где суета, где односторонний эстетизм, где верность традициям любой ценой. Но она живет там, где есть бескорыстие, где есть умение увлекаться, но так, чтобы разум впервые заработал строго и ясно, где есть умение сказать музыкой самые важные вещи в жизни. Бёрнс – это, как ни странно, авангардист, иначе говоря, поэт, умеющий и в экспромте быть предельно серьезным, и подолгу работать над ритмами и напевами, которые зазвучат так, как будто появились прямо сейчас.
Александр Марков
Лирические стихи
«Моя любовь цветёт во мне…»
Мэри Морисон
Реке А́фтон
«Вина в серебряную кружку…»
Горянка Мэри