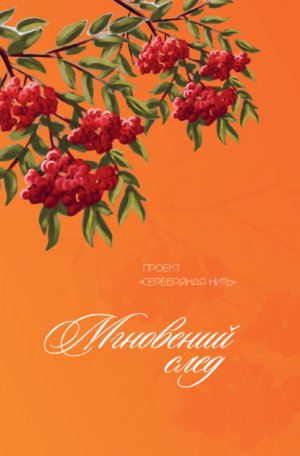
ISBN 978-5-907557-65-9
© Издательство «Четыре», 2022
«Меня… земною не сделаешь солью…»
Кто-то из моих довольно близких людей однажды сказал мне, что для меня самое главное в жизни – любовь. И что это, дескать, не очень правильно, но вместе с тем очень трудно. Зачем, мол, это тебе надо…
Я промолчала. Но внутри была удивлена и не согласна.
А как можно жить иначе, если не по любви?
Как и чем можно заряжать свою душу, если не любовью?
Где брать силы и энергию, если не в любви?
В конце 80-х, когда многое стало доступно, в том числе из литературы и истории, мне попались первые – газетные тогда ещё – публикации о Марине Цветаевой, посвящённые какой-то её дате.
И я отчётливо вспомнила уроки литературы в 10-м классе, когда мы, потрясённые и притихшие, слушали нашу удивительную классную, преподавателя литературы.
Слушали о Цветаевой и Рильке, Пастернаке и Булгакове, о незнакомом Есенине и потрясающем Блоке. Слушали с другой, взрослой, подчас страшной стороны, слушали об их настоящей жизни, без прикрас и вранья. Эта правда объясняла очень многое в творчестве этих людей.
Чуть позже, совсем в неожиданном месте – на книжном развале рядом с военно-морским санаторием, – где я, гарнизонная девочка, тогда отдыхала, я увидела томик Цветаевой.
Там была обширная биографическая статья Анны Саакянц, там были уже цитаты из цветаевских дневников, и были стихи – и самые начальные, и более поздние, зрелые.
Там, в этом томике, я увидела столько боли и столько любви, столько жертвенности и столько гордости, силы, мужества, достоинства…
Там я увидела такую тонкую, ранимую из ранимых, изорванную в клочья собственной щедростью, даже жертвенностью, и безграничным терпением, трудолюбивейшую и беспримерно талантливую душу…
Я увидела за этими льющимися-рвущимися строчками какую-то абсолютно неземную, божественную, космическую мощь…
Я увидела образ невероятной женщины, жившей исключительно любовью…
И я полюбила мою Цветаеву однозначно и навсегда.
Всё на разрыв, на пределе, через кровь.
Всё – через сердце!
Будь то любовь к человеку, обыкновенному, обычному, пусть и талантливому, живущему с ней в одно время, или боль за страну (стихи о Чехии), или к своей оставленной родине, или обращение к дорогим и ушедшим собратьям по цеху…
Всё, чего ни касался бы взгляд Марины Ивановны, обретало совершенно невероятную энергию, говорило просто и ярко о, казалось бы, самых обычных вещах.
Но как! Боже мой, как! Как это говорилось!
И больше всего меня потрясает в её творчестве огонь любви – она всё время горела.
Она не могла без этого огня.
Она сама разжигала его, и питала, и поддерживала…
Сильнейшие мужчины не выдерживали этого накала.
Все катаклизмы мира не могли загасить этот огонь.
Если только на минуточку представить, сколько было ею пережито – не на одну судьбу отмеряно.
О, нет! Она далеко не идеальна! И ошибок совершено множество.
Но её верность и преданность выбранному ремеслу оправдывает многое.
Так чувствовать и так передавать свои чувства может только невероятный талант.
И при этом оставаться женщиной со своими страстями и желаниями, трудным материнством и ответственностью перед семьёй, с разочарованиями и предательством самыми близкими.
Но она очень долго сохраняла мужество и выдержку, стойко и безропотно сносила все тяготы и лишения того времени и тех обстоятельств.
И только полное осознание ненужности любимым людям, ощущение собственной помехи и осложнения для их жизни позволили ей совершить уход.
Не слабость, нет.
Не безволие.
Нет.
Только жуткое понимание того, что она стала никому не нужной.
«Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черёд…»
Настал, настал черёд.
Читать. Изучать. Восхищаться. Плакать…
Стихотворение про кошку я написала в самом начале своих поэтических экзерсисов.
И каково же было моё удивление и неописуемый восторг, когда я прочла похожие мысли о кошках в её стихотворении, обращённом к Максу Волошину:
И вот моё, написанное в тридцатилетнем возрасте, в 1987 году:
Наверное, женщинам привычно проводить аллегорию между собой и кошкой, ибо мы тоже мечтаем быть независимыми, гордыми и не болеть от любви…
Но Цветаева говорит обо всех, об очень разных гранях любви.
И о любви к Родине она говорит, как никто другой.
«Тоска по родине… Давно разоблачённая морока» – одно из самых моих любимых стихотворений. Каждый раз на строчке: «…но если по дороге куст встаёт, особенно рябина…» перехватывает горло и наворачиваются слёзы.
Потому что чувствую её боль…
Её тоску. Горечь. Беспросветное одиночество и непризнанность. И то, как она мучается, без вины виноватая…
В творчестве Марины Ивановны для меня нет ничего, что бы заставило поколебать мою любовь.
Всегда предельно честная перед собой и читателем: «Вы знаете, я правдива. До вызова. До тоски…»
Всегда достающая из совершенно немыслимых глубин души такие чувства и эмоции, о которых ты даже сам не догадывался.
Всегда, давая уникальную возможность поплакать о своём, принимает и понимает своего читателя…
Всегда безупречна по рифме, ритмике, образности и искренности стиха.
Это написано сто один год назад – 18 ноября 1921 года.
А как будто для меня сегодняшней.
Написано без позёрства, без зависти, без сожаления.
Ибо всё было в том прекрасном времени, которое зовём молодостью. «Пошалевали досыта!»
И я вместе с дорогим моим другом Мариной Цветаевой отпускаю свою молодость к другим.
Автору этих строк было всего-навсего 27 лет…
Читаю её и мечтаю…
Мечтаю не сожалеть ни об одном прожитом мгновении…
И обещаю, что долго-долго проживу в согласии с собой и миром…
Чтобы мне не было ни в чём – ни в помыслах, ни в деяниях – стыдно перед моей Мариной!
Да, она только в стихах могла мечтать пройти по земле «пляшущим шагом», но зато до последнего вздоха свято и мужественно исполняла данную в ранней юности клятву: всегда оставаться поэтом!
А ведь это так трудно: быть поэтом… И во главу угла всего своего существования поставить служение Любви и Музе.
Говорят, что цветаевский стих сложен. Что чаще, чем легковесному читателю хотелось бы, он резок и жёсток…
А мне иногда кажется, что она просто трогает своими строчками моё сердце, и оно болит, и вместе с тем замирает от счастья.
Она всё предвидела. Впрочем, настоящий поэт часто провидец. Она знала, что не исчезнет, что останется – мощно, ярко. «Серебрясь и сверкая» – останется с нами своим творчеством.
Предисловие написала Ирина Владимирова
Нарине Авагян
г. Ереван,
Республика Армения
Быть лишь твоею только…
«Непроницаемая тишина вполне…»
«Я долго ждала твоего возвращения……»
ЛАДОНЬ Я УДЛИНЮ…
СОЗИДАНИЕ
«И медленно клубок ночного света…»
Наталья Азовцева
Москва, Россия
Азовцева Наталья Анатольевна родилась в 1979 году в городе Котово Волгоградской области. Окончила школу с золотой медалью и вошла в восьмёрку лучших выпускников Волгоградской области 1995 года. С отличием окончила факультет почвоведения и аспирантуру МГУ имени М. В. Ломоносова. Кандидат биологических наук.
С шести лет начала писать стихи. Первые произведения Натальи Азовцевой были опубликованы в районной газете «Маяк» Котовского района в 1989 году; рукописная книга детских стихов «Ключ души» заняла первое место на Всесоюзном детском конкурсе «Одиссея юности» в 1991 году. В 1994–1995 годах – автор и ведущая молодёжной программы «Вечерний пунш» на радио Котовского района.
Автор четырёх поэтических книг: «Ключ души» (2000), «Апрельский подоконник» (2001), «И я была когда-то словом…» (2007), «Скажите, что такое счастье?» (2016). Лауреат конкурсов «Студенческая весна», «Пушкинский поэтический конкурс». Стихи вошли в коллективные поэтические издания «Становление» (1996), «Альманах одного стихотворения» (2002), в университетские сборники «Воробьевы горы, или Новая Каллiопа» (2002), (2009), «Квинтэссенция» (2007, студия «Орфей»), в альманахи «В поисках слова» (2010), «Мнемозина» (2013, 2014). Публиковалась в журнале «Поэзия», газетах «Московский литератор», «Московский университет», в ряде периодических изданий Волгоградской области. Участница Литературного Клуба «Воробьёвы горы» (АльманАХ, 2017; 2018), поэтических студий «Грани», «Логос». В 2022 году в издательстве «Четыре» вышел поэтический сборник «Нарисуй мне мечту».
Участвовала в работе литературной студии «Луч» под руководством Игоря Леонидовича Волгина. Стихи размещены также на странице «Вектор творчества» университетского сайта: http://getmedia.msu. Регулярно публикуется в альманахах Интернационального Союза писателей: «Альманах современная поэзия» (2018)
В настоящее время – научный сотрудник Почвенного института им. В. В. Докучаева. Живёт в Москве.
««Блаженны миротворцы», – нам Господь вещал…»
«Точной даты начала не зная…»
Брату-солдату
«Вся жизнь моя – признание в любви…»
Призыв к землянам
Седое добро Новороссии
Татьяна Бадакова
г. Элиста, Республика
Калмыкия, Россия
Поэт и математик.
Родилась в городе Ханты-Мансийск в 1953 году.
Окончила физико-математический факультет Калмыцкого государственного университета. Более тридцати лет проработала в сфере информационных технологий в вычислительных центрах республики и Федерального Казначейства. Отмечена Знаком «Отличник финансовой работы Российской Федерации».
Автор девяти сборников стихов и малой прозы, изданных в России и Германии. Печатается в российских и зарубежных литературных журналах и альманахах, республиканских периодических изданиях. Произведения переведены на английский, иврит, итальянский, немецкий, а также многие языки народов России и стран СНГ.
Татьяна Бадакова – лауреат международных литературных конкурсов «На Земле Заратуштры» (Узбекистан, 2020 и 2021), «Куда уходит детство» (Болгария, 2020). Финалист МЛК «ЛиФФт» (Москва, 2020), «Интеллигентный сезон» (Крым, 2021). Входила в лонг-лист МЛК «Серебряный голубь России», «Бежин луг», «Русский стиль в Париже».
Член Союза писателей России с 2017 года, Международной гильдии писателей (2019). В 2018 году окончила курс «Литературное мастерство» Андрея Воронцова, преподавателя Литературного института имени М. Горького.
Награждена Почётной грамотой Союза писателей России, благодарностями, медалями и дипломами.
Живёт и трудится в городе Элиста.
Свидания с поэтом
Мой настоящий читатель – в России…
Марина Цветаева.
ДЕВЯНОСТЫЕ ГОДЫ ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ
Самую первую встречу помню, берегу, обращаюсь к ней вновь и вновь.
Это книга.
Чудным образом купленная, с трепетом читаная-перечитаная и аккуратно хранимая. Небольшой по размеру, но довольно объёмный томик в стильной чёрной обложке с уже выцветшими от времени страницами.
Ирма Кудрова. Вёрсты, дали… Марина Цветаева: 1922–1939.
В студенческие годы необъяснимым образом я, не зная даже стихов Марины Цветаевой, прониклась её судьбой. Тогда, в семидесятые, изредка можно было встретить в печати публикации о Марине Цветаевой или стихотворения поэта. Интуитивно душа откликалась на её стих.
Как пишет Ирма Кудрова: «Задолго до осознания того, что именно привнесла Марина Цветаева в нашу духовную жизнь, мы подпали под её обаяние, а говоря её словами – под её чару. Может быть, просто ощутили масштаб и яркую необычность личности, вдруг вступившей с нами в общение…»
Мне же и внешне хотелось быть похожей на Марину: короткая стрижка, прямая чёлка, необычные браслеты и серебряные перстни… Полюбила уединение, чтение, Пушкина, пыталась писать.
Прошло немало лет.
А ставшая любимой книга Ирмы Кудровой продолжает вести меня навстречу Марине.
2017 год, май, 29. МОСКВА.
О погоде в столице в тот день вещали и предупреждали все телевизионные каналы: ливень, гроза, ураганный ветер. Они не обманули, всё так и случилось.
И в этот же день у меня экскурсия в Доме-музее Марины Цветаевой.
Как замечено не единожды – перед очень долгожданными волнительными событиями природа, как будто бы испытывая, совершенно неожиданно преподносит свои сюрпризы.
А я шла и разговаривала с Мариной: «Я понимаю, ты не любишь глазеющую, скучающую публику, тебе комфортнее твоё одиночество. Но, пожалуйста, впусти меня в свой мир, хотя бы ненадолго…»
По маршруту, начертанному, возможно, свыше, но предложенному всезнающим «гуглом», пробиваясь сквозь проливной дождь, не замечая ветра, огромных луж под ногами, грома, молний и того, что промокла до ниточки, я всё-таки нашла дом номер шесть в Борисоглебском переулке.
То утро было сродни характеру Марины – своенравному, дерзкому, непубличному.
Мистика начала дня не покидала меня и в доме Марины. Я постоянно ощущала её безмолвное присутствие. Всё-таки хранят добрые духи этого дома долгую память о поэте.
Удивительная архитектура квартиры Цветаевой, которая ей очень нравилась, также говорит о необычности и неповторимости натуры Марины. Крутая винтовая лестница, гостиная с камином и вышитой скатертью на круглом столе, большая светлая детская с милой резной кроваткой, куклами-принцессами и лошадкой-каталкой.
Кабинет Марины. На стене – портрет её кумира в детстве Наполеона, на полу – шкура волка, огромный глобус. Лампа с зелёным абажуром и добротный дубовый стол создают рабочее настроение.
Свет падает в окно с очень широким подоконником, на котором Марина любила просто сидеть, наверное, раздумывая о чём-то неземном, разглядывая звёзды.
Окно чудесным образом выходит на крышу. Можно легко выйти и прогуляться по московским крышам. «Прикольно!», – оценила бы современная молодёжь.
Поразили меня сводчатые стеклянные потолки – придумка самой Цветаевой. Ей в любое время хотелось видеть небо.
Старинное зеркало – таинственный предмет, хранящий многие годы в своём Зазеркалье образ хозяйки. Глядя в него, невольно ощущаешь встречный взгляд серо-зелёных глаз Марины.
Прикоснувшись так ощутимо к образу Марины Цветаевой, побывав у неё сегодня в гостях, я поняла, что несмотря ни на какие обстоятельства тех лет, она была счастлива в этом доме.
Уходила я со светлой душой и мыслью – встретиться вновь.
Марине Цветаевой[1]
2019 год, октябрь.
Я В ПАРИЖЕ. ВПЕРВЫЕ.
«Я сегодня увидела Тебя!.. Ты всё так же красив, молод, ярок, нежен и любвеобилен. Говорят, Тебе две тысячи лет… А, и пусть говорят! Они не видели Тебя… Бесспорно, первая Твоя мадам – La Tour Eifef l. Она в течение многих и многих лет сохраняет свой шарм и красоту, вероятно, потому что каждую ночь, когда всё вокруг погружается в сон, успевает пробежаться по Елисейским полям и выбрать себе супермодные сапожки и очаровательную шляпку в их бутиках…»[2]
И многое ещё, что удивляло в Париже дочь калмыцких степей.
Месяц, когда «красною кистью рябина зажглась», месяц Марины Цветаевой, привёл меня на свидание именно к ней.
Произошло это нестерпимо ожидаемо, молниеносно и с тихим ликованием. Написала столько несвязных слов, пытаясь описать своё состояние в тот день.
Ванв. Улица Жан Батист Потэн, 65.
Последнее предместье Парижа для Марины Цветаевой.
Тихая улица, каштан перед окнами, куст бузины, воспетый в её стихах.
Как всё это удалось сохранить, а вернее воссоздать Флорану Дельпорт?[4]
Как всё это пережить мне?
С 1934 и по 1938 год семья Марины Цветаевой живёт в Ванве.
Милый компактный городок, весь в зелени и цветах, ныне пригород Парижа. Древняя католическая церковь с приятным звоном колокола, очаровательные, большей частью двухэтажные, домики, каждый из которых не похож на соседа.
Марине понравился этот старый дом «на чудной каштановой улице». «У меня чу-удная большая комната с двумя окнами и в одном из них, огромным каштаном, сейчас жёлтым, как вечное солнце. Это моя радость».
Как же ей хотелось жить и радоваться!
«Но на ванвских улицах всё это время соседи провожали её косыми взглядами, а бывшие одноклассники Мура в лицо выкрикивали оскорбления. Предвидеть всё это было нетрудно…
Враждебность ванвских соседей постоянно подогревалась прессой… Имя Эфрона постоянно фигурировало в этих публикациях…
Когда подходило время очередного «терма», ежеквартальной квартирной платы, денег в семье не оказывалось.
В редакции «Последние новости» Марину Ивановну любили те, от кого не зависела судьба её рукописей. Почти всегда приходилось ждать по нескольку месяцев публикаций не только стихов, а даже прозы. Неудачи с публикациями поэтических произведений заставили осознать, что главному её призванию, поэзии, отныне придётся потесниться»[5].
Теперь она чаще пишет воспоминания, делает переводы.
Созданы прозаические шедевры – «Живое о живом», «Дом у старого Пимена», «Пленный дух» и другие. Проза об отце и его музее, о матери и музыке, о детстве.
Как писал Владислав Ходасевич: «Тема, по существу, мемуарная… Оставаясь в пределах действительности, Цветаева придаёт своим рассказам о людях, с которыми ей приходилось встречаться, силу и выпуклость художественного произведения».
А в стихах этих лет слышны ноты глубочайшего трагизма и отчаяния:
«Вера моя разрушилась, надежды исчезли, силы иссякли», – с горечью признаётся Марина Цветаева.
И вот я стою перед этим домом с каштаном у окна в Ванве.
Светлый, с мансардой, трёхэтажный особняк, весь обвитый красным плющом. Видна небольшая табличка, указывающая, что с июля 1934 года по июль 1938 года на втором этаже этого дома жила русская поэтесса Марина Цветаева. Ниже цитата из стихотворения «Дом», написанного здесь, в Ванве, в 1935 году.
Мой настрой, мои ожидания от новой встречи с любимым поэтом поглощают всю меня.
Поднимаюсь по винтовой лестнице (снова – винтовая, как в московском доме!) в её комнаты, казавшиеся для Марины Цветаевой тогда почти раем.
Небольшие, уютные, они бережно хранят память о поэте. Стеллажи с книгами, круглый матерчатый абажур под невысоким потолком, вязаные половички. Даже сохранён уголок пола, с почти полностью стёршейся краской на старых скрипучих половицах, по которым ходила Марина!
В этом доме бережно хранится прижизненный сборник стихов Марины Цветаевой «После России», изданный в Париже в 1928 году.
Вызвал непомерный восторг и трепет большой, удлиненной формы пуф, обитый зелёным, в некоторых местах потёртым плюшем. Настоящий, Маринин!
Все непременно пожелали на нём посидеть. А я почему-то не решилась. Стояла, смотрела на этот старый милый пуф и видела Марину, слегка присевшую отдохнуть и побеседовать с любимым каштаном, который с любопытством заглядывал ей в окно. В то время очень уставшую от жизненных передряг, с потухшим взглядом, бледную, с заметной проседью в волосах.
Захотелось подойти к ней и обнять. По-доброму, безо всякого сочувствия или жалости, которую бы она вмиг ощутила и не приняла.
В группе нас было человек пятнадцать. А я будто бы осталась в квартире наедине с Мариной.
Молчать и даже не дышать, а слушать и слышать тишину дома. Прочувствовать атмосферу её любимого раннего рабочего утра. Оградить от всех посторонних людей, сложных взаимоотношений, трагических обстоятельств жизни.
ТОЛЬКО БЫ ОНА ПИСАЛА!
Но…
Прощание с домом Марины тоже было трогательным.
В дар поэту и как великое признание звучали строки: «Бог, не суди, ты не был женщиной на Земле…», «Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес…», «Моим стихам, написанным так рано…», «Если душа родилась крылатой…» и много ещё.
Флоран сыграл на рояле и спел свои песни на слова Марины Цветаевой. Удивительный человек, однажды прочитав стихи Марины, полюбил их всем сердцем, выучил русский язык, чтобы читать стихи Цветаевой на её родном языке. Его любовью и живёт музей-квартира Марины Цветаевой в Ванве.
Спасибо, Флоран, за тёплый уголок вдали от Родины, за добрую память о русском поэте.
А я увозила с собой в Россию часть парижских душевных переживаний Марины Цветаевой.
И на долгую память в сумочке – каштаны Ванва.
Александр Балдёнков
г. Москва, Россия
Александр Балдёнков – это творческое имя Балденкова Александра Владимировича, которое отражает истинное звучание фамилии.
Родился Александр в 1952 году в селе Верхнее Мячково ближнего Подмосковья.
Интерес к естественным наукам и врожденные способности позволили Балденкову А. В. после службы в рядах Советской армии поступить на учёбу и окончить физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова.
Трудовая деятельность проходила на ин-женерных должностях в сфере производства изделий микроэлектроники, а также в области энергообеспечения зданий и строений одного из департаментов Правительства Москвы. В настоящее время он живёт и трудится в городе Видное Московской области.
Робкие попытки писать стихи в молодые годы не дали каких-либо результатов, а способность излагать свои мысли и чувства в стихотворной форме проявилась неожиданно уже в зрелом возрасте.
В большей части произведений Александра Балдёнкова отображается жизнеутверждающая позиция. С 2021 года член Российского союза писателей, неоднократно номинирован на различные премии в разделах «Поэзия».
Я в этот мир влюблен
Из детства
Показалось
Пострел
Пора домой
Осень на пороге
Фотоальбом
Осень… Ноябрь
«Ноябрь рисует дивную картину…»
Стою на распутье
Ответить хочется достойно
Сергей Беер
г. Екатеринбург, Россия
Сергей Беер родился в ноябре 1965 года, вырос на Урале. Окончил Ленинградский государственный университет. Трудовую деятельность начал в 15 лет. За свою жизнь сменил несколько профессий и городов. В настоящее время живёт и работает в Екатеринбурге.
В 2020 году вышел авторский сборник рассказов под общим названием «Фрески древнего храма» (издательство «Перо»), а в 2022 году издан роман «Без права на славу» издательством Общенациональной ассоциации молодых музыкантов, поэтов и прозаиков.
Взросление
Как-то совершенно неожиданно для самого себя Сашка в одночасье стал вдруг взрослым. По большому счёту ничего экстраординарного в его жизни не случилось. Солнце, как и прежде, светило днём и пряталось куда-то за горизонт на ночь. Папа по-прежнему ходил на работу, но в их квартиру перебралась жить бабушка, мамина мама, да сама мама, вернувшись из больницы, перестала ходить на работу. И всё это из-за того, что домой она принесла маленький сверток, который иногда издавал едва слышный писк. Теперь на том основании, что он стал старшим, ему запрещалось бегать по квартире и громко орать, когда он играл, скача на деревянной лошади и изображая всадника. Ещё до того, как мама вернулась из больницы, отец объявил ему о том, что у него появилась сестрёнка, а заодно заметил, что теперь Сашка уже большой и у него обязательно появятся свои обязанности. Когда же Сашка полюбопытствовал какие, отец пожал плечами и ответил: «Вот мать вернётся – узнаешь, а пока живи как жил». Но спокойная жизнь его закончилась очень скоро, а точнее, ровно через неделю после их разговора.
Кончился ноябрь. За окном по ночам завывала метель, а наутро отец, как и прежде, отводил Сашку в детский садик, иногда по пути отчитывая сына за какую-нибудь шалость.
Взрослость пришла в первый выходной. Бабушка стирала пелёнки, отца вызвали на работу, там случился какой-то аврал, мать кормила грудью пищащий кулёк, а ему было велено одеться и идти в магазин за молоком.
– Помнишь, мы летом с тобой ходили через дорогу мимо кладбища? – поинтересовалась у него мать.
– Помню. Было жарко, и ты мне мороженое купила.
– Вот и хорошо. Возьми бидон и деньги. Купишь молока и масла, а как вернёшься, пойдёшь за хлебом, а то отец вернётся, а нам кормить его нечем.
Сашка самостоятельно оделся, взял бидон и кошелёк с деньгами, молча вышел из дому и отправился за молоком. Пройдя через двор, он поздоровался с друзьями, что катались с ледяной горки, и, минуя первую дорогу, через два дома вышел ко второй. Если по первой дороге машины ездили крайне редко, то вторая была настоящей магистралью – машины то и дело сновали туда-сюда. Подойдя к перекрёстку, Сашка огляделся по сторонам и что было духу припустился бежать через дорогу. Теперь нужно было спуститься вниз к железнодорожному полотну и перейти через него. Сашка дошёл до гаражей и встал. Прямо на него выскочила незнакомая большая рыжая собака. Она обнюхала малыша и поняв, что у того ничего съестного нет, виляя хвостом, отошла в сторону. Переведя дух, Сашка перешёл железнодорожное полотно и ступил с широко очищенного тротуара на узкую тропинку, идущую вдоль кладбища. Тропа была хорошо натоптана, но всё же на ней могли разойтись два человека. Дорога мимо кладбища не пугала его, только когда была пустынна. Кладбище было уже старое, закрытое, в самом его конце стояла изба сторожа, в которой он и жил со своей семьёй, вот сторожа-то Сашка всегда и побаивался, даже когда шёл, держась за руку матери. Зимой тропа хорошо просматривалась с одного конца кладбища до другого. Сашка прошёл уже половину тропы, когда на неё вышел сторож. Он шёл по каким-то своим надобностям и направился прямо Сашке навстречу. Сердце мальчишки сжалось от страха, но он упрямо продолжал идти навстречу своей «опасности» с одной лишь мыслью: «Что же делать? Что же делать? Что же делать?» Но ничего придумать не мог. Вскоре они поравнялись.