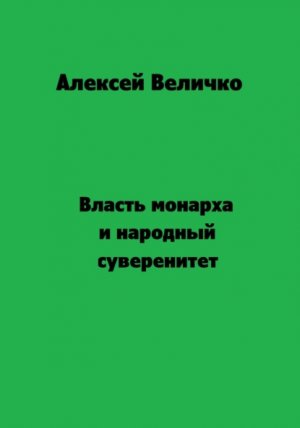
«У каждого политического строя, как и у разных живых существ, свой особый язык: один – у демократии, другой – у олигархии, а еще иной – у монархии».
Платон1
«Издание конституции всегда является юридическим актом, закрепляющим фактический переворот, заключающийся в сдвиге прежних держателей власти с их господствующих позиций и занятия этих позиций новыми общественными силами».
А.С. Алексеев2
«Демократия угрожает всем возвышенным историческим воспоминаниям, всякой умственной тонкости и оригинальности, но ее гегемония – несомненный факт, и человеческая культура должна суметь ужиться с ней».
С.А. Котляревский3
I
Издавна повелось считать общество, не имеющее законов, скопищем варваров. Ведь человек может считать себя свободным лишь под защитой единого для всех и беспристрастного ока Справедливости, которая воплощена в законах. «Откуда добросовестность, воздержанность, отвращение к позорным поступкам, откуда стойкость в трудах и опасностях? Все это исходит от тех людей, которые обычаями подтвердили одно, другое укрепили законами»4.
С покрытых сединой древности веков общеизвестно, что закон не только не позволяет сильному безнаказанного обидеть слабого, отобрать чужое имущество или жену, подчинить своей воле другого соотечественника, но и описывает тот объем личной свободы, «субъективных прав», которые государство предоставляет каждому своему подданному. «Создаются законы по той причине, чтобы страхом перед ними обуздывались людская испорченность, и чтобы жизнь невинных была безопасна среди преступников, и чтобы у дурных людей страхом наказания сдерживалось намерение нанести вред»5.
Нет государства, которое бы не создавало законы. А для этого в обществе должна присутствовать верховная власть, содержащая в себе три элемента: силу, возможность (или правомочие) распоряжаться ею, и субъекта власти, ее применяющего6. Власть творит законы, она же обеспечивает их повсеместное и точное исполнение, утверждает «права» и оберегает свободу человека.
Напротив, отсутствие у гражданина узаконенных «прав» – первый признак того, что власть безразлична к человеку, не признает его достоинства7. Стало быть, не всякая власть, даже вымостившая свой путь законами, радеет о человеке. И закон, исходящий от такой власти, способен вместо помощника и спасителя стать первым врагом человека, унизить его и уничтожить, как личность. История на самом деле демонстрирует немало примеров, когда она, наделив своего носителя абсолютными правомочиями, невероятно возвышает его над всеми. А этот избранник судьбы, не в силах противиться соблазну, впадает в остервенение вседозволенности, используя свое могущество для личного блага и, как следствие, во вред остальным лицам.
Неважно в данном случае, где ущемляются права других граждан – в религиозной, политической или экономической сферах. Важно другое: эти негативные события всегда имеют место, разница лишь в степени злонамеренности. Нет государства, полностью свободного от подобных злоупотреблений со стороны суверена8. Отсюда – один шаг до вопроса, который издревле постоянно терзает человека – как обезопаситься от самой верховной власти, своего «благодетеля-деспота»?9
С античных времен философы и правоведы мечтали найти такое политическое устройство, при котором верховная власть не будет прибежищем тиранов. Обычно полагали, и с этим в известных пределах трудно спорить, что основная проблема заключается в форме правления: есть «правильные», а есть и наоборот. С присущим им академизмом Платон (428-348 до Р.Х.) и Аристотель (384-322 до Р.Х.) подробно описали каждое из всех существующих в их время10. Впрочем, все они повсеместно встречались и в последующие века, человечество ничего кардинально нового с тех пор в этой области не изобрело. Однако поиски политического «философского камня» так и не привели к формированию единого мнения на сей счет.
Для кого-то оптимальной формой правления мыслилась выборная, представительная демократия, рожденная в недрах республики. Их оппоненты утверждали, что единственно правильной является непосредственная демократия. Другие, как многомудрый Платон, считали, что совет старейшин – философов, познавших истину и обладающих большим жизненным опытом, не имеет себе альтернативы. Третьи доверчиво отдавали свои симпатии абсолютной, неограниченной монархии, полагая, что нравственные заповеди, черпаемые единоличным правителем, монархом, из народного религиозного культа, – лучшая преграда против безумств «власти толпы», охлократии. А четвертые ратовали за такое государственное устройство, которое соединяет в себе частично все формы правления. Пожалуй, только олигархия, или совместное правление небольшого числа самых обеспеченных лиц в государстве, не снискала поклонников. И термин «семибоярщина» по сей день в русском языке является символом самого беспощадного политического эгоцентризма, когда о благе народа следует решительно забыть.
Впрочем, объективность обязывает заметить, что, оставаясь безучастной к горячим теоретическим дебатам, именно абсолютная монархия в форме теократии, основанная на Божьем Законе, олицетворяющая царя с Творцом, государство – с Царством Небесным, многие века на практике занимала доминирующие позиции практически повсеместно. Людям казалось бесспорным, что «без Бога свет не стоит, без царя земля не правится»11. Причем, не только в христианских обществах, но в не меньшей степени в мире ислама, иудаизма, да и во многих государствах, где господствовали языческие культы.
Естественно, что источником верховной политической власти, абсолютной по причине отсутствия каких-либо альтернатив ей, признавался Бог. Монарх же, как Его «тень на земле», викарий Христа или наместник Аллаха, в частности, являлся сувереном своей самодержавной власти. Для всех было бесспорно, что исключительно через царя власть, данная Богом, реализуется в государстве и порождает закон, защищающий свободу граждан12.
Едва ли кто-то сомневался в том, что «права государственной власти во всем их объеме принадлежат государю; нет той сферы управления, которая не была подчинена его самодержавию», а «особа монарха изъята от действия общих законов государства – princeps legibus solutus est»13.
Так длилось веками, но с течением лет интеллектуалов начали стеснять узкие рамки гражданского верноподданничества, подкрепленного религиозной санкцией. Особенно на фоне повсеместной и подчас неистовой борьбы за верховную власть, которая бурно кипела там и здесь вне зависимости от конфессиональной и этнической принадлежности государств, а также примеров нарушения свобод и интересов рядовых граждан. Чем, разумеется, нравственное достоинство верховной власти в народном сознании отнюдь не укреплялось.
Нежелание мириться с таким положением дел привело к возникновению самых разных политических теорий, из которых одна довольно скоро снискала статус единственно правильной – мы говорим о «правовом государстве». Главная идея, выпестованная родоначальниками этой доктрины, заключается в том, что не религия, не экономика и не что иное, а только закон, ставший критерием действий и поступков верховной власти, способен укротить деспотизм и положить начало новому, свободному существованию человека. Казалось бы, в этих словах нет ничего нового, и в известной степени словосочетание «правовое государство» – тавтология, поскольку государство всегда издает законы. Однако нужно учесть два важных обстоятельства.
II
Логически рассуждая, несложно понять, что стать критерием действий верховной власти закон имеет шанс лишь в том случае, когда он возвышается над ней. Это – во-первых. А, во-вторых, нельзя забывать, что в то время, когда эта доктрина возникла и набирала силу, равно как и своих приверженцев, практически все ведущие государства мира являлись монархиями. И требования ученых правоведов укротить верховную власть следует понимать сугубо предметно, как желание подчинить закону монарха, а не верховную власть вообще. К чему говорить об абстракциях?! Эта особенность новой теории обнаруживается без особого труда при ознакомлении (пусть даже и выборочно) с работами наиболее известных идеологов правового государства.
С глубоким убеждением австриец Георг Еллинек (1851-1911), например, утверждал, что далеко не всякая верховная власть, издающая законы, может быть признана отвечающей идеалу человеческой свободы, а только та, которая эту свободу уважает и защищает. А для этого она не только должна быть основана на законе, но подчинена ему14.
Другой признанный мэтр юриспруденции, наш соотечественник Б.А. Кистяковский (1868-1920) также убеждал: в том-то и отличие правового государства от любого иного, что в нем господствуют не лица, а общие правила и правовые нормы; власть в нем организуется и осуществляет свои полномочия исключительно в силу правовых норм15.
Встречались и парадоксальные идеи, суть которых заключалась в том, что в правовом государстве вообще нельзя говорить о суверенитете верховной власти. «В правовом государстве не существует ни суверенной власти, ни суверенного органа, а существует лишь суверенный закон»16.
Заметим: речь идет вовсе не о том, чтобы верховная власть соблюдала принятый ею же закон, это естественное и безусловное правило никто и не собирался отменять, а именно о необходимости подчинить ее закону. «Чтобы государство стало правовым, – присоединялся к ним еще один известный правовед, – должна быть ограничена сама государственная власть (выделено мной. – А.В.). Государственная власть признает в своих отношениях к подданным известный предел, перейти который она не вправе. Сущность заключается в том, что признанием за подданными этих прав государство добровольно ограничивает свою власть»17.
Но как «связать» верховную власть правом, если она же его и создает!? – вот в чем вопрос. Кто же будет действовать себе во вред?! Ответ нашелся довольно скоро: чтобы лишить монарха «права законодательной вседозволенности», родоначальники новой политической философии предложили поместить над ним другого законодателя. Законотворца, не претендующего ни на какие другие властные прерогативы, причем, обязательно коллективного, т.е. парламент, который стал бы выразителем народных чаянием, «голосом народа». Именно он должен ввести монарха в «правовое поле»18.
Таким несложным способом не только отделили монарха от законотворчества, но произвели настоящий политический переворот в государствах (правда, пока лишь теоретически, но вскоре и практически): некогда самодержавный правитель более не мог считаться единоличным носителем верховной власти, поскольку законотворчество всегда признавалось ее важнейшим атрибутом.
Коллективный характер нового органа власти, по сути, являлся логически и исторически неизбежным: бессмысленно над монархом-законодателем ставить другого, такого же единоличного творца права. А, кроме того, задолго до рождения идеи правового государства, при монархах всегда существовали некие органы, представлявшие собой различные сословия. Однако они не принимали от своего имени законы. Хрестоматийный пример являли, в частности, Генеральные Штаты Французского королевства, история которых «была лишь рядом резких порывов и глубинных падений. Ни в какую эпоху Штаты не играли решающей роли; в продолжении долгих периодов они стушевывались перед блестящей звездой королевской власти»19.
Весьма любопытна в этом отношении практика деятельности испанских кортесов (соборов), ставших на несколько веков своего рода органом представительства сословий. Кортесы обладали довольно широкой компетенцией: согласно испанским обычаям и некоторым правовым актам, все законы должны были издаваться или отменяться лишь при условии их обсуждения с ними. Однако законодателями в буквальном смысле слова кортесы назвать было нельзя.
Во-первых, присутствие короля в кортесах было обязательным, без него само собрание юридически считалось несостоятельным. Во-вторых, созывались кортесы самим королем и по мере необходимости, определяемой им же. В-третьих, хотя кортесы и обсуждали проекты законов, причем довольно содержательно, а не только совещательно, однако помимо тех законов, которых принимались с их участием, существовало чрезвычайно широкое и разнообразное законодательство короля. На которое никакие ограничения не распространялись и носившее черты централизованного правового регулирования, в то время как кортесы стремились сохранить максимально долго местные узаконения20.
Теперь же парламент насытили новыми полномочиями, разумеется, за счет монарха. Обосновать необходимость этой замены было непросто, и ради достижения столь высокой цели сделали то единственное, без чего все подобные попытки рассыпались в пепел – решительно отказались от каких-либо религиозных основ верховной власти, десакрализовав ее. Как следствие, Бог перестал признаваться источником верховной власти как бы безотносительно того, идет ли речь о монархии или о верховной власти в государстве вообще.