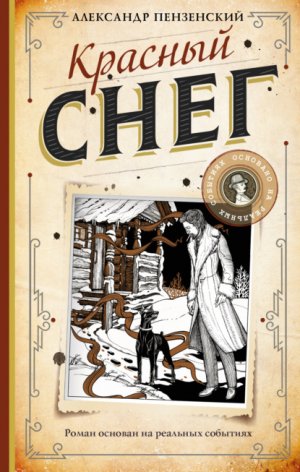
© Пензенский А., 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2023
Часть 1
21 февраля 1912 года. Деревня Поповщина, Порховский уезд Псковской губернии. 14 часов 36 минут
Константин Павлович Маршал полулежал в санях, заканчивая описание места преступления. Конечно, в просторном тереме, за тяжелым дубовым столом, рядом с еще не остывшей печкой писать было бы сподручнее – и опора для блокнота была б понадежнее, и карандаш в пальцах не дрожал бы от февральского холода. Но внутри отвратительно пахло кровью и убоиной, этих ароматов за всю свою службу в полиции Маршал спокойно переносить так и не научился, потому и ютился сейчас в крестьянских санях, поминутно дыша на окоченевшую руку и часто чихая то ли от мороза, то ли от пыльного сена, которым было для комфорта седоков устлано дно. Наконец, поставив последнюю точку, Константин Павлович быстро натянул на правую руку перчатку, спрятал карандаш и пробежал глазами по строчкам:
«Место осмотра – деревянный усадебный дом крестьянина Осипа Симанова в деревне Поповщина Порховского уезда Псковской губернии.
В главной комнате два трупа – сам хозяин Симанов и сын Устин. Мужчины сидят за столом, руки и ноги связаны. Судя по характеру ранений, зарезаны ножом. На столе следы ужина: две пустые водочные бутылки, миски с закуской, кружки. Вскрыт сундук, и вывернута половица. Других следов обыска нет – по-видимому, грабители знали, где искать.
В соседней комнате на кровати у печки жена Устина Дарья и двое детей, мальчик и девочка, на вид погодки лет шести-семи. На печи еще четверо ребятишек: три девочки, возраст от трех до пяти лет, и мальчик, лет пяти. И Дарья, и дети зарублены топором».
Константин Павлович прикрыл глаза, вздохнул. Очень хотелось закурить, но пока было нельзя. Рядом нетерпеливо перебирал передними лапами Треф, однако голоса не подавал, ждал.
«У крыльца дома шагах в трех по направлению к воротам еще одно тело – батрака Алексея Боровнина. Мужчина лет двадцати, без пальто, без обуви, в одной рубахе и штанах. Лежит лицом вниз. На правой щиколотке кусок веревки, похожей на ту, которой связаны отец и сын Симановы. Схема дома и дворовой территории с расположением предметов мебели и тел убитых прилагается. Имена убитых записаны со слов судебного следователя Волошина, подтверждены свидетельницей Анисьей Худобиной, в девичестве Симановой, сестрой убитого хозяина дома. Она их и обнаружила утром».
Маршал спрятал блокнот в карман пальто, машинально вытащил папиросы, сунул одну в рот, пожевал мундштук, хлопая себя по карманам в поисках спичек. Треф укоризненно зарычал.
– Да-да, прости, брат, задумался.
Папироса отправилась обратно в портсигар. Константин Павлович еще раз оглядел припорошенный свежим снегом двор, осторожно, стараясь ступать по уже оставленным следам, поднялся на крыльцо, обреченно вздохнул и взялся за дверную скобу.
Оказалось, что переживал он из-за уличного холода напрасно: избу за полдня уже достаточно выстудило, и в горнице было чуть теплее, чем в неотапливаемых сенях, но и страшного запаха из-за понизившейся температуры тоже почти не осталось. Можно было почти с комфортом провести более тщательный осмотр скорбного места.
Людей в главной комнате было шестеро. Двое уже посиневших убитых так и сидели за столом, обреченно свесив бородатые головы. Трое представителей местной власти занимались всяк своим делом: упомянутый в записке Маршала судебный следователь Волошин монотонно перечислял домашнюю утварь; волостной писарь, примостившись на краешке стола, записывал слова начальника в опись, а перетянутый ремнями усатый урядник сидел на лавке, закутавшись в шерстяной башлык, и дремал, разинув рот. А на кровати жевала кончик платка и тихо всхлипывала та самая Анисья Худобина, сестра хозяина дома.
Волошин поднял было голову, заслышав шаги, замолчал, ожидая распоряжений от столичного сыщика, но Константин Павлович махнул рукой – продолжайте, мол. И следователь снова забубнил:
– Иконы старинного письма – три. Богоматерь с Младенцем, Спаситель и Николай Угодник. Надобно составить перепись имущества, Константин Павлович, а то ведь растащат соседи.
Анисья отчаянно закивала головой, подтверждая непорядочность односельчан.
– Да-да, Карп Савельевич, все верно. Работайте.
Маршал отдернул цветастую занавеску, отделявшую спальную часть избы от обеденной, подошел к железной пружинной кровати. Симановы жили зажиточно, это было понятно еще по подворью с новыми, справными сараями и закутами. Вот и железная кровать с шарами – редкость для простого крестьянского дома – тоже подтверждала хороший достаток хозяев.
Маршал отогнул край льняного покрывала, которым были укрыты тела снохи Симанова и старших внуков. Поперек лба Дарьи наискось, от центра к правой глазнице, теперь пустой, шел глубокий рубец, уже почти черный. Где-то в глубине просвечивало светло-серое – удар был такой силы, что пробил лобную кость до самого мозга. И мальчик, и девочка, все беленькие, словно созревшие одуванчики, были умерщвлены тем же ужасным способом. Константин Павлович полностью убрал покрывало, осмотрел тела – иных следов насилия не обнаружилось. Внимательно изучил руки убитых – ногти грязные, но грязь бытовая, крестьянская. Похоже, убили всех во сне, сноха и дети не сопротивлялись. Но как не проснулись? Вот вопрос. Все-таки не одного человека по голове топором рубанули. Поправив распахнувшуюся на груди Дарьи нижнюю рубаху, снова укрыл кровать, перешел к полатям.
Четверо щупленьких детских тел лежали кто как: кто на боку, подсунув маленький кулачок под щеку, кто на животе, выставив только конопатый нос из подушки, кто на спине. И все со страшными ранами на таких же светлых головах. И все так же, как и на кровати, – судя по положению тел, детей порешили спящими. Мистика!
Маршал вернулся в главную комнату.
– Сундук кованый, пустой. Петли и замок навесной не сбиты, открыты ключом. Связка тут же, на полу, – продолжал бубнить следователь.
Константин Павлович подошел к столу, за которым, видимо, накануне бражничали отец и сын. Поднес к носу бутылку – водка, безо всяких посторонних запахов. На столе глиняная расписная махотка с квасом, миска с солеными черными груздями, квашеная капуста, начатый каравай серого хлеба, семь оловянных кружек, пять рюмок зеленого стекла. Маршал по очереди понюхал каждую – тот же водочный запах. Стало быть, хозяева выпивали с убийцами. С тремя. Или с двумя – если убитый у крыльца работник допускался к хозяйскому столу.
– Старков!
Начавший уже похрапывать урядник вздрогнул, вскочил на ноги, громыхнув шашкой, вытянулся и вытаращил подобострастно глаза: вот он я, готов исполнять любое поручение, вашбродь!
– Ступайте на улицу, проверьте, есть ли водочный запах от Боровнина. Только самого не трогайте, хоть рядом ложитесь, чтоб унюхать.
Старков прогрохотал подкованными сапогами мимо, чуть не опрокинув стул, а Маршал вернулся к убитым. Приподнял одну голову, вторую, опустился на корточки, посчитал окровавленные дыры на исподних рубахах. На каждом почти по десятку, будто не убивали, а исступленно наказывали. Руки у обоих сзади связаны, узлы непростые, похожи на морские. Константин Павлович достал нож, аккуратно срезал веревку – в Петербурге покажет знакомому капитану.
Сзади снова забухали подковы.
– Смею доложить, так точно! Дух водошный, как есть он.
– Значит, двое, – пробормотал Маршал.
А на очередной вопросительный взгляд Волошина бросил:
– Заканчивайте. Пусть урядник с господином писарем соберут в общей избе мужиков и попа, эту даму тоже туда, – он кивнул на Анисью, – а вы упакуйте посуду, остатки еды и питья и выходите – мы с вами собаку выгуляем. Дом запереть.
Писарь с урядником собрались в секунду – видно, соседство с таким количеством мертвецов им тоже радости не доставляло. Не дожидаясь, пока следователь закончит с посудой, Константин Павлович вернулся на двор, склонился над убитым Боровниным. Молодой человек лежал на животе, головой к воротам. Видимо, пытался сбежать, но злодеи настигли. Сбоку на спине вокруг прорехи на красной полинялой рубахе расползлось темное пятно. Маршал задрал рубаху – удар один, видимо, точно в печень. Перевернул тело на спину, посмотрел на молодое, почти юное лицо: мокрые от снега волосы смерзлись в сосульки, над верхней губой мягкие усы, почти пух. Пожалуй, двадцать в записях надо исправить лет на восемнадцать, а то и того меньше. Кулаки сжаты, костяшки побелели. Из правого торчал какой-то кусок темной материи. Константин Павлович с трудом разжал заиндевевшие пальцы, вытянул обрывок ткани – рубашечный карман.
– Треф, ко мне!
Пес радостно сорвался с места, подбежал к хозяину, завилял хвостом. Маршал сунул ему под нос свою находку:
– Ищи, мой хороший. Ищи.
Треф с готовностью прилип к земле черным носом, забороздил порошу, закружил, петляя, по двору, обежал лежащего покойника, потыкался в ворота конюшни, поскреб доски, но вернулся к крыльцу, понюхал воздух, ступеньки, уселся у нижней, чихнул и радостно рявкнул.
– Ну-ка, что здесь?
Константин Павлович аккуратно смахнул свежий слой снега, вытащил промокший окурок, протянул вышедшим из дома Волошину и Анисье.
– Хозяева курили?
– Упаси бог, – осенила себя баба. – Это ж расход какой. Осип Матвеич прижимистый был, царствие небесное. Выпивать и то не на свои старался.
Маршал поднес промокший окурок к глазам – лафермовский «Зефир» № 100, недешево. Бережно спрятал находку в портсигар, широкими шагами пересек просторный двор, дернул ворота конюшни, которые Треф минутой раньше пытался открыть. Прямо за плечом его ахнула Анисья и запричитала в голос:
– Ой, батюшки святы! Лошадей! Лошадей увели, анчихристы! И сани, сани новые, железом подбитые! Да что ж это делается, Осип Матвеич? Ох, глазоньки твои ясныя хучь не видят, какая беззакония тут творится!
Константин Павлович обернулся к голосящей бабе, крепко тряхнул ее за плечи. Та испуганно ойкнула, но замолчала – только широко хлопала на сердитого барина белесыми ресницами и беззвучно разевала рот.
– Сколько было лошадей? Какой масти? Сани какие?
Пока Анисья перечисляла все достоинства двух уведенных убийцами лошадей и подводы, Константин Павлович следил за Трефом. Тот, увидев, что первую находку хозяин забрал, за ним к конюшне не пошел, а недолго покрутился у крыльца, снова по дуге обошел убитого батрака, протрусил к воротам усадьбы и опять уселся, глядя на струганые доски. Обернулся на Маршала, громко гавкнул и толкнул тяжелой лапой сосновую створку.
– Идемте, Карп Савельевич. Прогуляемся по округе. А вы, – он оглянулся на Худобину, – ступайте в деревню, там ждите.
Треф привел их недалеко – в соседний редкий лесок. Под высокой сосной ясно были видны следы двух человек, валялись окурки попроще – дешевый «Добрый молодец». Шедший ночью снег не замело под мохнатые ветки, но в пяти шагах от сосны следы пропадали, а у дороги Треф и вовсе потерялся: заметался, заскулил и в конце концов улегся у придорожного сугроба, спрятал голову в лапы, понимая, что подвел хозяина. Константин Павлович подошел к расстроенному другу, потрепал по мохнатому загривку.
– Не переживай. Ты молодец. Дальше мне придется поработать.
Маршал присел над следами, вытащил блокнот, карандаш, зарисовал отпечатки обуви, тщательно перенес рисунок подошвы, набойки, сверил количество гвоздиков, снял размеры портняжным метром, поднялся. Наконец-то можно было закурить. Константин Павлович все-таки отошел от собаки, стянул перчатки, чиркнул спичкой, с удовольствием выпустил в морозное небо погустевший от табачного дыма пар, прислушался к себе. Внутри тугим комком сидело странное, но приятное чувство, ожидание чего-то хорошего, что еще не свершилось, но вот-вот произойдет. Или уже наступило, но разум еще не привык, не поверил в случившееся. Странно. Он только что видел последствия ужасного зверства, не время вроде бы для подобных эйфорических ощущений. Последние два года похожее чувство посещало его очень редко. И вот уже третью неделю оно бьется где-то чуть ниже солнечного сплетения, нарастает, подрагивает, как тишина внутри колокола, когда язык его уже набирает амплитуду, но еще не ударился о медный свод. Мысли снова вернулись в тот декабрьский вечер, перед глазами опять замелькали языки пламени…
23 декабря 1911 года. Стрельна. 21 час 17 минут
…В камине уютно трещали березовые поленья, всполохи огня еле освещали небольшую гостиную деревянного дачного дома, не дотягиваясь до притаившихся в углах темных пятен. Живые отблески причудливо играли с тенями на спокойном лице молодого мужчины, сидевшего в кресле напротив огня, отражались в задумчивом взгляде карих глаз, золотистой охрой подкрашивали и без того рыжеватую бороду. Вот он чуть качнулся вперед, вырвался из объятий мягкого кресла, пошевелил кочергой начавшие покрываться пепельным инеем угли, подкинул пару черно-белых чурбаков. Ухватил каминными щипцами небольшую головешку, запалил от нее папиросу, выдохнул облачко ароматного дыма и снова откинулся в кресле.
Дремавший почти у самой решетки Треф сонно поднял голову, укоризненно посмотрел на хозяина, чихнул. Потом потянулся и медленно, с достоинством вышел из комнаты. Он не любил табачного запаха.
Константин Павлович рассеянным взглядом проводил пса, бросил недокуренную папиросу в огонь. За окнами большими пушистыми хлопьями на стрельновскую землю опадал с черного неба девятьсот одиннадцатый год. Маршалы, Константин с Зиной, больше двух лет не были в Петербурге, и, когда жена предложила встретить очередное Рождество, а с ним и Новый год в столице, Константин Павлович сначала обрадовался, а потом испугался. Обрадовался, потому что ужасно соскучился по сырому балтийскому воздуху, по непредсказуемой северной погоде, способной в декабре разлиться оттепелью с плачущими сосульками и слепящим солнцем, а в мае выплюнуть из синюшного облачного подбрюшья под ноги горожанам последние порции снега. А испугался того, что от знакомых и любимых видов, от запахов проходных дворов, от желтого ледяного сала Мойки прорвется тугой нарыв – и не сможет он вернуться в тихий и покойный Елец.
Осенью десятого года к ним на неделю приезжал Филиппов с сыном Владимиром. Поудили рыбу в Сосне, сходили на куропаток – Треф был в восторге, от Филиппова не отходил. Маршал видел, что Владимир Гаврилович хочет, но не решается задать какой-то вопрос. И догадывался, какой именно. И был благодарен ему за то, что вопрос так и остался незаданным.
Потому теперь и не стали они с Зиной останавливаться в самом городе, а сняли маленькую дачу в Стрельне. Прибыли двадцатого декабря инкогнито, никого из старых знакомых не предупредив, и прямо с Николаевского вокзала укатили на Балтийский, к Петергофскому поезду. Два дня провели в прогулках, катании в санях, вечерами сидели у камина и подолгу молчали, глядя на огонь. А на третий Зина не выдержала.
– Значит, так, муж! – В моменты острого недовольства Константином Павловичем она обращалась к нему именно так. – Или ты немедленно отправляешь Владимиру Гавриловичу телеграмму, что мы здесь, и вечером мы ужинаем где-нибудь в городе, или я сама ему напишу! Ни на каких других условиях я не готова больше созерцать твою приторную физиономию! Я же вижу, что под этой маской ты постнее черной ковриги!
Маршал улыбнулся, поцеловал угрожающе выставленный указательный палец жены, обнял ее.
– А еще лучше – прямо сейчас едем в город. Я пока пройдусь по магазинам, а ты нанесешь визит-сюрприз.
Но сюрприз ожидал самого Маршала. И крайне неприятный. В Казанской части он не застал ни Филиппова, ни доктора Кушнира. Дежурный сказал, что начальник с доктором отбыли по службе куда-то за город и сегодня уже не появятся. А на вопрос о Свиридове последовал и вовсе оглушительный ответ: «Господин Свиридов в Казанской части больше не служит, так как числится погибшим уже четвертый месяц».
Ошеломленный новостью, Маршал долго курил на Львином мостике, не обращая внимания на холод и копящуюся во рту горечь, молчал всю обратную дорогу до Стрельны, не замечая испуганных взглядов Зины, а теперь сидел у камина, смотрел в огонь и тщетно пытался не пропустить в мысли воспоминания.
Треф в прихожей поскреб входную дверь – просился на улицу. Константин Павлович с неохотой поднялся, вышел из комнаты, сменил у рогатой вешалки халат на пальто с меховым воротником, натянул бобровую шапку, взял поводок и открыл дверь. Треф радостно взвизгнул, выскочил во двор и, словно лошадь после долгой скачки, закатался, приминая пушистый снег и фыркая от удовольствия. Через минуту вскочил на лапы, стряхнул налипшую «седину», прижал голову к земле и требовательно гавкнул на хозяина – он любил, когда тот швыряет носком ботинка в его сторону снег, а он, громко лая, ловит на лету белую россыпь.
– Пойдем со двора, дурачок, а то Зину разбудим.
Вдоль улицы мирно горели фонари. Искрясь в их желтом свете, медленно падали крупные снежинки, увеличивая тяжесть еловых веток, белые шапки дачных домиков и заметая свежий санный след.
Треф галопом домчал до угла, обернулся на Маршала, мигом вернулся обратно.
– Гуляй, гуляй, – улыбнулся Константин Павлович. – Сегодня без уроков обойдемся.
Пес благодарно мотнул черной башкой, снова умчал далеко вперед.
Маршал медленно отправился за ним. Морозный воздух взбодрил, разогнал мысли до их привычной скорости.
«Завтра же утром нужно будет позвонить со станции в Казанскую. Что за мальчишество, ей-богу! В конце концов, это просто неприлично – приехать и не объявиться. А в свете последних известий так и вовсе не по-товарищески».
Он свернул за угол, туда, куда несколькими минутами раньше умчался Треф, – и удивленно приподнял правую бровь: в конце дачной улочки прямо посреди пятна света Трефа трепал по загривку какой-то мужчина, а пес так молотил хвостом, что поднял небольшую метель. Константин Павлович ускорил шаг, сокращая расстояние между собой и разгадкой такого странного поведения обычно сдержанного Трефа, – и вторая бровь отправилась догонять первую.
– Треф, красавец, ты что же здесь делаешь? – не переставая гладить собаку, приговаривал Филиппов. – Где твой хозяин, дружище?
– Владимир Гаврилович?
Филиппов выпрямился, указательным пальцем отправил котелок на затылок, развел руки.
– Вот и не верь после этого в рождественские чудеса! Вы откуда здесь взялись, голубчик? Да еще и с собакой? – И, не дожидаясь ответа, шагнул навстречу, стиснул Маршала в объятиях. – Вы даже не представляете, как вы кстати. Да еще со своим нюхачом. – Он кивнул на прыгающего рядом Трефа. – У нас тут есть для него работа.
Только теперь, слегка оправившись от первого потрясения, Константин Павлович заметил, что у раскрытых ворот одной из дач стоит городовой, а во дворе слишком оживленно для такого позднего часа – часто вспыхивал магний и кто-то покрикивал:
– Да не затопчите, болваны! Вот хороший отпечаток, снимайте, Маленков!
Филиппов взял Маршала под локоть, завел во двор.
– Что же это вы, голубчик, никак решили Рождество на даче встретить? И не упредили? Нехорошо.
– Да я, собственно… Мы…
– Ладно-ладно, после оправдание придумаете. У нас тут вот какая петрушка – третью дачу за декабрь грабят. Почерк один и тот же: приходят вечером, буквально сразу, как хозяева свет гасят, стучат в дверь, якобы срочная телеграмма, – тут сплошь люди служилые, подобным визитам не удивляются. Хозяин уже ко сну готовится, в халате отпирает, а ему дуло в лицо. Мужчин связывают, женщин и детей, если таковые наличествуют, запирают в одной комнате. С барахлом не возятся, уносят только деньги, драгоценности, столовое серебро. Обычно полиция узнает уже утром: пока хозяева от мудреных узлов освободятся, пока доберутся до станционного отделения, пока нам сообщат – ищи ветра в поле. Но сегодня звезды сошлись: во-первых, дача телефонирована, а во-вторых, две превосходные ищейки в помощь моей седеющей голове! Роман Сергеевич!
Из темноты двора вынырнул высокий, будто каланча – и такой же прямой, – мужчина, быстрым шагом приблизился к Филиппову с Маршалом, всем своим видом выражая готовность внимать и исполнять.
– Вот, Константин Павлович, ротмистр Роман Сергеевич Кунцевич. Из армии к нам.
Маршал пожал протянутую руку, а Филиппов продолжил:
– А это Константин Павлович Маршал, замечательный человек и превосходный сыщик. Ну да я вам рассказывал о нашем последнем деле. А вы ему, будьте добры, расскажите о сегодняшнем. Хотя давайте уж обо всех.
Кунцевич уже с большей заинтересованностью посмотрел на нового знакомого, заговорил короткими, рублеными фразами:
– Первое ограбление случилось на даче доктора Ганзе в Лесном шестого декабря. Под вечер постучали в дверь, сказались почтальоном. Открыл сам доктор. Ворвались трое. С пистолетами. Доктора и сына-гимназиста связали. Супругу доктора, дочь и горничную заперли в спальне. Забрали деньги из бумажников, сняли с женщин драгоценности, выгребли из буфета вилки-ложки и ушли. Второй случай в Царском Селе, десять дней назад. То же самое: поздний вечер, телеграмма, хозяина и зятя в путы, женщин под замок. Забрали наличность и все блестящее из столовой и с жильцов, даже обручальные кольца стащили. Сегодня очередь Стрельны. Только четверо. Ни в одном из случаев даже не обыскивали дачи, работали быстро, дерзко, но вежливо.
– Спасибо, Роман Сергеевич. Треф, голубчик, подсоби нам.
Треф с готовностью вывесил розовый язык.
– Тут у нас на крыльце замечательные отпечатки. – Филиппов указал на ступеньки.
Константин Павлович с сомнением покачал головой:
– Не уверен, Владимир Гаврилович. Весь день снег валил. Но он попробует.
Треф попробовал. Обстоятельно обнюхал следы, поводил черным носом, выбежал на улицу, покружил у калитки, потрусил к главной улице. Но там расстроенно заскулил: потерял запах.
– Видно, здесь ждала повозка. Причем, скорее всего, без возницы – видите, – Маршал указал на припорошенные следы копыт и полозьев, – лошадь топталась, дергала сани туда-сюда. Думаю, тянулась к еде.
Он указал на свисающие со стороны участка обломанные ивовые ветки с остатками сухой листвы. Потом пошел вдоль забора из штакетника, приглядываясь к доскам.
– Вот! – Он радостно ткнул пальцем в угловой заборный столб. – Смотрите! Тут были привязаны вожжи.
На столбе был виден круговой глянцевый след.
– Странно. Оставить лошадь без присмотра. – Филиппов покачал головой. – Очень странно.
– Думаю, бандиты не сильно доверяют друг другу. Вернее даже, не доверяют новенькому.
– Новенькому?
– Конечно. Господин Кунцевич же отметил, что сегодня было четверо грабителей. А до этого речь шла о троих. Потому и пошли все вместе. Проверяли новичка в деле.
Кунцевич уважительно посмотрел на говорящего Маршала.
– Видите, какую светлую голову потерял столичный сыск! А вы, ротмистр, мне не верили, – хитро улыбнулся Филиппов…
…Константин Павлович чертыхнулся, дернул рукой – подкравшийся огонек ужалил за пальцы. Он так глубоко погрузился в воспоминания, что забыл про зажженную папиросу. Обернулся на Волошина – тот деликатно молчал, не решаясь прервать мыслительный процесс столичного сыщика. Маршалу стало неловко: от него ждут дедуктических выводов, а он ностальгированием занимается. Откашлявшись, Константин Павлович резюмировал:
– Возвращаемся. Здесь все ясно.
Свистнул Трефу и зашагал обратно к деревне.
21 февраля 1912 года. Деревня Поповщина, Порховский уезд Псковской губернии. 15 часов 14 минут
В общинной избе набилось столько народа, что маленькие окна покрылись тяжелой испариной, заслезились. Мужское население Поповщины курило, и, судя по колющему глаза дыму, табачок был местный, ядреный. Бабы, сгрудившись на задних лавках, разбавляли аромат самокруток сладковатым запахом подсолнечника. С трудом протиснувшись между овчинных тулупов и полушубков, Маршал с Волошиным уселись за поставленный напротив собравшихся селян стол, возле которого уже обосновались урядник Старков и волостной писарь – черт знает как его зовут, Константин Павлович поленился лезть за записной книжкой.
Появление двух новых людей для взбаламученных поповцев прошло незамеченным – гомон не затих. Мужики басовито переговаривались в полную глотку, бабьи голоса пробивались через этот набатный гул бубенцовым перезвоном. Константин Павлович попробовал интеллигентно покашлять, привлекая внимание, но порядок сумел восстановить только урядник – он поднялся во весь свой огромный рост, громыхнул об пол ножнами и гаркнул:
– Тиха!!!
«Тиха» стало так, что было слышно, как у сидящих в переднем ряду трещит, сгорая, в козьих ножках табак.
Маршал тоже поднялся, расстегнул шинель.
– Добрый день.
– Куда уж добрее, – буркнул кто-то из настороженной толпы.
– Согласен. Меня зовут Константин Павлович. Я прибыл к вам из Петербурга по просьбе псковской полиции расследовать ужасное злодеяние, которое произошло сегодня ночью. Господин урядник, я вас просил собрать только мужчин.
С задних рядов разом возмутилось несколько женских голосов:
– Это по какому такому закону одних мужиков-то?
– У нас тутоть не по бородам считают!
– Чай, у Симановых-то не токма мужиков порешили, баб тоже хоронить придется!
Волошин вскочил, зашептал быстро на ухо Маршалу:
– Константин Павлович, у нас бабы бойчей мужиков будут, попробуй их удержи по домам-то, когда такая страсть творится. Да и наблюдательнее они, чем наши сивобородые.
– Да я ведь не против, Карп Савельевич, но как же в таком содоме работать?
– А это мы сейчас все устроим, тут вы не переживайте. Брат Илья!
С пристенной лавки взвился сутулый дьячок, просеменил к столу, угодливо задрал бороденку.
– Ты вот чего, – затараторил ему следователь, – твоя избенка тут рядышком. Давай-ка, беги, отворяй. Мы сейчас с господином Маршалом подойдем, будем у тебя следствие чинить.
Дьяк Илья вьюном просочился между людьми и выскочил из избы.
– Старков!
Урядник опять вскочил.
– Будешь сопровождать по одному к дьячку в дом. Как сам Илья вернется, так приведешь следующего. Расступись!
Он махнул рукой на толпу, и та и вправду разошлась, словно море перед Моисеем. С весьма довольным видом Волошин двинулся первым. В арьергарде оказался писарь, Маршал шагал посередине. Уже подходя к выходу из комнаты, Константин Павлович будто налетел на невидимую преграду, споткнулся о чей-то взгляд. Из самого угла избы из-под нахмуренных бровей на него неотрывно смотрели угольно-черные глаза. Лоб женщины был затянут траурным платком, плотно сжатые губы вытянулись в тонкую линию, а само лицо было каким-то неживым, неестественно бледным даже для зимы. Удивляло еще то, что в тесно набитом помещении около хозяйки обжигающего взгляда осталось свободное пространство. Но удивляться пришлось всего мгновение – ноги Маршала сами перенесли его через порог, и странная связь оборвалась.
Домик дьячка был маленький, покосившийся, калитка еле держалась на истертых ременных петлях, да и внутри было пустовато и неухоженно. По всему виделось, что жил Илья один и в божью помощь верил больше, чем в умелость собственных рук. В единственной комнате половину пространства занимала русская печка с замызганной занавеской, скрывающей от посторонних глаз ложе хозяина. У одинокого окна ютился небольшой стол, укрытый грубой льняной холстиной, а вместо стульев Илья и вовсе приспособил два березовых чурбака. Хорошо, что хоть вдоль стен стояло по лавке. Лишь они да чурбаки-табуреты имели в этом жилище пару-близнеца, все остальное присутствовало в одном экземпляре: одно окно, один стол, на нем деревянная плошка – одна, в ней щербатая ложка – одна, да берестяная кружка – опять же одна. В красном углу лампадка подсвечивала единственную икону – Николая Чудотворца.
Сам хозяин стоял на коленках у распахнутой печной дверцы и раздувал розоватые угли под наложенными кучкой щепками. Слабые язычки пламени пока неохотно лизали предложенную им деревянную снедь, и одутловатая физиономия Ильи от усердия уже сравнялась по цвету с вареной свеклой. Увидев вошедших представителей государевой власти, дьяк вскочил, мотнул головой, кивая на щепки, сконфуженно развел руками – вот, мол, стараюсь изо всех сил, но на все же воля божья. Маршал, оценив ситуацию, достал из кармана блокнот, вырвал пару чистых листков, мимоходом заглянув в записи – писаря звали Прохор, – сунул бумагу дьячку. Тот снова бухнулся на пол, сунул блокнотные странички в печку, и огонь наконец-то ухватился, повеселел. Через несколько минут принялись и дрова, и в комнате понемногу стало теплеть.
Константин Павлович усадил на чурбаки следователя с писарем, Илье указал на лавку, а сам сел рядом. На вторую лавку уложили шинели и пальто, а под нею устроился Треф, спрятался в тень и только посверкивал глазами.
– Итак, Илья?..
– Петров я по батюшке. По двору Попов.
Писарь заскрипел пером.
– Так, Илья Петрович. Расскажите о покойном. Что за человек был Осип Матвеевич Симанов? За что и кто мог желать ему смерти?
Дьячок, собираясь с духом, провел ладонью по усам, погладил тощую бороденку и заговорил на удивление степенно, размеренно:
– Дык что ж тут скажешь? Дрянной был человечишко. Выжига и пройдоха. Ему, мироеду, полдеревни смерти скорой желало, так, стало быть.
Константин Павлович удивленно развел руками.
– Так уж и смерти?
– Ну а что ж? Места у нас не шибко богатые. Народишко все больше льном промышляет. Лен-то у нас знатный, в заграницы торгуется, во Францию, в Англию, так, стало быть. Токма прибыли от той торговли в мало чьих карманах оседают. Вот Симанов один из таких, которые на чужом горбе барыши зашибают. Крестьяне-то народ темный, сами делов вести не умеют. Урожай собрали и в Псков повезли. А на большой дороге да на постоялых дворах уже шныри-булыни[1] поджидают. И обвешивают, и запугивают – опасный промысел, так, стало быть. А Симанов наладился у местных прямо тут скупать. Вроде как спокойней, все под боком, страха терпеть не надо. Да токма цены-то честной от него отродясь никто не видывал. Да и почитай полдеревни у него в должниках. В девятьсот пятом-то даже жгли его, дом дотла выгорел, чуть церква от него не полыхнула. Он потому на отшибе потом и построился и собак завел, злющих, так, стало быть. Да токма не наши его порешили.
– То есть как? Вы ж говорили, что многих покойник обидел?
Илья решительно скрестил на груди руки.
– Я тут у каждого душу до донышка знаю, чай, ко мне ходят на жизнь жалиться, попа не ждут. Так, стало быть. Таких отчаянных, которые могли бы самого Осипа в темечко обухом тюкнуть, найдется с десяток. Устина могли заодно с папашкой уговорить. Но на бабу с дитями руки бы никто не поднял. Не наши это!
И задрал бороду кверху, подводя итог своему рассказу.
– Ну хорошо. Положим.
– А нечего и ложить. Я вам совершенно окончательно говорю – приезжие это. Сам их видал.
– Что?! – Маршал, не веря, нахмурил брови, да и следователь с писарем с сомнением уставились на дьячка.
Но тот, нисколько не смущаясь, продолжал:
– Я вечор со станции возвращался на Орлике. В лавку ездил, керосину купил, серников, воска. Вертался уже по сумеркам. И аккурат на подъезде меня санная пара обогнала. Возница и четверо людей мужеского пола, купеческой наружности. Хорошо ехали, весело, с бубенцами. И свернули как раз к подворью Симановых, так, стало быть. А я дальше себе покатил.
– Так чего ж ты молчал, образина?! – взвился Волошин. – Мы тут время теряем!
Дьяк выпрямил спину, положил руки на колени и невозмутимо заметил:
– Когда спросили, тогда и обсказал. А попусту языком чего молоть, Бога гневить? Сказано же у Матфея, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день Суда: ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих отсудишься! Так, стало быть! – и назидательно ткнул указательным пальцем в закопченный потолок.
Писарь не сдержал улыбку, а Волошин глянул на Маршала, обреченно пожал плечами – вот, мол, господин из столицы, поглядите, с каким дремучим контингентом дела иметь приходится.
– Хорошо, – тоже пряча улыбку в бороду, заключил Константин Павлович. – Вернемся на станцию – опросим персонал. Такую большую группу должны были заметить. Узнаем, откуда прибыли. Спасибо, Илья Петрович, ступайте, передайте уряднику, чтоб вел нам следующего.
Деревня была небольшая – всего, не считая осиротевшего дома Симанова и избушки рассудительного дьяка, тридцать шесть дворов. Потому управились за час с небольшим. Мужики – бородатые космачи – со словами расставались неохотно, как будто знали, что отмеряно им их не щедро и надо бы этот малый запасец приберечь для более важных поводов. Бабы были поговорливее. Но суть всех откровений сводилась к одному: Симанова-старшего никто из соседей не любил, сын Устин тоже повадками близился к родителю, а Дарью и детишек жалели – бабы принимались причитать и завывать, да и у мужиков опасно начинали поблескивать глаза, то ли от слез, то ли от злобы на убийц.
Константин Павлович решился на следственный эксперимент: кляня себя вслух за забывчивость, у каждого мужика просил закурить. В результате осип от крепкого самосада, но убедился в том, что никто из местных жителей фабричных папирос не курил, ни дорогих, ни дешевых.
Полезным, если не считать дьячковых сведений, оказался разве что рассказ Анисьи Худобиной. Та поведала, что покойный брат отличался осторожностью и недоверчивостью, в том числе и к финансовым учреждениям. Дела вел сам, приказчиков не держал. Деньги хранил дома, банкам и сберегательным кассам верил гораздо меньше, чем хитрым замкам и цепным псам. Причем основной капитал держал в золоте под половицей, а бумажные деньги для расчетов хранил в сундуке. И знали про то только домашние – родня да батрак Алеша Боровнин. И что особо важно – за то время, что Симановы жили в новом доме, было у них всего три работника: Васька Худалов, уволенный Осипом Матвеевичем за пристрастие к водке, старший брат Алеши, Николай Боровнин, и сам Алеша, убитый вместе с хозяином.
За окном уже начало синеть, тени вытянулись чуть не до горизонта, а другой его стороны готово было вот-вот коснуться алое зимнее солнце. Почерневшие бревна домов, изукрашенные морозом окошки, заборы, высоченные сугробы – все облилось розовым, а снег заискрился пожарными всполохами. В избу вернулся Илья, завозился у печки, сунул в тепло какой-то чугунок. Писарь не спеша собирал свой инструмент: уложил перья в картонную коробочку, закрутил пузырек с чернилами. Волошин собрал опросные листы, сунул в папочку и уже минут пять вопросительно поглядывал на задумавшегося Маршала. Константин Павлович же, не обращая внимания ни на суету вокруг, ни на взгляды следователя, пытался ухватить какую-то мысль. Та виляла хвостом, будто дождавшийся возвращения хозяина Треф, но в руки (точнее, в голову) не давалась. Расфокусированный взгляд сошелся на собственном отражении в потемневшем окне, и, глядя в свои зачерненные подступающими сумерками глаза, Константин Павлович вспомнил.
– Стойте! Мы не всех опросили!
Движение в комнате замерло, теперь на Маршала смотрели с невысказанным вопросом уже три пары глаз.
– Там была еще женщина. Молодая, серьезная такая. В черном платке, и глаза как у Богородицы огромные. В правом углу стояла, у стены!
Илья вздохнул, уселся напротив Константина Павловича на лавку, снова собрал в кулак бороду – видно, так ему легче было говорить о том, о чем не хотелось.
– Это Стеша. Степанида Саввична Лукина. Она у нас блаженная, так, стало быть. Не говорит совсем.
– Блаженная? То есть как? Сумасшедшая?
Дьяк снова вздохнул, помолчал, пожевал губы.
– Не то чтоб дурочка. Даже наоборот. Она учительшей раньше работала. У нас тут школа для ребятни в Дне – ну, Дно, село, где станция. Хорошая была учительша. Но годе в восьмом, апосля Ильина дня, в един момент как подменили ее. Спать ложилась одна Стеша – приветливая, улыбчивая, с добрым словом для всякого, а проснулась другая, так, стало быть. Сперва вовсе из дому не выходила, заперлась и не отвечала никому. Ни света не зажигала, ни печки не топила. А когда на третий день мужики принялись дверь ломать – отворила. В черном, как смертушка. И с той поры ни слова никому не сказала. Даже в церкву когда приходит, встанет со свечечкой супротив Богоматери и глядит на нее, не моргает. Даже не крестится. Так, стало быть.
– Интересные метаморфозы. Может, обидел ее кто? – подал из-за стола голос писарь.
– Так кто ж теперь скажет-то? У нее пытали – молчит. Живет одна, боле спросить не у кого. Может, кто и знает чего, да язык прикусил – даже бабы ни об чем не брешут.
21 февраля 1912 года. Деревня Поповщина, Порховский уезд Псковской губернии. 18 часов 22 минуты
Константин Павлович молча курил у калитки дьячкова подворья, щурясь на быстро прячущийся за черный лес красный блин солнца. Из кривой дощатой будки вылезла мохнатая дворняжка, вся угольно-черная, но с белым правым ухом, потянулась, протяжно зевнула во всю пасть, грустно посмотрела на незнакомого мужчину, понюхала воздух и, видимо, решив, что вряд ли хозяин бы оставил без присмотра злого человека, поджав уши, медленно подползла к Маршалу, осторожно обнюхала брючину, замахала хвостом в репьях.
– Что, псиной пахнет? – с улыбкой спросил сыщик, наклонился, почесал собаку за висящими ушами. – Где ж ты зимой репьев-то нахватала?
Скрипнула дверь домика, по ступенькам спустился Илья с котелком, наложил в долбленую миску какого-то дымящегося варева, и собака мигом забыла о новом знакомце, сменила фаворита, ткнулась мордой в еду и зачавкала.
Из дома вышли следователь с писарем и Трефом. Последний важно подошел к хозяину, сел рядом и презрительно покосился на шумную трапезу деревенской невежи.
– Ну что, Константин Павлович, пора на ночлег устраиваться. Мы с Прохором и Старковым останемся в общинной избе, а вас определили к старосте. Не «Астория», конечно, ну так и не столица же. Зато перины пуховые. Я вас провожу, а то у Лукича собаки лютые, не чета Илюхиной Белке.
– Лютые собаки? – Маршал удивленно посмотрел на Волошина. – Карп Савельевич, простите, но мы с вами два болвана! Илья Петрович!
Дьяк прекратил наглаживать собаку, обернулся на полицейского.
– Вы говорили, что у Симанова были злые собаки?
– Истинно так, – кивнул дьячок. – Днями они все на чепях сидели, а и то страх мимо их ходить, уж больно брехали свирепо. А на ночь он их и вовсе спускал, по двору бегали, стерегли, так, стало быть.
Волошин хлопнул себя по лбу так, что сбил с плешивой головы фуражку – та плюхнулась в снег.
– А и вправду ведь, не было собак, когда мы осматривали дом-то! И во дворе ни следов, ни самих.
К хозяйству Симановых прибыли уже затемно – солнце провалилось за деревья и как-то враз наступила ночь, в которой посреди синего поля черным скорбным утесом торчал дом – окна не светятся, собаки молчат, двери не хлопают. Ни бабьей песни, ни детского гомона – ушла жизнь из этого места.
Илья перекрестился, что-то пробормотал – не иначе отгонял нечистого тайным заговором. Дьячок сам напросился в сопровождающие, сказал, что негоже оставлять убиенных на ночь вовсе без молитвы, быстро запряг каурого мерина и нагнал полицейские сани на подъезде к симановскому подворью. За ним следом приплелась и черная Белка.
Ворота поддались легко, видно, за петлями следили, регулярно смазывали. Константин Павлович достал электрический фонарь, поводил лучом по двору.
– Там они обитают, слева, – чуть не шепотом прошелестел Илья, махнув рукавицей в темноту.
Маршал повернул руку, осветил большую добротную будку – почти сруб под соломенной крышей. Вход безжизненно чернел, на свет никто не вылез. Константин Павлович наклонился, посветил внутрь: соломенная подстилка, обглоданные кости, клочки серой шерсти, но самих «хозяев» нет.
– Треф! Ищи.
В который раз уже за этот длинный день Треф принялся выписывать узоры на снегу, закружил, запетлял. Дворняжка, высунув язык, с любопытством наблюдала за передвижениями городского гостя, а тот побороздил снежный покров и замер у накрытого дощатым щитом рубленого колодца.
Маршал отбросил крышку, посветил внутрь, отпрянул – в черной воде мохнатым клубком плавали мертвые собаки.
Константин Павлович вышел за ворота, подальше от разворачивающегося на дворе Симановых действа: Старков с Ильей по указанию Волошина доставали из колодца собак. Само собой, делал все судебный следователь верно – нужно было убедиться, что собак умертвили теми же способами, что и хозяев. Но лицезреть процесс извлечения новых жертв неизвестных душегубов Маршал не стал, ушел со двора. Треф пошел с хозяином, но, когда тот закурил, недовольно чихнул и спрятался в сани, зарыл чуткий нос в душистое сено. Зато Белку табачный дым не смутил: она улеглась прямо у ног Константина Павловича, доверчиво поблескивая глазами и приглашая к продолжению знакомства. Но Маршал молчал, курил и смотрел на отдаленные огоньки Поповщины.
За каждым из этих светлячков продолжалась своя жизнь, свои разговоры, свои хлопоты. Конечно, не осталось сегодня дома, в котором бы не обсудили страшные события предыдущей ночи – такое в себе не удержишь. Кто-то помолился перед лампадкой за упокой душ убиенных, кто-то плюнул в угол со словами «туда им и дорога» – и перекрестился, сам испугавшись своих слов. А за одним из светящихся окон, возможно, затаился убийца – до конца такую вероятность тоже исключать не стоит, даже несмотря на уверения Ильи. Маршал затянулся, разогнал рукой дым. Мысли опять повернули в недалекое прошлое…
23 декабря 1911 года. Стрельна. 22 часа 13 минут
…Той ночью в Стрельне состоялась важная беседа. Владимир Гаврилович позволил себя уговорить – как после оказалось, с умыслом – и остался ночевать на даче у Маршалов. Константин Павлович не очень удивился, увидев бодрствующую Зину в гостиной: она частенько дожидалась их с Трефом и дома, в Ельце. Зато Зина явно была поражена, узнав в вошедшем госте Филиппова. Стряхнув с пальто и шляпы снег и пристроив верхнюю одежду на вешалке в прихожей, Владимир Гаврилович с удовольствием уселся в предложенное кресло у камина, протянул покрасневшие руки к огню и блаженно закрыл глаза.
Пока Константин Павлович объяснял Зине обстоятельства этой неожиданной встречи, Владимир Гаврилович помалкивал и только потирал ладони. Потом вежливо принялся расспрашивать обо всем, что случилось в жизни хозяев за те полтора года, когда гость и Маршалы не виделись. А потом вдруг неожиданно саданул сразу из двух стволов:
– Вот что, голубчики. Не пора ли признать, что жизнь в провинции вам обоим порядком наскучила?
Маршал ошарашенно обернулся к жене, ища поддержки, но Зина его взгляд проигнорировала, изо всех сил делая вид, что очень внимательно слушает ночного гостя – даже лоб нахмурила и свела бровки. А Филиппов меж тем продолжал, никак не реагируя на мимику Константина Павловича:
– Еще в прошлый приезд мне показалось, что вы, дорогой мой, уже отдохнули душой от наших злодейств и с удовольствием бы снова подышали запахами столичных подворотен. Потому – вы уж простите мне, голубчик, такую вольность – я имел смелость и наглость обсудить это с Зинаидой Ильиничной. И на нее уж тоже не серчайте за то, что не стала меня обманывать, а честно рассказала о вашем часто отсутствующем взгляде, повышенном интересе к столичным газетам и к криминальной хронике Ельца. Вы же и елецкой полиции как-то помогли, не сдержались, ведь так?
Маршал только обреченно кивнул головой.
– Мы с вашей супругой планов, конечно, не строили и интриг не плели, но об этом вашем визите я был извещен. Нет-нет, ограбление не подстроено, все по-настоящему. Я, признаться, вас ждал на неделе, но тут уж само провидение устроило встречу. Так что давайте начистоту: мне не хватает вас, а вам явно недостает нашей суетной службы. Возвращайтесь, голубчик. Возвращайтесь.
«Голубчик» снова обернулся к жене, ища точку опоры в готовившемся перевернуться с ног на голову (или наоборот, вернуться с головы на ноги) мире, но та улыбалась, уже не скрываясь. И Маршал понял, что пал жертвой заговора двух самых близких ему людей.
Сразу после Рождества они с Зиной перебрались из Стрельны в свою старую квартиру на Мойке, после Нового года прибыли из Ельца оставшиеся вещи, а Константин Павлович перешагнул порог своего прежнего кабинета на Офицерской, уселся в приветливо скрипнувшее кресло и подмигнул бронзовому сфинксу…
21 февраля 1912 года. Деревня Поповщина, Порховский уезд Псковской губернии. 19 часов 36 минут
…За спиной, в подступающем почти к самому забору предлесье, что-то глухо бухнуло, ухнуло, захлопали крылья. Маршал резко обернулся на звук, быстро сунул руку в карман пальто, сжал рубчатую рукоятку браунинга и щелкнул предохранителем. Но вокруг снова повисла тишина. Видно, снявшись с еловой ветки, ночная птица сшибла снежный покров. Белка поджала уши, переползла за Маршала, испуганно глядя в лесную темень, а Треф приподнял в санях голову, порычал в сторону потревоженной ели. Но тут со двора донесся голос Волошина:
– Константин Павлович? Извольте удостовериться.
– Идем. – Маршал вернул предохранитель на место, махнул Трефу рукой.
Тот неохотно вылез из саней, еще раз рыкнул в сторону леса, но все же пошел за хозяином. Дворняжка потрусила следом, опасливо оборачиваясь на черные заросли.
Собак извлекли из колодца, разложили на снегу. Быстрого взгляда было достаточно, чтобы понять: убили ножом так же, как Алексея Боровнина и Симанова с сыном.
Живые собаки на мертвых сородичей отреагировали по-разному: Треф сел рядом с хозяином и грустно смотрел на мокрые неподвижные комки шерсти, а Белка прижалась к ноге Ильи, опустила уши и тоненько заскулила. Треф поднял голову на Маршала, но тот молчал, хмурил брови. Поняв, что указаний не дождется, пес подошел к подвывающей дворняжке, ткнулся в нее носом, лизнул в ухо. Та замолчала, благодарно положила белоухую голову на плечо кавалеру.
Константин Павлович удивленно посмотрел на такое проявление собачьей взаимовыручки, но упрекать питомца за несдержанность не стал, а вместо этого спросил у дьячка:
– Илья Петрович, почему Белка? Она же в большей мере черная, Чернуха было бы вернее.
Илья поднял глаза на Маршала, по уже узнаваемой привычке собрал в кулак бороденку.
– Так белое завсегда важнее черного, господин Маршал. Даже если его на самом донышке в человеке.
– Да только не во всех человеках оно есть, белое твое, – буркнул Волошин.
– Во всех, – тихо, но твердо ответил Илья. – Токма разглядеть надобно уметь, так, стало быть.
– Что ж, и в этих иродах разглядел бы? – Волошин кивнул на мертвых собак, а после ткнул пальцем в сторону крыльца.
– Я человек, человек слеп. А Господь разглядит.
Дьячок перекрестился, достал из кармана вороньего тулупчика Псалтырь и заковылял в сторону дома.
– Вот что, Карп Савельевич, – Маршал решительно поднял ворот пальто, – ночевать я здесь не останусь, не буду терять времени, поеду на станцию.
Поговорю там со служащими и, быть может, еще и на ночной в Петербург успею. Вы уж с Ильей как-нибудь потеснитесь до деревни, а я ваши сани возьму.
Волошин испуганно замахал руками.
– Куда вы через лес на ночь глядя? Себя не жалеете, так коней пощадите, волки же!
– Ничего, – отмахнулся Маршал, – Бог не выдаст – свинья не съест. И волки авось тоже не позарятся.
Константин Павлович плюхнулся в сани, щелкнул вожжами.
– Но, родные! А то замерзнете!
Кони испуганно всхрапнули, покосились недоверчиво на громкого возницу, неохотно принялись разворачивать к дороге.
Поняв, что вопрос решен, Волошин неодобрительно дернул головой, крикнул:
– Обождите, господин Маршал! – Подозвал урядника, торопливо забубнил: – Вот что, Старков. Поедешь на станцию с Константином Павловичем. Держи, братец. – Он достал из-под полы длинноствольный револьвер, протянул уряднику. – И вот еще. – Запустил в карман руку, вытащил горсть патронов, ссыпал в протянутую ладонь.
– Армейский? Это ж гаубица! Ей-богу, Карп Савельевич, вы нас как на войну собираете. Тут езды-то два часа.
– Ничего. Береженого Бог бережет. – И Волошин перекрестил удаляющийся санный след.
Смазанные жиром полозья с приятным скрипом обновляли засыпанный пушистым снегом путь через лес, поверх этого скрипа разливалась удалая песня, а по верхушкам синих елей перекатывался молодой месяц, временами подпрыгивая на особо лихих нотах.
Борясь со сном, Константин Павлович скинул пахучий овчинный тулуп, потянулся, хлопнул урядника по широкой спине.
– Не боитесь волков песней разбудить, Старков?
Тот довольно осклабился.
– Ништо! Убережет Боженька, не даст пропасть!
Будто в ответ на его слова справа из глубины леса раздался далекий протяжный вой. Урядник размашисто перекрестился рукой с кнутом на рогатый месяц, смачно харкнул в сторону и щелкнул по широкой спине коренного.
– И что ж вы, во всем так на высшие силы полагаетесь? Сильно в Бога веруете?
Старков сдвинул на затылок шапку, почесал кнутовищем за ухом, помогая мыслительному процессу.
– Дык как же без Бога-то, господин хороший? Чай, не татарин я, русский человек. Стало быть, верую. Опять же, тятька с мамкой не зря ж покрестили.
– Понятно.
Маршал достал портсигар, протянул уряднику. Тот сунул рукавицу под мышку, бережно вытащил душистую папиросу, склонился к огоньку и блаженно сощурился, пропыхтел сквозь дым:
– Благодарствую, ароматный табачок. А вы что ж? Аль не верите?
Константин Павлович тоже закурил, помолчал, но все-таки ответил:
– Пожалуй, что нет. В нашей профессии сложно сохранять веру в Бога. Во всяком случае, в Бога справедливого и милосердного. Уж больно много гнусностей видеть приходится.
Старков опять почесал за ухом.
– Так-то оно, конечно, так, но все ж… Что ж, и в церкву не ходите?
– Нет, не хожу. Как от родителей съехал, так и перестал. Поначалу просто ленился, а потом уж и осознанно отказался от этого занятия.
– А кольцо у вас? – Урядник ткнул пальцем в правую руку Маршала. – Иль это так, без венчания?
– С венчанием. Жена настояла. Она верит. И в Бога, и в людей. Почти как брат Илья.
Помолчали, послушали ночную тишину. Старков мотнул чубом:
– Конечно, оно верно – когда такое, как нынче, увидишь, бывает, что и подумается: куда ж ты, Господи Иисусе, глядел, на что такое важное отвлекся? Но чтоб прям разувериться… Нет, нельзя русскому человеку совсем без веры. Оскотинимся, ей-богу!
И он опять осенил себя рукавицей.
– То-то и оно, Старков. Большинству людей Бог – что костыль. Чтоб не спотыкаться на жизненном пути. А то и вовсе как строгий родитель, который, если что, может в темя молнией приложить. Ну а по мне, так страх – не лучший мотиватор, потому что…
Волчий вой прорезал ночь слева, и так близко, что казалось, невидимый вожак собирает стаю чуть не за первым рядом заснеженных деревьев.
Старков матюгнулся, выплюнул папиросу и привстал в санях, размахнулся кнутом.
– Вот сейчас проверим, господин хороший, кто прав – и про страх, и про Боженьку. Пошли, дуры, чего скалитесь!!!
Лошади, почуяв зверя, рванули, не дождавшись понуканий, дробно застучали шипованными подковами. Старков щелкал кнутом, не касаясь лоснящихся спин, гикал и свистел, а Маршал вытащил из кармана браунинг, критически посмотрел на короткий ствол и крикнул уряднику:
– Где револьвер Волошина?
Старков, не оборачиваясь, вытащил из-за пояса «смит-вессон», бросил на сено. Маршал сжал затертую рукоятку, переломил, заглянул в барабан, снова собрал и заводил длинным дулом по сторонам. Вой был уже совсем близко, но пока еще сзади. С подступающих к дороге елей осыпался потревоженный снег, но самих волков еще не было видно. Треф, приподнявшись на сене, сперва глухо зарычал, а после залился громким истеричным лаем. В ответ со всех сторон понеслось хриплое харканье, тявканье и утробное рычание, подбадриваемое тягучим воем вожака.
Старков, вскочив уже в полный рост, выписывал над головой ременные восьмерки и голосил во все горло:
Первый зверь выскочил из чащи на дорогу, раза в два крупнее немаленького Трефа, понесся по санному следу, рассекая широкой грудью морозный воздух. За ним выскочили еще два волка, поменьше, пристроились в фарватер. Расстояние между троицей и санями хоть и медленно, но сокращалось. Маршал уперся локтем в заднюю стенку, посадил на мушку ближайшего хищника, но медлил. Он представил, как красивый зверь споткнется на полном скаку, перевернется в воздухе и рухнет, окрашивая снег красным. Вспомнил мертвых собак на Симановском подворье – и зажмурился.
– Стреляйте, господин Маршал! Стреляйте!
Но Маршал спрятал револьвер, стащил с головы бобровую шапку и, размахнувшись, что есть силы швырнул на дорогу. Вожак пронесся мимо, даже не замедлив бег, а двое молодых волков вцепились в мех, начали драть треух на части. Из леса на дорогу выскочили еще три серые тени, присоединились к дележке, рыча и огрызаясь друг на друга. Вожак какое-то время мчался за санями, но, видно, не чувствуя за спиной поддержку сородичей, перешел сначала на рысь, после и вовсе на шаг и в конце концов совсем остановился, сел на снег, задрал к небу голову и снова завыл, уже разочарованно и тоскливо.
Маршал, не моргая, смотрел на удаляющуюся серую фигуру, пока она совсем не скрылась в ночной темени, потом отвернулся, лег на спину, вытер пот со лба. Старков продолжал орать, охаживая лошадей кнутом:
Предсказуемо выбрав в невесты в конце концов крестьянскую дочку, «заменушку» своим «белым ручушкам», Старков снова протянул кнутом вдоль спины коренному, обернулся через плечо и, увидев, что опасность миновала, рухнул в сено рядом с Маршалом.
– Ну вот, господин хороший, а вы говорите! И страх помог, и Бог сберег. – И подмигнул поджавшему уши Трефу.
– Помог, – хмыкнул Константин Павлович. – То-то ты вместо молитвы песню орал.
– А Боженьке без разницы, как ты к ему обращаешься. Кто лбом об пол бьет, а кто песни поет. Главное, людей не обижать да его не забывать! Вон оно, Дно. – Он ткнул варежкой в сторону недалеких огоньков на пригорке, верстах в двух. – Вынесли, родимые! А от страха или от веры – так мне и без разницы.
22 февраля 1912 года. Санкт-Петербург, Казанская полицейская часть. 11 часов 24 минуты
– Как видите, до Дна мы добрались не без приключений. – Константин Павлович поежился от воспоминаний, но все-таки заставил себя улыбнуться. – А на станции смотритель рассказал, что приметил вчера на перроне четверых мужчин, как раз когда прибыл утренний из Петербурга. По виду коммерсант с приказчиками. Ехали налегке, с одними саквояжами. Взяли сани с возницей и укатили. Возница подтвердил мою версию: двоих он высадил, не доезжая до дома Симанова, в рощице – их следы мы с Волошиным и обнаружили. А «купец» и еще один «приказчик» сошли у симановских ворот и сани отпустили, потому как господа высказали уверенность в том, что останутся здесь ночевать.
– А в ночь убийства их на станции не видели? – Владимир Гаврилович весь доклад Маршала выслушал молча и лишь сейчас задал первый вопрос.
– А вот тут штука странная. Ночной дежурный сказал, что приметил наших пассажиров, они дожидались утреннего поезда в столицу. Причем «купец» был так пьян, что двое «приказчиков» его всю дорогу под руки держали. Вот только «приказчиков» и было всего двое!
– Хм. Действительно интересно. Куда же подевался третий?
– Вы знаете… – Константин Павлович запнулся, будто не решаясь продолжить. Но все-таки продолжил: – Это, конечно, похоже на паранойю. Но там, в Поповщине, у меня несколько раз возникало ощущение, что за нами кто-то наблюдает. Вполне может быть, что кто-то из убийц остался, чтобы посмотреть, куда двинется следствие. И надо думать, был немало удивлен, узнав, что дело попало на контроль петербургской полиции.
– Но это означает, что кто-то из деревенских должен был его приютить. – Филиппов поднялся из-за стола, заходил по кабинету.
– И из этого в свою очередь следует, что среди убийц кто-то местный! – хлопнул по столу ладонью Маршал, подводя итог. – Думается, что и убили всех по этой причине – боялись свидетелей. Скорее всего, вырвавшийся батрак уже во дворе столкнулся со знакомым, возможно, выкрикнул имя, подписав тем самым приговор и себе, и всему хозяйскому семейству. Предлагаю в первую голову отыскать бывших работников Симанова. Тем более что, по словам Анисьи Худобиной, и Худалов, и Боровнин подались в Петербург на заработки. И предполагаемые убийцы тоже прибыли из Петербурга. Так что я начал бы с алиби этой парочки.
– Боровнин? Убил брата?
– В жизни всякое случается, Владимир Гаврилович. Хотя соглашусь, я бы поставил на Худалова.
22 февраля 1912 года. Деревня Поповщина, Порховский уезд Псковской губернии. 4 часа 11 минут
На подворье старосты заголосил кочет. Он завсегда встречал новый день первым, а за ним уж подхватывали остальные. Вот и теперь он захлопал крыльями, подскочил, взлетел на калитку, клюнул в щеку тощий месяц, громко закукарекал на еле-еле светлеющий горизонт и, повернув голову набок, стал внимательно слушать, как по Поповщине распространяется петушиный крик.
Илья откинул подрясник, служивший ему ночами одеялом, потянулся, зевнул, перекрестил рот и сел, свесив с печки ноги в шерстяных чулках. Еще раз с хрустом потянулся, ловко соскочил на пол, открыл печную дверцу, кинул пару поленьев. Нашарил в темноте валенки, обулся, дошаркал до стола, чиркнул спичкой, зажег керосинку. Вернулся к печке, стащил с полатей подрясник, натянул его через голову. С минуту побормотал что-то на икону, надел скуфейку и выскочил во двор.
Из будки на звук высунулась Белка, улеглась и принялась без особого удивления наблюдать за тем, как Илья умывается снегом. Тот подмигнул собаке, отряхнул запорошенную бороду, еще раз потянулся, расправив плечи. При этом выяснилось, что плечи-то у брата Ильи, когда он не сутулится, вполне себе солидные. Перекрестившись на народившийся месяц, дьяк вернулся в дом. Достал из печки чугунок с кашей, суетливо проглотил несколько ложек и снова выбежал за дверь. Там выложил оставшуюся кашу собаке, дал ей вылизать и сам чугунок, отнес его в дом, надел свой черный тулупчик и вышел на улицу.
Зимняя ночь петухов не послушала: тоненький серп на черном небе перешептывался с искорками звезд, совершенно не собираясь никому уступать свое место над лесом. Но деревня понемногу просыпалась: засветились кое-где окошки, заскрипели двери, закудахтали разбуженные куры.
Илья совершенно не степенным аллюром добежал до церкви, нырнул в никогда не запираемую дверь, принялся хлопотать: набрал снега в ведро, поставил топиться, помахал березовым веником, смахнул пыль с икон, повытягивал из недогоревших свечек ниточки фитилей – из воска можно ведь еще свечек наделать.
Через примороженные окошки просочились алые лучики, поползли вниз по бревенчатым стенкам, багряня лики святых. Илья охнул:
– Ох ты ж, батюшки святы, посветлело уж!
Он заторопился, долил масло в лампады, вылил ведро на дощатый пол, разогнал по углам тряпкой, а потом долго скреб пол обломком ножа.
Когда он вышел из церкви, уже совсем рассвело. Дьячок перекрестился на уверенно ползущее к зениту солнце, спрятал руки в рукава тулупчика и засеменил к лесу. У общинной избы Старков с Волошиным вытирали лоснящиеся бока лошадей, сбивали сосульки с подбрюший – видно, урядник только вернулся со станции. Илья поклонился, спросил:
– Все благополучно? Довезли господина Маршала?
– Уберег Господь, – отозвался Старков.
Дьяк довольно кивнул, благословил государственных людей на дальнейшее служение и посеменил дальше. Пробегая мимо дома Боровниных, замедлил шаг – не заглянуть ли? Как там старуха-то одна? Но, приглядевшись, увидел замок на двери. Не иначе как подалась бабка до Симановых, за сыном.
Последний дом, без забора, уходящий огородом прямо в лес, принадлежал той самой блаженной Степаниде Лукиной. Из трубы поднимался сизый дымок. Илья присмотрелся к окошкам, но ничего не углядел. Поднялся по скрипящим ступенькам, потопал, сбивая снег с валенок, постучал.
– Стешенька, дочка, это я, Илья. Ты, чай, дома?
С минуту дом молчал, потом отворилась дверь. Стеша, такая же, как вчера, прямая, строгая и черная, стояла на пороге.
– В избу-то пустишь? Морозно на улице.
Девушка посторонилась, пропуская Илью, закрыла дверь, задвинула засов. Пройдя на ощупь темными сенями, дьяк, пригнувшись, юркнул в дом, уселся на лавку у печки, прислонился спиной к теплой стенке.
– Ох и люто нынче. Не выходила еще?
Стеша кивнула, указала на сваленные на жестяной лист дрова.
– Ну да, ну да. – Дьячок затряс бороденкой. – Хватает дровишек-то? Может, подсобить надобно?
Лукина помотала головой.
Илья огляделся, хотя бывал тут почти каждый день. Те же иконы на полочке, лампадка теплится – все как всегда, разве что занавеска перед кроватью задернута.
– Слыхала уже про Симановых-то? Вот ведь беда…
Стеша, поняв, что говорливый Илья заглянул не на минутку, прошла к столу, села, заправила выбившийся локон под платок.
– Вечор был там. Читал над убиенными. Страх-то какой, Стешенька. Деток малых не пожалели. Собак даже порезали. Молчишь? Ну да, ну да.
Стеша повернулась к иконам, зашевелила беззвучно губами.
– И то верно. Я с тобой помолюсь, доченька. За упокой душ усопших да за прощение убивцам. Пускай Господь первых примет, а вторых вразумит и к свету возвернет, так, стало быть.
Молились долго. Стеша молча, дьяк что-то бормоча себе в бороду. Наконец Илья поднялся с колен, последний раз перекрестился, сел на второй стул.
– Стешенька, знаю, надоел я тебе, старик, своими увещеваниями, но ты уж не серчай, а ведь я не отступлюсь. Каждый день прошу за тебя Богородицу, так ты уж помоги ей тоже. Времени-то сколько прошло, а ты все молчишь. То, что в церкву ходить стала, то хорошо. Но зачем Богу на постное лицо твое смотреть, скажешь мне али как? Разве радостно ему от этого? Богу любовь твоя нужна, а ты сердце себе сама морозишь. Куда как любезнее было б, если бы ты с улыбкой к иконам шла, с добрым словом, так, стало быть. Само собой, что он тебя и бессловесную слышит. Да токмо смотрит на тебя и печалится. Ему живые нужны, сердцем горячие, душою беспокойные. Молчишь? Ох, угодники святые.
Илья попробовал заглянуть в глаза девушке, но та отвернулась. Дьяк вздохнул, поднялся.
– Завтра снова загляну. А ты зайди к старухе. Ей сейчас тяжельше, чем тебе. Шутка ли – сына хоронить будет.
Стеша закусила губу, кивнула – зайду, мол.
– Может, Николаша теперь возвернется. Как думаешь? Непременно должен воротиться, так, стало быть. Потому как один он у ней сын остался.
Илья взялся за дверную ручку, но снова повернулся.
– И ко мне зашла бы, доченька. Вместе помолчим. Втроем – я еще Белку свою позову.
Стеша улыбнулась, снова кивнула. Илья в последний раз перекрестил ее и вышел.
20 февраля 1912 года. Санкт-Петербург, Невский проспект. 16 часов 13 минут
Зина продула на заледеневшем окошке маленький кружочек, и теперь ей было отлично видно все происходящее на проспекте. Она с удовольствием прижалась к холодному стеклу и наблюдала, впитывала почти забытую столичную суету. Трамвай прогрохотал по чугунному полотну Полицейского моста, промелькнула в отпотевшей круглой рамке колоннада Казанского собора, пробежали арочные своды Гостиного Двора. По Невскому в обе стороны спешили по своим делам совершенно разные люди: студенты в нагло распахнутых навстречу зиме шинелях и лихо задвинутых на затылки фуражках, с пунцовыми от вина, молодости и мороза щеками; богато одетые барышни в меховых шляпках спасали в теплых объятиях норковых муфт холеные ручки; петличные чиновники, борясь с ветром, поднимали воротники и держались перчаточными руками за лаковые козырьки. Вот протопал какой-то мастеровой с деревянным ящичком с инструментами, кивнул на ходу встречному знакомому, но не остановился, чтоб поболтать, – дела. Вот затянутый ремнями городовой грозно нахмурил брови, разинул усатый рот в сторону двух мальчишек в коротких пальтишках и картузах-восьмиклинках, и те, подхватив концы длинных вязаных шарфов, юркнули в толпу, скрылись с глаз грозного стража порядка.
Сумерки еще только-только готовились затемнить белое северное небо, но фонари на Невском уже зажглись, напрасно пытаясь сделать и без того прозрачный вечер более светлым. Эти желтые точки и стелящийся снег напомнили Зине теплые летние вечера над Сосной[3], когда такой же молочной поземкой опускался на луга вечерний туман, и сквозь него тускло проблескивали светлячки, будто отражение еле проступающих на темнеющем небе звезд. Вспомнила, но грусти при этом не ощутила и довольно улыбнулась.
Трамвай медленно прополз мимо седогривых коней Аничкова моста, и Зина заторопилась к выходу.
Окна всех двух этажей главного здания Мариинской больницы горели желтыми пятнами, опрокидывая длинные прямоугольные лужи света со скорбными перекрестиями рам на заснеженные клумбы. Зина робко осенила себя знамением, поднялась по расчищенным ступенькам и скрылась за тяжелыми дверьми. Внутри она что-то шепнула дежурной сестре, та кивнула и указала рукой на лестницу.
– Подниметесь на второй этаж – и налево. В конце коридора его кабинет, по левую руку. Да там табличка, не спутаетесь.
На втором этаже Зина покрутила головой, соображая, какое именно «лево» имела в виду сестра – от крыльца или от лестницы, выбрала второй вариант и через мгновение замерла перед дверью с бронзовой табличкой «Ганзе Ф. А., профессор медицины». Там чуть помедлила, потом решительно вздохнула и постучала.
– Входите, – донеслось из-за двери, и Зина повернула ручку.
– Здравствуйте, Феликс Александрович.
Навстречу посетительнице из-за заваленного бумагами стола поднялся невысокий сухой господин в белоснежном халате, застегнутом до самого узла шелкового галстука, приветливо распахнул руки.
– Зинаида Ильинична! Рад, крайне рад, что не забыли старика! Безумно удивился вашему звонку, но удивился приятно.
Он придержал стул, пока гостья усаживалась, и вернулся на свое место.
– Надеюсь, вы ко мне исключительно с визитом вежливости, как к старому знакомому, а не как к врачу?
Зина покачала головой, вздохнула.
– Боюсь, что как раз к врачу, Феликс Александрович. Вы говорили, что тот случай не должен был повлиять на мою способность стать матерью. Но…
Доктор понимающе кивнул, постучал пенсне по лежащей перед ним раскрытой папке.
– Я предвидел этот вопрос. И продолжаю настаивать на своем заключении. Тот безумный юноша ранил вас в живот, но рана не нанесла никакого вреда вашей репродуктивной системе – уж простите за терминологию, но вы в кабинете медика, мне так проще.
Он остановил жестом попытавшуюся что-то сказать Зину, перелистнул несколько страниц.
– Это ваша история болезни. Та самая. И если вы помните, вопросы о материнстве вы мне задавали и тогда. И мои выводы здесь изложены: характер ранения позволяет утверждать, что причин для беспокойства нет! Вы совершенно здоровы в том смысле, который заложен в вас природой. Но если вы сомневаетесь в моей компетентности, я могу посоветовать вам другого доктора.
Последняя фраза была сказана таким преувеличенно вежливым тоном, что Зина улыбнулась.
– Спасибо, Феликс Александрович, я всецело доверяю вам. Настолько, что прошу вас наблюдать мою беременность.
– Нет, если вы думаете… Что, простите?
– Доктор, это вы меня простите. Если бы вы знали, как часто я вспоминала ваши слова и ругала вас за напрасную, как мне казалось, надежду. Ведь два года почти мы пытались… И все тщетно. И вот, стоило нам вернуться в Петербург…
Зина приняла протянутый платок, благодарно кивнула.
– Два года? Срок, признаться… Но мне думается, что здесь скорее психологические страхи… Наука, знаете ли, пока постигла не все тайны человеческого сознания… Ну успокойтесь, дорогая моя, ведь это же чудесная новость, а вы сырость тут развели. Как будто без вас ее в этом городе недостает. Мы сейчас пригласим Луизу Генриховну, она вам подготовит график посещений. Теперь мы с вами будем довольно часто встречаться. И знаете что еще. Я поговорю со своим университетским приятелем. Он чудесный специалист по женским вопросам, а сейчас еще и тайнами психологии увлекся. Вы же не против? У него очень респектабельные пациенты.
20 февраля 1912 года. Санкт-Петербург, больница Святителя Николая. 9 часов 47 минут
Пациент стоял у окна, смотрел на замерзшую реку, упершись в холодный подоконник бледными ладонями. Речка называлась Пряжка. Смешное название. Ладно бы Ремень или Пояс, для речки больше подходит – длинный, витиеватый, с синими строчками санных следов. А Пряжка – это же что-то круглое. Пруд там. Или озеро. Озеро, конечно, лучше. Хотя оно не всегда круглое. Зато там лебеди. И гуси. Гуси-лебеди. Унесли братца от сестрицы невнимательной. Там тоже была речка, в сказке. И печка. И слово какое-то смешное… Что-то там Баба-яга заставляла девочку делать… Кудель прясть! Точно! Пряжа – вот почему Пряжка! Тогда все подходит: и длинная, и извилистая!
Пациент так обрадовался этому выводу, что даже хлопнул в ладоши и похвалил себя. Не вслух, конечно. Хотя подслушивать его было некому, в палате своей Пациент жил один. Но все равно сказал, только мысленно: «Молодец, Пациент! Хоть ты и в сумасшедшем доме, а не дурак!»
Он сам так себя и называл – Пациент. И доктор Привродский тоже его так называл. Потому что доктор не знал, как Пациента зовут. И Пациент не знал. Ну, то есть знал когда-то. Наверное. А сейчас не знал.
Он вообще мало что знал. Но с каждым днем узнавал все больше. Знал, что год нынче тысяча девятьсот двенадцатый. Что живет он в России. Сейчас вот пребывает он в левом крыле больницы Святителя Николая в Петербурге. И Петербург тоже в России. Главный город, тут живет царь. У царя имя было, тоже Николай. Пациент знал, что больница эта для тех, кто с собой не в ладу. Знал, что речка под окном – та самая Пряжка. А за мостом – Мойка. Еще одно смешное название. Знал, что умеет читать. И писать. Без ошибок и красивым почерком. Этому почему-то обрадовался доктор Привродский. Да так, что теперь в палате у Пациента стоял маленький столик с бумагой, пером и чернильницей, и каждый день нужно было записывать самое важное, что возникало в голове.
Решив, что за сегодня ничего важнее его рассуждений о природе названия речушки не случится, Пациент сел за столик и быстро записал надуманное. Про гусей-лебедей, конечно, не стал – только главное. Перечитал. Еще раз себя похвалил. Подумал про Мойку. Ну, тут все ясно. Или мыли что-то, и мылись сами. Потому и Мойка. Просто-то просто, но про Мойку почему-то думалось волнительнее, чем про Пряжку. Решил записать и это.
В замке повернулся ключ, дверь приоткрылась, и в образовавшийся зазор просунулась седая голова с огромной залысиной и в пенсне на шнурке. Голова осмотрелась, поводила донкихотовской бородкой – и в палату вслед за головой проникло и туловище в черном костюме, с руками, ногами и жилетом.
– Не спите, уважаемый?
– Не сплю, доктор. А кто такой Дон Кихот?
Доктор нахмурился, отчего пенсне слегка перекосилось, но на носу удержалось.
– Дон Кихот? Это такой чудак из книжки. А вы откуда его знаете? Я же пока не велел вам давать книг.
Пациент пожал плечами, открыто улыбнулся.
– Нет у меня книг. Я просто увидел вас сейчас и подумал, что у вас точь-в-точь донкихотовская бородка. Как думаете, мне бы пошла такая?
– Когда вас нашли, у вас была скорее тургеневская. Так-так-так. – Доктор подошел к столику, взял исписанный листок, пробежал глазами. – Интересно… Логическая цепочка… А что про Мойку? Отчего волнение?
– Кабы знать, Петр Леонидович. Просто подумал: Мой-ка. И что-то шевельнулось. Вот опять. Мой-ка.
Пациент наклонил голову к плечу, будто прислушиваясь. Еще раз повторил про себя, одними губами.
– Вы знаете, уважаемый мой Пациент… – Доктор сел напротив, скрестил на груди руки. – Мне думается, это обнадеживающий знак. Возможно, это первые робкие шаги просыпающейся памяти. Пожалуй, мы с вами сделаем вот что: во-первых, я велю принести вам какую-нибудь книжку. Ну, хоть бы и «Дон Кихота», коль он к вам явился в моем образе. А во-вторых, мы с вами на днях прокатимся в город. Проедем по этой самой Мойке. Как вам мои мысли?
Мысли Пациенту понравились. Обе. Но, памятуя о прошлом опыте, выразил свой восторг он сдержанно, дабы не получить пилюль, от которых мысли собственные невозможно было собрать ни в какую стройную конструкцию. А ясность ума ему была необходима: очень хотелось подумать о загадочной Мойке в одиночестве.
Доктор померил Пациенту пульс, постучал по груди кончиками пальцев, послушал дыхание смешной трубкой, похожей на духовой музыкальный инструмент, и попрощался.
Этот загадочный Пациент появился в жизни профессора Привродского совершенно случайно. Хотя какая уж тут случайность: все его коллеги знали, что Петр Леонидович, увлекшись трудами Корсакова[4] и Бехтерева[5], с огромной страстью ринулся в пучину тайн человеческого сознания. Что очень интересует его именно та область мозга, что отвечает за накопление знаний и сохранение их в памяти. Что ради ежедневного наблюдения за душевнобольными променял он университетскую кафедру и большую часть весьма громкофамильной клиентуры на халат врача в больнице Святого Николая Чудотворца. И что немедленно откликается он на все случаи, когда у пациентов память начинает сбоить несоответственно возрасту. Потому, получив в начале ноября от университетского приятеля, а ныне главного врача Киевской Александровской больницы, пространное письмо об очень интересном пациенте, не помнившем даже собственного имени, он незамедлительно выехал в Киев.
Пациент и в самом деле был уникальным. В начале сентября его в бессознательном состоянии, сильно избитого, нашли на днепровской отмели рыбаки. Ни бумажника, ни документов. Конечно, можно было бы предположить, что бумажник сами рыбаки и присвоили, но у несостоявшегося утопленника остались золотые часы и дорогие запонки.
Почти два месяца найденыш не приходил в себя. Объявления с описанием внешности, напечатанные в местных газетах, ничего не дали – никто из откликнувшихся мужчину не признал. Кормили неопознанного пациента через трубку, залечивали раны, надеясь, что, очнувшись, тот не оставит данные усилия без благодарности, – часы и запонки эту надежду грели, хороший костюм и дорогие ботинки ее усиливали. Но увы: открыв октябрьским утром васильково-синие глаза, похудевший пациент обвел палату прозрачным взглядом, сфокусировал его на сиделке и начал задавать вопросы. В основном те же, что волновали и лечащих его врачей: кто он, как здесь оказался и что с ним случилось?
Понаблюдав за таким поведением пару недель, главный врач и составил то самое письмо своему столичному однокашнику.
Петр Леонидович примчался на зов, долго беседовал с загадочным пациентом – сначала в присутствии главного врача, после наедине. И, не сумев выбрать между ретроградной амнезией и диссоциативной фугой, велел готовить больного к переезду в Петербург.
Пациент был многообещающий в смысле монографий и публикаций в медицинских журналах. Потому как, совершенно не помня себя, обнаружил признаки хорошего воспитания и, возможно, образования. Правда, тоже обрывочные. Например, с удивлением откликался на географические знания – известие, что он живет в Российской империи, воспринял с энтузиазмом пятилетнего ребенка. Но календарь его не удивил, а название проплывшего по еще не замерзшей Пряжке речного пароходика прочитал и даже прокомментировал:
– Надо же, «Добрыня». Должно быть, где-то и «Илья Муромец» с «Алешей Поповичем» волны рассекают.
Поняв, что Пациент умеет читать, Петр Леонидович попробовал нащупать профессию через книги. Но от книг у больного закружилась голова и случился обморок. Пришлось книги заменить на ведение дневника.
Потому наутро после разговора о Мойке, Пряжке и Дон Кихоте профессор лично принес книжку о сумасшедшем идальго своему подопечному и остался понаблюдать. Но Пациент спокойно погрузился в чтение, приступов не намечалось – видимо, ежедневные письменные занятия приучили уставший мозг к длинным черным строчкам.
Решив для себя, что завтра, пожалуй, можно будет провести эксперимент с чтением газет, Петр Леонидович продолжил обход.
22 февраля 1912 года. Санкт-Петербург, больница Святителя Николая. 10 часов 12 минут
Принесенный через день выпуск «Петербургской газеты» Пациент читал странно: не обратил никакого внимания на театральные анонсы, по диагонали изучил политические новости, а вот разворот с происшествиями прочел внимательно, хмуря брови, шевеля губами и почесывая только что выбритый подбородок. Петр Леонидович сделал пометку в своем журнале, вышел и вернулся через минуту с бумажным свертком.
– Вот, сударь, одевайтесь. Прокатимся вдоль Мойки, как собирались.
В свертке оказался отутюженный и починенный костюм Пациента, его же ботинки, галстук и новая сорочка.
Испытывая понятное волнение, Пациент оделся, обулся, без какой-либо заминки завязал шнурки (о чем в профессорском журнале тут же появилась соответствующая запись), ловко пристегнул воротничок, взял в руки галстук – и замер. Но лишь на мгновение – закрыл глаза, быстро работая бледными пальцами, так и не поднимая век, завязал идеальный узел, опустил уголки воротничка и с довольной улыбкой посмотрел на доктора. Тот бесшумно поаплодировал, взял своего визави под локоть и вывел из палаты.
– Пальто и шляпу я для вас одолжил у своего зятя, он несколько полнее вас, но роста вы одного. Ботинки ваши, конечно, не по сезону, ну да ничего, укроем вас в санях пледом. Да мы и ненадолго, не успеем простудиться.
Хмурое зимнее утро никак не хотело светлеть. Небо висело так низко, что черные вороны, облепившие окружающие больницу голые вязы, попрятали головы в плечи и отказывались взлетать. Сани выехали за ворота, перемахнули через Матисов мост и медленно заскользили по правому берегу занесенной январским снегом Мойки. Пациент с интересом разглядывал безрадостный зимний пейзаж, вертел головой, забывал моргать широко распахнутыми глазами, поминутно задавал вопросы о проезжаемых зданиях. Нахмурился на мрачных стенах Новой Голландии, поахал на Юсуповскую роскошь.
«Ребенок, ей-богу. Ему бы петушка на палочке», – подумал профессор, отвечая на очередное «а это что». И вдруг Пациент привстал, не обращая внимания на упавший плед.
– Исаакий! Я знаю это место!
– Стой! – Привродский натянул поводья. – Поворачиваем на площадь.
В собор профессор входил со странным чувством: вроде бы самое место и время, чтоб попросить высшие силы о помощи, но в высшие силы просвещенный доктор не верил. Потому вздохнул и продолжил наблюдать за взволнованным Пациентом. Но тот покрутил головой, сморщил нос на восковой запах, пару минут постоял у витража – да и направился к выходу. Чуда не случилось.
Пациент задержался на площади, с надеждой вдыхая морозный воздух, сосредоточенно пощурился на «Асторию», но, ничего не сказав, уселся в сани. Двинулись дальше.
Докатили до Спаса, по Михайловскому мосту перебрались на другой берег. Минут пять постояли, пока Пациент молча разглядывал пустое заснеженное Марсово поле и золотой шпиль Инженерного замка, и тронулись в обратную сторону. У Конюшенного моста чуть было не попали в неприятное положение: Пациент отчего-то разволновался, вскочил на ходу на ноги, плюхнулся, не устояв, обратно на подушку. Ему-то ничего, да вот доктор отвлекся и едва не сшиб барышню, намеревавшуюся перейти улицу со стороны Мошкова переулка. Петр Леонидович, разумеется, снял на ходу шляпу, крикнул «пардон» и даже успел поклониться и извинительно прижать к груди руки, а позже еще с минуту пенял своему подопечному за такое неожиданное проявление чувств.
А барышня, взойдя на мост, долго еще стояла, ухватившись обеими руками за перила и глядя туда, куда уехало чуть было не травмировавшее ее транспортное средство. Видно, сильно напугалась, бедняжка.
22 февраля 1912 года. Санкт-Петербург, Мойка. 11 часов 42 минуты
Бедняжка напугалась не сильно. Зина стояла на мосту, хмуря брови и пытаясь понять, кого ей напомнил этот молодой человек в проскрипевших мимо санках. Вернее, старалась убедить себя в том, что совершенно он не похож на того, кого ей напомнил. Из задумчивости ее вывел оклик:
– Зинаида Ильинична?
Доктор Ганзе стоял у крытого возка, приткнувшегося к углу здания. Увидев, что Зина его заметила, он приподнял шляпу, дождался, пока девушка к нему подойдет, распахнул дверцу и протянул руку. Минуту спустя он уже давал наставления своей спутнице:
– Доктор Привродский – человек особенный. Собственно, особенный он не как человек, а как раз как доктор. Человек-то он вполне заурядный. Даже скучный. А вот как медик… Он, посвятив всю жизнь одной стезе, несколько лет назад круто поменял специализацию. И теперь в частном порядке консультирует ограниченный круг лиц вашего пола по первому профилю, а официально практикует как врач в, простите, желтом доме. Вы уж не обессудьте, но и вас принять он согласился там. Но не пугайтесь, у него совершенно изолированный кабинет, ни с кем из обитателей этого скорбного заведения вы не столкнетесь, разве что они увидят вас через окна. Но окна есть только у спокойных, так что не переживайте, никаких вредящих душевному спокойствию сцен случиться не должно. Да и поверьте, стоит рассказать Петру Леонидовичу также о ваших тревогах, уверен, ему найдется что вам посоветовать.
За этим сбивчивым инструктажем под убаюкивающий скрип полозьев они докатили до «Пряжки». Так пренебрежительно называли в народе больницу Николая Чудотворца – не по имени святого угодника, а по гнилой речушке под окнами.
Из одного из домиков, парно караулящих въезд в больничный сад, выбежал усатый привратник в фуражке без кокарды и накинутой на плечи овчинной дохе, заглянул в окошко возка.
– Доктор Ганзе, Феликс Александрович. К доктору Привродскому. Нас ожидают.
Усач молча кивнул, замешкался, но все-таки вскинул руку к козырьку и заспешил к воротам.
Профессор ждал их на крыльце. Пожал руку доктору, снял шляпу перед Зиной, придержал дверь.
В маленьком и несколько захламленном, но очень уютном кабинете Петр Леонидович усадил своих гостей в необычайно мягкие кресла, распорядился через дверь кому-то невидимому насчет чая и, пока его несли, отрекомендовался сам и выслушал представление Зины. Это заняло не более минуты, но этого времени оказалось довольно для того, чтобы дверь снова открылась и миловидная девушка в форме сестры милосердия вкатила небольшой столик на колесиках с фарфоровым сервизом, окружившим пузатый чайник. Хозяин кабинета сам разлил чай по чашкам, уселся не за стол, а в третье кресло, долго протирал пенсне, наконец водрузил его на нос, улыбнулся и произнес:
– Нуте-с, с чем пожаловали? Зинаида Ильинична?
Зина ждала этого вопроса и готовилась к нему, полагая, что профессор станет конспектировать ее слова, но, видя, что тот покойно качает ногой, закинутой на другую, и выжидательно смотрит на нее поверх сцепленных под седой бородкой рук, немного растерялась, обернулась к доктору Ганзе.
– Начните с вашей предыдущей беременности, – посоветовал Феликс Александрович. – Не смущайтесь, вы у доктора. Даже у двух.
Рассказ занял около четверти часа. События более чем двухлетней давности оживали в памяти, проступали в словах, иногда стекали по щекам слезами, размеренно вплетались в тиканье настенных часов, иногда прерывались недолгими паузами.
– И верите ли, я совсем уж было отчаялась. А тут вот. Не иначе как чудо Господне.
Профессор Привродский расцепил руки, удовлетворенно кивнул.
– Чудеса на свете случаются, но думается мне, что необъяснимость их лишь временная, от неполноты нашего знания. Но вера способна исцелять, и это как раз вполне объяснимо с точки зрения психиатрической науки. Уверен, что здесь как раз такой случай. Бумаги мне ваши Феликс Александрович присылал, и я полностью согласен с его выводами о вашей способности к материнству. Но коль уж вы приехали, я, разумеется, проведу осмотр. Хотя не сомневаюсь, что вы уже можете разделить ваше тайное знание с супругом и будущим отцом. А что касается здоровья душевного, то довольно будет лишь пару раз в месяц нам с вами беседовать – вам не повредит, а мне, старику, будет приятно.
Еще через полчаса Зина, с трудом сдерживая радостную улыбку, усаживалась в возок, поддерживаемая под руки обоими эскулапами. Домой, скорее домой!
23 февраля 1912 года. Санкт-Петербург, Екатерининский канал. 9 часов 17 минут
Адресный стол находился совсем рядом, в четвертом участке Спасской части – через канал перейти, и вот он, дом с пожарной каланчой. Потому Константин Павлович и не стал тратить время ни на телеграммы, ни на телефон. Ногами хоть и не быстрее, но для здоровья полезнее. Тем более что утро выдалось пусть и морозное, но на удивление ясное, солнечное. Потому, записав имя нужного ему служащего – Ефимий Карпович Тилов, – Маршал надел пальто, надвинул на глаза шляпу, спустился, закурил у крыльца и неспешным шагом направился через скрипучий мост, довольно щурясь на отражающееся в окнах солнце.
В потребном ему кабинете было хоть и немноголюдно, но шумно. У конторки стояла закутанная в платки баба с ребенком на руках и что-то тихо лепетала возвышающемуся над ней упитанному важному чиновнику с роскошными седоватыми полубаками на изрядно уже покрасневшем лице. Он-то весь шум и производил, не стесняясь ни посетителей, ни своего сидящего рядом коллеги:
– Да что ж за глупая баба! Я тебе в тысячный раз объясняю, и, кажется, совершенно ведь русским языком: чтобы я тебе его нашел, мне надобно фамилию знать! Фа-ми-ли-ю!
Посетительница снова что-то чирикнула, чем вызвала очередное изменение в цвете лица чиновника и новую громкую тираду.
– Да что мне с того, что он Фрол? Да ты знаешь, дура, сколько в Петербурге Фролов? Во всем должен быть порядок. Гляди, – он указал пальцем на высокие ряды стеллажей за его спиной. – Два мильона жителей в этих ящичках! Все по фамилиям отсортированы! Где я тебе там найду твоего Фрола? Поди! Поди прочь, а то, ей-богу, живо устрою тебя в кутузку за доведение государственного человека до апоплексического удара!
Просительница вздохнула и вышла. Грозный чиновник, не замечая устроившегося в углу Маршала, с облегчением бухнулся на стул, вытер лицо громадным, размером в скатерть, клетчатым платком, и продолжил, обращаясь к своему коллеге, тощему господину инородной внешности, в монокле и с зачесом, как у Александра Благословенного:
– Вот, полюбуйтесь, Карл Карлович! Сперва, фамилии не спросив, ребенка какому-то проходимцу родила, без родительского благословения, без венца! А теперь сыщи, говорит!
Карл Карлович поднял бровь, сухо ответил:
– Так чего ж вы хотите, Ефимий Карпович? Абсолютно бесправное существо. И вы еще будете меня уверять, что в России не требуется перемен.
Только было начавший возвращаться к нормальному цвету лица, Ефимий Карпович опять покраснел и засверкал глазами:
– Вы снова за старое? Вам опять и здесь устройство государственное не угодило? Что ж, будь у нас парламент, не обрюхатил бы ее этот бесфамильный Фрол?
– Будь у нас справедливое государство, эта несчастная имела бы какое-никакое образование и профессию. И самосознание не в зачаточном уровне. Глядишь, и не попала бы в столь затруднительное положение. Да и перед «государственным человеком» так не тряслась бы. А все, простите, от того, что главный государственный человек продолжает «кухаркиных детей» опасаться[6].
Ефимий Карпович от возмущения хватанул ртом воздуха, округлил глаза чуть не больше очков-половинок.
– Ах, вот вы уже как заговорили, господин Лисецкий! Вам, стало быть, уже и государь не угоден. Может, вы, милостивый сударь, социалист? Так выйдите-ка из-за стола да отправляйтесь лично спасать всех сирых да убогих. Вам образование позволит крестьянских детей от тьмы к свету обращать! А то ступайте на баррикады, вас там как раз и не хватало!
Теперь уже быстро захлопал глазами невозмутимый до сей поры Карл Карлович.
– Вы же прекрасно осведомлены, что я не поклонник революций! Революция ужасна, она доводит хороших людей до желания вешать и расстреливать! Но увы, у меня складывается впечатление, что сами управители близят это роковое событие. И если сейчас не сделать укорот единовластию, то, поверьте, баррикад будет много больше, чем мы видели с вами несколько лет назад. И реки кровавые будут не в пример шире! А ведь между тем есть чудный пример – вы посмотрите на Англию!