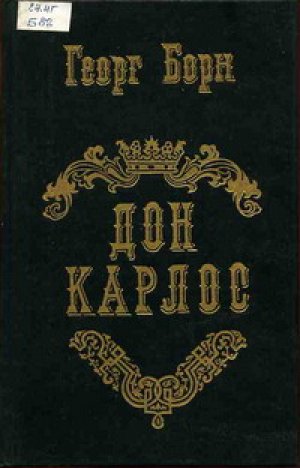
ЧАСТЬ III
I. Миндальный цветок
В первом этаже роскошного дома на Пуэрто-дель-Соль жила обожаемая всеми донами Мадрида андалуска Альмендра.
Во всей столице ни одна сеньора не могла соперничать с ней в красоте. Говорили, что она ловко умела извлекать для себя пользу из ухаживаний множества поклонников, но дальше поцелуя руки, согласия на лишний танец или небольшой ужин не заходил ни один из них, и это делало ее еще более привлекательной в глазах поклонников.
Никогда, однако же, не замечали вней тщеславия и гордости; она со всеми всегда была мила, проста и скромна и, действительно, напоминала цветок. Многие считали все это комедией, притворством. Но все было так естественно и прелестно, что оставляло самое приятное впечатление.
Из всех своих обожателей Альмендра предпочла маркиза де лас Исагаса. Он действовал не так, как другие, — самоуверенно и дерзко, по нему видно было, что он действительно любил ее, и это привлекало Альмендру. Он был счастлив от ее взгляда, улыбки, возможности посидеть и поговорить с ней. Молодому, неопытному офицеру казалось, что и она его любит; он хотел жениться на ней.
И Альмендра, со своей стороны, думала, что любит его. Ей приятно было видеть около себя любящего Горацио де лас Исагаса, и, несмотря на всеобщее поклонение и ухаживания, она не позволяла себе изменить ему даже взглядом, считая это нечестным и дурным.
Богатый маркиз окружил свою прекрасную возлюбленную такой роскошью, которая была ему не по средствам. Он пользовался огромной рентой, но ее было недостаточно, чтобы делать все то, что он делал для Альмендры. Она и не подозревала, на какие огромные жертвы маркиз шел ради нее, хотя не раз умоляла его не делать дорогих подарков. Он не слушал. Ему доставляло наслаждение окружать любимую женщину роскошью. Не думал ли он этим прочнее привязать ее к себе? Не считал ли, что девичье сердце можно завоевать подарками?
Но вскоре ему пришлось убедиться, что самые роскошные подарки перестают иметь значение, когда в сердце девушки возникает истинная, до сих пор еще неизведанная любовь.
С новой жизнью души все начинает меняться: и чувства, и поступки. То же произошло и с Альмендрой в последнее время.
Она грустно сидела в своем роскошном будуаре, но его роскошь не занимала ее больше. На маленьком мраморном столике лежал новый футляр с драгоценностями, потихоньку подложенный маркизом, чтобы удивить и обрадовать ее, но она на него и не взглянула.
Было утро.
На окнах благоухали цветы, попугай выкрикивал забавные фразы — она ничего не слышала. Камеристка, по обыкновению, принесла букет и записку от маркиза — она не заметила и этого; ее бледное лицо затуманилось, большие черные глаза задумчиво смотрели в пространство; охваченная сильной тоской по родине, Альмендра неподвижно глядела в одну точку, уносясь душой куда-то далеко.
Легкое светлое утреннее платье не скрывало ее грациозной фигуры; роскошные пряди черных волос, выбившиеся из прически, небрежно падали на плечи. Глубокое страдание и тревожная борьба видны были в каждой черте ее побледневшего лица. Куда девалась прежняя веселая, беззаботная красавица?
Альмендра взяла гитару и тихонько стала напевать одну из тех берущих за душу народных песен Андалусии, авторов которых никто не знает; в ней пелось о несчастной любви двух молодых людей, и грустный мотив вполне выражал состояние души Альмендры.
Камеристка принесла на серебряном подносе шоколад и печенье; она попробовала, но все казалось ей безвкусным.
Ее преследовало воспоминание о незнакомце. Что-то странное, неведомое притаилось в ее душе, там были и тоска по нему, и неодолимое желание видеть его, и какой-то страх; она не могла надеяться когда-нибудь сойтись с ним, ведь все знали, что она — возлюбленная маркиза! Ее окружало богатство, но она была обязана им прихоти человека, которого не любила; да, теперь она ясно сознавала, что не любила маркиза.
Альмендра любила незнакомца! Но ведь она танцевала в салоне дукезы, она была из числа женщин сомнительной репутации, заглушавших укоры совести шумными удовольствиями, роскошными нарядами и бриллиантами!
А теперь ее стало мучить раскаяние. Как она завидовала сейчас каждой бедной девушке, не растерявшей себя, как она, в погоне за удовольствиями.
Ужас наполнял ее душу при мысли, что тот, кого она любит, мог узнать о ее образе жизни… Что если он станет презирать ее?
В последнюю встречу с ним ей показалось, что и он ее любит. Они обменялись лишь несколькими словами, он был чрезвычайно сдержан, но под наружной холодностью, она знала, может таиться самое пылкое чувство.
Неужели это был действительно тот, кого он так напомнил ей!
Спросить его она не решилась и теперь мучилась неизвестностью. Одно она знала — что принадлежит ему всем сердцем!
Наступил вечер — Альмендра этого не заметила. Пришла камеристка одеть ее — она не сопротивлялась. Маркиз должен был прийти — она не думала о нем. Только увидев в зеркале свой розовый шелковый наряд, цветы, вплетенные в роскошные волосы, и на шее дорогое жемчужное ожерелье, подарок Горацио, прекрасная, бледная Альмендра пришла, наконец, в себя. Жемчуг тяготил ее — она его сняла; бриллиантовые серьги тоже мешали — она сняла и их. Что ей хотелось? Она и сама не знала.
Камеристка вошла в комнату и таинственно шепнула, что видела незнакомца там, в тени соседнего дома. Альмендра вздрогнула, окончательно придя в себя. Это известие оживило ее. Он отыскал, где она живет, пришел! Теперь можно не сомневаться, он ее любит!
В эту минуту раздался звонок. Альмендра испугалась. Она знала, кто обычно приходил к ней в эти часы, но сегодня вдруг подумала, не незнакомец ли это?
Дверь отворилась — на пороге стоял маркиз.
Он приехал везти ее в оперу, но тотчас понял, что его не ждали. Альмендра была не готова и не спешила встретить его.
Горацио, однако, не хотел обращать на это внимания; он боялся признаться себе самому в своих опасениях, потому что слишком сильно любил молодую женщину. Маркиз был славный, красивый молодой офицер, он мог надеяться быть любимым.
— Я приехал за тобой, Альмендра, — сказал Горацио, подходя к пей, — ты, кажется, не ждала меня?
— Останемся, мне не хочется ехать сегодня.
— Какая ты бледная, что с тобой?
— Не спрашивай! — прошептала она.
— Полно, поедем! Я сам надену тебе новые драгоценности, позволь мне сделать это!
— Нет, не украшай меня ничем!
— О, я знаю, что ты хороша и без украшений, Альмендра, но мне хотелось сделать тебе сюрприз…
Горацио искал глазами бриллианты, которые накануне вечером, уходя, тихонько положил на столик. Оказалось, что она и не открывала еще футляр.
Альмендра вздрогнула; в ней шла сильная внутренняя борьба; она понимала, что не может обманывать человека, который жертвовал ради нее всем.
— Останемся дома, — ласково просила она, подавая ему руку, — сегодня всякое шумное удовольствие будет мне слишком тяжело!
— С некоторого времени ты стала совсем другая,
Альмендра, — сказал Горацио, целуя маленькую протянутую ручку. — Что это значит?
— Ты должен узнать все, — отвечала она, подходя к креслам. — Садись здесь, возле меня, я расскажу тебе о моем прошлом.
— Но почему ты вдруг заговорила о прошлом, Альмендра? Давай жить настоящим.
— Выслушай, — серьезно сказала молодая девушка. — Мой долг — откровенно рассказать тебе все, и тогда ты оставишь меня.
— Оставить тебя? Никогда! — бурно вскричал Горацио. — Каково бы ни было твое прошлое, я не оставлю тебя!
— Садись и слушай. Я была бы недостойной женщиной, если б не рассказала тебе обо всем!
— Ты пугаешь меня, никогда ты еще не была такой!
— Выслушай мою историю, тогда ты поймешь то, что я теперь испытываю… Я ничего от тебя не скрою. Отец мой, Хуан Рюйо, был бедный ремесленник в Гранаде, я совсем не знала его, потому что он умер вскоре после моего рождения. Мать — больная, беспомощная женщина — стала посылать меня просить милостыню, как только я подросла.
Вся в лохмотьях, сидела я, скорчившись, на паперти, протягивая руку прохожим. Вечером я возвращалась к моей бедной матери, отдавала ей все, что собрала, и рано утром снова возвращалась на прежнее место. Так продолжалось до тех пор, пока мне не исполнилось восемь лет, и тут умерла моя мать.
Маленькая Белита осталась сиротой!
Стоя на коленях у постели покойницы, я в отчаянии плакала; у меня никого больше не было на свете, кто бы любил меня. Я была совершенно одинока, но, еще слишком мала, чтобы понять весь ужас своего положения. Проводив мать на кладбище, я глядела, горько плача, как ее опускали в темную страшную яму, как вдруг около меня очутился высокий мужчина с очень серьезным лицом. Он узнал от патера, что я круглая сирота. Незнакомец взял меня за руку… Я взглянула на него полными слез глазами… Он был совершенно чужим для меня, но я его не боялась, напротив, его серьезное доброе лицо внушало доверие… Мне вдруг пришло в голову, что этот человек, так внезапно очутившийся здесь, мой отец, увидевший мои слезы и вставший из могилы. О Горацио! В детстве бывают такие чудесные грезы!
Высокий незнакомец спросил, как меня зовут, и потом мы вместе отправились к кому-то из городских властей.
Я помню, что все чиновники, с которыми он говорил, относились к нему с большим почтением и хвалили его за великодушие. После этого он купил мне простую, но хорошую одежду и увез меня из Гранады.
— Это был кто-то из твоих дальних родственников? — спросил Горацио.
— Нет, это был просто благородный, великодушный человек, принявший к себе бедную сироту Белиту Рюйо, чтобы воспитать ее, как свое родное дитя.
— Он сделал благородное дело, Бог воздаст ему за это!
— Его давно уже нет на свете!
— Как же его звали, и куда он тебя увез?
— Он был алькальдом местечка Виролы недалеко от Гранады, звали его Царцароза. Приехав, он поместил меня в своем доме. Хозяйство у него вела специально нанятая для этого старуха, так как с женой он давно разошелся. От жены у него был сын Тобаль, молодой человек лет восемнадцати. Я стала называть его братом, а он меня — сестрой, он относился ко мне с братской заботой. Алькальд тоже любил меня, одна старуха ворчала, дурно обращалась со мной, называла нищей, говорила, что из-за меня ей приходится делать лишнюю работу! При алькальде и Тобале она, однако, молчала. Несмотря на это, я с благодарностью в сердце продолжала жить в их доме и прилежно учиться. Тобаль сам занимался со мной, и я относилась, к нему с большим уважением. Мало-помалу я полюбила его, как родного брата; Тобаль и сам не мог обходиться без меня, окружал меня самым нежным вниманием, дарил разные мелочи, какие я видела у других девочек и какие мне втайне тоже хотелось иметь.
Так росла я до двенадцати лет, как вдруг рухнуло мое счастье, я снова лишилась крова и радости так же внезапно, как и нашла их. Раз Тобаль назвал меня своим дорогим другом и поцеловал. Старуха это увидела; теперь ее ненависть ко мне нашла выход.
Старуха сейчас же побежала к алькальду и сказала, что я соблазнила его сына.
Серьезный алькальд, никак этого не ожидавший, сильно рассердился. Я была еще слишком молода и неопытна, чтобы понять, в чем дело; поняла только, что нарушила мир в семье своего благодетеля, и тотчас приняла твердое решение. Написав алькальду письмо, в котором благодарила его за все и прощалась с ним, я ушла из дома, где провела счастливейшие дни своей жизни, ушла с тяжелой грустью в сердце. Опять я была сиротой, но другого выхода не было. С тех пор я больше не видела ни алькальда, ни Тобаля. Спустя некоторое время после моего отъезда из Виролы я случайно узнала, что тогда между отцом и сыном вышла ссора, и Тобаль тоже ушел из дома.
Вскоре алькальд умер; узнав об этом, я помолилась о душе благородного человека, которого продолжала любить, как отца!
— Куда же ты пошла, уйдя от него? — спросил Горацио.
— Мне было двенадцать лет, физически я была развита не по годам — и в это-то время очутиться брошенной на произвол судьбы! Воспоминания об алькальде и Тобале не покидали меня. Уйдя из Виролы, я пошла на север, без цели, без друзей, без опоры!
— Бедная Белита! — с участием проговорил Горацио.
— Через некоторое время я узнала, что Тобаль после смерти отца отправился в Мексику и поступил там на службу к императору Максимилиану, записавшись в солдаты. Вероятно, его там убили.
— Ты все о Тобале рассказываешь, скажи что-нибудь о себе!
— Сначала я пришла в Кордову, потом в Толедо. Я рвала цветы в лесу в окрестностях города, плела венки, вязала букеты и продавала гуляющим. Все охотно покупали их у меня, и корзина моя быстро пустела. Между тем я стала уже взрослой девушкой и в это-то время пришла в Мадрид. Тут я познакомилась с Пепильей; мне понравился ее веселый характер, я была бедная девушка, без матери, без всякой опоры, жизнь влекла меня к себе, и шаг за шагом, следуя за Пепильей, я, смеясь и не понимая, что теряю, забыла добродетель и собственное достоинство; наряды, танцы, музыка соблазнили меня; Пепилья поддерживала это словом и примером. И я все больше и больше погружалась в беззаботную легкую жизнь! Забыто было прошлое, образы алькальда и Тобаля, так долго служившие мне путеводной звездой! Смолк, наконец, и голос совести! Меня ослеплял блеск обстановки и сладкие слова молодых поклонников… Так проходил год за годом, как в тумане…
— Пока я не встретил тебя и не признался в любви!
— Да, Горацио, ты был добр к Белите, названной теперь Миндальным Цветком, я никогда не забуду твоей доброты и любви. Ты вырвал меня из этого водоворота и сделал для меня так много! Оттого-то бедная Белита и просит тебя остаться ее другом…
— Другом? Но ты знаешь, как горячо я тебя люблю! Я хочу, чтобы ты была моей.
— Этого никогда не будет, Горацио, никогда! Белита будет вечно благодарна тебе, но любить тебя так, как ты этого заслуживаешь и как ты сам любишь — она не может!
Горацио вскочил и, сильно побледнев, глядел на Альмендру широко раскрытыми глазами…
— Ты не можешь любить меня? — почти беззвучно сказал он.
— Не сердись, Горацио, ты должен был, наконец, узнать правду. Выслушай меня спокойно. Я была бы дурной, презренной женщиной, если бы не сказала тебе всего. Я не могу любить тебя, потому что не заслуживаю твоей любви.
— Так это правда, ты любишь другого?
— Успокойся, Горацио, не делай расставание еще тяжелей, оно ведь неизбежно! Да, я люблю того незнакомца, которого встретила на улице. Он напомнил мне Тобаля, но Тобаля ведь уже нет на свете! Незнакомец так похож на него, что воспоминания проснулись во мне с прежней силой, прежняя любовь вспыхнула еще ярче, и с этой минуты я поняла, что не люблю тебя, не заслуживаю твоей любви! Напрасно я боролась с собой… О, сжалься, — умоляла Альмендра, упав на колени и протягивая к нему руки, — прости, я не могу изменить себе. Обрати свою любовь на кого-нибудь достойнее меня… Не проклинай меня… Теперь ты все знаешь…
— Ты меня не любишь… — прошептал Горацио и, закрыв лицо руками, зарыдал.
Невыразимое отчаяние овладело молодым человеком… Он страшно страдал.
Альмендра видела это, ей больно было глядеть на него… Она заплакала, стала умолять его…
— Не плачь, пожалей меня! — просила она дрожащим голосом. — Будь другом бедной Белите… Но не требуй больше ничего!
— Ты любишь незнакомца! — проговорил, наконец, Горацио! — Теперь я знаю, что нас разъединяет. Он встал между мной и тобой! Но моя любовь так велика, что я не в состоянии перенести даже мысль о том, чтобы увидеть тебя в объятиях другого. Оружие решит, кому из нас остаться: ему или мне!
— Пощади!.. Что ты хочешь делать? — в отчаянии вскричала Альмендра.
— Найти его! Один из нас должен умереть! Ты еще не знаешь всей силы моей страсти. Если ты не можешь принадлежать мне, так не будешь принадлежать и ему! Только моя смерть может отдать тебя ему!
— Так убей лучше меня, — молила Альмендра, ломая руки, — смерть избавит меня от этого мучения и все решит!
— Нет, тут ты ничего не сможешь сделать! Он или я…
Горацио быстро пошел к двери…
— Постой! Сжалься! — крикнула Альмендра в смертельном испуге.
Горацио еще раз обернулся к ней… Казалось, невыразимое страдание охватило его… Он не мог уйти от любимой женщины, не взглянув на нее еще раз!
Быстро повернувшись, он бросился к ней и прижал к своему сердцу.
— Ты не любишь меня, Альмендра! — сказал он почти беззвучно, и в этих немногих словах было такое страдание. — А я только для тебя и живу! Зачем ты это сделала? Зачем небо отнимает у меня мое блаженство? Ты не виновата, я прощаю тебя. И зачем только ты встретила его?
— О, вот ты и успокаиваешься… Теперь ты будешь добрее и мягче!
— Успокаиваюсь? Если б ты знала, что во мне происходит! Прощай, ты услышишь обо мне! Все должно разрешиться во что бы то ни стало!
— Останься, не уходи от меня в таком раздражении! Ты видишь, как я страдаю!
— Не я виновник твоих страданий. Моим главным желанием всегда было одно — сделать тебя счастливой!.. Теперь же остается только один выход: я или он!
Альмендра хотела удержать Горацио. Но он вырвался от нее. Она хотела броситься за ним… Он кивнул ей еще раз на прощанье и выбежал из комнаты.
— Горацио!.. — проговорила Альмендра дрожащим голосом.
Но он был уже далеко и не слышал ее… Пронзительно вскрикнув, она упала без чувств на ковер.
II. Бой у Картахены
Число партий в Испании все увеличивалось. После того как король Амедей отказался от трона, обстоятельства приняли еще худший оборот, провозглашение республики под управлением Кастелара не принесло мира. Страна была в состоянии брожения. Никто не знал, что выйдет из этого. Большинство убедилось теперь в одном: Кастелар не способен управлять событиями и дать мир Испании. Каждая партия хотела первенствовать, проводить свои идеи и осуществлять свои планы.
Прекрасная, богато одаренная природой страна погрузилась в пучину бед. К несчастью, ее заразил еще и пример Франции: французская коммуна нашла сторонников в Испании.
В Картахене дошло до открытой вражды между этой новой партией и правительством, вражды, вылившейся в борьбу, которая приняла огромные размеры.
Теперь правительство, бывшее не в состоянии достаточно энергично и успешно действовать против карлистов, вынуждено было бороться еще и против этой новой силы, начинавшей на востоке Испании ожесточенную борьбу с оружием в руках.
Многие любимые войсками известные генералы оставили свое поприще, как только была провозглашена республика, поскольку они принадлежали к другим партиям; в том числе оставили службу Серрано и Топете.
Маршал, бывший регентом Испании после изгнания королевы Изабеллы, жил теперь исключительно семьей.
Энрика, осчастливившая его большим семейством, старалась рассеять его унылое состояние духа. Но Франциско Серрано видел, что его родина все больше и больше приближается к краю пропасти; жене не удавалось смягчить его горе. Он не принадлежал к тем людям, которые спокойно живут в семье, не заботясь о том, что происходит за пределами их дома, он слишком долго стоял во главе Испании и управлял ее судьбой, чтобы безучастно смотреть на обстоятельства, становившиеся со дня на день все более тревожными.
Любовь Энрики и детей доставляла ему много радости, и бывали часы, когда он наслаждался жизнью, забывая обо всем, но потом мысль о грозной опасности снова приводила его в уныние. Энрика сочувствовала ему гораздо больше, чем проявляла это внешне. Стараясь отогнать от мужа пасмурные думы, в душе она скрывала ту же тревогу о судьбе Испании.
Она пыталась даже уговорить Франциско уехать во Францию или Италию, чтобы быть подальше от волнений и беспорядков родины, но Серрано не мог на это решиться. Он всей душой принадлежал отечеству и, может быть, тайно надеялся еще послужить ему. Подчиняясь новой администрации, он сошел со сцены, но, без сомнения, сознавал при этом, что таким путем Испания не достигнет мира.
— Наденем траур! — вкричал Топете, входя в комнату, где у стола, заваленного бумагами, письмами и депешами, стоял Серрано. — Что будет с Испанией? В Картахене идет ожесточенная борьба, и остервеневшие бунтовщики, эти коммунары, разоряют город!
— Перемен к лучшему ждать не приходится, друг мой, — мрачно отвечал Серрано, подавая руку собрату, — нам остается держаться в стороне… Сегодня я жду к себе одного приехавшего из Картахены бригадира, храброго Армадиса, ты его тоже знаешь! Он писал мне, что приедет в Мадрид за подкреплением.
— Ну, так мы от него узнаем, как идут дела в Картахене и в окрестностях несчастного города и почему до сих пор не подавили восстания, — сказал Топете. —» Не понимаю, каким образом бунтовщики приобрели такую силу и почему никто не предвидел готовящегося несчастия! Ведь должны же власти Картахены…
— Не будем гадать, друг мой! — перебил Серрано старого генерала. — Может, скоро все объяснится. На севере опасность тоже растет. Взгляни, — сказал он, указывая на карту, — вот куда проникли войска дона Карлоса. Они готовятся уже к решительным битвам. Альфонс принял командование над центром армии, Доррегарай — над правым флангом; я слышал, что втихомолку организуется и левый. А Кастелар все еще не в состоянии решительно выступить против неприятеля!
— Оттого, что недостает хороших генералов. Выходи опять на сцену, Франциско, — просил Топете, — прими командование республиканской армией! Войска тебя любят; твое появление воодушевит их и даст делу новый оборот. Пожалуйста, возьмись снова за шпагу.
— Не проси меня о том, чего я не могу исполнить, друг мой, — серьезно отвечал Серрано. — Ты знаешь, как все изменилось, моего участия не желают и не требуют! Неужели я стану навязывать свои услуги, когда никто не обращается за ними? Неужели я буду просить должности у нынешнего правительства? Этого ты не можешь требовать от меня!
— Сломи гордость, Франциско, принеси родине жертву. Ты один можешь вывести Испанию из этого лабиринта! — вскричал Топете. — Поведи войска на кар-листов!
— Ты знаешь, как я люблю и уважаю тебя, — отвечал Серрано, — но ты требуешь невозможного. Тебе известно, что я готов отдать все свои силы Испании, но при нынешних обстоятельствах мне в этом отказано. Я заранее вижу, что она погибнет.
— Так забудь все и позаботься о ее спасении!
— Сейчас я не могу вмешиваться! Я не хочу, чтобы говорили, что мною руководит честолюбие. Ты понимаешь меня! Если же дойдет до того, что беспомощная Испания окажется на краю пропасти, народ позовет меня, и я увижу, что большинство признает невозможность такого состояния, тогда Франциско Серрано готов будет стать во главе и осуществить свои планы, но не раньше! Да защитит небо наше бедное отечество! Не думай, что я утомлен или пал духом. Нет, в моей руке еще довольно силы, чтобы в решительную минуту поднять шпагу, я не отчаиваюсь, потому что знаю, пробьет час, когда все изменится. Я жду его, чтобы отдать все силы родине!
Разговор друзей был прерван докладом слуги о приехавшем бригадире Армадисе.
— Здравствуйте, здравствуйте, дорогой Армадис! — вскричал Серрано, идя навстречу старому офицеру и протягивая ему обе руки.
Топете, в свою очередь, приветствовал бригадира, дравшегося в былое время под началом обоих храбрых друзей. Свидание, видимо, растрогало Армадиса, потому что глаза его повлажнели.
— Счастлив видеть вас, благородные доны, и пожать ваши руки, — отвечал он взволнованным голосом. — Как хорошо было, когда я мог биться и побеждать под вашим началом! Но это славное время миновало, остались только воспоминания! А что теперь?
— Судя по вашему лицу, дела плохи, Армадис, — отвечал Серрано. — Пойдемте, поговорим! Вы уже были у начальства?
— Да. Но вернулся ни с чем. Услышал кучу обещаний и утешений, а между тем необходима скорейшая помощь. О, если б вы по-прежнему стояли во главе, маршал! Если б вы вели войска! Прежде было совсем иначе!
— Мы должны учиться переживать тяжелое время, бригадир!
— Одно у меня желание, одна просьба, — продолжал старый служака, — чтобы вы, маршал, вернулись к войскам и взяли бы руль гибнущего корабля! Вы один можете спасти его! Не сердитесь на меня, позвольте старому сослуживцу высказать, что у него на душе. Отбросьте все сомнения и станьте снова во главе…
— Вы пришли сюда, — серьезно перебил его Серрано, — не для того, чтобы рассуждать, лак изменить дело, а чтобы сообщить нам последние события, Армадис!
— Понимаю, вы не хотите выслушать мою просьбу, — грустно сказал Армадис, — но маршал должен простить старому сослуживцу, что он высказался от полноты сердца. Сведения, которые я сегодня принес, далеко не радостные.
— Нам, мужчинам, не пристало дрожать перед несчастьем. Говорите!
— Вы знаете, что около Картахены сгруппировались недовольные, возбужденные примером Парижа, задумавшие и у нас учредить коммуну, — начал бригадир. — Правительство и гарнизон Картахены не придавали этому большого значения, и партия, в сущности очень слабая, никогда бы этого не достигла, если б ее не поддержала одна таинственная сила, о которой так долго никто ничего не слышал.
— Что же это за сила, Армадис? — спросил Топете. — Разве вы ничего не слышали о ней?
— Ровно ничего, — сказал Серрано.
— Так я расскажу вам. Едва раздались первые голоса недовольных и безалаберная партия, цель которой — разрушение, подняла голову, как в окрестностях Картахены появились никому не известные люди с никому не известными намерениями. Они присоединились к недовольным, поддержали их планы и стали во главе их!
— Но что это за люди? — спросил Топете.
— Сейчас я вам объясню, генерал. Власти напрасно старались выследить их, при огромном наплыве авантюристов и бродяг отдельные личности совершенно терялись. Между тем волнение росло и, наконец, разразилось страшным мятежом. Дошло до открытой вражды, и в Картахене началась ожесточенная борьба, неистовство мятежников не знало предела. Чем увереннее они становились, тем больше росла их сила. Жителей беспрестанно пугали выстрелы, начались убийства, грабежи! Наконец, мне удалось узнать, что большая часть недовольных была не из картахенцев, а из членов тайного общества, принявшего участие в борьбе. Общество это охватывает всю Испанию, и цель его — возродить прежнюю Гардунию!
— Это страшное братство, державшее всех в страхе в прошлые века?
— Оно опять воскресло! Как в доме, за которым никто не наблюдает, заводятся крысы и гады, — продолжал Армадис, — так и это новое общество, пользуясь беспорядками в Испании, проникает повсюду и повсюду пускает корни. Как только где-нибудь начинаются восстания и смуты, там тотчас появляются члены таинственной Гардунии, послы ее тайного предводителя, и совершают неслыханные преступления. Слышали вы о том, как был остановлен и ограблен поезд на железной дороге, как обокрали налоговую кассу и убили чиновников? Все это сделали не коммунары, а члены Гардунии, они же поддержали и мятеж!
— Неслыханные вещи! — вскричал Топете.
— Почти невероятные, — сказал Серрано, — однако я припоминаю, что слышал не раз о больших грабежах, в которых было много участников, но о появлении вновь страшной Гардунии до сих пор ничего не знал.
— Я вам передаю не догадки, а факты, — сказал Армадис. — Вожди Гардунии под видом сочувствия хитрыми речами привлекли коммунаров на свою сторону и стали во главе их. Особенно известен Мигель Идесте, разжигавший восстание. Как мне рассказывали, он никогда не заботился о благе народа, а принадлежал к числу тех вождей, которые раздувают Мятеж исключительно в интересах Гардунии. Глава их называется принципе, живет в Мадриде и во всех больших городах принят в лучших обществах.
— Да, это полное возрождение тайной общины, заставлявшей в былое время дрожать всю Испанию, — проговорил с удивлением Серрано.
— Я непременно хотел узнать все досконально, это не давало мне покоя, — продолжал Армадис, — и прежде всего я обратил внимание на неутомимого Идесте. Выбрав из своих солдат самых смелых, я велел им одеться ремесленниками и проникнуть в партии недовольных; вскоре им удалось ночью схватить Идесте и привести его ко мне. Я вынужден был прибегнуть к пытке, чтобы заставить его говорить.
— Ну, тут вы перешли границу, бригадир, — недовольным тоном сказал Топете.
— Не упрекайте меня, генерал, есть случаи, когда это необходимо! С подобными людьми нечего церемониться, иначе они нас же оставят в дураках. Пытка развязала язык Идесте.
— Он действительно раскрыл вам что-то? — спросил Серрано.
— Да, только, к сожалению, не успел сказать всего! Он подтвердил, что по всей Испании распространено тайное общество, пользующееся огромной силой и влиянием, что в нем принимает участие много высшей знати. Общество называется Гардунией и имеет в руках такие огромные средства, что образует как бы государство в государстве!
— Не стали ли вы жертвой мистификации, бригадир? — недоверчиво спросил Топете.
— При пытках такого не случается, — отвечал Армадис. — Пойманный назывался капитаном Мигелем Идесте. Его пленение привело бунтовщиков в бешенство. Он показал, что Гардуния в каждом большом городе имеет суперьора, а в Мадриде находится принципал, или принципе, и что среди карлистов есть целые отряды, состоящие из членов этого общества.
Но в ту минуту, когда он уже готов был назвать имена вождей, силы изменили ему, он потерял сознание, а затем скончался!
— Это не только бесчеловечный, но и безрассудный поступок с вашей стороны, Армадис! — вскричал Серрано.
— Безрассудный, да, маршал, но вы не назвали бы его бесчеловечным, если бы видели, что делали в городе эти бунтовщики! Злодейства их были ужасны, но бой у Картахены превзошел все! Стреляли по домам граждан, больницам и храмам, в которых прятались женщины и дети. Тут замолкало всякое человеческое чувство, и невозможно было сдержать солдат и защищавшихся жителей!
— Так капитан умер у вас во время пытки?
— Да, он успел сказать, что принципе носит титул графа и что это очень важное лицо.
— Граф? — повторил Топете. — Жаль, что он не пожил еще минутку! Так вы и не узнали имени принципе?
— Нет, генерал, но мы надеемся в скором времени захватить еще одного члена этого опасного общества, и с ним, могу вас заверить, обойдемся осторожнее!
— Значит, мятежники, наконец, отбиты?
— Надеюсь, что скоро доложу вам об их поражении, маршал Серрано, и с этой надеждой покидаю вас, — заключил свой доклад бригадир, — но и теперь не могу не высказать того, чем полно мое сердце. Я выражаю в этом случае горячее желание целой армии и всех офицеров! Маршал, примите опять командование войсками и станьте во главе государства! Испания гибнет, вы один можете ее спасти и дать другой поворот ее судьбе!
Франциско Серрано, казалось, боролся с собой…
— Благодарю вас за эти слова, друзья мои, — сказал он, пожимая руки гостям, — мне приятно такое доверие; будем надеяться, что решительная минута еще далека! Но когда она наступит, я снова возьмусь за руль, дай только Бог, чтобы это не было слишком поздно!
— Ваши слова успокаивают меня, — сказал бригадир и вместе с Топете простился с маршалом, проводившим их до дверей.
Оставшись один, он глубоко задумался.
Со всех сторон его убеждали стать во главе государства, и сам он сознавал необходимость решительного шага, потому что нынешнее положение Испании могло привести ее только к гибели.
III. Площадь Растро
В одном из тех кварталов Мадрида, где живет самая бедная часть населения, среди бесчисленных мрачных, грязных переулков есть большая площадь, окруженная жалкими домишками.
В каждом большом городе Испании в бедных кварталах есть такая площадь, предназначенная для торгов» ли всем чем угодно. Ее называют Растро, что означает «след». Это название произошло, вероятно, оттого, что здесь обычно продают много краденых вещей, и потерпевший идет прежде всего сюда, так как здесь скорей всего можно напасть на след вора.
В Мадриде эта торговая площадь занимает огромное пространство и очень популярна среди населения.
Тут можно найти все необходимое: здесь продают не только фрукты, мясо, вино, печенье и лакомства, но и одежду, платки, вуали, разные женские украшения, посуду, образа, амулеты, и все это зачастую сильно подержанное. Возле дорогого плаща висит старое платье цыгана, заржавленная сковорода стоит рядом со статуэткой святой Клары, дорогое коралловое ожерелье лежит возле кухонной ложки, розовый венок повешен вместе со старыми револьверами, шелковое платье висит на ручке старой метлы, и вышитая мантилья лежит возле жирной кухонной посуды..
На всем отпечаток национального характера — страсть к нарядам и неопрятность.
Тут же аппетитно разложены продукты, а рядом головы и внутренности разных животных, всюду отвратительный запах от лавок и столов, цыгане и воры бродят вокруг или лежат у порогов домов, кричат торговки, хихикают публичные женщины, указывая своим любовникам, что им хочется купить.
После захода солнца на Растро начинается оживленное движение, площадь становится местом сборища самых подозрительных личностей.
Здесь человек с разбойничьим лицом продает за бесценок краденую серебряную чашу, там у цыгана торгуют старую широкополую шляпу, немного дальше несколько человек с жадностью поедают пухеро, пальцами заменяя и нож, и вилку. В углу старая цыганка гадает девушкам и за небольшую плату дает напрокат засаленные карты, а в другом месте поднялся крик, там альгвазил задержал вора с крадеными вещами. Вот погонщики мулов торгуют старую узду, а тут теснится толпа у столика, где продают лимонад.
В нишах некоторых домов, окружающих площадь, разложены веера и зонтики, пестрые букеты, золотые вещи и жемчуг, там же толпится народ. Уже наступил вечер. У одной из ниш стояли трое мужчин, тихо разговаривая. Двое — коренастые, приземистые, по-видимому, подчиненные третьего, одетого намного лучше. Его костюм, соответствовавший несколько суровой весне, говорил о принадлежности к высшему сословию. У него было бледное безбородое лицо и беспокойные высматривающие глаза.
— Вы будете стоять недалеко, в стороне, — сказал он двум другим, и те кивнули в знак согласия. — Вам известны ваши обязанности! Главное, следите за тем, чтобы мне не помешали. Если услышите крик, как-нибудь задержите и успокойте тех, которые поспешат на него, затейте драку между собой, чтобы отвлечь внимание и шумом заглушить крик.
— Понимаем, сеньор, — отвечал один из двух, — все будет сделано!
— Знаете вы лавку старого Моисея?
— Как же, там еще ниша в простенке.
— Ступайте и встаньте недалеко от нее, — приказал третий.
Оба тотчас отошли и смешались с толпой, он же подошел к лавке старого торговца драгоценностями Моисея, разбогатевшего на продаже и покупке золота и бриллиантов.
Старый Моисей прежде был бедным старьевщиком и нажил свое богатство терпеливым, честным трудом. Все ювелиры обращались к нему для закупки жемчуга, рубинов, смарагдов. Ни у кого не было такого огромного выбора драгоценных камней, как у Моисея. Часто к нему обращались парижские ювелиры. Но несмотря на свое богатство, Моисей не переехал в какой-нибудь великолепный магазин на площади Майор, а остался в той же незаметной лавчонке, где разбогател.
Кроме того, он вел и денежные дела, и многие знатные доны были его должниками.
Маркиз де лас Исагас только что вошел к нему, и старый еврей в черной шапочке на лысой голове и с длинной седой бородой почтительно встретил молодого офицера. Моисей взвешивал старые золотые кольца и чаши, сидя у своего рабочего стола в глубине лавки. Поднимаясь навстречу маркизу, он вытер руки о полы длинного темного, сильно поношенного кафтана.
— Добрый вечер, сеньор маркиз, — сказал он, кланяясь и снимая шапочку.
— Не открывайте головы, Моисей, у вас ведь совсем нет волос.
— Ничего у нас нет вечного, сеньор маркиз, все суета… Но что с вами? Вы так бледны и встревожены, сеньор маркиз, как будто случилось какое-нибудь несчастье! — испуганно вскричал старый еврей.
— Пустяки, Моисей, мне немножко нездоровится.
— Немножко нездоровится? Гм… Старый Моисей не смеет спрашивать… — недоверчиво сказал еврей, — но от легкого нездоровья не проваливаются так глаза, а они у вас недавно еще были такие блестящие и ясные! Нет, сеньор маркиз, у вас болит там, глубоко, — прибавил он, указывая на грудь, — ну да я ведь предсказывал, что прекрасная Альмендра заставит болеть сердце сеньора маркиза, всегда предсказывал… Но все бывает к лучшему, сеньор маркиз!
— Вы хороший человек, Моисей, и очень опытный, — отвечал молодой офицер. — Но к делу. Завтра первое апреля, сколько я вам должен?
— О, если б все мои покупатели были такими аккуратными, благородный дон! — похвалил старик, вынимая из железного шкафа кожаную папку. — Но зато ведь никто и не даст денег под такие маленькие проценты, как я сеньору маркизу.
— Я знаю, вы честный человек, Моисей, не ростовщик.
— Если б я был ростовщиком, Боже праведный, тогда сеньор маркиз, несмотря на свои богатства, давно уже был бы в крайней нужде… Завтра вам следует заплатить пятьдесят тысяч дуро, вот расписки — одна в тридцать и две по десять тысяч.
— Хорошо. Вот деньги, Моисей, — сказал молодой человек, вынимая из изящного бумажника несколько банковских билетов и отсчитывая пятьдесят тысяч дуро.
— Совершенно верно, сеньор маркиз. Не надо ли каких украшений? Вчера я приобрел кольцо с бриллиантами… Его продала принцесса Альба… Это старинная вещь, а какой бриллиант, сеньор маркиз! Какая игра…, точно радуга!
— Сегодня мне ничего не надо, Моисей, берите же деньги.
— Очень благодарен, сеньор маркиз.
— Теперь вот что, Моисей: у меня остается сто пятьдесят тысяч дуро, они мне сегодня не понадобятся, не возьмете ли вы их на сохранение на несколько дней, а может быть, и недель?
— Большая сумма, сеньор маркиз, но я охотно сделаю это, — отвечал старый еврей, не заметив, что к стеклу окошечка лавки прильнуло чье-то лицо, как будто высматривая, что у него делается. — Подождите минутку, сеньор маркиз, — прибавил старик.
— Что такое, Моисей?
— Я только напишу вам расписку.
— Мне от вас не нужно никакой расписки, Моисей.
— Благодарю, благодарю вас за такое доверие, сеньор маркиз, оно приятно сердцу старого еврея… Сто пятьдесят тысяч дуро без расписки! Да это капитал, который может дать возможность блестящего существования целой семье… И без всякой расписки! — вскричал старик, и на глазах его блеснули слезы радости. — Но я не могу согласиться на это, сеньор маркиз!
— Нет, пусть так; большая часть этих денег может мне понадобиться раньше, чем я ожидаю, — сказал молодой человек, — мне просто не хочется оставлять деньги при себе, и потому я принес их вам на сохранение. Прощайте, Моисей!
— Расписку, сеньор маркиз! Но Горацио уже ушел.
— Не взял расписки, — пробормотал Моисей, глядя ему вслед. — Ну, деньги его не пропадут, я сберегу их. Это, однако, большое доверие, я бы и десятой доли этой суммы никому не доверил бы. Он еще молод и неопытен, но не Моисей научит его горькому опыту.
Старик спрятал банковские билеты в железный шкаф; там только на верхней полке лежали деньги, а на остальных полках были драгоценные камни и разные другие ценные вещи; потом он снова сел к рабочему столу.
Вдруг дверь опять отворилась.
В лавку вошел изящно одетый мужчина с высматривающим взглядом и бледным безбородым лицом.
Моисей взглянул на него и подошел к узенькому прилавку, отделявшему его от покупателей. Вошедший был ему совсем незнаком.
— Вы торговец ценностями Моисей?
— Точно так, сеньор! Что вам угодно?
— У меня к вам есть дело, — важно сказал незнакомец, немного распахнув пальто и выставив напоказ дорогую шейную булавку, — но мне надо знать, делаете ли вы крупные покупки и хорошо ли платите.
— Я покупаю все, что имеет ценность и может быть хорошо продано, а насчет платы — никто другой не даст того, что я! Справьтесь об этом в Париже, Лондоне, Брюсселе… Что вы хотите продать?
— Наследство графа Лерма. Там одних бриллиантов будет на миллион.
— На миллион? — с удивлением спросил Моисей.
— Пожалуй, и на полтора. Кроме того, есть еще золотая и серебряная посуда на сто кувертов, шпага Филиппа II, украшенная бриллиантами и смарагдами, две шейные цепи чистого золота с бирюзой, пояс, убранный драгоценными камнями, — подарок султана, и многое другое.
— Богатое наследство!
— Мне поручила совершить эту продажу графиня, живущая обычно в Севилье; сейчас она приехала в Мадрид.
— Вы, вероятно, родственник сиятельной графини? — спросил Моисей.
— Нет, я ее доверенное лицо.
— Так, так!
— Но дело в том, что надо торопиться с продажей; графиня не хочет долго оставаться в Мадриде, — сказал незнакомец.
— Это невозможно, сеньор, я должен прежде увидеть вещи. Они тоже здесь, в Мадриде?
— Да, и я хотел бы знать, располагаете ли вы достаточными суммами, чтобы заплатить наличными?
Старый Моисей самодовольно усмехнулся.
— Если есть, что купить, сеньор, так найдутся и деньги, хотя бы понадобились и два, и три миллиона!
— И сумма у вас при себе?
— При себе? — с удивлением спросил Моисей.
— То есть я хочу спросить, вы не задержите графиню с уплатой?
— Ни малейшим образом, сеньор. Где можно будет увидеть вещи сиятельного графа Лерма?
— Пойдемте сейчас со мной.
— Сейчас? Нет, сеньор, сейчас этого нельзя сделать.
— Так назначьте время завтра утром, я предупрежу графиню и спрошу, будет ли ей угодно принять вас.
— Лучше всего завтра, пораньше, до открытия лавки, сеньор.
— Хорошо. Так, я надеюсь, мы уладим дело. Вы принесете необходимую сумму?
— Нет, сеньор, — отвечал Моисей, указывая на шкаф, — но вы можете не беспокоиться — чего не хватит, я возьму в банке, чтобы не задерживать графиню, если, конечно, порешим дело.
— Хорошо, так я предупрежу ее и сегодня же вечером сообщу вам ее решение, — сказал незнакомец, — я буду здесь через полчаса.
— Жду вас, сеньор, — сказал Моисей, поклонившись. Незнакомец ушел, старик смотрел ему вслед.
— Граф Лерма… — пробормотал он, — действительно какой-то граф Лерма умер несколько недель тому назад… И графиня уже торопится продать наследство? Гм, странно! Вообще, дело кажется мне не совсем ясным. Но подождем до завтра!
Он снова хотел сесть за работу, как дверь опять отворилась…
— Тс-с, Моисей! — тихонько сказал чей-то голос.
— Что такое? А, это ты, Захария? — сказал старик, увидев просунувшуюся в дверь голову еврея с черными пейсами и длинным горбатым носом; это был меняла Захария, имевший тут же неподалеку свою лавку. — Входи, — прибавил старик, — что тебе надо?
— Зачем к тебе приходил этот человек, Моисей?
— Дело есть завтра утром.
— Ты его знаешь?
— Сегодня видел в первый раз. Его прислала графиня Лерма для покупки у нее наследства.
— Что ты об этом думаешь? — спросил Захария, войдя в лавку. — А я ведь узнал его — это чиновник Толедского банка Бартоло Арко, которому так внезапно отказали от места после большой пропажи, потому что на него падало подозрение в соучастии.
— Бартоло Арко — ты ошибся, Захария!
— Не будь я Захария, если это не так! Ведь ты знаешь, что я прежде жил в Толедо у известного банкира Леви, и мне часто приходилось бывать в банке.
— Но к чему же он стал бы мне рассказывать о графине?
— Берегись, Моисей, он, наверное, и здесь замышляет грабеж!
— Грабеж?
— Да ведь в банке ему отказали от места именно из-за подозрения!
— Но какой же здесь может быть грабеж? Я только пойду с ним к графине. Мне показалось, что он просто ее возлюбленный.
— Все так, но что ты скажешь, если в твое отсутствие его помощники оберут твою лавку?
— Да я не пойду с ним ночью или вечером, я назначил утренний час.
— Ты умно сделал. Смотри, Моисей, не оставляй здесь на ночь всего, возьми ценные вещи с собой на квартиру. Мало ли что может случиться? Как только я увидел Бартоло Арко, мне сразу пришло в голову, что он опять что-то замышляет. Ты богатый человек, это все знают, и в твоей лавке найдется чем поживиться.
— Разве это так легко сделать, Захария? Ведь тут ставни на окнах, двери железные, стены тоже обиты листовым железом.
— Спокойной ночи, Моисей!
— Прощай, Захария!
Меняла ушел от старого единоверца, так как был уже девятый час и он заканчивал в это время свои дела.
Моисей тоже в эти часы запирал свою лавку. Старик подошел к окну, закрыл тяжелые железные ставни, погасил газ, оставив только один рожок над прилавком, и собрался уже потушить лампу на рабочем столе, как дверь быстро отворилась и вошел прежний незнакомец.
Он, казалось, шел очень быстро или был сильно взволнован. Глаза его блестели и беспокойно бегали, лицо было еще бледнее прежнего.
Моисей остановился за прилавком и вопросительно посмотрел на него.
— Я вернулся сказать вам, что графиня согласна, — сказал незнакомец. — Завтра в девятом часу утра я зайду за вами. Где вы живете?
— Ну, это не так близко, сеньор, — отвечал старик, — вы не беспокойтесь, около девяти часов я буду ожидать вас здесь, перед лавкой.
— А чтобы вы знали заранее, что и за сколько продается, — продолжал незнакомец, вынимая из кармана бумагу, — я принес вам подробный список.
— Очень хорошо, сеньор, — отвечал старый Моисей, сомнения которого снова начали рассеиваться.
Незнакомец разложил лист на прилавке, обратив внимание еврея на самые ценные вещи, и в то время как тот наклонился над бумагой, он поднял руку, как будто для того, чтобы усилить газ. В руке у него блеснуло что-то острое…
Старик хотел поднять голову, но в ту же минуту упал от страшного удара ножом, почти лишившись сознания…
Бартоло Арко не мог так же быстро повторить удар, потому что еврей лежал по другую сторону прилавка.
Между тем старик громко закричал, и, прежде чем разбойник открыл прилавок и подбежал к нему, он успел еще раз изо всех сил позвать на помощь… И вдруг замолк… Второй удар лишил его сознания, а третий убил совсем.
На улице или наверху в доме послышались голоса бежавших на помощь. Бартоло Арко, новый член Гардунии, испугался, увидев, что ему грозит опасность. Пробормотав проклятие, он схватил с прилавка ключи от шкафа, который некогда сейчас было чистить; он надеялся прийти ночью, если его помощникам удастся сдержать любопытных.
С ловкостью кошки выскочил он из-за прилавка и хотел поскорей выбежать за дверь, чтобы успеть закрыть ее за собой. Но в прихожую уже вбежало несколько человек мужчин и женщин.
Два чивато между тем искусно исполняли свою роль, им удалось удержать и отвлечь на себя часть людей, привлеченных глухим криком Моисея.
Однако же не все остались смотреть на их импровизированную ссору, несколько человек вбежало в дом, чтобы узнать, кто и откуда звал на помощь.
Бартоло Арко бросился из лавки, но не успел запереть за собой дверь и нос к носу столкнулся с вбежавшими, которые, растерявшись, опешили перед ним.
Оттолкнув двух женщин с такой силой, что они упали на пол, он пустился бежать, но туг один из мужчин опомнился наконец и закричал:
— Держи его! Вор!
Некоторые бросились в погоню, другие поспешили в лавку, где нашли убитого Моисея. При этом известии все, даже те, кто глазел на дравшихся чивато, пустились вдогонку за убийцей по мрачным переулкам Мадрида. Но Бартоло Арко оставил далеко за собой своих преследователей и надеялся скрыться от них благодаря слабому освещению улиц.
Оба дравшихся теперь бросили драку и бежали вместе с другими. Но они быстро исчезли, когда внезапно неизвестно откуда раздался громкий крик:
— Это члены Гардунии! Это дело Гардунии! Ловите их, теперь они не уйдут от нас! Это Гардуния… Гардуния!..
Почти всем было знакомо это название, в прошлые столетия эта организация держала в страхе всю страну, и теперь крики «Гардуния, Гардуния!», грозно раздававшиеся в ночи, заставляли содрогаться каждого.
Граждане с озабоченными лицами выбегали из домов, чтобы узнать причину крика, и по городу быстро распространилась весть об убийстве Моисея. Народ продолжал гнаться за убийцей, точнее, за тем, кто последним вышел при всех из лавки, но догнать или поймать его было невозможно. Несколько раз прятался он от своих преследователей в темных улицах, но им удавалось снова выгонять его оттуда.
Наконец разнеслась весть, что убийца добежал до Прадо, свернул там в одну из улиц и исчез в великолепном дворце. Тщетно разъяренная толпа обыскивала все здание, злодею все-таки удалось скрыться, так как в доме было два выхода.
Говорили в народе, что человек, преследуемый криком «Гардуния!», спасся во дворце графа Кортециллы. Этот благородный граф, однако, выразил народу свое сожаление по поводу того, что убийцу не удалось найти, и охотно растворил преследователям все двери и комнаты своего дома.
На следующий день в городе все говорили об ужасном убийстве, и все сердца трепетали при упоминании о страшном братстве — Гардунии.
IV. Пещера спасения
Прежде чем продолжать наш рассказ, вернемся к той ночи, когда в поисках генерала Павиа карлисты ворвались в горный монастырь. Это были происки мстительной Бланки Марии, преследующей Мануэля и Инес и думающей только о том, как бы уничтожить этих ненавистных ей людей.
Рассвирепевшие солдаты, убившие настоятеля, бросились в монастырь, погруженный в сон; они хотели обыскать все кельи.
Испуганный привратник хотел бить в набат, но мятежники не допустили этого. Карлисты принялись выпытывать у него, нет ли в монастыре генерала, переодетого монахом, и его спутницы. Они грозили убить привратника, если он скроет от них правду.
Антонио в отчаянии припал к старику, умиравшему во дворе монастыря. Потускневший взор Пабло последний раз остановился на Антонио, последние слова его были благословением. Старик чувствовал, что умирает, и трогательно прощался со своим другом и воспитанником, которому он так долго заменял отца. С чистой совестью отходил патер в лучший мир, ему не в чем было себя упрекнуть и не в чем раскаиваться. Он не стонал, даже не проклинал своих врагов, в последний раз поднял он руки, чтобы благословить молившегося возле него Антонио.
Потом умирающий обратил взор к небу и прошептал молитву. Пабло успел еще движением руки указать Антонио на лазарет, будто желая этим напомнить ему, что надо подумать о спасении несчастных. Молодой патер понял этот знак, и Пабло спокойно отошел в лучший мир.
Антонио побежал в монастырь, собрал нескольких монахов и приказал им отнести мертвого настоятеля в келью. Страх и отчаяние овладели всеми, велика была скорбь об усопшем настоятеле. Глубоко потрясенные монахи унесли мертвого в монастырь.
Мысли Антонио опять вернулись к Мануэлю, Инес и Амаранте. Их надо было спасти во что бы то ни стало! Они были в страшной опасности. Обыскав монастырь, карлисты, конечно, пойдут обыскивать лазарет, и тогда все пропали!
Надо было скорей что-то придумать! Прежде всего надо было вывести из монастыря Инес и Амаранту.
Но как же это сделать?
Антонио пошел к воротам, чтобы посмотреть, свободны ли они. Если да, то женщины были бы спасены.
Но последняя надежда оставила патера, когда, дойдя до ворот, он увидел стоявших на часах карлистов с заряженными ружьями.
Теперь все пропало! Для несчастных не было выхода! Антонио боялся за Инес. Но не ее одну, а еще Мануэля и Амаранту надо было спасти! Патер не видел никакой возможности сделать это; значит, ему предстояло стать свидетелем того, как карлисты схватят несчастных. Что с ними будет?!
Антонио приходил в ужас от одной мысли об этом. Страшная минута приближалась, а он так ничего и не придумал.
Не зная, что предпринять, он направился к лазарету. Вдруг он увидел перед собой кого-то в темноте. Человек этот тоже шел в лазарет.
Антонио испугался. Что это был за человек, уж не враг ли?
Но скоро патер узнал отца Лоренцо, монастырского доктора, который выхаживал Мануэля и Инес. Это успокоило Антонио.
— Лоренцо, это ты? — спросил он, понизив голос. — Да, Антонио. Хорошо, что я встретил тебя, — отвечал монах.
— Какая страшная ночь! Я не знаю, что делать! Что теперь будет с беглецами?
— Никто из монахов их не выдаст!
— Но карлисты найдут их!
— Нет, этого не будет.
— Как! Ты придумал что-нибудь?
— Я еще раньше обо всем условился с настоятелем, которого теперь Отец небесный взял к себе, — начал Лоренцо твердым, но тихим голосом. — Я с Божьей помощью берусь спасти генерала.
— Это доброе дело, Лоренцо, но что делать с девушками?
— Они тоже должны быть спасены.
— Как же это сделать, когда карлисты стоят у ворот?
— Из монастыря есть еще выход, Антонио. Помнишь подземный ход в саду?
— Да, это правда! Я совсем забыл о нем.
— Этим ходом уводи их. Там давно никто не ходил, и говорили, что во многих местах ход обвалился, но я надеюсь, что вы сумеете пробраться!
— Мы должны пробраться! Надо торопиться! Спасибо за совет, Лоренцо.
— Будьте осторожны, и вам удастся благополучно выбраться отсюда.
— Мануэля я тоже возьму с собой.
— Нет, это невозможно, он слишком слаб, чтобы идти с вами. К тому же сырой холодный воздух подземного хода может повредить ему.
— Если он останется в лазарете, карлисты узнают его, несмотря на то, что он так изменился после болезни и после того, как мы ему обрили бороду. Они узнают и схватят его, Лоренцо!
— Не беспокойся, — тихо сказал монах, — я позабочусь о нем.
— О, если так, то я спокоен.
— Я знаю только одно средство для спасения его и надеюсь, что Бог простит мне мое прегрешение!
— Благодарю тебя за все, Лоренцо! Мне пора. Монахи расстались. Лоренцо подошел к лазарету,
где была келья Мануэля, а Антонио исчез в другом направлении и постучал в келью, где скрывались обе женщины.
Амаранта открыла ему дверь. По ее испуганному лицу он понял, что она уже обо всем знает. Инес тоже встала и теперь была полностью одета. Она с озабоченным видом подошла к патеру.
— Слава Богу! Наконец-то вы пришли, патер Антонио! — сказала она. — Это правда, что карлисты в монастыре?
— Не беспокойтесь, донья Инес, я пришел увести вас отсюда.
— Я так и думала! — воскликнула Амаранта.
— Но что будет с Мануэлем? — спросила Инес. — Вы хотите увести нас с Амарантой; но зачем мне спасение, если Мануэль должен погибнуть здесь?! Что будет с Мануэлем?!
Дрожащий голос графини выдавал ее тревогу за Мануэля.
— Будьте спокойны, донья Инес, — отвечал Антонио. — Мануэль тоже будет в безопасности.
— Ваши слова возвращают мне жизнь! Благодарю Тебя, Господь, за эту милость!
— Пойдемте, донья Инес, нельзя больше медлить. Наденьте эту теплую рясу, и вы тоже оденьтесь, сеньора.
— Куда вы ведете нас? — спросила Амаранта.
— Доверьтесь мне, — просил Антонио, — иначе все потеряно. Идемте скорей!
— Мы готовы, — отвечала Инес, надевая рясу. Амаранта тоже последовала ее примеру.
— Следуйте за мной, только не говорите ни слова, не выдавайте себя ни единым звуком. Монастырь полон карлистов, а у ворот стоят их часовые.
— Святая Мадонна! Как же мы пройдем, они нас узнают!
— Мы пойдем другой дорогой.
— И Мануэль идет с нами?
— Нет, донья Инес, генерал остается здесь.
— Здесь? Если так, то я хочу разделить его участь!
— Да, он остается, но уверяю вас, ему не грозит ни-* какая опасность, он не попадет в руки врагов. Но если вас найдут здесь, гибель его неминуема!
— Патер прав, — шепнула ей на ухо Амаранта, — доверься ему.
— О Господи! Какая страшная ночь! — в отчаянии воскликнула Инес, и эти ее слова болью отозвались в сердце Антонио, который видел, как она страдала.
— Пойдемте, прошу вас, донья Инес! А то будет слишком поздно. Я должен увести вас отсюда.
— Пусть будет так, да благословит вас Господь! — отвечала графиня, взяв Амаранту за руку и направляясь с нею за патером, который пошел вперед. Убедившись, что снаружи все спокойно, Антонио быстро провел их обеих в сад. Там было совершенно пусто.
— Доверьтесь мне! Мы можем идти только одной дорогой, — шепотом сказал Антонио, — через подземелье, которое выведет из монастыря в поле.
— Да благословит и защитит тебя Господь, мой Мануэль! — произнесла Инес, еще раз оглянувшись на монастырь.
— Мы с вами, патер Антонио, — подтвердила Амаранта.
Инес стояла неподвижно, продолжая глядеть на темные здания монастыря.
— Кто знает, увидимся ли мы снова, — заговорила она. — Судьба разлучает нас и посылает тебе новые опасности! Я могу только молиться за тебя и всегда помнить о тебе! Я твоя, навеки твоя!..
— Умоляю вас, поторопитесь, донья Инес! — настойчиво повторил патер. — Слышите эти голоса? Карлисты приближаются.
— Я иду, — произнесла Инес.
Антонио повел женщин через сад к старой беседке. За этой беседкой находилась темная пещера. Там был вход в подземелье, некогда выстроенное монахами.
Теперь этим подземным ходом не пользовались, в монастыре знали только, что некоторые его части обвалились. Может, и совсем нельзя уже было пройти по этому ходу, но этого никто не знал наверняка, так как туда давно никто не заглядывал.
Антонио взял девушек за руки и ввел их в темную пещеру, а там он попросил их держаться к нему поближе.
В подземелье было темно и страшно, туда вели несколько каменных ступенек, покрытых скользкой глиной. Холодом и сыростью пахнуло на беглецов, но они не колебались.
Сначала Антонио, потом девушки вступили в страшную темную пасть подземелья, и дальше уже не могли видеть друг друга, а должны были двигаться ощупью.
Они шли все дальше и дальше, не зная, что ждет их там, впереди.
Пока Антонио уводил девушек, спасая их от карли-стов, Лоренцо разбудил Мануэля и сообщил ему о том, что случилось в монастыре.
— Вставайте скорее, дон Мануэль Павиа, и ступайте за мной, — сказал Лоренцо, — не забудьте, что вы послушник и называетесь Франциско.
— Что вы хотите делать, почтенный отец Лоренцо? И вы, и монастырь ваш в опасности из-за меня! Я не могу этого допустить! Я выйду к неприятелю!
— Вот этим-то вы и навлечете на всех нас настоящую беду! Нет, нет! Доверьтесь мне и ступайте за мной. Вы должны меня послушаться, иначе нельзя!
— Куда же вы меня ведете?
— В такое место, куда никогда не входят миряне; в тот склеп, где послушники готовятся к принятию монашеского сана. Там вы будете в безопасности, если только не выйдете из своей роли. Господь да простит мне это прегрешение, сделанное с доброй целью — спасти вас.
— Вы делаете для меня больше, чем смеете!..
— Дело идет о нашем общем спасении! Но торопитесь, иначе будет слишком поздно! Наденьте ваше платье и пойдемте!
Мануэль не колебался больше. Он поспешно оделся в приготовленное для него платье и преобразился в послушника, готовогО/Принять монашеский сан.
— Где же донья Инес и ее спутница? — спросил он Лоренцо.
— Патер Антонио уже позаботился об их безопасности. За них не бойтесь!
— Значит, мы разлучены и, может, никогда больше не увидимся!
Мануэль и отец Лоренцо покинули лазарет и направились к капелле, стоявшей недалеко от ворот.
Войдя в капеллу, Лоренцо провел Мануэля за алтарь. За алтарем была пристройка. В этой пристройке монах оставил Мануэля, попросив его молиться все время, пока он за ним не вернется.
Только Лоренцо вышел во двор, как к нему подошли карлисты, уже обыскавшие весь монастырь, но так никого и не нашедшие. Предводитель мятежников, с виду похожий на разбойника, обратился к Лоренцо.
— Мы ничего не нашли в монастыре, а это что там за здание? — спросил он, указав на лазарет.
— Это монастырская больница, — отвечал Лоренцо.
— Для больных монахов?
— И для бесприютных и несчастных.
— Для несчастных и бесприютных? Как же вы сердобольны! Нет ли в вашей больнице и сейчас кого-нибудь бесприютного или преследуемого?
— Вы сами убили настоятеля, а я не могу дать ответа.
— Мы убили? Что это значит? Вы нас учить хотите? Я наказал дерзкого монаха! Что с того, что вы нам не скажете? Мы поразвяжем вам языки, вы у нас разговоритесь! Веди нас в больницу! Мы посмотрим, что там за бесприютные.
Лоренцо не сопротивлялся больше, он знал, что в больнице уже никого не было.
Лоренцо повел солдат по кельям, которые они старательно обыскивали, прокалывая при этом постели и матрасы, дабы удостовериться, что никто там не спрятался.
После этого последнего обыска начальник послал несколько человек в сад, а сам пошел с Лоренцо через двор.
— Нет ли здесь еще какого-нибудь места, которое мы не обыскали, монах? — спросил он.
— Да, вон та капелла, — отвечал отец Лоренцо.
— И это все?
— Да.
— Ну, капеллу смотреть нечего, — сказал начальник, взглянув на часовню. — Но что за пристройка там, сзади? — вдруг спросил он.
— Это пещера спасения, — отвечал Лоренцо.
— Пещера спасения? Что это значит?
— Это то место, где послушники постом и молитвой готовят себя к принятию монашеского сана.
— И вы называете это место пещерой спасения? Что значит это название?
— Здесь человек спасается, а пещерой это место называется потому, что послушнику предстоит вытерпеть там много испытаний и лишений. Послушник должен быть воодушевлен непоколебимой верой и сильной волей, чтобы через все эти испытания достигнуть спасения.
— Сведите меня туда, — приказал начальник скорее из любопытства, чем из подозрения, что там может находиться дон Павиа.
— Я не смею вести вас туда, миряне не должны входить в святилище, — отвечал Лоренцо.
— А я приказываю тебе, монах, вести нас в пещеру спасения, — в сердцах воскликнул предводитель карли-стов. — Если будешь сопротивляться, мы убьем тебя. Есть там кто-нибудь теперь?
— Не знаю. Об этом спросите убитого настоятеля. Я только слышал, что на днях было назначено торжественное посвящение послушника Франциско.
— Ну, так он же должен быть там теперь! — воскликнул начальник и, обернувшись к своим товарищам, со смехом добавил: — Посмотрим хоть раз, что это за пещера и что в ней делают послушники! Пойдемте, братцы!
Патер Лоренцо, видя, что сопротивляться невозможно, решился, несмотря на свои опасения, вести мятежников в пещеру. Он страшно боялся, как бы, несмотря на происшедшую в доне Павиа перемену, они все-таки не узнали его. К. тому же он опасался, что Мануэль, исполненный тревоги о судьбе монастыря, может выйти из своей роли и отдаться в руки своих врагов. Однако делать было нечего, надо было повиноваться.
Карлисты последовали за Лоренцо и своим начальником в капеллу. Все еще смеясь и грубо переговариваясь, опустились они перед алтарем на колени, машинально произнося молитвы. Думали ли они о чем-нибудь в эту минуту, эти разбойники? Или их молитвы были бессодержательной болтовней?
Они вскочили и последовали за Лоренцо, который повел их в пристройку за алтарем. Тут было совершенно темно, так что ничего решительно нельзя было разглядеть, тогда как в капелле и днем и ночью горели свечи.
Вдруг патер Лоренцо открыл какую-то дверь.
Карлисты невольно подались назад и вскрикнули от удивления.
Яркий свет струился из кельи, открывшейся их глазам, пахнуло ладаном.
Посередине кельи стояло распятие, а перед ним раскрытый гроб, готовый принять мертвеца. Рядом лежала крышка гроба, на которой был изображен череп с костями, символ смерти.
Перед распятием и разверстым гробом стоял на коленях послушник. Лицо его, изможденное бдением и постом, было бледно. В знак данного им обета он был опоясан веревкой, стягивавшей власяницу.
Яркий свет горевших вокруг гроба свечей падал прямо на его лицо, руки его были молитвенно сложены, он, казалось, не замечал людей, стоявших в дверях.
Мануэль действительно молился Богу и благодарил Создателя за спасение Инес. Эта келья, это распятие, этот раскрытый гроб и ощущение опасности вызвали эту горячую молитву. Открытый гроб не пугал его, не страшила и близкая опасность!
— Послушник Франциско молится! — тихо заметил начальник карлистов. — Так это, значит, пещера спасения? Тут никого больше нет, кроме него. Пойдемте!
Патер Лоренцо тихо закрыл дверь и повел карлистов обратно через капеллу во двор.
Солдаты, обыскивавшие сад, тоже вернулись, и все оставили монастырь, отправившись дальше продолжать свои поиски.
V. Горацио
Молодой маркиз де лас Исагас быстрыми шагами ходил взад и вперед по своей комнате. В душе его бушевала буря. Он и внешне и внутренне очень изменился с того вечера, когда Альмендра сказала ему, что любит другого.
Горацио был расстроен и бледен. По его воспаленным глазам игрустному лицу было заметно, что он провел много бессонных ночей, и мысли его были невеселы в эту минуту.
Мало ли что могло случиться, но такого признания Горацио не ожидал от своей возлюбленной.
Больше всего мучило его то, что Альмендра со всей страстью кровной испанки любила другого и что этот другой был какой-то незнакомец, напоминавший ей сына ее благодетеля. Горацио видел, что любовь эта не была пустым капризом, вызванным одной привлекательной наружностью незнакомца, это была всколыхнувшаяся глубокая привязанность, захватившая всю душу Альмендры.
Что же теперь было делать?
Горацио еще не сознавал ясно своего положения. Он любил Альмендру больше жизни, и этот неожиданный удар поразил его! Когда он думал о том, что Альмендра для него навсегда потеряна, все в нем восставало против этого, и в душе его бушевала буря.
С того страшного вечера он больше не видел Альмендру. Тоска по ней съедала его, но ему казалось, что он не имеет права быть с ней, пока еще жив тот, кого она любит. Несмотря на это, Горацио ни в чем не изменился по отношению к ней, сильней, чем когда-либо, он чувствовал, что никогда не разлюбит ее, и эта уверенность еще больше разжигала его пламенное желание убрать своего соперника. Но для этого надо было найти его, узнать его имя и звание. Горацио еще ничего этого не сделал!
И как было маркизу отыскать незнакомца, когда он ничего не знал о нем!
Мучимый всеми этими мыслями, маркиз продолжал ходить взад и вперед по комнате.
Вдруг раздался легкий стук в дверь, и затем она отворилась. На пороге показался метис. Цвет лица его был медный, движения ловки, одежда пестрая, поступь мягкая, неслышная, точно у него были бархатные подошвы. Волосы его были курчавы, бороды не было.
Завидев метиса, Горацио подозвал его к себе.
— Это ты, Алео, я ждал тебя.
— Алео отлучался за справками, сеньор. Алео счастлив доверием своего господина и хотел еще больше оправдать его. Алео умеет разыскивать! Я тогда же сказал вам, сеньор, когда вы изволили взять меня из цыганского табора, что отец мой, соблазнивший прекрасную Цирилу, был мавр. Он был арапом генерала Топете, а Цирила была прекрасная цыганка. Красоты ее я не унаследовал, — усмехнулся Алео, — зато мне достались хитрость и сила отца! Это хотя и похоже на бахвальство, однако мне незачем хвастаться перед вами, сеньор, — вы сами все видите! Но Алео счастлив, что вы сделали его своим слугой, потому что ему уже наскучила цыганская жизнь, несмотря на то, что мать его Цирила — первая красавица в цыганском таборе.
— Ты мне нужен и до сих пор заслуживал мое доверие.
— Вы можете полагаться на меня, как на самого себя, сеньор! Хотя и есть поверье, что мавры и цыгане сущие воры и не только человеку, но и Богу не бывают верны, однако во мне из смешения этих двух рас произошло нечто прямо противоположное.
— Мне еще ни разу не пришлось столкнуться с тем, чтобы ты был мне неверен, Алео. Я несколько раз уже испытывал тебя, когда ты и не подозревал этого, и каждый раз был доволен результатом испытаний.
— Вы это делали, сеньор! — воскликнул пораженный и в то же время обрадованный Алео. — И каждый раз были довольны мной? Но оно и не могло быть иначе! Алео все видит и слышит, Алео непрестанно думает о своем^ господине. Сегодня я опять принес вам кучу новостей; боюсь только, что некоторые из них не очень вам понравятся, но Алео не смеет скрыть их от вас, как это сделал бы льстивый слуга.
— Говори, что ты узнал?
— Вчера вечером совершено убийство и притом хорошего знакомого!
— Знакомого? Твоего знакомого?
— Да, и моего тоже, сеньор, но не только моего — старик Моисей убит.
— Кто? Моисей с площади Растро?
— Он самый, сеньор.
— Над тобой пошутили, Алео. Вчера вечером я сам видел Моисея и говорил с ним.
— Я только что видел его мертвым.
— Ты видел его?
— Сам, своими собственными глазами, сеньор! Полицейские только что вынесли его из лавки. У него было несколько ран на голове, а одна тут, на виске, от которой он и умер. Я сам видел его тело.
— Моисей убит?! О Боже! Какое несчастье! — произнес Горацио, внезапно пробудившись от своих печальных дум, и вдруг припомнил, что он без расписки передал еврею свои деньги.
— Полиция забрала из лавки все деньги и драгоценности и опечатала ее, — продолжал слуга.
— Это для меня большая потеря, но еще печальнее смерть достойного Моисея!
— Не гневайтесь на меня, ваша светлость, но, право, вы слишком добры и доверчивы. Я только что встретил сеньора Балмонко…
— Управляющего моими имениями?
— Точно так, ваша светлость.
— Что же он делает в Мадриде и отчего еще не был у меня?
Алео пожал плечами и улыбнулся.
— Откуда ж знать! Конечно, какая-нибудь причина у него есть, сеньор. Сеньор Балмонко ехал на северную железную дорогу, и с ним было много разных сундуков.
— Что же это значит?
— Мне показалось, что сеньор Балмонко задумал переезжать.
Лицо молодого маркиза омрачилось.
— Неужели он меня обманывает? — пробормотал он. — Быть не может! Балмонко всегда был верен и честен. Но что значит это путешествие? Он ни о чем не уведомил меня и не явился ко мне, хотя обязан сегодня принести мне деньги…
— Сеньор Балмонко не хотел, кажется, чтобы я его заметил; вид мой был ему неприятен, сеньор, Но я тем любезнее поклонился ему и даже остановился при этом, чтобы показать, что я очень хорошо узнал его. Я думаю, что ничего хорошего не было у него на уме, и он знал, что карлисты сняли телеграфные провода, поэтому-то он и спешил ехать на север.
— Ты возбуждаешь во мне страшные опасения. Я уполномочил Балмонко…
— Балмонко сумеет, конечно, ловко воспользоваться всякими полномочиями, ваша светлость.
В эту минуту раздался звонок.
— Ступай отвори, — приказал Горацио.
Метис вышел и скоро вернулся в сопровождении человека лет тридцати, одетого в дорожное платье. Человек этот почтительно поклонился маркизу.
— Вот и вы, любезный Балмонко, — воскликнул Горацио, сделав несколько шагов ему навстречу, — я рад вас видеть.
— Я поспешил явиться к вам, маркиз, чтобы вы не заподозрили меня в чем-нибудь. Полчаса тому назад я встретил Алео на улице. Я принес вам деньги, а вместе с тем хочу просить у вас отпуск по семейным обстоятельствам.
— Признаться, я так и думал. Садитесь, Балмонко, — любезно отвечал маркиз, пока Алео, стоя в глубине комнаты, недоверчиво посматривал на управляющего. — Так вы действительно собрались в дорогу?
— Я еду в Витторию; моя единственная сестра выходит замуж, — заговорил Балмонко, вынимая из кармана бумаги и деньги, которые он тут же принялся считать. — Я хотел воспользоваться своим сегодняшним посещением, чтобы обратиться к вам с просьбой.
— Желание ваше уже исполнено, любезный Балмонко. Сколько мне следует получить по книгам?
— 120 тысяч золотых, маркиз, за все прошедшие месяцы.
Маркиз посмотрел книги, кивнул одобрительно головой, сосчитал полученные деньги и выдал своему управляющему квитанцию, как он выразился, для порядка.
Балмонко спешил, казалось, или не хотел дольше задерживать своего господина. Он извинился, говоря, что намерен уехать с первым поездом для того, чтобы как можно скорее опять вернуться, и ушел.
Алео запер за ним дверь и снова вернулся к своему господину.
— Вот видишь, Алео, — начал Горацио строгим недовольным тоном, — не надо сразу думать самое дурное. Балмонко в этот раз был так же аккуратен, как всегда.
— Я хотел бы, чтобы на этот раз предчувствие меня обмануло, — отвечал Алео, — хотя до сих пор предчувствия меня никогда не обманывали. Но довольно об этом. Сеньор Балмонко честный человек, потому что он выдал все деньги. До остального мне дела нет! А вот еще другая новость. Недавно вы посылали меня к графу Кортецилле…
— Что же еще о графе? Я познакомился с ним недавно на бегах, и он мне очень понравился.
— Убийца старого Моисея скрылся во дворце графа. Подумайте только, ваша светлость, из всех домов и дворцов он выбрал дворец именно графа Кортециллы, чтобы в нем спрятаться, и там ему действительно удалось скрыться. В народе пошли разные толки, говорят о каком-то тайном братстве вроде прежней Гардунии, уверяют, что много высокопоставленных особ участвовали в ограблении Толедского банка. Может быть, все это пустое, сеньор; я только повторяю, что говорит народ.
— Часто злословят про дворян только для того, чтобы их унизить, — внушительно заметил маркиз.
— Все это уйдет опять, ваша светлость, как вода в песок. Но народ очень обозлен на графа Кортециллу, потому что в его дворце удалось скрыться убийце.
— Да, это я вполне понимаю. Это возмутительно, что убийце удалось скрыться, но его найдут, конечно. Однако граф Кортецилла здесь решительно ни при чем. Граф очень богат и всеми очень уважаем.
— Теперь у Алео осталась одна последняя новость, сеньор, и эта новость самая важная. Неужели у вашей светлости больше нет ни одного цветка, ни одного письмеца для сеньоры Альмендры?
— Зачем ты об этом спрашиваешь?
— Я, ваша светлость… Я… хотел, чтобы сеньора, а она чистый ангел, стала бы нашей госпожой.
— Ты этого хочешь?
— Я так бывал рад каждое утро, когда ваша светлость посылали меня к сеньоре. Теперь же все кончилось. Это меня сильно опечалило. Тем более, что я еще много чего заметил.
— Что же ты заметил, Алео?
— Прежде всего я заметил, что ваша светлость чем-то озабочены и встревожены.
— И что еще?
— Еще то, что вы все одни.
— Я думаю, что ты еще заметил что-то, кроме этого.
— Точно так, сеньор, но я боюсь, что вместо благодарности я этим наблюдением заслужу только ваш гнев.
Это очень тонкое дело, а я слишком дорожу расположением вашей светлости.
— Я обещаю тебе не сердиться, Алео.
— Два дня подряд я ходил потихоньку на . Пуэрто-дель-Соль.
— Зачем же это?
— Я наблюдал за домом, в котором живет сеньора и в котором я так часто бывал.
— Зачем ты это делал?
— Я сам не знаю, сеньор. Это самое странное во всем этом. Я Не знаю, зачем я это делал. Я спрашивал сам себя об этом и не мог объяснить себе своего поступка. Это очень странно: иногда меня неудержимо влечет к тому или другому, а я не знаю, почему и для чего. Желания возникают во мне, и я должен удовлетворить их, сам не зная зачем и не видя между ними никакой связи. Только позднее начинаю понимать, зачем я это делал и к чему это было нужно. Это вроде предвидения или предчувствия, сеньор.
— Значит, предчувствие заставило тебя идти на Пуэрто-дель-Соль?
— Два вечера подряд, сеньор. Я непременно должен был идти туда и там…
— Что же ты остановился?
— Это слишком…
— Кончай скорее свое предисловие! Что же там случилось?
— Гораздо выгоднее говорить всем только то, что им нравится, и просто глупо, сеньор, прямо говорить людям в глаза правду, которая не всякому может нравиться…
— Я уже сказал тебе, что не буду на тебя сердиться, что бы ты ни сказал, — с возрастающим нетерпением повторил Горацио.
— Так вот же: оба вечера видел я напротив дома, где живет сеньора, высокого широкоплечего мужчину, который, не сводя глаз, смотрел на окна сеньоры. Он стоял неподвижно как статуя, скрестив на груди руки. В первый же вечер я заметил его. На второй вечер я догадался, ради кого он там стоял.
— Ты хорошо его рассмотрел, Алео?
— Хорошо, ваша светлость. Он высокий, сильный мужчина с окладистой рыжей бородой и серьезным благородным лицом.
— Ты его знаешь? Может быть, видел прежде?
— Нет, сеньор, человек этот мне совсем незнаком. Но любопытство не давало мне покоя, а может быть, и желание выслужиться, и я стал следить за этим человеком.
— Это ты хорошо сделал. Конечно, странно, что он стоял там два вечера подряд.
— Меня так и тянуло туда, и я наконец догадался, отчего, сеньор. Действительно, там было что посмотреть, и я не зря поддался своему влечению.
— Ты снова наблюдал за незнакомцем, и тебе удалось узнать, кто он? — нетерпеливо проговорил маркиз.
Алео заметил, как важен был для его господина этот вопрос.
— Вчера вечером я незаметно остановился неподалеку от него. Он продолжал неотрывно глядеть на окна сеньоры и, как казалось, сторожил дом. Вдруг я услышал, как он спросил женщину, вышедшую из того дома, кто живет на первом этаже. «Тут-то? — повторила женщина, указав на окна сеньоры, — тут живет известная красавица Альмендра». Она еще что-то прибавила, чего я из уважения к сеньоре не смею повторить.
— Я хочу знать все! Говори!
— Не я сказал эти слова, сеньор, но вы желаете их слышать, вы приказываете повторить их, и Алео должен повиноваться. Старуха (а женщина эта была старухой, типун ей на язык!) сказала: «Тут живет прекрасная Альмендра, которая танцует в салоне дукезы и соблазняет молодых донов». Это все зависть, чистая зависть, сеньор! Она еще сказала несколько слов незнакомцу, которых я не мог расслышать, но, во всяком случае, они были не очень почтительны, потому что ее собеседник, казалось, сильно испугался. Незнакомец вошел в дом и спросил у привратника имя сеньоры. Тот отвечал, что ее зовут Белита Рюйо. Тогда неизвестный дон как полоумный выбежал из дома, и я последовал за ним.
— Он заметил тебя?
— Нет, сеньор, нет! Он бежал вперед, никого не видя и не слыша. На углу улицы Алькальда его чуть не переехали. Наклонив голову и всем телом подавшись вперед, он продолжал идти, а я следовал за ним в некотором отдалении; наконец мне стало это надоедать, я начал думать, что он идет без цели.
Вдруг с Прадо он свернул на улицу Толедо. Я уже решил, что он просто шел к Мансанаресу, но опять странное предчувствие, о котором я уже говорил вам, помешало мне вернуться, и я продолжал преследование.
— Сократи, пожалуйста, свой подробный рассказ! Кто был этот незнакомец?
— Повремените еще минутку, ваша светлость, вы сейчас все узнаете. Я должен рассказать все подробно, иначе вы подумаете, что я Бог весть где скитался и пировал ночью, а теперь ищу оправданий. Итак, я последовал за ним до последних домов туда, где начинается такой глубокий песок, что невозможно ступить, чтобы не провалиться, и где никогда не увидишь ни одного человека. Я вовсе не думал о том, где мы находимся, я следовал за незнакомцем в темноте, как вдруг он подошел к какому-то черному забору и за этим забором скрылся! Тут только я увидел, где я!
— Ну, где же?
— Там, где живет нечистый, сеньор!
Глаза маркиза сверкнули, он пристально посмотрел на слугу.
— И незнакомец прошел в этот двор?
— Да! Я сразу подумал, что же он тут может делать, в этом дворе? И я прислушался! Незнакомец прошел по двору, потом отворилась какая-то дверь, и затем все стало тихо, я больше ничего не слышал. Я подошел к воротам, они были заперты. У неизвестного дона, значит, был свой ключ. Я еще подождал, но дон не возвращался. Наконец мне надоело дожидаться, да и страшно мне было стоять там ночью, очень страшно, сеньор! То что-то копошится, то видится Бог знает что! Поэтому я ушел оттуда и вернулся на набережную. Первый блеснувший мне навстречу огонек показался мне лучом избавления, я готов был плясать, так обрадовался, что оставил наконец позади страшное место! Между тем я порядком устал, преследуя этого странного дона, и зашел в таверну, чтобы подкрепиться. Там было почти пусто. Разговорчивый, немного подгулявший хозяин подсел ко мне, чтобы поболтать. Это как раз было мне на руку! «Скажите, пожалуйста, — начал я, — я сейчас видел здесь необыкновенно высокого мужчину с рыжей бородой, который скрылся на чертовом дворе. Кто бы это мог быть?» — «Кто это был? — усмехнувшись, отвечал хозяин. — Да кто же иной, как не новый Вермудец? Так вы его еще не знаете? Рослый, красивый мужчина!» — «Как, новый Вермудец?» — спросил я. — «Другого такого там нет, а ради прогулки никто туда не пойдет». — «Что правда, то правда, — рассмеялся я в ответ, — но скажите же, пожалуйста…»
— Спросил ты, как зовут этого нечистого? — перебил Горацио своего слугу.
— Об этом как раз я и хотел сказать.
— И хозяин назвал его?
— Точно так, сеньор. «Как же зовут этого вашего Вермудеца?» — спросил я. — «Христобаль Царцароза», — отвечал хозяин.
— Царцароза! Да хорошо ли ты слышал, Алео? Царцароза! — повторял маркиз в сильном волнении, которое крайне изумило его слугу, не понимавшего, отчего он так волнуется. — Да, да, так точно его звали… Царцароза… Тобаль Царцароза! Это он! И он здешний нечистый! Это выведет ее из заблуждения, это путь к спасению! Теперь все будет по-старому! Он нечистый! Эго возмутит ее, возбудит в ней отвращение, и она позабудет о нем! — так говорил и думал Горацио, а Алео прилежно следил за каждым его движением. — К ней! К ней! Принеси мне плащ, Алео, и вели подать экипаж!
Алео повиновался.
Через несколько минут нарядный экипаж маркиза уже стоял у крыльца. Горацио вышел, и Алео опустил подножку.
— На Пуэрто-дель-Соль, — приказал маркиз.
Чистокровные жеребцы легко и быстро помчали экипаж по улицам. Вскоре он остановился у подъезда Альмендры. Маркиз быстро поднялся по лестнице. Прежняя уверенность и сила снова воскресли в нем, он опять был прежним Горацио. Страшное бремя, казалось, вдруг свалилось с его души, он чувствовал себя свободным и быстро вошел в переднюю, как только ему открыли дверь, а оттуда — в гостиную.
Служанка тотчас поспешила к Альмендре доложить о маркизе.
Горацио показалось, что в комнатах произошла какая-то перемена; хотя он не видел ничего, но как-то почувствовал это.
В эту минуту на пороге гостиной показалась Альмендра.
Горацио изумился, взглянув на нее: на ней не было бриллиантов и золотых украшений, которые надевала она до сих пор; платье было простое, одно из тех, которые она носила прежде, еще до своего знакомства с дукезой. Но в этом простом, почти бедном наряде она была еще милее.
Волосы ее были гладко причесаны и убраны старой вуалью, но при всем том Альмендра еще никогда не казалась такой привлекательной, как в эту минуту.
Заметив эту перемену, маркиз остолбенел. Как прекрасна была Альмендра в этом бедном одеянии! Она сняла красотой, и Горацио не мог отвести от нее глаз.
Альмендра подошла к нему и дружески протянула руку.
— Это хорошо, что вы пришли, Горацио, — сказала она.
Молодой офицер с возрастающим удивлением посмотрел на Альмендру.
— Что все это значит? Ты со мной на вы? — спросил он.
— Мы расстаемся, ведь мы уже простились, — напомнила она.
— Это была необдуманная горячность. Ты должна быть моей навеки!
— Нет, мы обо всем этом уже говорили, Горацио, — тихо, но твердо возразила Альмендра. — Альмендра еще раз благодарит вас за все, что вы для нее сделали, и возвращает вам ваши подарки. Не сердитесь на меня, вы должны смириться с этим, если дорожите моим спокойствием, а в этом я уверена. Альмендра прощается с вами и с той жизнью, которую вела до сих пор; она снова будет прежней Белитой Рюйо, прежней сиротой, и трудом станет зарабатывать свой хлеб! С вами Альмендра предавалась веселью и радостям и, казалось, умела только наслаждаться жизнью, но она умеет также переносить лишения и работать. Ей отрадно будет поправить все то, что она так легкомысленно разрушила.
— Перестань печалиться! Отбрось эти странные мысли! — воскликнул Горацио и с жаром схватил руку Белиты. — Не поддавайся этим внезапным порывам, которые отравляют мне жизнь! Ты моя и останешься моей! Я принес тебе известие, которое сразу вылечит тебя от этих фантазий и разгонит твои печальные мысли! Слушай меня!
— Не пытайтесь поколебать мое решение, Горацио, это совершенно напрасный труд.
— Все равно, ты должна все узнать и снова стать моей! Не говорила ли ты, что сына твоего благодетеля, которого напомнил тебе незнакомец, звали Тобаль Царцароза?
Глаза Альмендры засверкали.
— Да, так звали сына моего благодетеля, — сказала она.
— Ты не ошиблась: этот незнакомец — Тобаль Царцароза!
— Это он! — воскликнула Альмендра, и радость засветилась на ее лице. — Так это он! О, как я благодарна вам за это известие, Горацио! Теперь только вижу я, что вы меня искренно любили!
Эти слова неприятно поразили маркиза.
— Напрасно ты до сих пор в этом сомневалась, — серьезно возразил он, — я так сильно тебя люблю, что готов за тебя отдать все, ты понимаешь, все! И ты должна принадлежать мне! Я верну твое расположение, потому что ты отвернешься от своего возлюбленного, когда узнаешь, кто он такой!
— Эти слова пугают меня! Что ж вы хотите сказать? О Господи! Горацио, пожалейте меня!
— Я хочу излечить тебя, уничтожить чувство, которое неправдой вкралось в твое сердце!
— Горацио, вы мучаете меня! Говорите же скорей, умоляю, говорите, что вы знаете о Тобале Царцарозе?
— Я рад, что могу покончить со всем этим не оружием, чего ты так не хочешь, а единым словом! Тобаль Царцароза, тот незнакомец, ради которого ты почти решилась на необдуманный шаг, не кто иной, как здешний нечистый!
— Нечистый?! Тобаль — нечистый? — в ужасе повторила Альмендра. Она пошатнулась и схватилась рукой за голову.
Горацию поспешил подхватить ее и отнести в кресло. Потом он позвонил горничной, чтобы с ее помощью привести Альмендру в чувство.
VI. Подземный ход
Инес и Амаранта скоро очутились с Антонио в могильном мраке подземного хода, который, по словам Лоренцо, за тысячу шагов от монастыря выводил прямо в лес.
Антонио помнил, что он когда-то видел в лесу пещеру на отлогой стороне холма. Антонио спросил тогда настоятеля, что это за пещера, и тот объяснил, что она ведет в подземный ход, несколько сотен лет тому назад проделанный монахами во время войны. Антонио скоро забыл об этой пещере, погрузившись в серьезный разговор, который он вел с патером Пабло.
И вот теперь, очутившись в подземном ходе без света, без малейшего понятия о том, как он устроен, Антонио решительно не знал, чем руководствоваться. Это бы меньше беспокоило его, если бы он был один, но с ним были две женщины, которых он должен был вывести из этого страшного мрака.
Был ли причиной сырой, спертый воздух подземелья или страх перед неизвестностью, Антонио не знал, но он чувствовал, как сжимается его грудь. И все же он смело, не останавливаясь, шел вперед. За ним следовала Инес, Амаранта шла последней. Они медленно продвигались, ощупывая руками скользкие, сырые стены. Ноги все время разъезжались на мокрой глине, а воздух в подземелье до того был пропитан сыростью, что трудно было дышать.
Непроглядный мрак и мертвая тишина вызывали состояние угнетенности.
Крысы с писком разбегались из-под ног, испуганные их неожиданным появлением. Инес старалась побороть свой страх и отвращение, но иногда невольно хваталась за Амаранту, шедшую за ней.
Антонио шел впереди, осторожно нащупывая ногами путь, чтобы первым встретить любую опасность или препятствие. Дорога казалась ему бесконечной. Он шел молча, да и что он мог сказать своим спутницам, чем ободрить их? Надо было как можно скорее выбраться из этого мрачного отвратительного хода, это было главное. Антонио надеялся, что ему удастся вывести девушек на свет Божий. «Только бы добраться до выхода, — думал он, — и все будет хорошо. А выход должен быть недалеко».
Полчаса уже шли беглецы по подземному ходу, и эти полчаса казались им вечностью. Однако света все' еще не было видно, и не чувствовалось ни малейшего дуновения ветерка, напротив, воздух становился все тяжелее и удушливее и начал действовать на них, как дурман.
Инес первая почувствовала это, но ничего не сказала, чтобы не беспокоить Антонио. Она надеялась, что это пройдет.
Скоро и Амаранта почувствовала, что ей совсем трудно стало дышать, а в ушах стоит шум, будто бы где-то поблизости плещется море. Но и она ни на что не жаловалась, думая, что вот-вот они дойдут до цели.
— Патер Антонио, — наконец тихо произнесла Инес, — скоро ли выход?
— Я не вижу его, но он должен быть близко, — отвечал Антонио. Голос его глухо раздавался в подземелье.
Все снова замолчали. Вдруг Амаранта почувствовала, что Инес остановилась. Амаранта подала ей руку и заметила, что Инес, еще не совсем оправившаяся после своей болезни, вся дрожит. Скорого облегчения, однако, ничто не обещало, все они тщетно ждали хотя бы одной струйки свежего воздуха.
— Скоро ли выход, патер Антонио? — снова спросила Инес, едва сохраняя сознание.
— Крепитесь, донья Инес, — отвечал патер, — еще несколько минут, и мы будем у выхода.
Патер тоже замечал, что воздух становится все удушливее, и догадывался, что в нем, вероятно, вредные газы, так как у него с каждой минутой все больше и больше перехватывало дыхание.
Вдруг Антонио наткнулся на какое-то препятствие. Он ощупал его руками и понял, что это толстая доска, поставленная стоймя, должно быть, для того, чтобы подпереть свод. Возле доски еще стоял толстый шест, видимо, служивший второй подпоркой.
— Еще несколько шагов, донья Инес! — воскликнул патер, чтобы поддержать ее мужество. — Господь поможет нам!
— Я не могу идти дальше, патер Антонио!
— Нет, тут нельзя оставаться, — сказала Амаранта, поддерживая графиню, — пойдем! Еще немного.
Антонио снова на что-то наткнулся, на этот раз казалось, что препятствие занимает всю ширину прохода и обогнуть его нельзя. Невыразимый страх охватил Антонио, когда, ощупав стену перед собой, он убедился, что вся она состоит из обрушившейся земли и камней. Здесь произошел обвал, идти было некуда! Воздух становился все удушливее. «Идти назад!» — было первой мыслью Антонио, когда он убедился в невозможности двигаться дальше.
Идти назад! Это было единственное спасение.
Но Антонио не подумал, насколько уже утомился сам и насколько устали обе девушки, — они, конечно, были не в состоянии вторично пройти этот путь.
— Что случилось, почему вы остановились? — спросила Инес в отчаянии, чувствуя, что силы изменяют ей.
— Ради Бога, скажите, что там? — спросила Амаранта, тоже начинавшая ослабевать.
— Дальше пройти невозможно, тут обвал, — отвечал Антонио глухим, гробовым голосом.
Под страшными сводами раздался крик отчаяния.
— Господь поможет нам! Только не отчаивайтесь, мы должны идти назад, назад, как можно скорее!
— Теперь все кончено… Я не могу больше идти, — сказала графиня.
— Что вы говорите, графиня? Где вы? Я понесу вас! — озирался Антонио в темноте.
— Воздуха, воздуха! — тщетно взывала Инес.
Амаранта тоже чувствовала, что задыхается.
Безысходное отчаяние овладело патером. Он, спасавший графиню даже тогда, когда, казалось, уже не было никакой надежды, в этот раз ничего не мог для нее сделать! Антонио корил себя за то, что завел ее сюда, и считал себя виновным во всем.
Но патер недолго предавался отчаянию, скоро оно уступило место решимости. Он понимал, что действовать должен он, что на нем лежит обязанность спасти обеих женщин.
И тут ему показалось, что земля над ними задрожала и донесся какой-то шум, похожий на раскаты грома.
Инес и Амаранта, не в силах больше держаться на ногах, опустились, обнявшись, на сырую землю в каком-то странном полузабытьи. Их неудержимо клонило в сон, а Антонио все звал их и просил подняться.
Патер вернулся к тому месту, где стояли подпорки. Он нашел шест, с силой вырвал его из земли и принялся крушить им стену, образованную обвалом. При этом он иногда окликал девушек, уговаривая их не засыпать, и поддерживал в них надежду, говоря, что скоро пробьется через обвал.
Графиня и Амаранта машинально, как спросонья, отвечали ему, а патер все работал, начиная уже понимать, что пробиться, видимо, не удастся, и, наконец, ему стало ясно, что никакого выхода здесь нет. Что делать? Бежать в монастырь за помощью? А если карлисты еще в монастыре?.. И как оставить девушек одних?
Вдруг наверху раздался грохот, от которого вся земля задрожала.
Антонио содрогнулся. Инес и Амаранта вскочили.
— Где мы? Что случилось? — воскликнула Инес.
— Святая Мадонна, спаси нас! — молилась Амаранта.
Инес в страхе прижалась к Амаранте.
— Это гром, наверху гроза, — сказала Амаранта.
— Нет, я думаю, что это выстрел из пушки. Может быть, к нам идет спасение. Вставайте, донья Инес, пойдемте назад!
— Я не могу двинуться, я умру здесь, — отвечала графиня.
У Амаранты тоже не хватало сил держаться на ногах, и она снова опустилась возле своей подруги. Теперь и Антонио почувствовал, что начинает терять сознание.
Земля снова задрожала, и патеру показалось, будто над ними пронеслась кавалерия.
Это было последнее, что он ясно помнил, он хотел еще позвать своих спутниц, чтобы бежать с ними в обратный путь, но, хватая ртом воздух, задыхаясь, в полном изнеможении свалился на землю.
Отравленный воздух, наконец, и его лишил сознания: все трое лежали в странном полусне, перед ними проносились жуткие видения, слышался неясный шум. Несчастным казалось, что страшные чудовища ползли на них отовсюду, протягивая к ним свои бесчисленные отвратительные щупальца; им виделись ужасные сны, вызывавшие страх и омерзение.
А над ними продолжалась битва, и грохот подходил все ближе и ближе.
Антонио тоже мерещились какие-то зеленые и красные гады, пытающиеся захватить его своими длинными щупальцами, развивавшиеся и свивавшиеся кольцами змеи, ползшие прямо на него, мерещились страшные хари, скалившие зубы и наводившие смертельный страх.
Вдруг наверху раздался пушечный выстрел, от которого земля содрогнулась так, что часть свода провалилась в том месте, откуда Антонио вытащил подпорку.
Со страшным грохотом в подземный ход посыпались камни и земля и на минуту вывели Инес и Амаранту из оцепенения. Антонио частично засыпало, но перед этим он успел прийти в себя и позвать на помощь.
Глухо раздался голос Антонио, но он был услышан наверху, потому что от сильного сотрясения в своде подземелья образовалось отверстие. Глина и камни еще нависали над патером, грозя при новом сотрясении окончательно засыпать его. Во всяком случае, смерть ожидала всех троих, если им тотчас не придут на помощь.
VII. Виналет
Карлисты, предпринявшие вылазку под началом Фустера и Лоцано, были побиты и оттеснены Жилем. Битва эта происходила в горах, вблизи монастырей, так как бригадир Жиль-и-Германос, желая отомстить врагам за то, что они взяли в плен его друга, специально проник так далеко, чтобы рассечь надвое силы карлистов.
Дон Карлос, узнав о битве, поспешил сам на поле сражения, но и его появление не произвело желанной перемены: регулярные республиканские войска открыли по временным укреплениям карлистов такой сильный огонь, что те не могли противостоять.
У карлистов был обычай воздвигать на своем пути временные укрепления и под их защитой укрываться от неприятеля. На открытую битву мятежники не шли, она им не давалась: они предпочитали стрелять в неприятеля из засады, под прикрытием надежных земляных валов. Ночные вылазки тоже были у них в ходу.
Несмотря на все меры, в этот раз карлисты были наголову разбиты Жилем. Они спасались бегством, оставив множество убитых и раненых на поле боя.
Дон Карлос, прибыв в Ирану, сам командовал отступлением. Войска остановились неподалеку в ожидании подкрепления. Второго нападения со стороны Жиля нельзя было ожидать так скоро, поскольку солдатам его предстояла печальная обязанность, которой для кар-листов вовсе не существовало и которой они никогда не исполняли: погребение мертвых. Республиканские солдаты хоронили не только своих солдат, но и убитых врагов, и всех без различия раненых отправляли на лечение в лазареты.
Дон Карлос держал совет с Лоцано и Фустером, воодушевляя их на новые дела, когда подъехала его невестка, верхом, в сопровождении нескольких всадников. Супруга брата претендента была в мундире своего полка.
Бланка Мария действительно была похожа в эту минуту на неустрашимую амазонку. Что-то романтическое было во всем ее облике, и это не в последнюю очередь привлекало басков на сторону дона Карлоса.
Претендент не мог не ценить за это свою невестку и часто даже ставил ее мужество и решимость в пример офицерам.
Вообще он всегда старался обратить на нее всеобщее внимание и не пропускал случая похвалить за смелость и сказать, что она отличная наездница.
Завидев ее, дон Карлос поспешил навстречу и приветствовал ее на крыльце.
Бланка соскочила с лошади, бросила поводья кому-то из своей свиты и с доном Карлосом вошла в дом.
— От души приветствую вас, моя дорогая невестка, — заговорил претендент, входя с Бланкой Марией в комнату. Надеюсь, вы не будете слишком взыскательны; здесь у меня всего несколько стульев, которые я с трудом мог набрать.
— Мы на войне, ваше величество, — отвечала Бланка Мария, — и лучшее место для меня днем — на коне, а ночью — в палатке.
— Кто бы мог подумать, — продолжал дон Карлос, — что так будет говорить принцесса, избалованная роскошью и довольством! Примите мою сердечную благодарность, моя дорогая сестра! Я надеюсь, что скоро буду в состоянии вознаградить по достоинству всех близких и преданных мне людей!
— Сначала, ваше величество, мы должны ближе подойти к цели! В наш лагерь дошла весть о поражении, и я поспешила приехать доложить вам, что дон Альфонс уже выступил с арьергардом, чтобы помочь Лоцано и Фустеру разбить врага.
— Примите мою благодарность за это известие, моя дорогая невестка! Поражением этим мы обязаны неприятельской артиллерии, поскольку у Лоцано было всего два орудия. Я все больше убеждаюсь в необходимости увеличить число пушек, тогда мы сможем противостоять неприятелю или просто приобретем над ним перевес.
— Что касается мужества, то солдаты вашего величества далеко превосходят регулярные войска, пушки появятся со временем, вот жаль только, что у меня нет больше драгоценностей, которые я могла бы положить к вашим стопам…
— Поверьте, что я высоко ценю принесенные вами жертвы!
— Однако я ясно понимаю, что издержки на эту войну растут с каждым днем! Вчера представлялся мне сеньор Виналет, он горит нетерпением поступить к вам на службу, — продолжала Бланка, — и показался мне полезным человеком, но главное, он знает какую-то тайну и хочет сообщить ее вам, чтобы доказать свою преданность. Тайна эта, как мне кажется, состоит в том, что он хочет вашему величеству предложить довольно значительную сумму денег для дальнейшего ведения войны.
— Пусть он" обратится с этим к моим казначеям.
— Вы извините, ваше величество, но Виналет соглашается доверить свою тайну лишь вам одному.
— Где же он?
— Я привела его с собой и надеюсь, ваше величество, что вы найдете в нем верного, усердного слугу. Он умеет говорить на нескольких языках, так как довольно долго кочевал с цыганами по Италии и Франции.
— Да, такие люди бывают полезны, — заметил дон Карлос. — Благодарю вас, дорогая сестрица, за то, что вы его привели. Я рад принять его.
Она подошла к двери, раскрыла ее и подала кому-то знак рукой.
В двери показался молодой человек и низко поклонился претенденту. Он был очень подвижен, но вместе с тем в нем было и достоинство. Одежда его была чем-то средним между городской и цыганской, поверх пестрого платья — плащ.
Незнакомцу было около двадцати пяти лет, он был высок, строен и, судя по всему, отличался крепким здоровьем, какое присуще людям, постоянно находящимся на воздухе. Лицо было темное, загорелое, а в чертах что-то цыганское, приобретенное за время долгих странствий с этим племенем.
Представив молодого сеньора дону Карлосу, Бланка вышла. Но дон Карлос на несколько минут оставил Виналета одного, занявшись пленными, которых еще раньше приказал привести к себе.
Этих несчастных ожидала страшная участь. Вот что об этом рассказывает очевидец сеньор Генри О'Донован, поступивший к карлистам из человеколюбия, чтобы ухаживать за их больными и ранеными. Из его рассказа мы видим, чем карлисты отплатили ему за его самоотверженную работу: «Шесть полных месяцев провел я в темнице в Эстелле, этой страшной тюрьме, которую смело можно поставить в один ряд с самыми ужасными местами заключения, когда-либо существовавшими в истории. Только своему крепкому телосложению и необыкновенно выносливой натуре обязан я тем, что не умер в заключении. Представьте себе, что зимой я спал без одеяла на холодных промерзших кирпичах, так что утром едва мог подняться с этого ледяного ложа. Когда зима кончилась, заключенным для постелей дали сена, но так мало, что лично мне его едва хватило на подушку. Пища была так плоха, и ее давали так мало, что этого хватало только на то, чтобы не умереть с голода. Два раза в день нам давали есть, каждый раз одно и то же — унцию серых бобов, немного теплой соленой воды и кусок хлеба величиной с кулак, с виду похожий на кусок обожженной глины. Так проводили мы целые месяцы. В конце февраля я понял, что умираю. Четыре дня я лежал без сознания, не в состоянии повернуться или поднять руку. Наконец ко мне прислали военного доктора, который приказал перенести меня в госпиталь.
Во время моего беспамятства я был в самом отвратительном положении. Темница была полна всяких насекомых: блох, вшей, клопов, тараканов, муравьев, и приходилось каждый день чистить от них платье и постель, чтобы ночью можно было заснуть. Я затыкал себе уши жеваной бумагой, потому что насекомые забирались и туда. Пока я лежал в беспамятстве, миллионы этих паразитов набросились на меня и так впились в мое тело, что образовались нагноения и припухлости, от которых удалось позднее избавиться лишь мыльными ваннами и втиранием различных кислот».
Надеюсь, по этому краткому очерку можно судить, что должен был вытерпеть пленный в тюрьме у кар-листов!?
«Но что было причиной моего заключения? — продолжает О'Донован. — Я страдаю бессонницей и поэтому хранил у себя склянку лауданума, который принимал в случае надобности и который стоял у меня на окне. Падре, в доме которого я жил, спросил меня, что это за склянка, на что я ему просто отвечал, что в ней яд, опиум. Несчастный поспешил уведомить кар листов, что у меня есть яд и что я, конечно, берегу его для каких-нибудь тайных целей. Тотчас прибыл ко мне главнокомандующий Дюфур, арестовал меня и повел в Эльцондо, где Наваррская Юнта объявила торжественно, что я агент Мадридской секретной службы. Что такое секретная служба, я хорошенько не знаю, но полагаю, что под этим именем разумеют какое-нибудь общество, противостоящее карлистам. Можете представить себе мое изумление, когда меня объявили злодеем, имевшим намерение отравить Карла VII? Один из судей, остряк, спросил меня, что делает мой друг Контрерас и когда я в последний раз видел Пабло Анджена. Я вовсе не знал, кто был этот последний, и ничего не мог сказать о его соучастниках. Тогда меня отправили в Эстеллу, где я и пробыл долгие шесть месяцев, как уже сказано выше».
Вот что случилось с человеком, который, невзирая ни на какие партии, посвятил себя служению раненым и несчастным!
Что же после этого ожидало пленных, попавших в руки карлистов?
Позднее мы опишем и их судьбы.
Посмотрев пленных и произнеся приговор (очень короткий — расстрелять), дон Карлос вернулся в свою комнату, где его ждал Виналет.
Дон Карлос, согласившись выслушать этого последнего без свидетелей, подал своим адъютантам знак оставить их вдвоем.
— Как вас зовут? — спросил претендент.
— Виналет, ваше величество.
— Вы француз?
— Кажется, я сам этого не знаю, ваше величество! По имени я француз, потому что отец мой, вероятно, был французский подданный, но по своим симпатиям и убеждениям я испанец, преданный вашему величеству!
— Чем вы занимаетесь?
— Я цыган, ваше величество, и прежде играл на скрипке и на цимбале почти во всех городах Испании и Италии. Потом я был писарем у адвоката в Мадриде, после чего опять странствовал с цыганами, а теперь, с полгода тому назад, стал снова заниматься письменными работами. Я свободно говорю на трех языках, пишу четко и хорошим деловым слогом. У меня одно желание — быть секретарем вашего величества.
— Ваше желание не слишком скромно, — отвечал Карлос, с возрастающим интересом глядя на молодого человека, — но для такой должности недостаточно одних талантов, нужны и рекомендации. Знаете вы это?
— Я это знаю, ваше величество, я привез с собой свою рекомендацию.
— Где же она? Кто вас рекомендует?
— Я сам, кроме того, моя преданность, моя твердая воля и моя дальновидность.
— Во всяком случае, одно у вас точно есть — самоуверенность.
— Без этого ничего не добьешься, ваше величество, этому меня научила жизнь. Теперь перехожу к своей рекомендации: я знаю тайну…
— Что же это за тайна?
— Я хочу открыть вашему величеству такие сокровища, которые пополнят вашу кассу, опустошенную военными расходами!
— Обычно люди думают и заботятся прежде всего о своих интересах! Почему же вы не возьмете себе эти сокровища?
— Во-первых, потому что интересы вашего величества я ставлю выше собственных, а во-вторых, потому, что один я не могу их достать! А если бы мне это и удалось, то пришлось бы скрываться от тех, кто считает их своими. Вся история этих сокровищ похожа на сказку!
— Расскажите же мне ее, чтобы я мог судить о деле и сказать, принимаю я или нет ваше предложение!
— Дело идет о сокровищах старого цыганского короля Аларико, ваше величество, того самого, который в 1808 году попал в плен к французам. Он последний владел и распоряжался этими богатствами, которые, по преданию, оцениваются в несколько миллионов! По словам одного старого цыгана, современника Аларико, тот зарыл свои богатства в одной отдаленной долине в горах. Слух об этом дошел до французов, и они пытались от пленного цыганского короля добиться признания! Аларико же, желая во что бы то ни стало спасти свои сокровища и боясь под пыткой выдать врагам место, где они были спрятаны, успел передать приказание преемнику, чтобы тот в присутствии всего табора выкопал их и бросил на дно какого-нибудь озера или реки, откуда никто в одиночку не мог бы их достать и где бы они были скрыты от французов! Приказание это было свято исполнено! Аларико умер в плену, а так как после него не осталось ни сына, ни дочери, то власть его и титул короля перешли к его преемнику. Тело Аларико, выданное французами его соотечественникам, было ими опущено в то же озеро, где были спрятаны и сокровища! Я узнал эту историю из уст очевидца и свидетеля!
— Ваш рассказ, сеньор Виналет, очень похож на сказку! Известно вам, однако, это озеро, в котором спрятаны сокровища?
— Да, ваше величество, я знаю и готов указать вам его, но только вам, и никому более! Мне эти сокровища не дались, хотя я в продолжение нескольких лет не раз опускался на дно и искал их там даже в одежде водолаза, которую специально привез из Парижа!
— Итак, вы опускались на дно и ничего там не нашли?
— Из этого еще нельзя заключить, ваше величество, что там ничего нет! Я убежден, что сокровища действительно там, хотя ни одна из моих попыток не увенчалась успехом! Нужно принять во внимание, что я в своих поисках вынужден был вести себя очень осторожно, чтобы меня не заметили цыгане, и что между моими попытками проходили годы, а за это время дно все больше и больше покрывалось илом, водорослями, под которыми теперь погребены сокровища, и открыть их с каждым годом становится все труднее; кроме того, я, конечно, не имел возможности исследовать все озеро!
— Это очень рискованно, но тем не менее я принимаю ваше предложение, если вы согласны указать мне это озеро.
— Я готов, ваше величество, и если сокровища достанутся вам, то прошу в виде вознаграждения дать мне какое-нибудь место при особе вашего величества! Например, место секретаря я счел бы самым завидным для себя положением, тем более что, находясь возле особы вашего величества, я был бы вполне защищен от преследований цыган, которые, в сущности, и прав-то никаких не имеют на это богатство, так как оно принадлежало предкам Аларико, потом перешло по наследству к нему, а он умер, не оставив потомства! И я был бы весьма счастлив, если б оно досталось вам и послужило бы вашим высоким целям!
— Оставайтесь при мне, сеньор Виналет, оставайтесь без какого-то определенного назначения до тех пор, пока у меня не появится возможность приняться за дело, предложенное вами, а это будет, вероятно, через две-три недели, так как я рассчитываю, что к этому времени у меня будет достаточно людей для осушения озера, что, разумеется, они будут делать, не зная истинной цели работы!
— Превосходный план, ваше величество!
— Тогда выяснится, насколько верны ваши сведения. Этими словами дон Карлос закончил аудиенцию с хитрым Виналетом, личность которого осталась для него невыясненной и неразгаданной.
VIII. Карлистский черт
Наступила ночь и накрыла своим мрачным покровом лагерь карлистов, находившийся под началом Доррегарая, протянувшийся на большое расстояние от Ираны.
В этот отряд входили батальоны, состоявшие под началом Изидора Тристани. не принимавшие, впрочем, участия в сражении отряда с войсками, предводительствуемыми Жилем-и-Германосом, так как по распоряжению генерала Доррегарая эти батальоны, составлявшие правое крыло отряда, были отодвинуты дальше на восток.
Доррегарай, щедро награждаемый доном Карлосом и надеявшийся вскоре стать главнокомандующим, успел уже значительно увеличить свой отряд и имел под своим началом до шести тысяч человек.
Эти успехи и победа над республиканскими войсками возбудили, по-видимому, в душе мексиканца страшную гордость, производившую особенно неприятное впечатление на Изидора Тристани.
Разумеется, Доррегарай позаботился, чтобы Изидор, который действительно мог называться его правой рукой, был тоже награжден, но награжден не щедро, не по заслугам, а довольно умеренно.
Чувствовал ли генерал, что его подчиненный завидует ему или что он искуснее в этом роде войны, а может, просто из-за неумеренной гордости, только он позаботился, чтобы Тристани стоял в служебной иерархии гораздо ниже его, и потому сделал его командиром самого маленького, незначительного отряда, лишив права предпринимать что бы то ни было без предварительного с ним согласования или без особого на то разрешения с его стороны. Это обстоятельство навело Изидора на подозрение, что генерал Доррегарай удерживает его при себе и не дает хода вперед, чтобы, пользуясь его ловкостью, присваивать себе лавры, заслуженные Изидором.
Это убеждение наполняло душу Изидора желчью и ненавистью, еще усиливавшейся оттого, что дон Карлос беспрестанно вызывал к себе генерала Доррегарая и осыпал его наградами и почестями. А в довершение всего Доррегарай на время своего отсутствия оставил за себя не Изидора, а другого командира.
Разумеется, Изидор Тристани был слишком осторожен и хитер, чтобы дать заметить злобу и зависть, таившиеся в его сердце, но тем опаснее он был для мексиканца. Когда Изидор ненавидел, он умел найти в предмете своей ненависти слабую сторону, а в жизни своей он еще никого так не ненавидел, как этого генерала, который осмеливался держать его на заднем плане, не давать ему хода, а вместе с тем эксплуатировать его способности, извлекая при этом пользу для себя! При виде Доррегарая, при одной мысли о нем Изидору кровь бросалась в голову, он задыхался от злобы, и ему с трудом удавалось не обнаружить ее, но самообладание его было так велико, что даже безобразные косые глаза не выдавали его истинных чувств!
Доррегарай, по-видимому, и не подозревал о тон ненависти, которую внушал своему подчиненному; он был слишком горд, чтобы задумываться о таких ничтожных вещах, как нерасположение к нему людей вроде Изидора Тристани! Последний же был убежден в душе, что генерал не мог не заметить его чувств, что он только делает вид, будто не замечает их.
Это еще больше раздражало Изидора и вместе с тем вызывало желание открыто проявить наконец свои чувства, что он действительно вскоре и исполнил, доведя генерала до такой вспышки, что между ними чуть не произошла кровавая сцена.
Тристани сообщил Доррегараю, будто до него дошли сведения, что несколько донов, сыновей знатных грандов, служащих офицерами в неприятельской армии, ведут разведку вблизи их лагеря. Тристани заявил, что, если этим офицерам удастся задуманное, для карлистов это будет стыд и позор, а с другой стороны, заметил он, было бы очень выгодно взять в плен этих молодцов, принадлежащих к знаменитейшим испанским фамилиям.
Изидор дал при этом точные указания, в каком именно месте их видели, и, зная наперед, что генерал сам решит выполнить эту операцию, предложил поручить это дело ему и ручался выполнить его со своим отрядом. Вся эта история была им выдумана в насмешку над генералом, чтобы этим выразить ему свое презрение и ненависть.
Случилось именно так, как он ожидал! Доррегарай, не подозревавший в полученном сообщении насмешки или желания его одурачить, откомандировал Тристани с каким-то поручением совсем в другое место, а сам отправился с несколькими офицерами на поиск знатных лазутчиков, следуя указаниям Изидора, которые были так точны, что ошибиться в направлении было невозможно.
Смеркалось, когда они отправились в путь, и генерал во время путешествия так разжигал любопытство своих спутников загадочными замечаниями насчет предстоящей добычи, что они сгорали от желания и нетерпения поскорее встретить неприятеля и сразиться с ним.
Проехав по дороге, указанной Изидором, три или четыре мили, они увидели перед собой гору, покрытую виноградником, по обеим сторонам дороги тянулся редкий лесок. Генерал отдал приказание двигаться вперед как можно осторожнее и через несколько минут круто повернул свою лошадь в сторону, раньше всех увидев сквозь деревья какую-то фигуру, не двинувшуюся с места, несмотря на приближение всадника.
Генерал выхватил револьвер, между тем его свита последовала за ним, и все на рысях поскакали туда, где продолжала неподвижно стоять фигура, обратившая на себя внимание генерала. Приблизившись, они увидели, несмотря на темноту ночи, человека в неприятельском мундире, недалеко от которого стояли еще два офицера неприятельской армии, это были они, лазутчики! Теперь они были у них в руках!
— Кто там? Отвечайте, или я стреляю! — воскликнул генерал.
Ответа не последовало.
— Сдавайтесь! — закричал генерал, и его свита окружила со всех сторон трех неприятелей, стоявших между деревьями.
И в тот же момент все осаждавшие разразились громким хохотом! Оказалось, что вместо шпионов перед ними были три обрубленных ствола, на которые были напялены офицерские мундиры, одним словом, стояли три чучела, какие обычно ставят на полях, чтобы отпугивать птиц! Действительно, на них была полная боевая форма неприятельских войск и даже военные каски, вероятно снятые с убитых.
В первый момент Доррегарай не мог понять причины всеобщего смеха, а когда разглядел, сразу понял, что Тристани умышленно подготовил весь этот фарс, чтобы одурачить его!
Разумеется, он не подал вида, что вся эта история со шпионами была злым розыгрышем Изидора, решившего посмеяться над ним; чтобы не вызвать подозрения у спутников, он сам расхохотался и поехал дальше со своей свитой, делая вид, что не прекращает преследования шпионов, о появлении которых возле их лагеря он так много рассказывал своим спутникам; всю ночь они провели в поисках и только утром вернулись в лагерь, куда в это же время вернулся и Тристани из ночной экспедиции, в которую был послан генералом.
Он стоял с несколькими офицерами на дороге, по которой Доррегарай возвращался в лагерь со своей свитой; заметив дьявольскую усмешку на безобразной физиономии Изидора, которой косые глаза придавали совсем уж мефистофельское выражение, генерал не мог сдержать гнев, душивший его всю дорогу, и, спрыгнув с лошади, бросился с поднятой саблей к нему.
Другие начальники отрядов и офицеры, стоявшие вокруг Тристани, оттеснили его назад, встав между ним и Доррегараем, это и спасло Изидора от смерти! Он прикинулся невинной жертвой, и генерал, не желая давать огласки всему этому делу, по-видимому, вскоре забыл о нем совсем или, по крайней мере, решил не вспоминать до поры до времени.
Но отношения между мексиканцем и бывшим капралом становились все хуже, что бросалось в глаза всем и каждому! Оба уже не скрывали ненависти, и похоже было, что ни тот, ни другой не остановятся ни перед чем, чтобы погубить друг друга.
Тристани испытывал злорадное удовольствие оттого, что не только посмеялся над генералом, но и поставил его в такое положение, когда ему грозили самые скверные последствия, посмей он только дать ход всей этой истории.
Он испытывал поистине сатанинские чувства при одном виде Доррегарая, хотя прекрасно понимал, что этот враг и сам не упустит случая погубить его при первой же возможности.
Это скрытое противостояние должно было привести к гибели кого-то из двух, и Тристани, как и генерал, не хотел, разумеется, стать жертвой этого поединка!
Доррегарай имел те преимущества, что соперник стоял ниже него в служебной иерархии и что дон Карлос был на его стороне, — довольно важные преимущества, при которых его трудно было победить.
Но Изидор Тристани был настоящий дьявол и к тому же дьявол, усвоивший иезуитский принцип: все средства хороши для достижения цели! Такой не остановится ни перед каким злодейством, ни перед каким гнусным делом, чтобы достичь желаемого, и теперь он не знал покоя ни днем, ни ночью, пытаясь найти что-то такое, что дало бы ему перевес над Доррегараем! Во что бы то ни стало нужно было найти способ одолеть своего врага, даже если б это стоило ему жизни, потому что в противном случае он все равно должен был неминуемо погибнуть от руки генерала! Нужно было сделать так, чтобы Доррегарай боялся его! Дело нелегкое, мечта смелая, задача почти невыполнимая, но тем привлекательнее и заманчивее она казалась Изидору.
Так прошло несколько дней, но ни один из соперников не сделал решительного шага. Доррегарай мог, разумеется, отослать куда-нибудь своего подчиненного или позаботиться, чтобы его перевели в другой отряд, однако он удерживался от этих мер, вероятно чтобы не поднимать историю со шпионами. Но Тристани не сомневался, что его смертельный враг только выжидает, что он погибнет, если не предупредит мести ненавистного соперника.
Как кровожадный тигр, ни на минуту не выпускающий из виду своей жертвы, подстерегал Изидор врага. Недаром в правительственных войсках его прозвали карлистским чертом за жестокость с пленными и ранеными. Но не только за это его можно было назвать дьяволом, а еще и за хитрость, ловкость и изворотливость ума, всю силу которого он направил теперь на то, чтобы отыскать способ погубить Доррегарая. Он ухватился за один маленький неясный след, который мог привести его к цели, и решил во чтобы то ни стало проверить его. Это было похищение военной кассы в Риво, там многое осталось неясным!
Деньги бесследно исчезли, о них ничего не было слышно с тех пор, но ведь кто-то же украл их! Многие утверждали, что Доррегарая видели в ночь похищения недалеко от кассы. Что если он украл деньги и держит их при себе? Тогда он погиб, погиб безвозвратно, и если даже дон Карлос вздумал бы простить ему такой проступок, то общество не простит!
Но как, где добыть доказательства? Без явных улик нечего и заикаться об этом деле. Изидор уже пробовал довести эти подозрения до дона Карлоса, но принц не допускал даже возможности подобной мысли, подобного предположения! Однако дело приняло бы другой оборот, сумей Изидор представить явные доказательства, тогда бы и сам принц не смог ничего сделать, потому что Изидор открыл бы эти улики солдатам.
Ночь накрыла своим мрачным покровом лагерь кар-листов, в котором царила глубокая тишина, — солдаты по случаю сильного холода забрались в свои палатки и, плотно закутавшись в одеяла, крепко заснули, Небо покрылось черными тучами, и пошел мелкий дождь.
Часовые, стоявшие вокруг лагеря и внутри него, тряслись от холода и нетерпеливо ожидали смены. Закутавшись в плащи, сурово и мрачно вглядывались они в густой туман, скрывавший от них и сам лагерь, раскинувшийся на большом пространстве.
Вдруг раздался громкий голос одного из них, услыхавшего поблизости шум шагов:
— Кто там?
— Друг карлистов, — отвечал приближающийся.
— Друг карлистов! Этого мало, скажите пароль!
— Валенсия и Мадрид!
— Кто вы и что вам здесь надо?
— Я прибыл из Толедо с важным поручением к вашему генералу, — сообщил незнакомец, подходя ближе к часовому, — он ждет меня! Доложите ему только, что его хочет видеть один из высших начальников, этого довольно, имени не нужно!
— Оставайтесь тут! — повелительно сказал часовой. — Я не могу оставить пост, но вас сейчас проведут!
Он громко позвал кого-то, и в ту же минуту из ближайшей палатки вышел человек.
— Проводите этого незнакомца к генералу, он из Толедо и знает пароль.
— Верно, очень спешное дело, раз решился приехать в такую погоду, — проворчал карлист.
— Идите за мной, — прокричал он громко незнакомцу.
Тот немедленно последовал за ним. Он был в длинном плаще, в остроконечной черной шапке, низко надвинутой на бородатое лицо, на ногах длинные кавалерийские сапоги. Несмотря на то, что он плотно закутался в плащ, видно было, что он очень крепкого, сильного сложения и довольно молод.
— Подождите здесь, сеньор, — сказал карлист незнакомцу, подойдя к нужной палатке. Маленький красный флаг, развевавшийся над ней, указывал, что это палатка командира.
Не прошло и минуты, как карлист вышел и повел незнакомца дальше. Наконец они пришли в самый центр лагеря, где было раскинуто несколько больших палаток, над одной из которых развевалось большое знамя, указывающее, что в ней разместился генерал.
Карлист прошел мимо двух часовых, стоявших у входа с обеих сторон, и скрылся за плотной дверью, а незнакомец остался снаружи, прохаживаясь взад и вперед, пока наконец карлист, выйдя, не пригласил его пройти в палатку.
В эту самую минуту из палатки с красным флагом, в которую проводник незнакомца заходил на минуту, неслышными шагами вышел Изидор.
Согнувшись в три погибели, прислушиваясь и оглядываясь вокруг, простоял он несколько минут и, убедившись наконец, что возле палаток никого нет, быстро и тихо, скользя как тень, направился к палатке генерала. Размягченная дождем почва совершенно гасила звук его легких шагов.
Никем не замеченный, он приблизился наконец к задней стороне генеральской палатки, где не было никаких часовых. Тут он опустился на землю и на четвереньках подполз к полотняной стене.
Он услыхал голоса, но говорили очень тихо, слов разобрать он не мог, так как палатка была большая, а разговор происходил далеко от того места, где пристроился Изидор; он пополз в направлении долетавших до него звуков, пока, наконец, не начал явственно разбирать все, о чем говорилось внутри. Тогда он, совсем припав к земле, слегка приподнял край палатки и просунул голову внутрь.
Там горела одна свеча, слабо освещая палатку, и в этом скудном свете он увидел Доррегарая, стоящего перед незнакомцем и тихо, почти шепотом разговаривающего с ним.
— Поскольку вы меня не знаете, генерал, я привез бумаги, подтверждающие мои полномочия и приказ самого принципе, — сказал незнакомец, вынимая из кармана бумаги и подавая их генералу.
Доррегарай рассмотрел бумаги.
— Вы начальник Толедо, очень рад с вами познакомиться, — проговорил он наконец, слегка поклонившись своему собеседнику. — Возьмите ваши бумаги, а приказ с подписью принципе позвольте сжечь! Я люблю осторожность!
— Это весьма похвально, генерал, — заметил толедский начальник, человек лет сорока, с прекрасным мужественным лицом.
Доррегарай, превратив приказ в пепел, обратился к своему собеседнику:
— Теперь прошу вас передать мне ваше поручение!
— Я должен получить сумму, захваченную в Риво для дел Гардунии, и выдать вам расписку на нее, — сказал незнакомец. — Кроме этого, вам передано распоряжение при захвате новых территорий или при осаде городов немедленно устанавливать связь с находящимися там членами нашего общества!
— Будет исполнено!
— Вот вам список всех наших членов, — продолжал незнакомец, вынимая бумаги и раскладывая их на столе, где лежали карты, какие-то исписанные листы и письменные принадлежности.
— Благодарю вас, сеньор, — сказал Доррегарай, собирая со стола бумаги, положенные начальником. — Что у вас еще за бумаги?
— Это квитанция, генерал, на которой я должен расписаться в получении денег от вас!
— А! Это разумно, сеньор! Так впишите туда восемь тысяч триста дуро!
Начальник взял перо и вписал в квитанцию означенную сумму, Доррегарай в это время подошел к своему походному сундуку и вынул из него пакет.
Тут Тристани сделал неосторожное движение. Доррегарай, услышав неясный шум, бросился к тому месту, где Тристани подслушивал, но последний быстро отдернул голову от щели. А так как угол этот был в тени, то генерал ничего не заметил, и, постояв несколько минут, прислушавшись и убедившись, что не слышно ничего подозрительного, подумал, что ошибся.
Затем он подошел к начальнику и передал ему пакет.
— Тут восемь тысяч триста дуро, сеньор, — сказал он ему шепотом.
Начальник взял пакет и, указав генералу на квитанцию, оставленную на столе, попрощался с ним.
Когда шум, произведенный Изидором, привлек внимание Доррегарая и он бросился осматривать угол палатки, Тристани, не теряя времени, пополз прочь и, удалившись на некоторое расстояние, вскочил и исчез так же неслышно, как пришел, боясь, что недоверчивый и осторожный генерал выйдет из палатки и осмотрит ее со всех сторон.
Злобная усмешка искривила его безобразное, сатанинское лицо. Он ликовал, что его смутные подозрения обрели почву, что он нашел наконец способ добыть улики против своего врага. Он направился не к тому месту, где незнакомец был остановлен часовым, а к более отдаленному. Там он назвал себя часовым, которые узнали и пропустили его, и быстро пошел вперед, не обращая внимания на холодный мелкий дождь, сеявший как из сита, и холод, пробирающий до костей.
Добравшись до передовых постов, он опять назвал себя, а так как, будучи командиром, мог уходить из лагеря беспрепятственно, то и тут часовые пропустили его, и он пошел дальше так же быстро, не останавливаясь ни на минуту. Шел он, пока не добрался до ручья, где росли старые раскидистые деревья. У одного из них стояла лошадь! Изидор не ошибся в направлении — сюда должен прийти начальник из Толедо, это была его лошадь!
Промокнув До костей и дрожа от холода, Тристани подошел к лошади и, увидев в седельной сумке кавалерийские пистолеты, проворно вытащил их оттуда и быстро спрятался за одним из старых толстых стволов деревьев.
Карлистский черт хотел подстеречь незнакомца, чтобы похитить у него бумаги и деньги, полученные им от генерала, и добыть таким образом улики против Доррегарая. Хотя общей связи между всем, что видел и слышал, он еще не уловил, однако успел понять, что Доррегарай и начальник из Толедо принадлежали к какому-то тайному обществу.
Сначала Тристани подумал, что это братство служит интересам дона Карлоса, но потом у него закрались сомнения, слово «Гардуния», произнесенное начальником, натолкнуло его на другие мысли. Кому из уроженцев Испании не известно это название? Кому не приходилось слышать тысячи историй, самых невероятных и фантастических, о Гардунии и ее деяниях?
Это слово повторялось в сказках, которые кормилицы и няньки рассказывали детям, в страшных историях о преступлениях, в старых семейных преданиях. С давних времен слово это произносилось со страхом, одно время великие злодеяния братства Гардунии сильно настроили против него всю Испанию, и всегда об этом обществе говорили шепотом, всегда боялись его!
Неужели же Гардуния снова возродилась?
Изидору сомневаться не приходилось, он явственно слышал это слово, и подслушанный разговор подтверждал это предположение! Тайное общество Гардуния образовалось опять и распространилось по всему государству, что доказывал список его членов, оставленный Доррегараю, который сам, очевидно, принадлежал к братству и ограбил военную кассу в Риво, чтобы передать деньги ему! Вероятно, среди людей, окружающих генерала, среди его адъютантов и даже солдат, набранных им, много членов этого самого общества, стало быть, разоблачение было бы очень опасно для Доррегарая!
Изидор должен был, однако же, убедиться в своих предположениях и запастись на всякий случай документами, уличающими его врага! Лучшего случая, чем теперь, ему никогда не представится, он может поймать на крючок одного из высших членов братства!
Увидев сквозь туман мужественную фигуру незнакомца, приближавшегося к деревьям, он плотно прижался к стволу толстой ивы, за которой стоял.
Ветер завывал, дождь сеял, не переставая. Незнакомец быстрыми шагами подошел к своей лошади.
Изидор тихо поднял пистолет и прицелился в ничего не подозревавшего начальника Толедо.
Раздался выстрел, но туман и завывания ветра заглушили его, так что вряд ли он был слышен в лагере.
Незнакомец сделал шаг вперед, застонал и, схватившись за грудь, пошатнулся.
Изидор метко попал в цель! Он был хороший стрелок! Незнакомец упал, попытался привстать, отрывистые стоны вылетали при этом из его уст, с усилием вынул он из-за пояса кинжал, снова попробовал встать, осмотрелся кругом, но враг, выследивший его, не показывался, и скоро последние силы покинули его.
Лошадь с тихим ржанием повернула морду туда, откуда слышался голос ее хозяина, потом беспокойно забила копытами и начала рваться с привязи.
Тристани не трогался с места, пока незнакомец подавал признаки жизни и пока не стало ясно, что звук выстрела не привлек никого. Тогда он вышел из-за дерева, подошел к умирающему и вынул у него из кармана бумаги и пакет с деньгами. Затем, бросив пистолеты в ручей, отвязал лошадь, взвалил на нее труп ее хозяина и, крепко привязав его к седлу, отпустил верное животное, и оно помчалось как ветер со своим мертвым всадником.
Изидор посмотрел ей вслед, затер ногой следы крови на сырой траве и окольными путями вернулся в лагерь.
IX. Соперницы
Мы оставили Инес, Амаранту и Антонио в тот момент, когда обрушился свод подземного хода, почти засыпав при этом Антонио.
Грозно висели над ним обломки, которые при первом же сотрясении от пушечного выстрела должны были непременно сорваться и окончательно похоронить под собой потерявшего сознание патера.
Инес и Амаранта тоже лежали без чувств, они казались мертвыми, но через пролом в своде в подземелье начал проникать свежий воздух, и в этом было их спасение, но замедли эта неожиданная помощь еще на полчаса, и они непременно умерли бы, задохнувшись в отравленном воздухе подземелья.
На Антонио эта живительная струя чистого лесного воздуха уже оказала свое действие, потому что он лежал прямо под проломом. Он пришел в себя, и хотя в первую минуту дико, бессмысленно озирался кругом, однако силы возвращались к нему, и скоро он совсем опомнился. С трудом выбрался он из-под обломков, взглянул в отверстие, находившееся не более чем в футе над его головой, глубоко, с наслаждением вдохнул и поспешно бросился туда, где оставались Инес и Амаранта.
Едва он отошел, как грохнул пушечный выстрел, и огромные камни, оторвавшись от свода, рухнули прямо на то место, где он только что лежал.
Патер при виде этого воздел к небу руки, благодаря Всевышнего, что он таким чудесным образом спас ему жизнь! Задержись он там на один момент, и был бы убит!
Сверху он ясно слышал лошадиный топот, крик, бряцанье оружия; легко было догадаться, что совсем рядом идет сражение.
Антонио, набрел, наконец, на бесчувственных девушек, как будто уснувших летаргическим сном; в темном подземелье — свет из отверстия едва проникал сюда — он не мог отличить одну от другой и звал то Инес, то Амаранту, но ни та, ни другая не отвечали ни слова.
— Очнитесь же, мы спасены! — взмолился он еще раз и внимательно посмотрел на груду камней и обломков, прикидывая, сможет ли он добраться по ней до пролома. — Проснитесь, проснитесь скорей! — тормошил он их.
Амаранта зашевелилась.
— Сеньора, — обратился Антонио к ней, — очнитесь же! Мы можем выйти отсюда!
Наверху движение и шум стали тише, воздух, все больше проникавший в подземелье, подействовал уже и на Амаранту, она терла глаза, дико осматривалась вокруг и наконец протянула руку к Антонио, как будто желая убедиться, действительно это он или он ей мерещится. Провалившийся свод, обломки и сам вид подземелья — все это было так ужасно, что она содрогнулась.
— Успокойтесь, сеньора, мы можем выйти, только помогите мне привести сначала в чувство сеньору Инес, — сказал Антонио, — От пушечных выстрелов провалился свод, мы сможем выбраться через это отверстие на волю!
— О, благодарение Господу, мы спасены! — воскликнула Амаранта, поднимая глаза вверх и складывая на груди руки. — Инес, Инес, проснись! Мы спасены, мы можем выбраться из этого ужасного подземелья!
Она наклонилась над молодой графиней, гладила ее и целовала, как любимую, дорогую сестру, и наконец с радостью увидела, что та открыла свои прекрасные глаза.
Но. Инес так ослабла, что тут же снова впала в беспамятство.
Амаранта тормошила ее, целовала, чтобы пробудить и привести в чувство, Антонио старался ей помочь, чтобы поскорей можно было выбраться наверх. Там занималась утренняя заря, а сражение, по-видимому, откатилось дальше.
Наконец Инес пришла в чувство и при первом взгляде вокруг сразу вспомнила все, что случилось перед тем, как она потеряла сознание; она чувствовала страшную слабость, но скрыла это, чтобы не встревожить доброго патера. Пушечные выстрелы раздавались очень далеко, но Инес все еще опасалась встретить отряды кар-листов, и Антонио сказал, что он вылезет сначала один, а удостоверившись, что никакой опасности нет, придет за ними.
Обе девушки поднялись и закутались опять в монашеские одежды. Антонио забрался по осыпи наверх, добрался до отверстия и высунул в него голову.
Окрестность освещалась бледным светом наступающего утра, кругом стояли старые деревья, а в отдалении виднелся холм, именно там заканчивался подземный ход.
Пока Антонио все это рассматривал, из чащи леса выбежали три человека. Это были солдаты, и, как ему показалось, правительственных войск.
Первый из них, увидевший голову Антонио, остановился в испуге и в крайнем изумлении указал на него двум своим товарищам, которые тоже, вытаращив глаза, смотрели на бледное лицо, возникшее из-под земли. Не понимая, что это и как это объяснить, они оцепенели от ужаса.
Но наконец голова поднялась, показались плечи и руки Антонио, старавшегося выкарабкаться наружу.
— Это живой, живой человек, — воскликнули солдаты, подбегая к нему.
Антонио, уцепившись за крепкие корни, успел вылезти на поверхность и хотел уже заговорить с солдатами, как вдруг они закричали:
— Это шпион, монах, он прятался здесь! — Прокружив патера, они схватили его.
Напрасно он уверял их, что поддерживает правительственные войска, они не хотели ничего слышать.
— Вы наш пленный, идите за нами, — кричали они, таща его с собой.
— Кто ваш начальник, ведите меня к нему! —вскричал патер. — Вам незачем тащить меня, я и сам пойду!
— Вылез из какой-то дыры, это что-нибудь да значит, он шпионил, в этом нет ни малейшего сомнения, — говорили солдаты, ведя за собой Антонио, который думал в это время о бедных девушках, оставшихся в подземелье без всякой помощи и защиты. За себя же лично он нимало не беспокоился, зная наверняка, что сумеет объясниться!
Пройдя не более ста шагов, Антонио вдруг увидел в некотором отдалении всадников и в одном из них узнал Жиля.
Он несказанно обрадовался такой счастливой случайности!
Солдаты подвели сейчас же своего пленного к офицерам, которые, заметив патера, уже торопились им навстречу.
— Что у вас там? — спросил издали Жиль.
— Мы поймали шпиона, — ответили солдаты, — вытащили из ямы, в которой он прятался!
— Ба, да что я вижу! Антонио, ты это или твой дух? — воскликнул Жиль, подъехав ближе.
— Это я. Жиль, и думаю, что ты поможешь мне. Во-первых, надеюсь, ты поручишься за меня, что я не шпион и не предатель!
На лицах солдат при этих словах выразилось крайнее удивление и недоумение. Бригадир же слез с лошади и принялся обнимать патера.
— Патер Антонио — шпион! Это забавно! — воскликнул он. — А не расстрелять ли нам тебя, как бы это, вероятно, сделали господа карлисты? Да скажи мне, как ты очутился опять здесь, милый мой друг?
Солдаты отступили назад, видя, что их начальник обнимает приведенного ими «шпиона» и что прочие офицеры относятся к нему тоже с уважением.
— Рад, дорогой Жиль, что привелось опять с тобой свидеться, — ответил Антонио и коротко рассказал все, что с ним случилось.
— Мы покажем этим бандитам! — воскликнул бригадир. — Я сейчас же отправлюсь в Монастырь, чтобы забрать оттуда Мануэля, а потом постараюсь догнать бандитов! Тебе желаю с твоими спутницами счастливого пути, но предупреждаю, будь настороже! Шайки карлистов, отряды дона Альфонса бродят везде.
— Ужасная война, — сказал Антонио, — тяжелые времена наступают! Но не хочу тебя задерживать! Отправляйся скорее за Мануэлем. Да благословит тебя Господь, мой друг, прощай и дай нам Бог поскорей свидеться в Мадриде!
Бригадир задушевно простился со своим другом, продолжая, впрочем, смеяться оттого, что тот был принят за шпиона и приведен к нему в качестве пленного. Вскочив на лошадь, он еще раз заверил Антонио, что его солдаты не обеспокоят их, так как все преследуют теперь карлистов.
Антонио поспешил к девушкам, чтобы поскорей успокоить их и вывести наверх. Спустившись и рассказав о встрече с Жилем, он помог им выбраться на воздух, в прекрасный лес, в чаще которого уже весело играли яркие солнечные лучи.
Инес вздохнула свободнее, узнав, что Жиль отправился за Мануэлем. Отдохнув на свежем воздухе и поблагодарив Бога за неожиданное освобождение, они отправились в путь.
Вскоре они пришли в селение, где Антонио достал молока и хлеба. Подкрепив силы этой простой пищей, они продолжали свой путь в Пуисерду, где Инес надеялась, наконец, успокоиться после всех тревог и волнений и предоставить приют Амаранте, которую непременно рассчитывала удержать возле себя.
До Пуисерды оставалось всего десять миль, но и это пространство пройти пешком было не так легко для бедной Инес, еще не совсем поправившейся, но скрывающей это от своих спутников; выбора, впрочем, не было, нужно было идти, так как лошадей достать было негде, а сообщение по железной дороге почти повсеместно прекратилось.
Дорога в Пуисерду лежала через Ирану, но они не решались идти снова через это столь памятное для них место.
Антонио, заботившийся о девушках с отеческой нежностью и самоотверженностью, предложил им обойти Ирану, избегая большой дороги. Разумеется, при случайной встрече с карлистами девушек могли спасти мужские монашеские рясы, но если бы они были узнаны, им грозила страшная опасность. В последнее время Антонио узнал, что эти люди не останавливались ни перед каким преступлением, узнал, как ужасно они поступали с женщинами и девушками, попадавшими к ним в руки, не страшась ответственности за свои злодеяния, поскольку считали себя полновластными хозяевами Испании.
Однако Антонио не высказывал всех этих опасений своим спутницам, продолжая вести их преимущественно окольными путями и тщательно избегая больших дорог, чтобы не встретиться с карлистами, хотя трудно было рассчитывать, что это им удастся, так как весь север был наводнен их бандами. Они бродили по всем дорогам, не было почти ни одного города, ни одного местечка, где бы их не было.
День прошел благополучно, и вечером они подошли к одному большому селению.
Инес жаловалась на усталость и действительно была не в состоянии идти дальше, Амаранта тоже была измучена, и им необходимо было найти ночлег во что бы то ни стало. Но сделать это было нелегко, в испанских селениях трудно найти пристанище, там нет ничего вроде постоялых дворов, да и к тому же наши путешественники могли действительно показаться подозрительными. Патер с двумя молодыми девушками, переодетыми в монахов, не могли не возбудить подозрений и любопытства.
Антонио решил отправиться к местному патеру, который оказался довольно молодым человеком, внушающим, впрочем, доверие своим внешним видом. Антонио объяснил ему обстоятельства, вынудившие его спутниц к путешествию в монашеском одеянии, и попросил приютить всех троих на ночь.
Патер, узнав все эти подробности и признавая, вероятно, Антонио за человека, стоявшего выше его в духовной иерархии, изъявил полную готовность приютить его и его спутниц в своем доме. В этом маленьком доме были наверху две комнатки, одну из которых занимала экономка, заведовавшая всем хозяйством, а другая стояла пустой. Эту-то комнатку патер и предложил для двух сеньор; он распорядился, чтобы там были приготовлены две кровати, а Антонио пригласил разместиться с ним внизу.
Таким образом, наши путешественники устроились очень хорошо. Священник был радушен, позаботился угостить их хорошим ужином, и они успокоились, уверившись, что безопасно смогут провести ночь.
Одно обстоятельство беспокоило Антонио — экономка была очень неприветлива и с видимым неудовольствием исполняла приказания патера относительно гостей, ужин же совсем отказалась готовить. Очевидно, ей не понравилось присутствие в доме двух сеньор, в доме, где она считала себя полной хозяйкой. Ее неудовольствие усиливалось при виде того, как любезен с ними хозяин.
Проходя мимо них, она называла их сквозь зубы искательницами приключений, хлопала дверьми, ворчала и вообще демонстрировала гостям свое самое недружелюбное отношение к ним.
Молодой патер или не замечал безобразного поведения своей экономки, или просто хотел показать, что не обращает на это внимания, только он не останавливал ее и не делал ей никаких замечаний. Но когда он повторил приказание, чтобы наверху были приготовлены для сеньор постели, эта мегера окончательно пришла в ярость и, поняв из разговора гостей с хозяином, что они боятся карлистов, тут же мстительно решила донести о прибытии таких странных гостей в дом патера. Она была из племени басков, которое поддерживало карлистов.
Девушки, почти не заметившие злого настроения экономки, были очень довольны радушным приемом патера, и Антонио, не придавший особого значения неудовольствию этой мегеры, радовался от души приюту, который нашел для своих спутниц.
После ужина, за которым гости рассказывали патеру о своих приключениях, он угостил их еще фруктами, а затем подал сеньорам свечу и пожелал им хорошо отдохнуть.
Когда Инес и Амаранта ушли наверх, он отвел Антонио в маленькую комнату, смежную с его спальней, а сам куда-то ушел.
Антонио лег в приготовленную для него постель, но, несмотря на усталость, заснуть сразу не мог.
Вдруг до него донеслись голоса споривших, один приглушенный, это был голос патера, другой — крикливый женский голос, громко возражавший первому и почти его заглушавший, это был голос экономки. По-видимому, происходила бурная ссора, слышалась брань, затем все стихло, и патер вернулся в свою спальню. Услышав, что Антонио не спит, он обратился к нему.
— Странный народ эти баски, — заметил патер, — сейчас вынужден был отказать экономке от места из-за ее грубости и нежелания исполнять свои обязанности.
Антонио понял, что вся эта история вышла из-за его спутниц, хотя патер и не высказывал этого из деликатности, Антонио же, не имея причин умалчивать о своих догадках, выразил сожаление о случившемся.
— О! Об этом не стоило бы и говорить, почтенный отец, — заметил патер, — если б эти баски не были злым и мстительным народом! Я опасаюсь, как бы эта женщина не сыграла с нами дурную шутку, хоть она и была у меня в услужении несколько лет!
— О чем вы, мой добрый брат? — спросил Антонио. — Что она может сделать?
— От этих басков всего можно ожидать, доверяться им никак нельзя! Поверьте, что отказ от места, причиной которого были ее грубость и непослушание, она отнесет непременно к вашему появлению и обвинит не себя, а вас в том, что лишилась места!
— Ах, почтенный брат! Стало быть, вам может даже грозить опасность за ваше радушное гостеприимство?
— Мне угрожает меньшая опасность, чем вам, — ответил патер. — Сегодня, ближе к вечеру, здесь были карлисты!
— И вы думаете, что ваша экономка способна предать нас?
— Сильно опасаюсь этого, почтенный отец! Антонио поднялся с постели. Была глубокая ночь.
Молодые девушки безмятежно спали в своей комнатке, а тут возникла новая опасность, о которой следовало серьезно подумать.
— Карлисты и сейчас здесь? — спросил Антонио.
— Нет, из селения они ушли, но крестьяне рассказывали, что они недалеко за горой, куда приехала и донья Бланка с супругом и с многочисленным войском, чтобы встретиться с доном Карлосом, который где-то поблизости расположился со своим главным штабом.
— Донья Бланка — бывшая герцогиня Медина?
— Да, она самая, почтенный отец!
— Это известие больше всего меня беспокоит, — объяснил Антонио и начал поспешно одеваться. — Было бы страшным несчастьем для нас сновка попасть в руки карлистов, хотя донья Инес была некогда знакома с доньей Бланкой, однако я сильно сомневаюсь, чтобы последняя стала ее защищать и захотела бы оградить от неприятностей, так как, судя по рассказам, она жестокая, ужасная женщина, способная на всякие злодеяния! А потому я думаю, что нужно разбудить сейчас же моих спутниц и поскорей уйти отсюда!
— Подумайте хорошенько, почтенный отец, не лучше ли остаться, ведь теперь глухая ночь, карлисты расставили, вероятно, повсюду свои патрули!
— Что же делать, почтенный брат, выбора у нас нет, не могу я оставаться здесь, зная об опасности, угрожающей моим спутницам.
— Прошу вас, подождите до утра, в мой дом никто не осмелится ворваться насильно! Вам лучше отправиться завтра вечером, к тому времени сеньоры отдохнут!
— Благодарю вас за ваше радушное гостеприимство, — сказал Антонио, — но не хочу злоупотреблять им! Я чувствую, что вам грозит опасность, если мы здесь останемся, и потому нам надо немедленно оставить ваш дом, чтобы не навлечь на вас несчастья!
— Послушайтесь моего совета, оставайтесь! Теперь полночь, дайте бедным сеньорам отдохнуть, они страшно измучены!
В этот самый момент раздался громкий стук в дверь, казавшийся еще громче в глубокой ночной тишине, царившей кругом.
Патер оцепенел от ужаса, обменявшись с Антонио взглядом.
— Опоздали, — заметил последний тихим голосом. Патер продолжал стоять неподвижно.
Стук повторился еще громче; слышно было, что стучали чем-то металлическим, видимо, оружием.
— Что вы решили, почтенный отец? — спросил бледный как полотно патер своего гостя. — Мои подозрения оправдались, экономка навела на нас карлистов! Позвольте мне спрятать вас, может быть, вам удастся спастись!
— Нет, нет, не нужно, мой дорогой брат, откройте им дверь, а я пойду наверх, вероятно, бедные девушки в страшном беспокойстве и тревоге, — ответил Антонио и вышел вместе с патером из спальни.
В третий раз раздался стук в дверь, и на этот раз он сопровождался такими угрозами и криком, что бедный патер почти бегом поспешил к двери и торопливо отпер ее, держа в одной руке подсвечник.
В дом вошли пять карлистов, и ему показалось, что недалеко от крыльца стояла экономка.
Карлисты без церемоний ворвались в комнаты.
— От имени светлейшей доньи Бланки Марии, — произнес начальник отряда, — предлагаю вам выдать ваших гостей, сеньор! Против вас мы ничего не имеем, а хотим взять только тех, кто скрывается у вас, двух из них мы давно ищем: это генерал Мануэль Павиа и его спутница! Мы уверены, что они здесь!
— Но что же это такое, даже ночью нет покоя в собственном доме!
— От имени светлейшей доньи Бланки, — прервал его офицер, не дав договорить.
— Но вы ищете какого-то генерала и его спутницу, а у меня ночует патер с двумя спутницами!
— Не создавайте напрасных затруднений, почтенный отец! — воскликнул недовольно офицер. — Генерал и его спутница были в рясах, потому-то мы и уверены, что вы приютили у себя именно их. Я требую от имени светлейшей доньи Бланки, предводительницы нашего отряда, выдать их нам немедленно!
— Значит, даже женщины участвуют в сражении и ведут вас на кровопролитие? — заметил патер. — Но вот мои гости!
На лестнице показался Антонио, за ним шли Инес и Амаранта.
На лицах девушек было отчаяние, Антонио же оставался спокоен и холоден. Лицо его, правда, было бледным, но в нем, как и во всей осанке, выражалось столько достоинства и выдержки, что казалось, никакие житейские волнения, никакие опасности не могут поколебать спокойствия его высокой души; это выражение составляло отличительную особенность лица и заметно выделяло его среди тысяч людей.
— Вот мои гости, узнаете вы в них тех, кого ищете? — спросил патер офицера, указывая на Антонио и девушек.
— Мое дело не рассуждать, почтенный отец, — отвечал тот, — а доставить трех особ, находящихся у вас, к донье Бланке!
— К донье Бланке, герцогине Медине, к донье Бланке Марии де ла Ниевес, вы о ней говорите? — обратилась Инес к карлистам. — Ведите, ведите нас, она знает меня, и я уверена, что она защитит нас!
— Я думаю, ваши надежды обманут вас, донья Инес, — серьезно и сдержанно сказал Антонио.
— Я не верю, что принцесса делает все то, что ей приписывают, — воскликнула Инес уверенно, — на нее клевещут! Бог знает, кто распускает эти слухи! Я хочу ее видеть, от нее хочу услышать, что нас ожидает, но заранее убеждена, что до наступления утра мы будем на дороге в Пуисерду и что она оградит нас от всяких неприятностей в пути!
— Дай Бог, чтобы ваши надежды не обманули вас, донья Инес, — ответил Антонио.
— Вперед! — скомандовал офицер.
— Благодарю вас за ваше радушное гостеприимство, почтенный отец, — сказала Инес, обращаясь к священнику.
Амаранта и Антонио тоже поблагодарили его и покинули дом под конвоем карлистов, окруживших их со всех сторон. До рассвета было еще далеко, стояла темная, глухая ночь. Антонио шел в глубоком раздумье, на душе у него было очень тяжело, от вмешательства Бланки Марии в их участь он не ожидал ничего, кроме самых ужасных последствий для Инес. Молодая графиня, напротив, была уверена, что принцесса поможет ей. Амаранта шла по одну сторону от ее, Антонио — по другую. Со всех сторон их окружали карлисты с заряженными ружьями на плечах. Месяц, пробираясь между густыми облаками, слабо освещал дорогу.
Выйдя из селения, они направились к темной возвышенности, лежавшей в отдалении.
Добравшись до нее, они увидели в долине огоньки постов карлистского отряда, принадлежащего войску, прикрывавшему донью Бланку. Палаток в этом лагере было немного, посередине был разведен костер, из которого летели искры.
Конвой провел своих пленных мимо передовых постов и направился к группе солдат, расположившихся вокруг костра.
Приблизившись к ним, офицер передал патера и двух сеньор часовому, который немедленно повел их к палатке, охраняемой зуавом. Часовой сказал тому несколько слов, и зуав пошел доложить о прибывших.
Вслед за этим у входа показалась Бланка Мария.
Отблеск свечи, горевшей в палатке, давал достаточно света, чтобы Инес могла узнать ее и даже заметить огромную перемену в ее внешности, которая сильно поразила графиню.
— Войдите, — сказала супруга дона Альфонса, обращаясь к двум девушкам и патеру, которого окинула взором прежде всех, надеясь, вероятно, узнать в нем Мануэля.
Все трое последовали за ней в палатку.
— Ваши солдаты силой привели нас сюда, ваше сиятельство, — сказал Антонио твердым, спокойным голосом, — вероятно, приняв нас за тех, кого ищут! Мы просим теперь ваше сиятельство разрешить нам продолжить путешествие!
— Вы, насколько я понимаю, патер Антонио, и с вами графиня Инес Кортецилла со своей провожатой.
— Я рада, принцесса, что вы меня узнали, — сказала Инес, глядя с холодной улыбкой на донью Бланку. — Вы некогда были очень добры ко мне, надеюсь, и теперь не откажете мне в своем покровительстве! Патер Антонио и Амаранта, моя приятельница, провожают меня в Пуисерду, где живет моя родственница, у которой я рассчитываю найти пристанище!
— Ах, графиня, какой необдуманный шаг вы сделали, оставив дом вашего отца и убежав сюда, где каждый день вас подстерегают опасности, неизбежные в это военное время, опасности, от которых даже я не могу вас уберечь!
— Ваша власть и ваша доброта могут многое для меня сделать, принцесса, и я отдаюсь под ваше покровительство! — сказала Инес.
— Я слышала, что вы позволили увезти себя дону Мануэлю Павиа. Горькая ошибка, графиня, и страшный удар для вашего отца!
— Это неправда, принцесса, — ответила Инес твердым голосом, — генерал Павиа не знал о моем поступке и не предвидел его!
— Вы лучше сделаете, графиня, если будете со мной откровенны и скажете мне правду! У меня верные сведения! Вас видели в здешних горах в обществе генерала Павиа, мне сообщили даже, что вы были настолько безрассудны и неосторожны, что вырвали его из рук наших солдат! Надеюсь, вы не будете этого отрицать?
Инес промолчала и опустила голову.
— Наконец-то вы сознаетесь в вашем опрометчивом поступке, — продолжала Бланка ледяным тоном. — О донья Инес! Сколько горя вы принесли вашему отцу! Где теперь находится генерал Павиа?
— Я не знаю этого!
— Повторяю вам, графиня, что вам выгоднее говорить мне правду!
— В таком, случае, позвольте мне ответить за донью Инес, — сказал Антонио, обращаясь к Бланке, — дон Мануэль Павиа теперь в войске бригадира Жиля-и-Германоса!
Бланка вздрогнула, в ее глазах блеснул гнев при этом известии.
— В вас также, патер Антонио, я предполагала больше рассудительности и благоразумия, — сказала она, — вы оказали плохую услугу генералу Павиа и графу Кортецилле, что сопровождали донью Инес! Не прерывайте меня и не оправдывайтесь! Верно ли ваше сообщение, что генерал Павиа находится при войске своего друга Жиля-и-Германоса, это мы узнаем очень скоро! Вы не должны забывать, что в настоящее время для меня он прежде всего неприятель, и потому я сделаю все, чтобы он опять попал в наши руки! Что касается графа Кортециллы, я считаю своей обязанностью защитить его дочь и возвратить ему! Поберегите ваши слезы и просьбы, — холодно сказала она, обращаясь к Инес, бросившейся к ней с мольбой и с рыданиями, — я не изменю своего решения!
— Сжальтесь, отпустите нас в Пуисерду!
— Вы с вашей спутницей останетесь у меня, донья Инес, и надеюсь, вы мне скажете о местонахождении вашего возлюбленного! Вы должны сделать это ради вас самих, это в ваших интересах! Затем я передам вас вашему отцу, он будет мне весьма благодарен за .эту услугу! Вы же, патер Антонио, свободны, можете беспрепятственно оставить лагерь и идти, куда вам угодно!
— А графиня останется здесь? — спросил он с испугом.
— Да, я так решила!
— В таком случае, ваше сиятельство, позвольте остаться и мне!
— Нет, вы должны покинуть лагерь, а с графиней останется только ее спутница, — сказала Бланка, подходя к выходу из палатки и поднимая полотняный занавес.
— Капрал, проводите патера назад в селение. Антонио видел, что всякие просьбы с его стороны были бы напрасны.
Инес бросилась на колени перед жестокой женщиной.
— Сжальтесь, не разлучайте нас! — воскликнула она.
Бланка Мария холодно взглянула на свою соперницу, бывшую теперь в ее власти, ненавидимую за то, что ее любил Мануэль.
— Я остаюсь при своем решении, донья Инес. Уведите сейчас же патера, — добавила она, обращаясь к офицеру, который силой потащил его из палатки.
Антонио еще раз взглянул на Инес, ломавшую себе в отчаянии руки, и на Амаранту, плакавшую горькими слезами, и вышел наконец из палатки.
— О, отпустите нас с ним! — проговорила Инес умоляющим голосом.
Бланка Мария надеялась запугиваниями заставить Инес заговорить.
— Вы скажете мне, где теперь находится дон Мануэль Павиа, — сказала она графине, — тогда мы поговорим о прочем, донья Инес! Не забудьте, что ваш возлюбленный стал моим врагом с тех пор, как я отдала руку принцу Альфонсу! Прежде, графиня, признайтесь, где он, тогда я подумаю и о вас!
— Но, Боже мой, я ничего не могу вам сказаться сама о нем ничего не знаю, кроме того, что бригадир Германос увез его с собой! —воскликнула Инес голосом, дрожащим от страха.
— Вы можете не торопиться со своими признаниями, у вас еще будет время подумать, донья Инес, а пока вы останетесь здесь под надежной охраной. Я должна охранять вас, чтобы передать целой и невредимой вашему отцу!
Вслед за этими словами Бланка Мария приказала зуаву привести ей лошадь, так как уже наступало утро, и она должна была ехать в штаб дона Карлоса, чтобы представить ему, как мы уже знаем, сеньора Виналета.
Она распорядилась, чтобы вокруг палатки, в которой она оставляла обеих сеньор, была расставлена надежная стража, и, не обращая внимания на отчаяние, просьбы и слезы бедных девушек, вышла вон!
Бланка Мария торжествовала, соперница была в ее власти, и она надеялась, что ненавистный Мануэль тоже попадет наконец к ней в руки. С этими сладкими мечтами она вскочила на лошадь и отправилась к претенденту с несколькими провожатыми и с сеньором Виналетом.
X. Могила цыгана
В темном лесу, который покрывает еще во многих местах предгорья Пиренеев, есть маленькое озеро с черной водой. Вся эта окрестность пустынна, людей можно встретить только на старых больших дорогах.
Озеро окружено деревьями и поросло тростником, водные растения почти сплошь покрывают его своими широкими листьями, так что почти не остается места, где отражалась бы лазурь небесного свода. Судя по огромному количеству камыша и желтых и белых кувшинок, озеро, по-видимому, неглубокое.
Эта черная вода среди зеленого леса, покрытая яркими цветами и растениями, представляет собой прекрасное зрелище. Со всех сторон озеро окружено возвышенностями, а дальше опять простирается лес. Лес усеян валунами и обломками скал; огромное количество пернатой дичи годится в этих местах, к вечеру все эти пернатые слетаются к черному озеру, чтобы утолить жажду.
Людей же здесь почти не встретишь, так как поблизости нет больших дорог. Изредка разве забредет какой-нибудь охотник, или цыганский табор оживит ненадолго своим присутствием дикую окрестность черного озера, тихо лежащего в котловине и защищенного от бурь и непогоды лесом и высокими холмами, лишь тростник да ветви деревьев тихо шелестят вокруг; но особенно озеро полно поэзии ночью, когда лунный свет падает на его черную поверхность и, освещая тихо струящуюся в тростнике воду, придает ей вид блуждающих огоньков.
Через несколько дней после того, как Виналет был у дона Карлоса, тишина и спокойствие, обычно парившие в этом таинственном и прелестном местечке, были нарушены в одну прекрасную ночь.
К черному озеру подъехали два всадника, за которыми на некотором расстоянии следовала целая свита. Но, по-видимому, они не замечали окружающей их красоты. Приблизившись к воде, эти люди стали вглядываться в нее, как будто стремились увидеть, что там, в глубине, осмотрели низкие холмы, лежащие вокруг, и долину, расположенную вниз по склону. Во взорах их была только алчность и ничего больше, к красотам природы они остались равнодушны.
Они, очевидно, принадлежали к тем извергам человеческого рода, цель жизни которых заключается в разрушении, все стремления которых сосредоточены на завоеваниях, крамоле и войне! Да, наши всадники принадлежали к числу этих жалких людей, которые, несмотря на все свои приобретения, остаются нищими духом, не способными наслаждаться величием и красотой творения!
— Вы точно знаете, что Аларико именно в этом озере велел похоронить свои сокровища? — спросил один из двух всадников, указывая на воду.
— Да, именно здесь, ваше величество, — ответил Виналет.
— Вы по-прежнему настаиваете на сохранении в тайне вашего сообщения?
— Да, ваше величество, это мое условие, и я повторю свою просьбу: в награду дать мне место секретаря при особе вашего величества.
— Ваша просьба и условие будут выполнены! План мой готов. Я отведу воду из этого озера с помощью канала, который велю прорыть через холм в долину, и тогда мы с вами вдвоем свободно исследуем дно, — сказал дон Карлос. — Я уже распорядился откомандировать для этой работы один отряд, который исполнит ее под надзором офицеров, сведущих и опытных в этом деле!
— Превосходно, ваше величество. С вашего позволения я останусь здесь и буду наблюдать за ходом дела!
— Вы должны непременно наблюдать, я тоже буду неподалеку!
— Старая могила цыгана с его сокровищами откроется наконец! —сказал Виналет. — Каково будет удивление табора, когда, придя сюда, они обнаружат, что озеро отведено в другое место! Представляю себе, какой гвалт и крик они поднимут! Они сразу догадаются, что я виновник этого, но будут мне уже не страшны, так как я буду на службе у вашего величества!
Дон Карлос вернулся к своим офицерам, пригласил их подъехать к озеру и объяснил, что хочет его осушить, не говоря, для какой цели.
С наступлением утра явились рабочие и распорядители работ, которые немедленно принялись исследовать почву, выбирали, совещались, где будет удобнее рыть отводной канал, и долго не могли прийти ни к какому решению. Наконец после многочисленных измерений и исследований избрали удобное место для канала и начертили план. По расчетам распорядителей работ, двести человек могли прорыть канал за три дня, если только не встретится непредвиденных препятствий.
Дон Карлос велел немедленно начинать работу, Виналета оставил наблюдать, а сам уехал в штаб, рассчитывая вернуться через три дня, то есть к сроку, когда, по расчетам его инженеров, канал должен был быть готов.
Вслед за рабочими явились маркитанты и разные торгаши, открывшие сейчас же свои лавочки, так как вблизи не было ни города, ни даже селения. Затрещали под топорами деревья, работа закипела. Первый день прошел хорошо, никаких неожиданных препятствий не возникло, почва оказалась мягкой, каменистых слоев не попадалось.
Виналет внимательно следил за всем и не говорил ни слова, когда офицеры дивились, зачем это принцу вздумалось осушать озеро, как будто он тоже не имел понятия о цели этого предприятия.
На другой день работы тоже шли успешно. Канал был вырыт уже на несколько футов в глубину вплоть до долины, оставалась нетронутой лишь небольшая перемычка, примыкающая к озеру, чтобы до поры удерживать воду. К вечеру второго дня из глубины канала вдруг послышался крик работников, они почувствовали, что заступы их ударились о каменистый слой. Работа, разумеется, пошла медленнее, и стало ясно, что закончить рытье канала, как предполагали, в три дня не удастся. Дробить камень было слишком трудно и медленно, поэтому решили взрывать. На подготовку взрывных работ потребовалось много времени. Наконец к утру, выполнив все предосторожности, зажгли фитили, подведенные к взрывчатке.
Со страшным грохотом взлетели в воздух обломки кремнистых скал и огромные комья земли, завалив частично уже прорытый канал, так что пришлось рыть заново и снова подеодить взрывчатку под большие обломки, упавшие в него. Дон Карлос, не знавший об этих препятствиях, явился на третий день к месту работ, рассчитывая присутствовать при спуске воды, но, несмотря на то, что люди работали даже ночью, завершение канала отложилось еще на несколько дней, и принц решил остаться и ожидать окончания работ.
Там, где встречались каменистые слои, работа шла медленно; глубина канала должна была соответствовать глубине озера. Окрестности оглашались гулом и грохотом взрывов, сотрясения которых были так сильны, что казалось, все кругом должно обрушиться. Все ближе и ближе подходили к перемычке, служившей вплоть до окончания работ плотиной, удерживающей воду; наконец канал был очищен от последних скальных обломков, и глубина его оказалась достаточной для того, чтобы из озера стекла вся вода. Оставалось только взорвать перемычку. Подвели и под нее взрывчатку, рабочие вышли из канала и вместе со всеми присутствующими отошли на безопасное расстояние; зажгли наконец длинные фитили, подведенные к взрывчатке. Ожидали страшного взрыва, так как заряд был гораздо мощнее предыдущих. И действительно, немного спустя земля дрогнула и раздался грохот, как будто от выстрела из десяти пушек. На берегу стоял дон Карлос с Виналетом и с офицерами, распоряжавшимися работами. С любопытством и нетерпением следил он за тем, как уходила вода. Как только она вышла, принц отдал рабочим приказание попробовать сойти на дно, освобожденное от воды. Оказалось, что по бывшему дну озера идти невозможно, оно было так вязко, что с первых же шагов затягивало людей.
Ни трупа Аларико, ни его сокровищ пока не было видно, но ни принц, ни Виналет не унывали, так как все дно было покрыто водными растениями, разной гнилью и тиной.
По совету Виналета дон Карлос оставил часть рабочих стеречь бывшее озеро, пока дно не просохнет, остальным же приказал вернуться в лагерь. Через несколько недель дон Карлос поехал опять к озеру вместе с Виналетом и приказал своим людям пройти по дну, набросав туда досок. Эта попытка оказалась удачнее, высохшее дно было уже не так вязко, и теперь можно было его осмотреть по всем направлениям. Долго рабочие исследовали дно, пока наконец близ крутого берега не нашли человеческий скелет и возле него железный ящик, покрытые толстым слоем ила и сгнивших растений.
Могила цыгана была открыта, сообщение Виналета подтвердилось, труд не пропал даром и увенчался успехом.
Рабочие вытащили железный ящик и передали его дону Карлосу, который был убежден, что там находятся сокровища Аларико, охраняемые им даже после смерти.
Сундук этот повезли в штаб-квартиру претендента на испанский престол, дон Карлос с Виналетом ехали следом. Ящик был очень крепко заделан со всех сторон и покрыт толстым слоем ржавчины. Он был невелик, но очень тяжел. Крышка была намертво прикована к ящику, не было никакого замка. По приезде в штаб ящик тихонько пронесли в покои, занимаемые доном Карлосом, который приказал рабочим немедленно открыть его в присутствии Виналета. Наступила решительная минута, претендент был сильно возбужден. Наконец он узнает, насколько велико сокровище, доставшееся ему от давно умершего цыганского короля.
Виналет тоже волновался, так как теперь, когда ящик по его указаниям был найден, он должен был получить в награду за сделанное им сообщение место секретаря при доне Карлосе, должность, которая держала бы его в курсе всех приказаний, всей переписки,, .всех тайных распоряжений принца. Когда рабочие подпилили крышку со всех сторон, дон Карлос приказал им выйти и остался вдвоем с Виналетом.
— Открывайте, — сказал он последнему. Виналет подошел к ящику и дрожащими от волнения руками снял с него крышку. Испуг и сильное изумление выразились на его лице.
— Что там такое? — спросил принц.
Виналет смотрел недвижным взором в глубь ящика, очевидно разочарованный в своих ожиданиях!
— Бутылка, ваше величество, и больше ничего, — ответил он наконец.
— Как бутылка? — воскликнул дон Карлос, приближаясь к таинственному сундуку, в котором действительно лежала большая бутылка, прикрепленная ко дну проволокой и плотно закупоренная пробкой. Так как она была из бесцветного прозрачного стекла, то нетрудно было рассмотреть, что в ней лежали свернутые в трубку бумаги.
— Выньте эту бутыль и откройте ее! — сказал дон Карлос.
Виналет отвинтил проволоку, затем вынул бутылку из сундука и, вытащив пробку, достал из нее бумаги, которые тотчас передал стоявшему рядом дону Карлосу.
Последний развернул их и стал читать.
Оказалось, что один из этих документов — расписка испанского короля Карла IV в том, что он заимообразно получил у предводителя цыганского табора Аларико миллион дуро; другой документ — указ того же короля, предоставлявший цыганам на вечные времена право свободного странствования и пребывания во всех местностях и городах королевства.
Так вот в чем заключалось сокровище старого цыганского короля! Для дона Карлоса, разумеется, эти обязательства Карла IV не имели никакого значения! Надежды его рассыпались прахом! Он был взволнован и раздражен.
Виналет бросился перед ним на колени, моля о прощении. Дон Карлос молча указал ему на дверь и сжег оба документа.
XI. Белита и Тобаль
— Неужели я не ошибаюсь и это действительно вы, сеньора Белита? Я едва узнал вас, — сказал метис Алео молодой девушке, встретив ее случайно на улице. — Что за странная перемена с вами?!
Девушка была в старом, полинялом платье и в таком же платке, небрежно накинутом на плечи, на роскошных волосах — старомодная шляпа, которая, впрочем, очень шла ей.
Метис был прав, никто не узнал бы в этой бедно одетой девушке прежнюю блестящую красавицу, окруженную поклонниками! Если б не прелестное личико Миндального Цветка, которое не изменилось, сам Алео никак не узнал бы в этой простолюдинке возлюбленную своего господина. Сама она оставалась столь же очаровательной, как и прежде, красота ее выступала даже резче в отсутствие всяких украшений. В своем простом и бедном одеянии она казалась еще привлекательнее.
Белите было неприятно, что она встретилась с Алео и была узнана им, она сразу подумала, что он выследил ее по поручению своего господина, ее бывшего возлюбленного. Но делать было нечего, она остановилась.
— Я все время думал о вас, сеньора Белита, — продолжал Алео, — и не мог понять, куда вы скрылись! Везде искал вас, но не мог найти ваших следов! Наконец-то случай столкнул нас. Но что произошло, почему вы в таком странном костюме?
— Все изменилось, Алео, и изменилось к лучшему, — ответила Белита, — я надеюсь еще стать снова счастливой!
— Вы были бы счастливы, если бы сами не оттолкнули от себя счастье, сеньора!
— Вы, Алео, как и прочие, считаете, что счастье можно найти только в роскоши и в развлечениях, — сказала Белита, — но я другого мнения!
— Удивительно, сеньора, — пробормотал метис, — как резко люди могут измениться!
— Я чувствую себя гораздо счастливее теперь, когда, отказавшись от прежней жизни, стала работать, чтобы обеспечить свое существование, и я не в состоянии описать вам, с каким удовольствием получаю в конце недели свою заработную плату! Конечно, это небольшие деньги, но их хватает на мои расходы.
Метис качал головой от удивления.
— Можно от души позавидовать, что работа доставляет вам такое удовольствие, сеньора! Какой же род работы вы избрали?
— Я работаю на цветочной фабрике, которая находится там, напротив, на улице Мюро. Сначала мне было довольно трудно, работа не клеилась, но теперь у меня появилась сноровка. Распорядительница меня хвалит, и скоро я буду уже делать цветы и ветки, а до сих пор я делала только зеленые листья. Тогда я буду получать больше. Вы не можете представить себе, Алео, как я довольна переменой в моей жизни!
— Кто бы мог подумать это о сеньоре Альмендре!
— Я покончила с прошлым, — продолжала Белита, — никто, кроме вас, не знает, где я и что со мной, и я не хочу, чтобы стало известно о моей новой жизни, я рада, что принадлежу сама себе и совершенно одинока!
— Что скажет маркиз!
— Кланяйтесь ему от меня, передайте, что я искренне, от души благодарю его еще раз за все, что он для меня сделал, скажите, что я счастлива и довольна своим новым положением! Я думаю, что ему приятно будет это узнать! Скажите ему, что я всегда вспоминаю о нем с благодарностью, но видеть его я бы не хотела. Передайте ему это, Алео!
— Не думаю, чтобы это доставило ему удовольствие!
— О нет, Алео, вы ошибаетесь, я убеждена в противном, так как маркиз, искренно любивший меня, не может не порадоваться, что бедной Белите живется хорошо, что она чувствует себя, наконец, довольной и счастливой!
— А маркиз, наоборот, очень несчастен!
— Вы пугаете меня, Алео, что с ним случилось?
— Да, все плохо, сеньора Белита, неудача за неудачей преследуют его, как будто его счастье исчезло вместе с вами!
— Но он не болен, надеюсь! — спросила с участием Белита.
— Нет, не болен, но все в нем и вокруг него изменилось, он совершенно упал духом!
— Со временем это пройдет, он оправится и тогда с другими чувствами вспомнит обо мне, верьте, Алео, что это так и будет!
— Потери и утраты следуют одна за другой, но к ним он относится холодно и равнодушно, как будто деньги не имеют для него никакого значения! Если так пойдет и дальше и он не выйдет из апатии, то разорение неминуемо, он потеряет все!
— Бедный Горацио, мне очень больно это слышать! Он избалован, вырос в роскоши, ему трудно будет привыкнуть к бедности… Но расскажите, что же случилось?
— Вы слышали, вероятно, что некоторое время тому назад на площади Растро был убит старый Моисей; накануне маркиз дал ему большую сумму денег без всякой расписки, как он это часто делал и прежде, — теперь эти деньги пропали безвозвратно! Но это еще не самое большое несчастье! Вы слышали, может быть, что управляющим маркиза был некто Балмонко, которому он безгранично доверял и наделил его слишком большими полномочиями. Негодяй злоупотребил ими и обокрал маркиза. Мои слова оправдались, я всегда говорил, что он мошенник!
— Балмонко? Он казался мне таким честным и полезным для маркиза человеком!
— Он обманщик и больше ничего! Воспользовавшись доверенностью, данной ему маркизом, он продал его имения и скрылся с деньгами!
— О пресвятая Мадонна! Значит, маркиз потерял все свое состояние?
— Он начал процесс, но он его проиграет, и тогда все его богатство погибло!
— Бедный Горацио! Как же он это допустил, и куда делся Балмонко, куда он мог скрыться?
— Как видно, у него много помощников и много заступников везде! Ходят слухи, что образовалось какое-то новое общество Гардуния и что Балмонко один из его членов, — сказал Алео. — Его искали везде, предполагая, что он поступил в войска, находящиеся на севере, но все оказалось напрасно, он скрылся бесследно!
— Вероятно, маркиза это очень огорчает и заботит? — заметила Белита.
Метис развел руками.
— Все это огорчает его гораздо меньше, чем то, что он потерял вас. Эту потерю он не может забыть, она надрывает ему сердце! Мне кажется, что о денежных утратах он мало скорбит, что горюет он только о вас. Он ходит как потерянный, нигде не бывает, кроме как на службе, — чем все это кончится, сеньора, не знаю!
— Молю пресвятую Деву Марию дать ему то спокойствие, какое она ниспослала мне!
Вслед за этими словами Белита поклонилась Алео и продолжила свой путь. Она давно оставила свои роскошные апартаменты на улице Пуэрто-дель-Соль и жила в другом квартале города, в маленькой комнатке, которую так мило убрала на свои трудовые деньги, что бедность и нищета не были в ней заметны.
Когда она рассталась с Алео, мысли, прерванные неожиданным появлением метиса, снова охватили ее, и образы, вызванные ими, живо представились ее воображению. Она так углубилась, ушла в себя, что не слышала, не видела ничего, что происходило вокруг; действительность, окружающая ее, исчезла, она забыла и встречу с Алео, и все, что говорил он ей о Горацио, которого она, однако же, искренно пожалела, услышав о несчастиях, преследующих его. Она думала только о Тобале Царцарозе, которого любила, о Тобале, сыне своего благодетеля!
Уже несколько лет сердце ее принадлежало ему, она чувствовала к нему сильное влечение, но потом ею овладело вдруг стремление к наслаждениям, к роскоши, к удовольствиям, и она отдалась этому, заглушив свое чувство. Когда же она опять увидела Тобаля, он показался ей прекраснее, лучше, чем прежде, и она поняла, почувствовала, что такое настоящая, истинная любовь! С тех пор образ его преследовал ее везде, она искала случая увидеть его, для него она готова была отказаться от всего на свете. Жизнь, которой она жила, опротивела ей, и она бросила все и превратилась в бедную, честную работницу. Все это сделала с ней ее любовь к Тобалю, но она еще не сознавала ясно причины, которая произвела в ней такой сильный переворот. Из любви к нему она променяла свой роскошный салон на бедную комнатку, из любви к нему отказалась от всех удовольствий и предпочла им работу!
Но Тобаль Царцароза стал мадридским палачом! Это известие потрясло Белиту! Сердце ее обливалось кровью при мысли об этом! Будь он ремесленником, самым бедным работником, она была бы так счастлива встретиться с ним, увидеть его опять, но узнать, что сын ее благодетеля, гордого и благородного алькальда, занимает столь презираемую всеми должность палача, что имя его, появление его приводят людей в ужас, что его все ненавидят и боятся, было нестерпимо тяжело для бедной девушки! Но прошло время, наступила весна, вся природа оживилась после зимнего сна, в воздухе разлилось благоухание распускающихся растений, и тяжелые впечатления сгладились. Белита свыклась с ужасной мыслью! Любовь мало-помалу брала б рх в ее сердце над отвращением к занятию возлюбленного. Это могучее чувство, преодолевающее все препятствия, все испытания, не отступающее ни перед чем, начало рисовать в воображении Белиты образ Тобаля, сглаживая и устраняя постепенно то ужасное впечатление, которое оставило в бедной девушке сообщение, что он палач. Любовь сумела отдалить в.ее представлении того Тобаля, которого она знала, от обагренного кровью исполнителя казней. Живо представилась ей их встреча на улице Пуэрто-дель-Соль, и появилось неодолимое, страстное желание увидеть его опять!
Его кровавое поприще отступило на второй план, она видела только его мужественный образ, полный силы, энергии и достоинства, прошлое все ярче вспоминалось ей, она думала о Вироле, об алькальде, о трогательной доброте и любви Тобаля! Она видела в нем сына своего благодетеля, а не палача с окровавленным топором.
Под влиянием этих чувств Белита торопливо шла домой по темным улицам Мадрида.
Вдруг она остановилась.
«Может быть, он узнал меня тогда, — думала она, — но не хотел быть узнан мною! И я не сделала ни одного шага, чтобы увидеть его опять, а он не знает, где найти меня, может быть, он искал меня на Пуэрто-дель-Соль! Мы должны встретиться! Мне нужно преодолеть свой ужас перед его ремеслом, я должна пойти к нему, моему Тобалю, которого я так люблю! Да, я пойду и протяну ему руку! Я не покажу ему, что люблю его, — продолжала она раздумывать, стоя на месте, — довольно того, что я приду и этим докажу ему, что помню благодеяния его отца, помню все, что оба они сделали для меня!
Бедный Тобаль, у него, вероятно, нет друзей, в его положении он должен быть одинок, от палача ведь все бегут! Может быть, для него будет отрадой — увидеть существо, любящее его, преданное ему, хотя он и не признается, конечно, в этом! О! Тобаль, я знаю тебя, внешне ты всегда казался холодным человеком, но сколько доброты и глубокого чувства таилось в твоей душе! Вероятно, и теперь он остался тем же, и, может быть, если он узнал меня тогда, он подумал, что я не захотела его узнать и протянуть ему руку! В его положении должна появляться подозрительность, ему может казаться, что его намеренно избегают! Да, я должна пойти к нему! Но что он подумает и скажет… Нет, прочь колебания и нерешительность! Само небо внушило мне эту мысль! И что же дурного в том, что я хочу видеть его и говорить с ним! Что скажет он? Если он протянет ко мне руки, чтобы сжать меня в своих объятиях, смогу ли я совладать с собой и не броситься к нему, не открыть ему своей любви! О, как я была бы счастлива! Сколько сил на добрые и хорошие дела это пробудило бы во мне!»
Глаза Белиты заблестели от надежды и ожидания; она, из любви к своему Тобалю отказавшаяся от всех удовольствий, от роскоши, от веселой и легкой жизни, в которую бросилась когда-то с таким увлечением, чувствовала себя счастливой от одной мысли о возможности услышать от него доброе слово. Такая радость наполнила ее душу, когда она решилась идти к нему, что она почувствовала, что еще не жила до сих пор, а прозябала, все в жизни показалось ей ничтожным и мелким в сравнении с тем, что она испытывала теперь!
Она вспомнила о своем жалком костюме и покраснела. О, как она прелестна была в этот момент в своей старомодной шляпке, в своем полинялом платье, и еще прелестнее делало ее то, что на самом деле, хоть она и не сознавала того, единственной ее мыслью, единственным стремлением и желанием было увидеть Тобаля и показать ему, что ужасное его ремесло не оттолкнуло ее и что она не боится его.
Под влиянием этих чувств и мыслей она вместо того, чтобы идти домой, свернула в сторону и направилась к Мансаиаресу.
Солнце давно уже село, стало совсем темно, на безоблачном небе блестели звезды. На «маленькой Прадо» мелькали фонари.
Белита поспешно шла мимо домов, из которых доносились звуки музыки и слышался шум. В тавернах, мимо которых она проходила, танцевали и пировали. С шутками и смехом подходили к ней полупьяные мужчины из этих увеселительных мест, но она шла мимо них с таким достоинством, что ни один не осмелился ее преследовать.
Погруженная в свои мысли, она не заметила, как прошла всю улицу и очутилась на пустынной песчаной дороге, которая вела к дому палача, не заметила даже, что ноги ее вязли в глубоком песке.
Вдруг она остановилась и осмотрелась кругом. Тут только увидела она неприветливую окраину, увидела черный забор и за ним домик. Нигде не было ни одного живого существа. Кругом царила глубокая тишина, она поняла, угадала, что этот уединенный двор и домик и есть жилище палача, которое все обходят стороной.
На нее напал страх, но она поборола его и твердо пошла к забору. Смятение охватило ее душу, ей начали мерещиться виселицы, эшафоты и топоры, и она со страхом осматривалась кругом.
Но она шла на свидание с Тобалем, с Тобалем, которого так давно и так сильно любила, неужели она не одолеет своей робости теперь, когда желанная минута так близка?
Мысль о скорой встрече с ним вернула ей решимость, и она быстро направилась к забору. Не задумываясь более ни на минуту, она смело подошла к воротам и дернула звонок.
От его громкого звука она вздрогнула, испугавшись как будто своей смелости и решительности. «Ну а что же я делаю дурного, — уговаривала она себя, — следуя голосу сердца? Разве я пришла сюда с дурными намерениями, разве я не могу увидеть его?»
На дворе послышались шаги.
Сердце ее так сильно билось, что она прижала к нему руку. Ворота отворились, в них показался человек отвратительной наружности, с лицом, обезображенным шрамами, геркулесовского сложения — это был прегонеро. Рукава его рубашки были засучены, он был в коротких панталонах, так что руки и ноги были голыми.
Белиту так напугал страшный облик этого привратника, что она не могла выговорить ни слова.
— Вы звонили, сеньора? — спросил прегонеро. — Кто вам нужен?
— Сеньор Тобаль Царцароза, — ответила наконец Белита.
— Он дома. Вам угодно говорить с ним?
— Да, я прошу вас провести меня к нему, — поспешно сказала Белита.
— Идите за мной!
— Сеньор Царцароза один? — спросила она.
— Разумеется, один, кому же у него быть? К нам сюда неохотно ходят, сеньора, — заметил прегонеро, идя впереди Белиты по темному двору, посредине которого ярко светились окна дома. Белита шла с замирающим сердцем, с каждым шагом она приближалась к решительной минуте, к минуте своего свидания с ним, с Тобалем, и вот наконец ступила на крыльцо дома!
— Войдите, — сказал ей прегонеро, указывая жестом на дверь.
В этот момент дверь отворилась, и на пороге показался Тобаль.
— Вот пришла сеньора, которая хочет говорить с вами, мастер, — сказал прегонеро и удалился от крыльца.
Царцароза, казалось, не узнал в первый момент Белиты, так как на крыльце было темно. Он жестом пригласил ее войти за ним в освещенную комнату, где сидел перед ее приходом.
— Что вам угодно, сеньора? — спросил он. Белита, от сильного волнения не находя слов, не зная, что сказать, быстро подошла к Тобалю, протягивая ему руку.
— Тобаль, узнаешь ли ты меня? — сказала она наконец дрожащим, прерывающимся голосом. — Узнаешь ли ты Белиту?
Палач смотрел во все глаза на стоявшую перед ним девушку и, по-видимому, был сильно удивлен, с недоумением взор его останавливался то на ее лице, то на бедной одежде.
— Ты Белита? — сказал он наконец. — Да, это ты, теперь я узнаю тебя! Не та ли ты Белита, которая жила на Пуэрто-дель-Соль в великолепном доме? Не та самая Белита Рюйо, которая известна под именем Миндального Цветка? Которая приезжала в оперу с маркизом де лас Исагас или танцевала по вечерам в салоне герцогини? Не ты ли это была?
— Да, Тобаль, это была я, но теперь я больше не та Белита.
— О! Понимаю, теперь ты приходишь ко мне в этом полинялом платье, в этой старой шляпке, чтобы разыграть передо мной комедию? Ты не предполагала, вероятно, что я знаю о твоей развратной жизни, и пришла разыграть передо мной роль честной бедной девушки! Тебе хотелось обмануть меня! Тебе хотелось растрогать меня! Уверить, что ты живешь честно, что ты трудишься! О! Вижу насквозь и твои намерения, и твои замыслы.
Белита с изумлением смотрела на своего возлюбленного, его лицо выражало такой гнев и вместе с тем такое презрение, что она невольно отступила назад.
— Сжалься, сжалься, Тобаль! — воскликнула она замирающим голосом, больше она ничего не могла произнести, слова застряли у нее в горле.
— О, не беспокойся, не трать напрасно слов, я вижу всю твою игру! Не пытайся воспоминаниями о прошлом тронуть меня! Да, я любил тебя, любил всем сердцем, еще продолжал любить так же горячо и страстно, когда встретил тебя на Пуэрто-дель-Соль! Сердце во мне затрепетало при виде тебя! О, как сильно я любил тебя!
— Тобаль, во имя всего святого, умоляю, выслушай меня!
— Но когда я узнал, что ты, именно ты — тот Миндальный Цветок, та царица полусвета, о которой публичные женщины и таскающиеся с ними беспутные мужчины говорят, как о соучастнице своих оргий, как о своей подруге, когда я убедился, что Белита Рюйо — героиня салона герцогини… О! Тогда любовь моя угасла, умерла! И теперь вдруг ты осмеливаешься прийти ко мне, нарядившись в лохмотья, в надежде обмануть меня, показать, что ты честная девушка, живущая в бедности. Комедия недурна, женщины, подобные тебе, вообще хорошие актрисы и большие охотницы разыгрывать всякие роли, только будь уверена, что я не приму это за чистую монету и меня ты не одурачишь!
— Тобаль, остановись! Выслушай меня! — умоляла Белита.
— Прочь отсюда! Ни словца больше! Наши дороги разошлись, у нас нет ничего общего! Говорить нам не о чем!
— Ты отталкиваешь меня от себя! Ты, Тобаль! Ты! — кричала несчастная, видя, что ее презирает и отталкивает от себя тот, из любви к которому она бросила прежнюю жизнь, отказалась от богатства и превратилась в бедную работницу; тот, который даже при ужасном своем положении в обществе, при ужасном своем ремесле оставался ей дорог; тот, которого она так любила, что любовь пересилила в ее сердце ужас и содрогание, внушаемые ей палачом.
Тобаль оставался холоден как камень.
— Между нами все кончено, кончено навсегда, — ответил он, оттолкнув ее от себя, рыдающую в отчаянии, протягивающую к нему дрожащие руки.
Белита испила чашу страданий до дна, она бросилась из дома и помчалась по темному двору, как будто за ней гнались тысячи фурий.
XII. Лесной король
Лесным королем называли еще первого Дона Карлоса, когда тот начал воевать с королевами Христиной и Изабеллой. Ему дали это прозвище оттого, что он предпочитал скрываться со своими отрядами в лесах, а также отчасти и потому, что он, как и второй дон Карлос, называл сам себя королем и любил, чтобы другие величали его этим титулом, хотя в действительности он им не был. Теперь это прозвище перешло к новому претенденту на испанский престол, к третьему дону Карлосу.
Любовь к деньгам и ценностям, которую читатель мог заметить в нашем доне Карлосе из рассказа о сокровищах Аларико, была свойственна всей этой ветви династии Бурбонов. Многие благородные принцы этой династии никогда не имели денег и вместе с тем были очень расточительны. Многие из них удалялись от света и вели уединенную жизнь потому только, что не имели никаких средств; часто им случалось обращаться с просительными письмами к своим богатым родственникам.
Наш дон Карлос тоже испытал нужду в дни своей юности, когда учился в Париже. Разумеется, учение стояло v него на последнем плане, как и у всех молодых людей знатного происхождения; время он проводил в кофейнях, танцевальных и фехтовальных залах и в разных увеселительных заведениях. Жил он, правда, в Латинском квартале, но это единственное, что связывало его с учащимся миром и с классическим языком. Все вышеупомянутые места он предпочитал коллегии, куда являлся весьма редко, а если и проживал в студенческом квартале, то скорее только потому, что там был сад Бюлье, в котором находилось одно из известнейших увеселительных заведений.
Его высочество, как его величали, принц дон Карлос был тогда еще очень молодым человеком и весьма красивым; испанские огненные глаза, склонность к веселой жизни и легкомыслие — все это способствовало большому его успеху у. красавиц, посещавших танцевальные вечера увеселительных заведений, и хотя эти дамы любезны обычно только с богатыми молодыми людьми, которые в состоянии хорошо платить за любовь и ласки, дон Карлос составлял исключение и, несмотря на свой пустой кошелек, был их любимцем. Он до того воспламенял их, что они, обычно столь алчные к деньгам, не только от него их не брали, но даже сами ему давали. Подношения эти, однако ж, испанский принц спускал обычно в одну ночь или в один вечер: для удовлетворения его потребностей ему нужны были большие капиталы, а у него не было ни гроша, ни клочка земли.
В поисках средств он обращался к самым разным источникам, не проявляя особой разборчивости. Он стал ходить к ростовщикам и вошел с ними в самые близкие отношения, но они не решались давать ему много под один только титул и часто оставляли его просьбы без удовлетворения. Многие из людей, близких ему в то время, рассказывают, что не раз обращался он с бесцеремонными требованиями денег к испанским подданным, находившимся проездом в Париже.
Но чаще всего он обращался с этими просьбами к коронованным особам, ссужавшим ему порядочные суммы, которые и составляли его средства к жизни. Говорят, что ему помогал не раз даже французский император Наполеон.
В одной венской газете было напечатано, что императрица французов, узнав о критическом положении молодого человека, подняла при дворе вопрос, как бы обеспечить его существование и дать ему приличные средства; ее ходатайство было удовлетворено; но скоро она убедилась, что его высочество в денежном 'отношении удовлетворить трудно, и с тех пор участие ее в его судьбе прекратилось и дружеские отношения их нарушились. Принц обращался к одной высокопоставленной особе в Вене с просьбой испросить ему помощь от его дяди, графа Гамборда, известного богача. Особа немедленно вступила в переговоры, но они оказались безуспешны, так как дядюшка, вероятно, не раз уже удовлетворял подобные просьбы своего знаменитого племянника. Тогда высокопоставленная особа из собственных денег выслала принцу-студенту сумму, какую, по его предположениям, должен был ссудить своему родственнику граф Гамборд. С тех пор дон Карлос стал посещать австрийское посольство столь же часто, как и русское. В обоих его встречали и принимали со всеми почестями, какие оказывают лицам королевского происхождения.
Из всего предыдущего становится ясно, что дон Карлос всегда нуждался в деньгах и не пренебрегал никакими средствами для приобретения их. Когда он обманулся в своих ожиданиях, открыв железный ящик Аларико, Виналет, этот ловкий советник, подал своему господину мысль самому начать выпускать деньги, и дон Карлос ухватился за эту идею. В результате были выпущены ассигнации, которые имели хождение во всех северных провинциях, хотя, в сущности, не представляли собой никакой ценности.
Дон Карлос этим не удовлетворился, он выпустил еще порядочное количество орденов, разумеется, без бриллиантов и самых дешевых, которые он раздавал в виде награды людям, служившим в его войсках. С наибольшим удовольствием получали их французы.
Таким образом, претендент на испанский престол сумел создать все внешние признаки верховной власти и присвоить себе привилегии настоящего правителя. Он даже выпустил почтовые марки со своим изображением и завел газету, в которой печатались его приказы.
Он купил в горах замок и обставил его с королевской роскошью, чтобы принимать в нем своих приверженцев, строить новые планы, заманивать заимодавцев и отдыхать от военных подвигов. С замком этим мы познакомим читателя в ближайшей главе. Теперь же вернемся
туда, где дон Карлос устроил свою очередную штаб-квартиру, когда сосредоточил свои войска в окрестностях Ирацы.
Принц был у себя, и ему доложили о неожиданном посетителе, о патере Антонио, том самом патере, с которым он несколько ранее расстался весьма неприязненно, так как Антонио имел смелость назвать его планы невыполнимыми и обратить его внимание на то зло, которое они несли стране.
Потому дон Карлос не велел принимать патера, который, впрочем, не испугался этого отказа и продолжал настаивать на свидании с претендентом.
«Нет, — думал он, — я не отступлю от своего намерения, я должен видеть его во что бы то ни стало, должен освободить Инес из рук доньи Бланки Марии».
Чтобы добиться этого свидания, Антонио обратился к посреднику, сопровождавшему дона Карлоса в качестве военного патера.
Патер этот, как и Антонио, был из монастыря Святой Марии, они были знакомы друг с другом. Благодаря этому посредничеству дон Карлос согласился наконец принять Антонио на другой день после его прихода в штаб-квартиру.
Лесной король принял его в плохо убранной комнате бедного деревенского домика, служившего ему штаб-квартирой.
Когда Антонио вошел, дон Карлос подписывал бумаги, и прошло несколько минут, прежде чем он обратил на него внимание. Наконец, он бросил на него суровый, неприветливый взор.
— Что вас привело ко мне еще раз? — спросил он патера.
— Я пришел, ваше высочество, искать v B'ac справедливости! — поспешно, но твердо ответил Антонио.
— Я никому никогда в ней не отказывал, и никто, приходя ко мне со справедливыми требованиями, не уходил неудовлетворенным, — воскликнул дон Карлос, не упускавший случая польстить самому себе.
— Стало быть, и моя просьба будет исполнена, ваше высочество. Я пришел по делу, не терпящему отлагательства, и считаю за величайшее счастье, что нашел доступ к вашему высочеству. Не откажите оказать помощь и защиту одной донье, находящейся в величайшей опасности!
— Говорите скорей, в чем дело!
— Вероятно, ваше высочество помнит молодую графиню Инес, дочь графа Кортециллы?
Дон Карлос наморщил лоб, в глазах его блеснуло неудовольствие, ему явно неприятно было упоминание этого имени.
— Что значит этот вопрос? — спросил он отрывисто.
— Я был воспитателем графини Инес, ваше высочество.
— Это вас дурно рекомендует, так как я слышал, что она сбежала из дома своего отца, который горько ее оплакивает!
— Семейные обстоятельства вынудили графиню решиться на этот несомненно трудный для нее шаг, — возразил Антонио, — обстоятельства, касаться которых здесь я считаю неуместным.
— Но вы взывали к моей справедливости, что же именно вам нужно? О чем вы просите?
— Я пришел просить ваше высочество защитить донью Инес.
— Где же она находится?
— Теперь она находится во власти доньи Бланки Марии!
— Что вы здесь делали с графиней, как вы попали с ней сюда?
— Я хотел доставить ее в Пуисерду, к ее родственнице.
— Вы оказываете дурную услугу графу Кортецилле, патер Антонио, и не должны были бы так поступать!
— Это была моя святая обязанность, ваше высочество, я должен был ее сопровождать, ибо она была совершенно одна и беззащитна!
— Вы должны были отвезти ее к отцу, которого ее легкомысленный, необдуманный поступок поставил в самое неприятное положение.
— Не мое дело рассуждать, кто был виноват в этом поступке, ваше высочество! Но, во всяком случае, я не мог оставить ее одну без поддержки и защиты!
Что бы там ни было в прошлом, я уверен, что в настоящее время вы не откажетесь помочь бедной несчастной девушке и защитите ее от грозящих ей опасностей.
О моей нынешней просьбе графиня Инес не знает, может быть, она и не разрешила бы мне обратиться за помощью к вашему высочеству. С нынешней ночи она находится у супруги принца Альфонса, которая отказывается отпустить ее. Я надеюсь, ваше высочество, что вы вступитесь за нее и не оставите ее во власти доньи Бланки!
— Это не мое дело — вмешиваться в семейные дела!
— Насколько я помню, ваше высочество были довольно близки с семейством графа Кортециллы? — осмелился сказать Антонио.
— Все наши отношения давно покончены, — холодно ответил дон Карлос, — и возобновлять их я вовсе не намерен!
— Но если и так, это не мешает вашему высочеству вырвать графиню из рук доньи Бланки Марии и поступить по-рыцарски: вернуть ей свободу, защитить ее от опасностей. Это было бы честным и справедливым поступком. Но кроме этого, подумайте, ваше высочество, приятно ли будет вам, если скажут, что графиня Кортецилла находится в плену у дона Карлоса?
Эти слова, очевидно, подействовали на принца.
— Разумеется, я вовсе не желаю давать повода к таким слухам, — сказал он. — Дела этого семейства давно меня не касаются, и входить в их семейные отношения я не желаю и не имею никакой надобности!
— Итак, ваше высочество, могу ли я надеяться, что моя просьба будет выполнена? — спросил Антонио.
— В чем же именно заключается ваша просьба?
— Освободить графиню Инес и позволить ей продолжать свой путь в Пуисерду под моей защитой!
— В Пуисерду? Но я в ближайшее время потребую сдачи этой крепости, в противном случае я возьму ее приступом!
— Там живут близкие родственники графини, и она хочет поселиться у них.
— О, это безрассудно! По дороге туда неизбежны встречи с моими солдатами и целыми отрядами, а это небезопасно для молодой девушки.
— Но ваше высочество может охранить ее от всех этих опасностей одним своим словом, — возразил Антонио.
— Охранных писем я не выдаю и за поступки моих солдат не отвечаю, так как стеснять и слишком ограничивать их свободу я не могу по уставу! Стало быть, если я и освобожу графиню теперь, ее опять ждут новые опасности, от которых я не могу ее защитить!
— Я постараюсь в таком случае сам защитить графиню.
— Вы не сможете этого сделать, отец Антонио.
— Я готов умереть, чтобы спасти ее!
— Так говорить может только влюбленный!
— Мой сан и мои обязанности не допускают даже предположения о таких чувствах, и если б я действительно любил графиню Инес такой любовью, ваше высочество, то в этом чувстве я бы отдал отчет только Богу и самому себе!
— Эти слова достойны мужчины, патер Антонио, и я готов исполнить ваше желание.
— Искренне благодарю вас, ваше высочество!
— Донья Бланка должна освободить графиню Инес де Кортецилла, такова моя воля!
— Но кто же передаст ей эту волю вашего высочества? — спросил радостным тоном Антонио.
— Вы же сами!
— Я боюсь, что донья Бланка не поверит моим словам!
— Ступайте к принцессе и передайте ей мою волю; я знаю, что она исполнит ее! Жаль, что я не знал об этом происшествии раньше, сегодня утром она была у меня, и я бы сам высказал ей мое требование. Делайте, как я приказываю!
Дон Карлос движением руки отпустил Антонио, который с облегченным сердцем, раскланявшись, поспешно вышел из штаб-квартиры лесного короля и, не останавливаясь, отправился по дороге, ведущей к лагерю Бланки Марии. Он надеялся добраться туда к вечеру.
Стремление освободить Инес и опять прийти ей на помощь придавало Антонио силы. У него словно выросли крылья, и он надеялся в тот же вечер передать Бланке Марии решение дона Карлоса. Но трудности и препятствия ждали его на каждом шагу. После нескольких часов ходьбы он наткнулся на патруль карлистов, который его задержал, несмотря на уверения, что он идет из штаб-квартиры с поручением от дона Карлоса к Бланке Марии. Они решили, что это переодетый генерал Павиа, и ни под каким видом не хотели его отпускать.
Солдаты этого патруля скорее походили на разбойников, чем на военных людей: одни были в старых камзолах, другие в плащах, на иных были надеты неприятельские мундиры. Это войско прекрасно характеризовало своих предводителей, собиравших шайки воров и злодеев, натравливая их на испанских граждан и солдат.
Патруль таскал за собой Антонио всю ночь, и только к утру, на его счастье, попался им навстречу офицер, умевший читать, что было редкостью в войсках карлистов. Прочитав бумаги Антонио, он убедил своих сотоварищей, что это действительно патер, а не генерал Павиа, как они предполагали.
После этого он был отпущен и опять направился к лагерю Бланки Марии, чтобы наконец освободить бедную графиню! Эта нелепая история отняла у него целый день, так как патруль увел его в противоположную сторону от лагеря Бланки Марии, и он не мог рассчитывать попасть туда раньше вечера.
Неудачи преследовали его, судьба, казалось, хотела испытать его терпение. На дороге его остановила крестьянка и именем Бога умоляла зайти в соседнее селение, где умирал ее муж. Она со слезами на глазах рассказывала Антонио, что их патер недавно умер, а другой на его место еще не приехал, и теперь муж ее умирает, не приобщившись святых тайн, что он страшно страдает и требует патера, уверенный, что не умрет, пока не исповедуется.
Делать было нечего, Антонио не мог отказаться от исполнения своих духовных обязанностей по отношению к страждущему и умирающему человеку. Он потерял еще час времени, и был уже вечер, когда он снова отправился в путь.
Он шел так быстро, что пот лил с него градом. Он не замечал усталости, хотя у него уже подгибались ноги. Мысль, что Инес страдает и изнемогает от страха и беспокойства, владела всем его существом и поддерживала силы.
С наступлением ночи он достиг, наконец, селения, в котором был арестован со своими спутницами по приказанию Бланки Марии.
Не останавливаясь, прошел он через него и продолжал свой путь к возвышенности, за которой был расположен лагерь — цель его путешествия. Каково же было его отчаяние, когда, подойдя к долине, он увидел, что там не осталось ни одной палатки, что она была пуста!
Этот неожиданный удар сразил бедного патера. Измученный усталостью, бессонными ночами, волнением и беспокойством за Инес, стоял он как приговоренный к смерти, не двигаясь с места!
Куда отправились карлисты? Где их искать? Неги отказывались идти, нет, ему не сделать больше и шага! Но нужно же освободить Инес, нельзя оставлять ее в руках Бланки Марии!
Мысль эта, как удар бича, подействовала на него, и, превозмогая слабость, он отправился искать карлистов. Вернувшись в селение, он узнал, куда они перевели свой лагерь.
Отдохнув не более часа, он пошел в указанном направлении и к утру наконец нашел их. С радостью подходил он к новому лагерю bi надежде, что освободит Инес и ее подругу. Но тут его ожидал новый удар: когда он подошел к палатке доньи Бланки, ему сказали, что принцесса отправилась рано утром с одной из молодых сеньор в штаб-квартиру, а другая была освобождена еще накануне вечером.
По описанию он понял, что Бланка взяла с собой графиню Инес. Отчаяние охватило его, он пришел слишком поздно! Теперь все погибло, он не успеет спасти ее из рук той, которой он так боялся!
Антонио стоял, как приговоренный к смерти, сначала он будто окаменел, словно столбняк нашел на него, потом весь задрожал при мысли, что Инес разлучена теперь с ним навек, что она погибла безвозвратно! Он не знал, что с ней, что ей предстоит, но предчувствовал, что ее ждет какое-то страшное несчастье! Что делать теперь, что предпринять? Где искать ее, к кому обратиться? Куда увезла ее Бланка Мария? В этот момент он вдруг понял все: разрозненные факты сложились в единую картину. Только теперь ему стало ясно, почему Бланка ненавидела Инес, будучи еще герцогиней Мединой, он понял это, вспомнив, что когда-то она страстно любила Мануэля Павиа; Инес погибла теперь, оказавшись в руках своей соперницы, думал он в отчаянии.
Прежде чем продолжать наш рассказ о дальнейших событиях, мы вернемся к прошедшей ночи, когда Амаранту выпроводили из лагеря и графиня Инес осталась одна во власти своей соперницы.
Посреди ночи в лагерь супруги дона Альфонса явился вдруг Изидор Тристани, до наступления утра он был принят ею и имел с ней долгий разговор.
Бланка вообще мало спала, вероятно, планы, громоздившиеся в ее голове, не давали ей покоя. Неожиданный приход Изидора, которого она знала еще в Мадриде, как самого ловкого пройдоху, обрадовал ее и показался ей очень кстати! «Он может мне пригодиться!» — подумала она и велела позвать его, не дожидаясь утра.
— Что вас привело ко мне? — спросила она раскланявшегося перед ней Изидора, лицо которого было еще бледнее и безобразнее, чем обычно. — Что случилось?
Изидор приблизился к принцессе и поцеловал ей руку.
— Ничего хорошего, ваша светлость! Видно, уж я родился таким несчастным, что нигде мне нет удачи, злая судьба все время преследует меня и, вероятно, ни к чему другому не приведет, кроме виселицы, — сказал он удрученно, устремляя свои косые глаза на принцессу. — Я пришел к вашей светлости просить совета и помощи по поводу одного весьма тяжелого, грустного для меня обстоятельства!
Бланка Мария казалась расположенной выслушать сообщение Изидора.
— Но что случилось, Изидор, что вы опять натворили? — спросила она.
— Я ничего не натворил, ваша светлость, наоборот, мне навредили так, что я, кажется, должен буду погибнуть!
— Кто же этот злодей?
— Между нами, ваша светлость, злодей этот — Доррегарай!
— Генерал, который своими успехами обворожил моего августейшего зятя и его войско? Ну, Изидор, лучше бы вы оставили его в покое и выбрали себе другого противника; затевать с ним борьбу было бы страшной глупостью с вашей стороны.
— Зато она, вероятно, будет последней в моей жизни, ваша светлость, — мрачно заметил Изидор с выражением отчаяния на лице, что придавало ему страшно комичный вид. — Доррегарай сломит мне шею, это почти несомненно!
— Так вот до чего дошло!
— Дошло до того, что один из нас должен умереть! Но если суждено умереть мне — мексиканцу также не жить, он умрет, этот лживый пес, который, служа его величеству, преследует свои собственные интересы и планы! О, я могу многое про него рассказать! Мне известно много проделок этого завистливого мошенника, который, пользуясь моим умом, моей ловкостью, не давал мне хода и держал меня постоянно позади других!
— Этого Доррегарая я и сама не очень люблю, — сказала донья Бланка, — мне он тоже кажется хитрым предателем!
— Благодарю вас, светлейшая принцесса, за эти слова, — воскликнул Изидор, щелкнув от восторга пальцами. — Слышать это из ваших уст — величайшее для меня утешение, почти торжество!
— Что же он затевает?
— Он хочет меня уничтожить, ваша светлость, стереть с лица земли, так как ему известно, что я ненавижу его и знаю про него больше, чем бы он этого хотел! Пусть я погибну, но и ему не устоять! Он уже жаловался на меня его величеству, и вчера пришел приказ, чтобы я явился в штаб-квартиру. Ему, кажется, уже удалось меня устранить!
— Стало быть, он хлопочет о вашем переводе?
— Этого я еще не знаю, ваша светлость, я боюсь гораздо худшего, боюсь, что он успел очернить меня в глазах его величества! Вот почему я решился обратиться к вам, светлейшая принцесса, не откажите мне в вашем заступничестве и совете. Что мне делать?!
— Вы хорошо сделали, Изидор, что обратились ко мне; я позабочусь, чтобы Доррегараю не удалось погубить вас, — ответила Бланка. — Я знаю, что могу во всем на вас положиться, что вы умеете быть признательным и благодарным за то, что для вас делают.
— Жизни не пожалею для вашей светлости. Готов исполнить все, чего бы вы ни потребовали от меня. Для себя я ничего не прошу, но хочу и прошу вас об одном, чтобы мексиканец был свергнут, уничтожен!
— Это я устрою!
— Благодарю! Тысячу раз благодарю! Больше мне ничего не нужно! Низвержение Доррегарая для меня несравненно дороже собственного возвышения. У меня есть документы, которые могут погубить эту собаку, я узнал про него такие вещи, за которые он может поплатиться головой, но действовать я могу только при сильной поддержке, такой как ваша, светлейшая принцесса! Будьте уверены, ваша светлость, все, что я говорю, я могу доказать!
При этих словах он вынул из кармана своего мундира несколько бумаг.
— Оставьте это пока при себе. Такого сильного человека, как Доррегарай, быстро свергнуть нельзя, — сказала Бланка, — но я обещаю, что рано или поздно вы будете удовлетворены, он падет, будет уничтожен! А Бланка де ла Ниевес держит свое слово, на ее обещания можно полагаться, вы это знаете, Изидор!
— Это обещание сняло камень с моей души, я теперь вздохнул свободно! Мы давно уже готовы задушить друг друга, и я знаю, что если не раздавлю его, он не пощадит моей жизни, он, по всей вероятности, подозревает, что я ему опасен, что я знаю такие вещи, какие никому не должны быть известны! Он генерал, а я его подчиненный, понятно, что не он, а я должен пасть, если вы не заступитесь за меня! Кто знает, что ждет меня в штаб-квартире, что он наговорил его величеству? А его величество доверяет этому негодяю! Очень может быть, что я буду разжалован, услан куда-нибудь из действующей армии, а значит, никогда не смогу выдвинуться вперед, чего и желает злодей, боясь, что я буду замечен и стану выше его! Ему необходимо если не убить, то устранить меня!
— Знаете, мне пришла в голову мысль! Лучшим выходом для вас в настоящее время был бы, конечно, перевод. Я имею в виду командировку на короткий срок, после которой вы можете быть повышены, может, даже произведены в генералы!
При этих словах Изидор просветлел, он сделался неузнаваем.
— Это была бы высокая честь, ваша светлость, если б только я мог заслужить ее!
— Вы можете, Изидор! Для этого вам нужно будет исполнить одно поручение, которое займет у вас немного времени, и тогда я берусь выхлопотать для вас высшее назначение! Согласны ли вы оказать мне весьма важную и секретную услугу, о которой никто не должен знать?
— Я весь к вашим услугам, ваша светлость! Нужно ли вам со всех сторон поджечь какой-нибудь город, нужно ли, чтобы я прокрался в неприятельский лагерь я там прекратил чье-нибудь существование, — только прикажите, и я исполню! Изидор "все сделает по одному слову взашей светлости!
— Я знаю, что вы решительны и не отступите ни перед чем, потому-то и хочу дать вам это поручение! Знаете ли вы замок Глориозо, находящийся в горах?
— Большой прелестный замок его королевского величества? Да, я знаю его. Это замок, достойный короля! Со временем, когда мы овладеем Мадридом, Глориозо станет охотничьим замком и своим названием будет напоминать славные дела Карла VII!
— На короткое время вы должны стать главным смотрителем этого замка, в котором будет содержаться одна донья! Молодая графиня Кортецилла находится в моем лагере, держать ее здесь я не могу, так как она, будучи возлюбленной генерала Павиа, может предать нас, вот я и решила отправить ее в этот замок и держать там под вашим надзором!
— Молодая графиня здесь! Да, это опасно, ваша светлость! Она может здесь многое слышать и видеть, а если освободится, может все это передать неприятелю!
— Вы должны отвезти ее в этот замок и там зорко стеречь ее! Она, по-видимому, больна и очень ослабла, поэтому я думаю, что вам недолго придется ее охранять! Когда она умрет, я позабочусь, чтобы в награду за вашу услугу вы получили высшее назначение!
— Срока моей службы там, ваш светлость, вы не назначаете, если я не ошибаюсь? — вкрадчиво спросил Изидор.
— Срок этот будет зависеть от вас! Как только графиня умрет, вы оставите замок Глориозо и в чине генерала будете назначены командиром корпуса!
— Я надеюсь, ваша светлость, показать себя достойным этой чести. Когда я должен ехать с графиней?
— Сегодня. Я сейчас отправляюсь с ней в штаб-квартиру, а оттуда вы перевезете ее в замок. Велите оседлать мою лошадь и достать где-нибудь экипаж для больной графини. Торопитесь.
Изидор низко поклонился, поцеловал руку своей покровительницы и вышел из палатки.
Пока Бланка Мария одевалась в свой роскошно отделанный военный мундир, вооружалась пистолетами и кинжалом, которые носила за поясом, и отдавала приказания зуаву, Изидор достал закрытую карету. Скоро в нее посадили Инес, безропотно всему подчинявшуюся; она была очень слаба, убита горем и страхом и походила на сломленный цветок. По-видимому, ей действительно недолго оставалось жить!
На рассвете донья Бланка села на лошадь и в сопровождении Изидора и нескольких солдат отправилась в штаб-квартиру дона Карлоса. Карета с Инес, окруженная стражей, двинулась за ней.
Бланка Мария, увидевшись со своим зятем, объяснила ему, что она считает необходимым отправить графиню в замок, во-первых, для того, чтобы удалить ее от опасной войны, а во-вторых, потому, что было бы крайне неосторожно оставить ее в лагере, где она многое могла видеть и слышать, а значит, передать своему возлюбленному, если вдруг сумеет освободиться. Она так смогла убедить в этом дона Карлоса, готового на всякое насилие и злодейство ради своих интересов, что он согласился с доньей Бланкой во всем, несмотря на то, что этим нарушал обещания, данные Антонио.
Ее предложение прекратить неприязненные отношения Доррегарая с Тристани, отправив последнего главным смотрителем и распорядителем в замок Глориозо, он тоже одобрил и подтвердил Изидору приказание Бланки Марии отвезти Инес в замок и строго наблюдать за ней. При этом он вручил ему бумаги, согласно которым тот назначался главным управляющим замка.
Изидор был счастлив, так, как в близком будущем ему предстояло сравняться с мексиканцем и стать, как и он, начальником корпуса!
Весь погруженный в эти сладкие мечты и надежды, отправился он со своей пленницей в сопровождении солдат охраны к отдаленному замку.
XIII. Члены Гардунии
Слово «гардуния», которое само по себе значит «куница», получило в Испании с давних времен другой, побочный смысл. Так называют крупных и ловких воров и мошенников.
М. Ф. Ферсаль рассказывает, что братство Гардуния, или братство воров, существовало в Испании уже в пятнадцатом столетии; его несколько раз пытались искоренить, следы его исчезали надолго, но потом оно опять воскресало, несмотря на суровые наказания, грозившие его членам в случае раскрытия общества или просто выявления принадлежности к нему.
В своем сочинении «Тайны инквизиции» Ферсаль сообщает о тайном обществе Гардуния следующее:
«Под этим названием с 1417года в Испании существовало тайное общество, состоявшее из разбойников и разного рода воров и мошенников. Эта превосходно организованная ассоциация за определенную плату бралась выполнить самые разные, большие и малые, преступления. Хотел ли кто избавиться от своего врага, он мог обратиться к этой шайке, и она за условленную сумму избавляла его от этого врага, причем так, как хотел плативший, — бросая в воду или с помощью кинжала или пистолета; хотел ли кто наказать своего неприятеля не смертью, а только палочными ударами или легкой раной, и это он мог смело поручить членам Гардунии, которые, в зависимости от требования, наносили необыкновенно метко и ловко именно такие удары палками или кинжалом, каких желал наниматель, сильные или слабые, опасные или неопасные. За убийство плата назначалась высокая, и, кроме того, общество принимало подобные поручения только от лиц высокопоставленных, имевших вес и большое значение в свете. Но уж если Гардуния принимала на себя обязательство убить, то можно было смело рассчитывать, что назначенная жертва не избежит своей участи, поскольку братство отличалось необыкновенной аккуратностью и точностью исполнения принимаемых поручений. Клиентов своих оно всегда удовлетворяло с редкой добросовестностью.
Во главе братства стоял великий мастер, он избирался обычно из старших братьев, жил при дворе, где многие старшие братья занимали высокие посты. Он был верховным начальником ордена и передавал свои приказания и распоряжения кепатесам, или мастерам провинций, исполнявшим эти распоряжения с точностью и усердием, которые сделали бы честь любому из официальных чиновников правительства. Наибольшую часть этого общества составляли гуапо. Это были искусные фехтовальщики, смелые убийцы, бесстрашные бандиты, которых никогда не оставляло мужество — ни во время пытки, ни перед виселицей. За гуапо, или путендорами, следовали флорендоры, молодые искусные мошенники, тонкие плуты, по большей части каторжники, бежавшие из Севильи, Малаги или Мелилы; их называли еще постулантами. За ними следовали фуалесы, или шептуны: их обязанностью было нашептывать в уши великому мастеру братства все, что они успевали подслушать в семействах, в которые втирались под маской благонравия и набожности. Это были по большей части старцы почтенной наружности, ходившие постоянно в терновых венках, с молитвенниками в руках и проводившие почти весь день в храме за исключением времени, когда держали отчет перед мастером братства или инквизитором, так как большинство из них одновременно были шпионами Гардунии и инквизиции. В обществе было множество укрывателей краденого, называемых собертерами, или декелями, и еще огромное число мальчиков от 10 до 15 лет, носивших название реге, или чивато.
Чивато были послушниками этого ордена. Нужно было пробыть по крайней мере год чивато, только посла этого можно было стать постулантом.
Постулантом надо было пробыть два года. Если за это время постулант успевал достойно послужить обществу, его производили в гуапо. Это считалось высшим званием ордена после великого мастера и провинциальных мастеров.
Кроме всех перечисленных, в Гардунию входило много женщин, их называли сиренами. Чаще всего это были молодые цыганки, Их обязанность заключалась в том, чтобы заманивать людей, нужных Гардунии.
Ко всем указанным нужно еще прибавить альгвазилов, монахов, каноников, даже епископов и самих инквизиторов, которые тоже служили Гардунии, были ее исполнителями и покровителями, за что получали от нее хорошие деньги. Из всего сказанного можно ясно представить себе это общество, больше четырехсот лет державшее Испанию в страхе и ужасе. Общество Гардуния зародилось в начале пятнадцатого столетия и только в 1821 году было уничтожено горными стрелками. Среди бумаг Гардунии нашлось множество писем, распоряжений и приказов, все они были представлены мною в уголовный севильский суд 15 сентября 1821 года, где и оставались до 1823 года. Франсиско Кортина, бывший мастер братства, в 1821 году был арестован и 16 ноября 1822 года повешен на севильской площади вместе с двадцатью своими сотоварищами и с шестнадцатью обвиненными в соучастии».
Из устава Гардунии Ферсаль приводит следующее: «J. Всякий почтенный человек, имеющий хорошее зрение, острый слух, легкий на ногу и способный держать язык за зубами, может стать членом Гардунии. Удостоиться этой чести могут также очень старые люди, если они захотят этого и окажутся полезными для Гардунии, умея найти выгодные для нее дела или способствуя их исполнению.
2. Братство берет под свое покровительство старых женщин, преследуемых правосудием, если они готовы хранить у себя или продавать то, что укажет им братство в своей дальновидной прозорливости.
В общество могут вступить девушки и женщины, будучи представлены одним из братьев, при условии, что они будут служить интересам братства душой и телом.
3. Члены обществу делятся на разряды чивато, постулантов, гуапо и фуалесов. Матроны зовутся собертерами, а молодые женщины и девушки — сиренами. Последние должны быть молоды, красивы, проворны и верны.
4. Пока чивато не выучатся ловко работать и действовать, они не имеют права предпринимать что бы то ни было сами по себе и никогда не должны браться за кинжал, иначе как только для своей защиты. Братство обязано содержать и кормить их, для чего каждому из них выдается 125 мараведи ежедневно. Если он оказывает важные услуги обществу, то сейчас же возводится в достоинство постуланта.
5. Постуланты обеспечивают себя сами. Им поручается исключительно отчуждение собственности в пользу общества. Третью часть добытого постулант получает з свою собственность, из которой он малую толику отдает за упокой страждущих в чистилище душ (Ферсаль говорит, что каждый из членов Гардунии имел обыкновение при получении им своей доли опускать несколько мараведи в кружку для пожертвований). Из остальных двух третей одна кладется в кассу для расходов на ведение дел в судах (для платы альгвазилам, писцам и т. п.) и на заупокойные мессы об усопших братьях. Последняя треть идет на содержание великого мастера, который должен жить при дворе, чтобы заботиться о безопасности и благе всего общества.
6. На долю гуапо остаются затемнения (убийства), путешествия (уличные разбои) и крестины (удары кинжалом). Последние две операции они могут поручать постулантам, но под свою собственную ответственность. Гуапо тоже получают третью часть от вырученных ими сумм. Треть от всей доли они отдают на содержание чивато и по своему усмотрению жертвуют на заупокойные мессы. Остальные две части идут на расходы, упомянутые в пункте 5.
7. Собертеры получают 10 процентов от сумм, вырученных ими для общества; сирены имеют 6 мараведи с каждой позеты (позета составляет около половины гульдена), поступающей в кассу братства от гуапо. Все подарки, которые они получают от благородных лиц, от монахов и разных духовных особ, остаются их собственностью.
8. Капатесом, или начальником провинции, может стать гуапо, прослуживший братству не менее шести лет и оказавший ему значительные услуги.
9. Каждый из братьев даже перед лицом мученической смерти не должен признаваться и исповедоваться; если под пыткой он теряет мужество, он исключается из общества и должен быть им наказан.
Составлен в Толедо в 1420 году от Рождества Христова и в третьем со дня основания достопочтенного братства.
Подписано: Эль Сольмильюдо (зубастый)».
Прежде чем вернуться к нашему рассказу, считаем нелишним привести еще несколько замечаний Ферсаля об этом обществе, которое он так верно и точно изобразил в своем сочинении.
«Гардунцы и после уничтожения их знаменитых бандитских отрядов, — говорит Ферсаль, — почти во всех городах Испании, а также в уединенных гостиницах на больших дорогах имели и еще до сих пор имеют своих агентов, которые уполномочены ими собирать дань с путешественников и за это сообщать им пароль, охраняющий их от всяких нападений на определенном пространстве от такого-то и до такого-то места. В 1823году все отправляющиеся в Кадис из Мадрида должны были непременно ехать в фуре Педро Руиса, если не желали подвергаться нападениям разбойников; путешествие в этой фуре с полотняной кровлей стоило втрое дороже, чем в почтовой карете, кроме того, с путешественников, взималось еще пять процентов с суммы, находящейся при них, но зато они могли быть спокойны, разбойники никогда не нападали на фуру Педро Руиса.
В Эстремадуре, в Мериде содержатель гостиницы за два дублона (десять талеров) сообщал путешественникам пароль. С таким паспортом можно было смело отправляться в любое из тех мест, где вам почти наверняка грозила встреча с бандитами в масках, требующими кошелек или жизнь. Подъезжая к этим разбойничьим заставам с паролем, бояться было нечего. Разбойники обступали путешественников, но как только он произносил заветное слово, они, очень вежливо снимая свои шляпы, раскланивались с ним и пропускали его, напутствуя словами: «С Богом, можете продолжать свое путешествие, ваша милость».
В 1822 году, — говорит дальше Ферсаль, — я сам заплатил этому содержателю, старому Алехо, семьдесят франков, за сообщение мне двух заветных слов: «Vade retro» 1. Эти два слова превратили четырех бандитов, напавших на меня, в самых вежливых и скромных людей!»
Во время последней смуты в Испании образовалось новое братство Гардунии, подобное тому старому, которое так подробно описал Ферсаль. Оно раскинуло по всей стране свои сети, но никто и не подозревал о его существовании.
Слухи о нем начали распространяться только с того вечера, когда был убит старый Моисей и убийца скрылся во дворце Кортециллы. Молва об этой истории разнеслась по городу и воскресила в воспоминаниях жителей рассказы о некогда существовавшей старой Гардунии. Уверенность в том, что ужасное братство воскресло вновь, распространялась все больше и больше. О деяниях новой Гардунии рассказывали самые странные, невероятные истории, и народ им верил! Жители стали припоминать подробности происшествия на площади в день казни Алано Тицона, ограбления банков, убийства и грабежи, совершенные в последнее время, — и все эти отдельные случаи выстраивались в один последовательный ряд преступлений воскресшего страшного братства.
Но до сих пор не было никакого явного доказательства, не было фактов, говорящих о действительном существовании тайного братства Гардунии; все это были лишь смутные догадки и предположения, которые подхватывали старые люди, вспоминавшие о бесчинствах старой Гардунии в связи с теперешними злодействами в Мадриде. Все эти сомнения и предположения каждый день дополнялись новыми слухами. Вдруг разнеслась молва, что управляющий одного маркиза, продав все его имения, убежал с деньгами к гардунцам, и его нигде не могут найти, то рассказывали, что целые полки гардунцев находятся в войсках дона Карлоса, что под Гранадой было убито много путешественников, что почтовая карета, везшая в Кадие бриллианты, была ограблена, и, наконец, все эти слухи увенчались рассказами о том, что предводителями тайного общества были люди, занимавшие в Мадриде высокое положение.
Правительство и чиновники, разумеется, не обращали внимания на эти бездоказательные слухи и, не имея никакого повода приниматься за розыски какого-то неизвестного тайного общества, больше были озабочены тем, чтобы найти убийцу старого Моисея. Но все их старания оставались безуспешными, хотя меняла Захария сообщил о своих подозрениях относительно Бартоло Арко, прежде служившего чиновником в толедском банке. Вопрос был в том, где его найти, он исчез бесследно, точно провалился сквозь землю. Несомненно, что этому, как и другим бесчинствам, способствовала междоусобная война, борьба партий между собой и всеобщее недовольство правлением республиканца Кастелара, который при всем уме и желании добра своему отечеству не имел ни силы, ни энергии, не имел даже полководцев, чтобы навести порядок в стране.
В феврале, в день карнавала, вечером по улице Сиерво шли два человека в масках. В то же самое время прегонеро выходил из дома, в котором находился салон герцогини. Случайно оказалось так, что он некоторое время шел за этими людьми в масках.
Сначала он не обращал на них внимания, но вдруг до него долетели обрывки их разговора и так возбудили его любопытство, что он решил следовать за ними.
— Так вы посланы ко мне Доррегараем? — спросил один из них тихим голосом.
— С важными известиями, принципе, — ответил другой.
— Кто вы?
— Капитан Иоакимо Ормис.
— Что вы имеете сообщить мне?
— Начальник Толедо был убит рядом с лагерем генерала, к которому он приезжал с поручением забрать военную кассу, взятую генералом в Риво. На обратном пути он был застрелен, а все бумаги и деньги, находившиеся при нем, были похищены!
Принципе, очевидно, испугался.
— Кто это сделал? — воскликнул он.
— На другой день после встречи с генералом начальника нашли мертвым на лошади, к которой он был привязан!
— Неслыханное происшествие!
— Выяснилось, что на начальника было совершено нападение, стреляли. Многое заставляло подозревать в совершении этого преступления одного из низших карлистских начальников — Изидора Тристани!
— И что же, подозрения оправдались?
— Так точно, принципе! Изидор Тристани действительно совершил это преступление, он его виновник!
— Вы узнаете сейчас мой приговор, капитан Ормис, — сказал принципе, продолжая идти рядом с человеком в маске по оживленным улицам. — Что вы еще имеете сообщить мне?
— Рубен, брат Балмонко, прибыл к генералу и вступил в ряды карлистов после того, как внес деньги, вырученные им за имения маркиза де лас Исагаса! Сумма эта пока передана начальнику Памплоны.
— О беглецах известно что-нибудь в лагере карлистов?
— Известно, принципе, но ни Балмонко, ни Бартоло Арко не были узнаны! Никто из карлистов не подозревает, что именно их разыскивает правительство!
Оба человека в масках свернули на пустую широкую улицу, где находился дворец графа Кортециллы. Прегонеро, боясь, что они заметят преследование в этом безлюдном месте, несколько отстал, не теряя, впрочем, их из виду.
— Относительно убийства начальника Толедо, — сказал принципе, — я решаю так: Изидор Тристани, виновник его, должен быть также застрелен сзади!
— Тристани уже несколько дней нет в лагере генерала. Генерал сам просил, чтобы его перевели от него.
— Это была очень разумная мера предосторожности, — отвечал принципе. — Где же он теперь?
— Его сделали главным смотрителем в замке Глориозо. В этом замке, по слухам, находится графиня Инес Кортецилла, и он стережет ее!
— Стало быть, он назначен ее тюремщиком?
— Не будет ли какого-нибудь приказания относительно графини Инес, принципе? — спросил Иоакимо Ормис.
— Вы предлагаете это потому, что она дочь графа Кортециллы, но я должен вам сказать, что граф Кортецилла и глава братства Гардунии, хотя и соединены в моем лице, но в делах это два разных человека, не имеющих между собой ничего общего. Принципе не имеет дочери, и семейные дела графа Кортециллы его не касаются — их решает сам граф Кортецилла! В это время они подошли ко дворцу.
— Итак, относительно Изидора Тристани вы слышали мое решение, — сказал принципе, — он должен пасть от руки меткого стрелка, одного из братьев Гардунии!
— И выстрел должен быть сделан сзади!
— Точно так же, как был убит начальник Толедо. Не более как через полмесяца его должно настигнуть возмездие, пусть он и находится в замке Глориозо.
— Я сам исполню ваше приказание, принципе. С разрешения генерала я немедленно отправлюсь из лагеря в пиренейский замок.
— Об исполнении этого приказания сейчас же меня уведомить.
— А насчет бумаг, похищенных им, что прикажет принципе?
— Если будет возможно, отобрать их у него.
— Других приказаний не будет, принципе?
— Никаких, капитан, можете отправляться. Кланяйтесь от меня генералу!
При этих словах они расстались. Капитан Ормис поспешно удалился, а граф Кортецилла вошел в галерею своего дворца и скоро исчез в ней.
— Ого! — проворчал прегонеро. — Что это значит? И тут опять замешан дворец графа Кортециллы? Кажется, я напал на след какой-то тайны!
Он вернулся назад и скоро опять очутился на шумных, людных улицах, где по случаю карнавала царила страшная суета. Но хотя и праздновался в Мадриде традиционный карнавал с балами, маскарадными костюмами, разными шутками и проделками, однако тяжелые времена наложили свой отпечаток на все — карнавал утратил свой беззаботный, веселый характер.
XIV. Разбойничий замок
По приказанию доньи Бланки Амаранта была уведена из лагеря с завязанными глазами. На довольно большом расстоянии от него, на одной из дорог, ведущих к северу, проводник оставил ее и, сняв повязку с ее глаз, поспешно удалился. Долго стояла она в глубоком раздумье, не зная, что делать, куда идти. Беспокойство за Инес переполняло ее.
Инес — пленница принцессы, что теперь будет? Амаранта предчувствовала, что ее ждут страшные несчастья, иначе зачем донья Бланка разлучила Инес с ней и с патером! И где теперь Антонио? Что ей теперь делать, что предпринять?
Все эти вопросы кружились в голове Амаранты, вызывая беспокойство и тревогу, пока она стояла одна на пустынной дороге.
Искать Антонио? Или попытаться вырвать бедную Инес из рук предводительницы карлистов, этой ужасной женщины?
Какой-то внутренний голос, какая-то невидимая сила влекли ее на север, туда, где стоял со своим лагерем дон Карлос! Она не отдавала себе отчета, зачем пойдет туда, что ей там предстоит, она шла, подчиняясь невидимой силе, толкавшей ее, шла, как будто ей не было другой дороги, кроме как идти к изменнику и предателю, который, не задумываясь, бросился на нее с кинжалом; внутренний голос нашептывал ей: предстань перед ним как воплощенный укор совести, чтобы отвратить его от кровавого пути, по которому он идет!
Следуя этому влечению, она шла, утешаясь надеждой, что, может быть, она встретит там великодушного патера Антонио и тогда с ним вместе найдет способ освободить Инес.
Бесстрашно шла она по дороге, рядом с которой повсюду блуждали карлисты, искавшие, где бы что украсть, и не щадившие никого. Неутомимо продолжала она свой путь в последующие дни, продвигаясь все дальше и дальше на север и проводя ночи то в лесной чаще, то в каком-нибудь гостеприимном селении.
Раз вечером, идя по уединенной дороге, они увидела перед собой богатую гостиницу. Подойдя к ней ближе и убедившись, что она занята не карлистами, а несколькими проезжими семействами, вероятно убегавшими от них, она решила остановиться в ней на ночь и отдохнуть. Нужда не только делает людей находчивыми, но также смелыми и самостоятельными; так и Амаранта, нуждаясь в отдыхе и в пристанище на ночь, вошла без всякой робости и застенчивости в роскошную гостиницу и потребовала себе маленькую комнату.
Хотя молодая девушка, путешествующая одна, не внушает большого уважения и доверия содержателям гостиниц, но манеры и наружность Амаранты были полны достоинства и так располагали к ней, что хозяйка, к которой она обратилась, тут же изъявила готовность помочь и отвела молодую путешественницу в маленькую уютную комнатку, расположенную наверху, где была приготовлена мягкая постель.
Амаранта заказала себе ужин и фрукты. Ей было немедленно подано и то и другое; отужинав, она расплатилась сразу и за ужин, и за ночлег, рассчитывая отправиться на другой день рано утром. Оставшись одна, она сразу же начала укладываться спать, хотя внизу еще шумели отъезжавшие и приезжавшие путешественники. Гостиница эта была всегда очень оживлена, так как она стояла у дороги, ведущей к горному перевалу, который путешественники предпочитали прочим дорогам через горы. Амаранта скоро заснула, но не более чем через час была разбужена громким щелканьем бича и криками, раздавшимися вдруг у подъезда.
Она вскочила с постели и стала прислушиваться.
Хозяева гостиницы легли, по-видимому, спать, и двери были заперты. Вновь прибывшие путешественники стучали в двери и громко кричали, чтобы им отворили.
Амаранта успокоилась и снова легла, желая поскорей заснуть. Но вдруг внизу послышался звук знакомого ей голоса, и она вскочила как от удара, голос этот почему-то вызвал в ней ужас, как будто она услышала рычание льва.
— Мы не остановимся здесь, — вскричал этот голос, — мы поедем дальше, подайте только чего-нибудь поесть и попить сеньоре, которая там, в карете.
«Изидор!» — мелькнуло в голове Амаранты. Да, это его голос, она узнала его! Изидор с какой-то сеньорой. Амаранту затрясло от ужасного предположения! Она вскочила с постели и подбежала к окну своей маленькой комнаты. Дрожащими руками она отворила его и выглянула. У подъезда она увидела несколько всадников и закрытую карету. Изидора она узнала сразу, несмотря на темноту ночи.
В дверях, показался, наконец, хозяин; увидев карлистов, он, очевидно, испугался и вздрогнул, затем, раскланиваясь перед ними, спросил, что сеньорам угодно.
— Несколько стаканов вина и какой-нибудь еды для сеньоры, — приказал Изидор.
Один из карлистов, взявший на себя, по-видимому, обязанность прислуживать сеньоре, слез с лошади и подошел к карете, на которую с лихорадочным ожиданием и с сильным волнением смотрела Амаранта.
Хозяин принес вино, за ним вышла из дома его жена и спросила, не угодно ли будет сеньоре пройти в дом, чтобы поесть там.
Изидор дал разрешение сеньоре, своей пленнице, воспользоваться приглашением хозяйки.
Карлист, стоявший у кареты, отворил дверцу.
Амаранта узнала в выходившей из кареты графиню Инес и чуть не выдала себя криком испуга при виде ее!
«Так она во власти этого карлистского черта, этого злодея Изидора! — думала с отчаянием бедная девушка. — Куда он везет ее? Что ей, бедной, предстоит?»
Карлист позволил Инес одной войти в гостиницу, в зале которой хозяйка приготовила ей ужин.
Изидор со своими солдатами остался во дворе, где хозяин принялся усердно угощать их вином.
Амаранта смотрела на них из своего окошечка со всеми предосторожностями, чтобы Изидор не увидел и не узнал ее, так как она чувствовала, что должна сберечь себя для Инес, которая с такой искренней любовью и с таким горячим участием протянула ей когда-то руку помощи. Она сознавала, что теперь ее святой долг позаботиться об Инес, во что бы то ни стало вырвать несчастную из рук этого изверга, о котором она не могла думать без содрогания! «Есть ли злодейство, — раздумывала Амаранта, — на которое он был бы неспособен! Я должна освободить ее из-под его власти, иначе она погибнет, но для этого нужно прежде всего узнать, куда он везет ее!
Как же это узнать? Кому я могу довериться?
Нет, в этом случае я могу положиться только на себя, на свои собственные силы!».
Инес опять показалась на крыльце; Амаранта почувствовала, как по ее щекам заструились горячие слезы при виде несчастной графини, разбитой горем и едва передвигавшей ноги от слабости!
Не раздумывая более ни минуты, Амаранта оделась, наскоро связала свои пожитки в узелок и, накинув вуаль, решила последовать за каретой и не терять ее из вида, чтобы узнать, куда везут Инес
Инес вошла в карету; карлист, прислуживавший ей, захлопнул дверцу и сел на лошадь.
Изидор сказал хозяину, что он может подать счет его величеству королю Карлу, и двинулся вперед вместе со своей свитой, громко смеясь своей шутке; хозяин тоже с веселой улыбкой проводил гостей, радуясь, что дешево от них отделался.
Карета покатилась следом, и Амаранта, не теряя ни минуты, спустилась из своей комнаты вниз и торопливо направилась к выходу, объясняя удивленной хозяйке, что она уже выспалась и должна спешить к месту своего назначения. Почти бегом пустилась она за каретой, сопровождаемой всадниками, пуще всего боясь потерять ее из виду.
Дорога в этом месте была неровная, каменистая и поднималась на довольно крутую гору, поэтому экипаж двигался медленно, и Амаранта действительно не теряла его из вида. Но на рассвете процессия выехала на широкую равнину, и тут всадники и карета скоро скрылись. Впрочем, других дорог тут не было, и она надеялась не потерять след и узнать, куда именно они направляются.
Небо покрылось густыми облаками, стало очень холодно, и Амаранта еще ускорила шаг, чтобы согреться.
Скоро миновала она равнину и приблизилась к горам, вершины которых скрывались в облаках. Здесь дорога разветвлялась, одна сворачивала в горы и шла через лес, другая продолжала идти по равнине. Амаранта выбрала первую и пошла по ней, но к вечеру заметила, что Дорога эта постепенно сужается, несмотря на это, она продолжала идти, пока, наконец, дорога не превратилась в узенькую тропу, очевидно, пригодную только для пешеходов.
Тут Амаранта растерялась, не зная, в какую же сторону направилась карета с Инес и где ей теперь искать ее. Изнуренная усталостью и беспокойством, стояла она на тропинке, осматриваясь кругом и стараясь обнаружить следы исчезнувшей кареты.
Разумеется, это ни к чему не привело, и ей осталось одно — вернуться назад и попробовать пойти по другой дороге.
Когда она, выбравшись из чащи, вышла на дорогу, пролегавшую по равнине, полил дождь и наступила ночь. К счастью, невдалеке показалось селение, и Амаранта поспешила туда.
Подходя к селению, она встретила крестьянку, возвращавшуюся с поля домой; от нее Амаранта узнала, что после обеда она встретила на этой дороге карету, окруженную несколькими всадниками, и видела, как они въехали в лес у подножия гор.
Крестьянка, узнавшая во всадниках карлистов, предположила, что они направились в королевский замок, расположенный посреди леса.
— Великолепно отделанный и роскошно обставленный, как говорят люди, — прибавила она. — Сама я его не видела, — продолжала словоохотливая женщина, — так как он находится в нескольких милях отсюда и в той стороне мне не случалось бывать.
Когда Амаранта, разговорившись с ней, объяснила, что не знает, где ей провести ночь и хотела бы найти где-нибудь пристанище, добрая крестьянка предложила ей приют у себя, если она не погнушается бедным жилищем. При этом она рассказала усталой страннице, что она вдова, что муж ее был охотником и случайно был убит на охоте. Она привела гостью в свой бедный домик и угостила ее всем, что имела, принесла ей козьего молока, сыра, хлеба и фруктов.
Поев, Амаранта спросила добрую женщину, не разрешит ли она остаться у нее на несколько дней; радушная хозяйка ответила, что она ни от кого не зависит и позволения спрашивать ей не у кого, поэтому Амаранта может жить у нее, сколько пожелает.
Амаранта поблагодарила крестьянку и положила ей в руку несколько монет. Но бедная вдова, несмотря на свою нужду, не хотела их брать, пока гостья не сказала ей наконец, что может остаться у нее только при условии, что она примет эти деньги. Тогда крестьянка, расцеловав от радости монеты, лежащие у нее в руке, призналась, что со смерти мужа у нее не было столько денег.
В то же самое время, когда Амаранта нашла себе пристанище в селении, расположенном у подножия гор, оставаясь в котором она рассчитывала разузнать о местопребывании Инес, графиня со своим конвоем прибыла в разбойничий замок Глориозо.
Разбойничьим его называли с давних времен из-за того, что прежде он принадлежал одному знаменитому пиренейскому разбойнику, теперь же, сделавшись достоянием дона Карлоса, наводнившего страну своими разбойничьими шайками, он по праву удерживал свое прежнее название, хотя внешний вид его совершенно преобразился. Прежде это было суровое здание старинной постройки, спрятанное в лесной чаще, теперь же оно превратилось в изящный дворец с рядом прелестных строений, стоявших среди расчищенного леса, и походило не на уединенный притон разбойников, а на великолепный загородный дворец.
Старый замок от первого своего владельца перешел в собственность одного благородного баска, прожившего в нем десятки лет, так как баскское дворянство очень любило селиться в таких полуразвалившихся древних зданиях, расположенных среди дремучих лесов.
Дон Карлос, приобретя эти развалины у старого баска, восстановил их, расширил, окружил террасами и садами, вырубив и расчистив вокруг лес, настроил конюшен и других построек, и таким образом мрачная неприветливая трущоба, разбойничий развалившийся замок превратился в великолепный дворец со множеством роскошных покоев, коридоров, галерей и залов.
Расположен он был чрезвычайно живописно на высоком холме, во всю длину фасада тянулась галерея, из которой был выход на террасу, возвышавшуюся над садом, занимавшим огромное пространство. Вид с этой террасы, поднявшейся над верхушками деревьев сада и тянувшегося за ним леса, был очарователен; взорам открывались окрестные горы и равнины.
Когда карета с графиней Инес и конвой, сопровождавший ее, остановились у бокового подъезда дворца, украшенного колоннами, навстречу им выбежали слуги дона Карлоса, думая, что прибыл его величество король Карл VII, так как им было сообщено, что он рассчитывает на днях приехать в свой замок. Один из этих слуг занимал место кастеляна, и Тристани, сойдя с лошади, передал ему бумагу, подтверждающую, что он назначается главным управляющим замком, при этом сопровождавших его карлистов он называл дворцовой стражей. Затем он объяснил кастеляну, что привез с собой пленную сеньору, которую нужно поместить наверху в покоях с надежными окнами и дверями, чтобы она не могла убежать.
На жену кастеляна была возложена обязанность прислуживать пленной сеньоре, которой Изидор предложил выйти из кареты.
Инес была до того бледна и слаба, что ее вид невольно пробудил в душе ее новой горничной, жены кастеляна, сострадание и участие; Марта сразу увидела, что это знатная сеньора, она помогла ей выйти из кареты и под руку повела в замок. Графиня молча поблагодарила ее болезненной улыбкой и, опершись на поданную ей руку, медленно стала подниматься по широкой лестнице, устланной коврами.
Изидор и кастелян сопровождали их. Когда Инес вошла наконец в предназначенную ей комнату, она почти без чувств упала в кресло.
Изидор приказал кастеляну и его жене дверь « комнаты Инес всегда держать закрытой, а ее не выпускать никуда. Марта немедленно приступила к своим обязанностям и прежде всего принесла пленнице еды и вина.
Тристани ушел в самый нижний этаж и занял там лучшие покои, предоставив остальные в распоряжение своих солдат; лошадей велел поставить в конюшни, экипаж — в сарай, короче — вступил в должность главного смотрителя и управляющего дворцом, стараясь держать себя с достоинством и принимая гордый, надменный вид.
Покои, занятые Изидором и его солдатами, находились по обе стороны дворца в подземном этаже под мощными каменными сводами, составляющими фундамент здания. Этаж этот находился гораздо ниже террасы, окна его выходили в сад и расположены были почти у самой земли. Над этими подземными покоями были комнаты и приемные залы дона Карлоса.
Новый управляющий, внимательно осмотрев все здание и приказав на кровле водрузить флаг с гербом своего господина, позаботился провести звонки в нижний этаж, чтобы в любое время можно было вызвать стражу и его самого, начальника этой стражи и дворца. Он поставил двух часовых у подъезда и одного на террасе; таким образом в замке была введена военная дисциплина.
Кастеляну и прислуге все эти нововведения не понравились, но они не показывали своего неудовольствия. Едва все распоряжения нового управляющего были выполнены, явился адъютант дона Карлоса с известием, что последний скоро прибудет. Действительно, в тот же день после обеда он прибыл в сопровождении своего министра и адъютантов.
Стража отдала ему честь, прислуга в парадных костюмах стояла, вытянувшись, у подъезда, конюхи тоже .явились приветствовать своего повелителя, и дон Карлос, заметив везде порядок и нововведения нового управляющего, выразил своим спутникам и ему самому свое удовольствие.
Затем вся свита и он сам разместились в предназначенных им комнатах, рассчитывая провести в замке несколько дней. Дон Карлос хотел не только отдохнуть в своем роскошном дворце от бивуачной жизни, но также имел намерение принять нескольких аристократов и уполномоченных заграничных банкирских домов, от которых он надеялся получить новые большие займы.
На другой же день ожидаемые посетители явились в замок Глориозо и оставались в нем до вечера.
Дон Карлос был, по-видимому, очень доволен результатом своих переговоров с ними, так как после их отъезда остался в наилучшем расположении духа. Об Инес, заключенной в его дворце, он, видимо, совсем забыл. Да ничто и не могло напомнить ему о ее присутствии, так как комната ее находилась наверху во флигеле, хотя и прилегающем ко дворцу, но удаленном от покоев, занимаемых доном Карлосом. Он туда никогда не заходил.
После отъезда гостей дон Карлос расположился в галерее, из которой был выход на террасу, где с ним до поздней ночи оставались его советники и министры. Они обсуждали предстоящие военные операции и новые займы.
Прислуга давно зажгла свечи в настенных канделябрах, а беседа принца со своими советниками еще продолжалась.
Только в одиннадцать часов они начали наконец расходиться. Принц, желая остаться один, чтобы обдумать происшествия дня и мнения своих советников, отпустил даже прислугу, которая немедленно отправилась в свои комнаты.
Оставшись один, дон Карлос начал ходить взад и вперед по устланному мягким ковром покою.
Приближалась полночь, кругом царила глубокая тишина, как внутри дворца, так и снаружи.
Мысли дона Карлоса обратились почему-то к прошлому. Сами по себе вставали перед ним напоминания о его преступных делах — то Амаранта, то ребенок, от которого он так бессовестно, так бесчеловечно отрекся, то усеянные телами убитых поля сражений, то пылающие села и расстрелянные пленные! Почему все эти страшные картины, все его жертвы так живо представились в этот ночной час его воображению? Что вызвало их в этой величественной ночной тишине, царившей во дворце, в садах, на террасе? Возбудить все эти воспоминания мог только голос совести, вдруг проснувшийся и заглушивший Необузданное стремление к блеску, роскоши и могуществу в тщеславной душе этого человека.
Он подошел к высоким стеклянным дверям, выходившим на обширную террасу, края которой терялись в темноте ночи, покрывшей своим мрачным покровом сад и лес; легкий туман, опускавшийся на землю, окутывал черные деревья и всю окрестность серой мглой. Небо было покрыто облаками, сквозь которые лунный свет, пробиваясь временами, слабо освещал окрестности замка.
На террасе господствовал тот неопределенный сероватый полусвет, который наполняет воздух в туманные ночи.
Дон Карлос вышел на террасу. Все было пусто и тихо вокруг, взор его едва различал широкую лестницу, находившуюся в конце террасы и спускавшуюся в сад. По этой лестнице, то поднимаясь, то спускаясь, скользила тень часового.
Дон Карлос, углубившись в свои думы бессознательно смотрел в серую мглу; прохладный ночной воздух успокоительно подействовал на него; скрестив на груди руки, он стоял неподвижно, лицо было мрачно, глаза блестели холодным жестким блеском из-под темных ресниц.
Подул холодный ветер, часы на дворцовой башне пробили полночь.
Вдруг на террасе из тумана, заколебавшегося от ветра, появилась какая-то тень и плавно направилась к тому месту, где стоял дон Карлос; она не шла, казалось, но скользила, как призрак, как привидение, не касаясь каменных плит пола; она совсем не походила на живое существо, облеченное плотью!
Черная длинная одежда скрывала это привидение, медленно проходившее по террасе.
Оно приблизилось наконец к дону Карлосу и, не останавливаясь, плавно прошло мимо него. Он в страхе смотрел на него. В этот самый момент ветер приподнял темную вуаль, скрывавшую лицо привидения, и дон Карлос с ужасом узнал Амаранту!
Опять она явилась своему вероломному соблазнителю, но уже в виде воплощенного укора его совести!
Неслышно продолжала она двигаться вдоль террасы.
С отчаянием и ужасом смотрел дон Карлос на призрак своей возлюбленной, которую он пронзил кинжалом в памятную для него ночь под Ираной.
Он отступил, потом шагнул вперед, по-видимому решившись преследовать удалявшийся призрак, но привидение простерло руку в его направлении, как бы посылая ему проклятие или желая удержать его на месте.
Часовой также видел привидение, проходившее через террасу и приближавшееся к лестнице, но, объятый суеверным страхом, он попятился назад и застыл без движения, а тень, скользя по ступеням, спустилась в сад.
Тут только Дон Карлос пришел в себя и, видя, что призрак исчезнет сейчас в тумане, закричал:
— Эй, караул! Стреляй в эту черную тень! Часовой, услышав голос дона Карлоса, опомнился,
раздался выстрел, нарушив величественную тишину и спокойствие ночи.
Вслед за этим выстрелом дон Карлос поспешно удалился в комнаты и вызвал звонком Изидора.
— Велите сейчас же оцепить и обыскать сад и дворец, — приказал ему дон Карлос с лихорадочной поспешностью.
Управляющий быстро удалился, чтобы немедленно исполнить данное ему приказание.
XV. Старые знакомые
Прошло несколько месяцев, с тех пор как прегонеро так неожиданно посетил герцогиню в ее салоне. Хотяона обещала ему тогда дать небольшую сумму, чтобы заставить его молчать, однако ж, по зрелому размышлению, решила отказаться от своего обещания и не давать ему ни гроша. Она рассуждала так: если она хоть раз даст ему деньги, то он будет все время приходить с подобными требованиями, а значит, единственный способ уберечь себя от таких расходов — это с первого же раза отказать ему и таким образом прекратить раз и навсегда всякие притязания с его стороны.
Прегонеро после долгого ожидания обещанных ему денег попробовал снова проникнуть в салон герцогини, но его не пустили; повторив эти попытки еще несколько раз столь же безуспешно, он потерял, наконец, терпение и твердо решил исполнить угрозу.
Прегонеро знал, что герцог еще находится в Мадриде с Клементо и со всей своей прислугой, что он живет в том же самом отеле и что старик уже успел так привязаться к Клементо, к этому потерянному и снова найденному своему наследнику, будто он действительно его родной сын.
Все эти обстоятельства прегонеро считал для себя весьма благоприятными. «Что ж, — раздумывал он, — герцогиня сама вынуждает меня так поступать, ну и пусть ее обман обнаружится! Дай она мне деньги и не приказывай своей прислуге прогонять меня, я бы этого не сделал».
В один жаркий весенний день, в послеобеденное время, на улице Сиерво показалась огромная широкоплечая фигура, шагавшая мимо окон герцогини и с любопытством заглядывавшая в них.
Этот геркулес с безобразным лицом, покрытым шрамами, был не кто иной, как уже хорошо известный прегонеро. Одет он был в праздничное платье, но оно так неуклюже на нем сидело, и сам он, видимо, так неловко себя в нем чувствовал, что было ясно: он надевает его только в торжественные дни. Сюртук был ему узок, рукава не закрывали его длинных рук — все это говорило, что он куплен на Растро, равно как и панталоны старомодного покроя и цвета были, очевидно, приобретены там же; пестрый галстук, крепко завязанный вокруг шеи, довершал безвкусный костюм безобразного великана, которого никак нельзя было принять за человека, вращавшегося когда-то в приличном обществе и носившего приличное платье.
Прегонеро, однако, казалось, не замечал безобразия своего костюма, вид у него был самодовольный, он с надменной, напыщенной осанкой шел по улице. В окна же герцогини он заглядывал в надежде, что она, увидев его в этом парадном костюме, догадается, что он идет к герцогу. К несчастью, надежда обманула его и на этот раз, Сара Кондоро не подходила к окну и, стало быть, не видела его.
Поправляя на голове черную высокую шляпу, которая, будучи мала, очевидно, сжимала ему голову, он пошел дальше, не подозревая, как смешон был в своем наряде. Но он заплатил за него большие деньги, и продавцы уверяли его, конечно, что в этом костюме он будет выглядеть как человек из высшего общества. По крайней мере, можно предположить, что он был в этом глубоко убежден, так как шел с поднятой головой, глядя на попадавшихся ему прохожих с сознанием своего превосходства над ними. Многие из встречных, в самом деле, с удивлением глядели на его колоссальную фигуру, казавшуюся еще выше в высокой шляпе, и это еще больше убеждало его в собственной неотразимости. Скоро он подошел к цели своего путешествия — изящной гостинице, в которой остановился герцог Кондоро со своим мнимым сыном.
Все прохожие останавливались от удивления, видя, что этот странный, безобразный человек с лицом, покрытым шрамами, входит в роскошную гостиницу, посещаемую лишь людьми высшего круга, у которых не могло быть ничего общего с такой личностью, столь смешно одетой, с грубыми, резкими движениями и, как было видно по всему, принадлежавшей к самым низшим слоям общества.
Швейцар гостиницы тоже был поражен появлением такого необыкновенного гостя; осматривая великана с головы до пят, он недоумевал, зачем тот мог пожаловать в богатую, роскошную гостиницу; дикая, безобразная наружность прегонеро, внушающая недоверие и самые ужасные предположения о его нравственности, смущала привратника гораздо больше, чем его костюм, так как и у благородных и знатных донов он наблюдал иногда странные капризы относительно одежды.
Прегонеро не смутил ни сам швейцар, ни его изумленный вид, так как это изумление он отнес, разумеется, на счет своего изящного, как он думал, туалета, а потому он очень развязно спросил швейцара, продолжавшего удивленно смотреть на него.
— Где проживает герцог Кондоро? Изумление швейцара усилилось.
— Выспрашиваете сеньора герцога? — переспросил он с недоумением. — Вы хотите его видеть?
— Да, я должен видеть сеньора герцога и говорить с ним! Комнаты, в которых он живет с молодым герцогом, кажется, наверху?
— На первом этаже, — отвечал швейцар, указывая на лестницу с позолоченными перилами и разными украшениями, устланную богатыми коврами и уставленную цветами.
Прегонеро начал подниматься по ее ступеням, швейцар проводил его взглядом, недоуменно покачивая головой. Потом счел необходимым послать вслед за подозрительным гостем слугу, поручив доложить о его приходе дворецкому герцога.
Прегонеро, увидев следовавшего за ним человека, отнес это к услужливой предупредительности и, подходя к передней герцога, вложил ему в руку несколько монет с видом знатного дона.
Хотя Оттон Ромеро, вращаясь давно в низших слоях общества, забыл нравы, обычаи и роскошь салонов, некогда ему хорошо известных, как воспитателю юношества, как прилежному молодому человеку с прекрасными стремлениями, но блеск и изящество комнат, занимаемых герцогом, не произвели на него никакого впечатления, атмосфера, в которую он попал, казалась ему хорошо знакомой, родной, как будто он никогда и не покидал ее.
Слуга, сопровождавший его, пошел доложить о нем, а сам прегонеро в ожидании опустился на стул, обитый дорогим бархатом, положив свою шляпу на стоявший рядом столик.
Слуга скоро вернулся и вслед за ним показался старый Рикардо с выражением любопытства на лице. Слуга удалился, оставив странного гостя вдвоем с Рикардо.
Рикардо не сразу узнал прегонеро и какое-то время смотрел на него вопросительно, вглядываясь, но когда тот поднялся со своего места и подошел к нему, на лице старого Рикардо появилось крайнее изумление.
— А, сеньор Ромеро! — сказал он с вынужденной улыбкой.
— Да, я Оттон Ромеро, вы не ошиблись, сеньор Рикардо, — ответил прегонеро. — Я слышал, что его сиятельство дома, — прибавил он.
Изумление Рикардо достигло высшей степени.
— Вы спрашиваете о его сиятельстве герцоге?
— Будьте так добры, сеньор Рикардо, доложите ему обо мне!
— Доложить о вас? Могу я узнать, что вам угодно?
— Нет, сеньор Рикардо! То, что привело меня к герцогу, я могу сказать только ему и никому больше! Будьте так добры доложить его сиятельству, что его желает видеть Оттон Ромеро, бывший воспитатель молодого герцога!
Старый Рикардо стоял в раздумье, выискивая приличный предлог, чтобы отказать непрошеному гостю, но эта нерешительность и молчание Рикардо вывели прегонеро из терпения, и он громко, раздраженным голосом повторил:
— Поторопитесь, сеньор Рикардо, исполнить мою просьбу; я пришел по очень важному делу.
— Я не сомневаюсь в этом, сеньор Ромеро, но все ли вы обдумали? Вспомните хорошенько прошлое, вспомните то, что произошло между вами и герцогом!
— Все это давно забыто. С тех пор прошло столько времени, что странно даже вспоминать об этом, — ответил прегонеро.
— Вами забыто, да, сеньор Ромеро, но».
— Ага! Вы хотите сказать, вероятно, что герцог слишком горд, чтобы принять старого знакомого, — заметил прегонеро громко и нахально, — а я так не думаю, потому что дело, по которому я пришел, касается столько же его сиятельства, сколько и меня! И так как оно очень важно для нас обоих и вместе с тем не терпит отлагательства, то я еще раз прошу немедленно доложить обо мне герцогу и попросить его принять своего старого знакомого!
От слов «старого знакомого» Рикардо впору было рассмеяться.
— Его сиятельство очень болен, и к тому же в настоящую минуту он отдыхает.
— Отдыхает? В таком случае я подожду!
— Если бы я знал, в чем дело…
— Повторяю вам, — прервал его прегонеро, — что пока я не могу сказать вам этого, сеньор Рикардо, это было бы нескромно по отношению к герцогу!
В этот самый момент дверь из соседней комнаты отворилась, и на пороге показался старый герцог Кондоро. Привлеченный громким голосом прегонеро, он вышел посмотреть, что происходит в передней. Несмотря на жаркое время, он был довольно тепло одет. Голова его была почти лысая, с редкими седыми волосами; спереди шею старца прикрывала длинная белая борода. Лицо герцога и вся его фигура носили отпечаток болезненности и большой слабости, по всему было заметно, что он близок к смерти, что одной ногой он уже стоит в могиле. Лицо было сплошь в морщинах, руки худые, костлявые. Болезненная, страдальческая внешность этого старца могла вызвать участие и сострадание к нему в каждом человеке, но на бесчувственного прегонеро она нимало не подействовала, ему были незнакомы слабости и болезни, и потому они не производили на него впечатления. Зато заботливый и дальновидный Рикардо с испугом и состраданием смотрел на слабого, больного старца, не в силах избавить его от неприятного гостя, зная, что всякое волнение может если не тут же убить его, то усилить его страдания и приблизить смертный час. У Рикардо было сильное желание вытолкать в шею незваного посетителя! Но было уже поздно: прегонеро, увидев герцога на пороге, сразу узнал его и, не смущаясь его болезненным видом, начал перед ним раскланиваться, а герцог, не узнавая, вопрошающе посмотрел на Рикардо.
Прегонеро опередил Рикардо, поспешно подойдя к двери, на пороге которой стоял старец.
— Оттон Ромеро, — сказал он, тыкая себя пальцем в грудь, — вероятно, ваше сиятельство припомнит мое имя! Я ведь старый знакомый!
Герцог смотрел на гостя с удивлением, и, очевидно, слова «старый знакомый» не вязались в его уме с фигурой, стоявшей перед ним и производившей самое неприятное впечатление.
— Ничего не понимаю, не знаю, кто вы! — сказал он, отрицательно качая головой, и хотел уже удалиться в свою комнату, предположив, что это какой-нибудь нищий, пришедший просить подаяния.
— Я — Оттон Ромеро, ваше сиятельство, я пришел сообщить вам весьма важные вещи относительно молодого герцога, — воскликнул прегонеро.
Рикардо вздрогнул и побледнел при этих словах, но тут же успокоился, предположив, что бывший воспитатель молодого герцога, вероятно, пришел просить денег за помощь в поисках своего бывшего питомца.
Герцог, по-видимому, колебался, выслушать ли ему Оттона Ромеро, но последний вошел уже вслед за ним в комнату и захлопнул за собой дверь перед самым носом Рикардо.
— Ваше сиятельство, — сказал он, — нам приличнее будет переговорить с глазу на глаз, чем при постороннем лице!
Герцогу, очевидно, не хотелось оставаться вдвоем с неприятным незнакомцем. Не зная, на что решиться в таком затруднительном положении, он невольно, обратил взор на дорогое оружие, разложенное на столе, которое он имел привычку всегда возить с собой.
— Яне знаю вас, сеньор, — ответил он, — и не понимаю, что вы можете сообщить мне о моем сыне!
— Я должен передать вам весьма важное сообщение, ваше сиятельство! Но прежде всего скажем несколько слов о моей особе, чтобы наше давнее знакомство было несомненным для вас! Я — Оттон Ромеро, прежний воспитатель молодого герцога!
Лицо старика оживилось, он с ненавистью и отвращением взглянул на стоявшего перед ним прегонеро. Ему живо вспомнились все его давно прошедшие несчастия, стыд и позор, покрывшие его имя, виной которых был отчасти этот человек, внешность которого была настолько отвратительна и безобразна, что наводила ужас на людей.
На старом благородном лице герцога выразилось самое глубокое презрение.
— Насчет нашего знакомства, — сказал он, — я могу только заметить, что у вас, видимо, медный лоб, раз вы решились переступить порог дома герцога Кондоро!
Голос старика задрожал при последних словах, и он повернулся спиной к своему собеседнику, подходя между тем к столу, на котором лежало оружие.
— После всего случившегося тогда прошло столько времени, ваше сиятельство, что пора все это предать забвению. Я полагаю, что нам лучше не касаться этого прошлого, чтобы меньше ненавидеть друг друга!
— Ненавидеть? — поспешно произнес герцог. — Вы неверно выражаетесь! С моей стороны может быть только презрение!
— Но пора отрешиться и от этого чувства, ваше сиятельство, время все исправляет! Да и виновником тому был не один я.
— Замолчите! Не напоминайте мне того ужасного времени! Оставьте меня, я желаю остаться один!
— Я недолго буду стеснять вас своим присутствием, но я считаю своим долгом открыть истину вашему сиятельству и должен сделать это, так как не хочу больше принимать участие в обмане! Я раскаиваюсь, что послушал герцогиню и помог ей обмануть вас, но дальше молчать я не могу и не буду. Душа больше не выносит!
Герцог повернулся боком к безобразному, корявому своему собеседнику.
— Чего не выносит больше ваша душа? — спросил он. — О каком обмане вы говорите?
— Мне жаль, что я должен сказать вам правду, но не могу больше молчать! Я получил деньги за весь этот обман, за мое молчание, но мне не дает покоя моя совесть, я измучился, я должен все рассказать, деньги не могут вернуть мне спокойствия! Потому я и пришел к вашему сиятельству! Нужно разъяснить вопрос о молодом герцоге!
— Какое вам дело до молодого герцога?
— Вас обманули, ваше сиятельство! Тот, кого вы называете вашим сыном, не сын вам!
Герцог с бешенством взглянул на бесчувственное холодное лицо человека, стоявшего перед ним и так немилосердно растравлявшего его старые сердечные раны! Едва он успел привязаться к несчастному Клементо, едва успел свыкнуться с мыслью видеть в нем своего потерянного и вновь возвращенного ему сына и наследника, как вдруг этот ненавистный, проклятый человек, это воплощенное напоминание о герцогине, является перед ним, перед обманутым мужем и отцом, чтобы снова ввергнуть его в прежнее горе, чтобы лишить его последней радости, лишить последнего луча, осветившего и согревшего его измученную душу, его жизнь, сокрушенную стыдом и позором!
Все эти мысли молнией пролетели в голове старца и потрясли все его существо.
— Как? Что это значит? Что вы хотите сказать? — произнес он слабым прерывающимся голосом, дрожа всем телом.
— Клементо, робкий, тупоумный Клементо — не пропавший молодой герцог, ваше сиятельство, он мой сын, мой и герцогини; и так как свою плоть и кровь за презренные деньги…
Прегонеро не договорил. Речь его, из которой выходило, что Клементо — это живое, воплощенное следствие преступной связи герцогини и Ромеро, возбудила такой гнев, такую ненависть в сердце старика, что он, не помня себя от ярости, схватил дрожащими руками лежавший на столе кинжал и, размахивая им, бросился на прегонеро со словами:
— Умри же ты, окаянный, проклятый человек!' Геркулес Ромеро спокойно ухватил старца одной рукой, а другой отнял у него кинжал. В этот самый момент Рикардо ворвался в комнату, подхватил герцога под руки и усадил в кресло.
Бедный старик согнулся, будто надломленная трость, и закрыл лицо своими костлявыми руками; за горячечным возбуждением наступила резкая слабость, физическое и душевное страдание! Слезы ручьем полились из его глаз, а прегонеро в это время выделывал фокусы с кинжалом, как настоящий жонглер, то подбрасывая и ловко подхватывая его двумя пальцами, то устанавливая его на палец острием вниз и удерживая так.
— Он не мой сын! — воскликнул герцог с глубоким отчаянием, разбитым, слабым голосом. — Это обман, гнусный, позорный обман!
Слова эти поразили Рикардо как громом.
— О, пресвятая Мадонна! — прошептал он. — Стало быть, герцогиня вместе с этим человеком обманули меня?
— Виновник не я. Мысль выдать Клементо за сына герцога полностью принадлежит герцогине, — сказал прегонеро. — Выдумала она это, как она мне сказала, для того чтобы получить деньги, назначенные за отыскание дукечито, который будто бы умер! Тупоумный Клементо годился как нельзя более для этого обмана, и я согласился, поддавшись корыстолюбию! Но с тех пор совесть не дает мне покоя, день и ночь меня мучает то, что я продал сына своего за презренный металл, что я согласился на весь этот обман, и я хотел раскрыть его, мне необходимо было высказать, наконец, что Клементо — не сын, не законный наследник герцога Кондоро!
— Так он — не дукечито? — повторил Рикардо.
— Нет, он сын герцогини и Отгона Ромеро, — продолжал прегонеро и снова обратился к несчастному старцу, начинавшему приходить в себя. — Я повторяю, ваше сиятельство, что не могу отречься от него за проклятые деньги, мне это противно.
Герцог приподнялся со своего кресла, опираясь на подлокотники, с трудом держась на ногах.
— Так это обман, — сказал он глухим голосом. — Бедный Клементо, стало быть, тот самый незаконнорожденный сын герцогини, которого она родила после развода! Мне жаль его, жаль, что он, невинный, должен страдать за проступки других и опять попасть в руки этого человека.
— Ваше сиятельство! Я люблю своего сына! Если вы захотите для него что-нибудь сделать, я буду счастлив и доволен! За известное вознаграждение я даже готов отказаться от него и оставить его вам, согласен даже, чтобы вы усыновили его, но усыновили, как моего сына, а не как законного вашего сына и наследника, которого нет в живых, который умер!
— Избавьте меня от ваших низких, бесчестных предложений, из которых я вижу, что не совесть, не уважение к истине привели вас сюда, а просто желание вытянуть еще денег! О, бедный, несчастный Клементо! Иметь такого отца и такую мать!
— Привело меня сюда желание открыть вам истину, но я вижу, что вы любите Клементо, и хочу вам его оставить с тем условием, что вы его усыновите! Берите его, оставляйте его у себя, но наградите и меня! Герцогиня ведь получила же от вас хорошую сумму!
В душе герцога опять забушевало презрение, негодование и гнев по отношению к этому подлому, отвратительному человеку, высказывавшему так нахально свои предложения, будто он не подозревал даже об их гнусности!
Но на этот раз старик воздержался от вспышки и скрыл свои чувства, надеясь выведать что-нибудь у бывшего воспитателя своего сына о постигшей его судьбе.
— Вы говорите, что мой настоящий сын умер? — спросил он.
— Да, ваше сиятельство, по крайней мере герцогиня уверена в этом. Он умер в Логроньо.
— В Логроньо? Она уверена в этом?
— Она рассказала мне это недавно под влиянием винных паров, развязавших ей язык.
— Не говорила ли она, кому именно она отдала тогда маленького герцога, куда она его отвезла? — опросил герцог.
Прегонеро задумался, он, видимо, прикидывал, что ему будет выгоднее, — сказать правду или умолчать.
— О Клементо я позабочусь, — прибавил герцог, поняв колебания прегонеро. — Вы также получите от герцогини десять тысяч дуро, выданные ей мною, за это я вам отвечаю, откройте только мне все, что знаете о моем пропавшем сыне!
— Герцогиня никогда не согласится отдать мне эти десять тысяч дуро, ваше сиятельство!
— В таком случае, я засажу ее в тюрьму как воровку, как наглую обманщицу! — воскликнул герцог решительным тоном. — Она должна будет выбрать одно из двух: или отдать вам деньги, или отправиться в тюрьму!
— Пожалуй, она и тюрьму предпочтет!
— Я даю вам слово, что вы получите эту сумму, кроме того я позабочусь и о Клементо!
— Может быть, и усыновите его, ваше сиятельство?
— Об этом я подумаю! Надеюсь, довольно того, что я обещаю вам позаботиться об его участи! Говорите, что вы знаете о моем сыне? Что вы помните о нем?
— Сам я ничего не помню, ваше сиятельство!
— В таком случае, скажите, по крайней мере, что вам говорила герцогиня, что вам удалось узнать от нее?
— Я слышал тогда от нее что, уехав с маленьким герцогом и кормилицей в Лонгроньо, она нашла там одно семейство, которое согласилось взять его навсегда за единовременно выданную сумму!
Известие это произвело сильное впечатление на герцога.
— Ну, теперь мне все ясно, — сказал он каменным голосом, — да, теперь я верю, что он умер. Естественно, что семейство, взявшее на свое попечение чужого ребенка за выданную ему единовременную сумму, постаралось его уморить и избавиться от лишнего рта! Теперь я знаю все! Мое бедное дитя было обречено на смерть своей матерью, когда она отдала его какому-то негодному голодающему семейству, потому что порядочное семейство не стало бы за деньги брать на себя обязательство заботиться о чужом ребенке! Он не миновал смерти, это ясно!
— Что это было голодающее семейство, это несомненно, ваше сиятельство, — подтвердил прегонеро, — так как на днях герцогиня рассказывала мне, что это было семейство танцоров из Логроньо по имени Арторо!
— Семейство танцоров? Вероятно, каких-нибудь странствующих фокусников… Ну, довольно. Я все знаю, — воскликнул герцог, махнув рукой, — идите вон!
Рикардо жестом объяснил прегонеро, что он может идти, и так как последний цели своей добился, высказал все, что хотел, то он покорно повиновался и, поклонившись старику, немедленно удалился.
Герцог, оставшись наедине со своим старым слугой, упал в его объятия, заливаясь слезами и задыхаясь от сердечной боли.
XVI. Военный бунт
Мануэль после ухода карлистов вернулся в больницу из пещеры спасения, куда спрятал его добрый монах, чтобы скрыть от взоров беспощадных врагов, но прошло всего несколько часов, а около монастыря снова раздались выстрелы, и в монастырских стенах опять все пришло в волнение.
Мануэль вздохнул свободнее, услышав выстрелы, глаза его заблестели, к нему вернулись энергия и решительность, как будто донесшийся грохот сражения возродил его к новой жизни! Он вдруг почувствовал себя сильным, и последние следы перенесенной болезни исчезли; поспешно выбежал он из госпиталя в монастырский двор, где собрались монахи, дрожа от страха и ожидания.
Напрасно старался брат-медик увести в больницу только начинавшего выздоравливать Мануэля, он не слушал врача, глаза его горели, все внимание его было поглощено приближающимся громом сражения. Он долго прислушивался к нему и наконец с воодушевлением начал уверять монахов, что на помощь спешат их друзья, потом, снова прислушавшись к выстрелам, сказал, что правительственные войска побеждают, что карлисты обращены в бегство.
Монахи не хотели верить его словам, пока один из братьев, выходивший из монастыря узнать, что делается на поле сражения, не вернулся и не подтвердил, что правительственные войска действительно прогнали кар-листов. Тогда Мануэль пришел в восторг, душа его наполнилась несказанной радостью, это настроение разделяли и монахи, не все монастыри и не все духовенство были на стороне дона Карлоса.
Сражение еще, по-видимому, продолжалось и только к утру начало утихать. Мануэль снял с себя монастырское платье и облачился в мундир, намереваясь отправиться на поле боя, несмотря на все увещевания монахов, ни под каким видом не хотевших его отпускать.
Непреодолимая сила тянула его на поле сражения, грохот которого удалялся все больше и больше.
Но вдруг у монастырских ворот показался всадник.
— Отворите, — закричал он громким голосом, — я приехал к моему другу дону Павиа.
— Жиль! Это бригадир Жиль-и-Германос! — радостно воскликнул Мануэль и бросился к монастырским воротам. — Ты приехал, мой старый дорогой друг!
— Я приехал освободить тебя, — сказал Жиль, сжимая в объятиях Мануэля. — Как ты плохо выглядишь! Я встретил Антонио, он сказал мне, что ты здесь и что ты очень был болен, но если бы я не слышал этого, то по твоему лицу догадаться нетрудно!
— Теперь я здоров уже, — воскликнул Мануэль, — стало быть, беспокоиться не о чем.
Жиль рассказал, что он разбил один отряд карлистов, который преследуют теперь его солдаты. Офицеры, приехавшие вслед за ним, приветствовали генерала Павиа де Албукерке, который между тем высказал желание отправиться с ними. Ему подвели лошадь, и он, простившись с монахами и поблагодарив их за все, сел в седло, превозмогая слабость, и всадники умчались в погоню за беглецами.
Дорогой Жиль рассказывал своему другу о медлительности правительства в том, что касается военных распоряжений, жаловался на недостаток генералов и войск, объясняя это тем, что многие, очевидно, не поддерживают республиканца Кастелара и не имеют желания служить отечеству, пока он находится у власти; говоря о неспособности правительства, сказал наконец откровенно, что, по его мнению, его надо заменить другим, более способным и надежным.
Дон Павиа сознавал справедливость замечаний Жиля, так как и сам давно видел неспособность Кастелара и его советников управлять страной в такое смутное, тяжелое для нее время и понимал, что не такие люди нужны для водворения мира и спокойствия в Испании, что только сильная рука может положить конец разбою и смутам, которые заварил дон Карлос. Мануэль тоже считал, что изменить положение дел может только военная сила под руководством твердого, опытного полководца.
— Слушай, — продолжал Жиль, — ты дружен с маршалом Серрано, поезжай немедленно в Мадрид, обрисуй ему реальную обстановку! Только он один может изменить ситуацию, только с его помощью и при его содействии можно увеличить военные силы настолько, чтобы они были в состоянии разбить войска карлистов и прекратить таким образом разбой и поджоги! При полумерах нынешнего правительства дон Карлос становится сильнее и сильнее с каждым днем, города один за другим переходят в его руки! Соглашайся, Мануэль, надо безотлагательно ехать в Мадрид!
— Мне бы хотелось остаться здесь и продолжать сражаться, но я вижу, что ты прав, положение дел нужно изменить!
— Серрано должен принять на себя обязанности главнокомандующего! Если Кастелар не согласится увеличить армию и выслать сюда войска, пускай Мадрид и сама армия заявят ему открыто, что иначе не может быть, что тогда они сами позаботятся об Испании!
— Ты мечтаешь о бунте?
— Да, Мануэль, нужно решиться и на такую крайнюю меру в случае необходимости — дело идет о спасении Испании! Во что бы то ни стало нужно вывести страну из бедственного положения, в котором она находится! Повторяю тебе, что для прекращения этой несчастной междоусобной войны, сопровождаемой грабежами, убийствами и поджогами, нужны крутые меры, нужно более сильное войско, чем наше! Не медли, друг мой, не откладывай, поезжай скорее в Мадрид к маршалу Серрано. Убеди его — это твоя святая обязанность!
Мануэль заявил наконец, что готов отправиться в Мадрид, так как сам видит необходимость изменений, видит, что карлистов уничтожить невозможно потому только, что правительство, власть действуют вяло, не поддерживают армию, обрекая ее на поражение. Он предвидел, что в скором времени борьба будет проиграна, что войска карлистов, все время пополняемые новыми отрядами, задавят наконец за счет численного перевеса, позорно уничтожат правительственные войска, не получающие никакого подкрепления.
Понимая безотлагательную необходимость увеличения и укрепления армии, дон Павиа немедленно отправился в Мадрид с твердым намерением мирным или насильственным образом добиться военной реформы, вынудить правительство Кастелара действовать иначе, чем оно действовало до сих пор, или свергнуть его. Генерал дал себе слово не возвращаться на поле сражения, не добившись того или другого.
Мануэль, слабый, нежный в любви и сердечных делах, отличался во всех других отношениях твердостью, энергией и решительностью. Он был в полном смысле солдатом и патриотом! Видя свое отечество в опасности, он весь отдался мысли спасти его во чтобы то ни стало, ни перед чем не отступая!
Он знал, как популярен Серрано, знал, как сильно его влияние в армии, и был твердо убежден, что изменить положение дел и спасти Испанию может только военная сила с маршалом во главе.
С этими мыслями Мануэль прибыл в Мадрид и сразу же отправился к министрам и советникам, но с первой же встречи убедился, что они не хотят набирать новые полки, не считают нужным увеличивать армию, не понимая или не желая видеть всей опасности, угрожавшей Испании.
Все его настойчивые представления и требования остались без ответа, правительство не обратило на них никакого внимания. Обязанность свою он исполнил, представив им настоящее положение дел. Теперь он отправился к Серрано, надеясь, что маршал согласится с его доводами и поймет необходимость вынудить Кастелара, его парламент, министров и советников или согласиться на требования армии вывести ее из критического положения, или передать бразды правления в другие руки! «Неужели же, — думал он, — Испания должна пасть жертвой неспособности, вялости и бестолковости ее правителей! Нет, она должна быть спасена во что бы то ни стало! Серрано поймет ее положение и согласится действовать!»
Мануэль, явившись во дворец маршала, был принят Энрикой, которая, сообщив, что мужа нет дома, предложила остаться и подождать его возвращения. Дон Мануэль с удовольствием побеседовал с этой женщиной, которую глубоко уважал, зная, как мужественно она боролась с невзгодами и несчастьями, которых ей так много пришлось перенести в жизни!
Маршал, явился раньше, чем ожидала Энрика, и, поздоровавшись с ней и с гостем, увел последнего в свой кабинет, чтобы разузнать у него о ходе войны, сильно интересовавшей его.
Хотя маршал, раз удалившись с поприща государственной деятельности, не хотел опять вступать на него, но оставаться в бездействии в эти смутные для Испании времена ему было нелегко. С напряженным вниманием и горячим участием следил он за ходом войны и убеждался все больше и больше, что могущество дона Карлоса возрастает с каждым днем, что победить его становится все труднее, что перевес остается, видимо, на его стороне.
Не раз уже являлись к нему разные военачальники с просьбой стать опять во главе армии и вывести ее из того несчастного положения, в котором она находилась и из-за которого страдала вся Испания, но Серрано уклонялся от всех этих предложений и просьб, говоря, что выжидает, чтобы весь народ призвал его.
Мануэль Павиа, представив ему положение дел в войсках, изложив весь ход военных действий, заключил свою речь следующими словами:
— Если все останется так, как теперь, то нет сомнения, что Испания погибнет! Через год, не больше, она либо станет добычей карлистов, либо ее растерзает страшнейшая междоусобная борьба партий! И я твердо решил, пока еще есть время, предупредить все эти несчастья, предупредить их с помощью военной силы, военного могущества! Теперь еще можно положить конец успехам дона Карлоса, можно разбить его войска, но сделать это можете только вы! Только ваше влияние, ваша твердая воля и энергия могут спасти Испанию! Войска вам безгранично преданы! Встаньте вы только во главе, и на помощь вам явятся наши лучшие генералы и полководцы, явится и сам Конхо! Встаньте во главе движения, герцог де ла Торре, ведите полки в бой, пополните их новыми отрядами — и вы спасете Испанию! Возьмите только знамя в свои руки, и множество людей соберется вокруг него! Не уклоняйтесь от этого призыва, ваша светлость, вы были уже регентом Испании, вернитесь еще раз на этот высокий пост, взойдите на ее престол! Спасите наше прекрасное отечество, пока еще не поздно!
— Мой милый генерал, — возражал Серрано, протягивая руку своему молодому другу, — то, что вы мне предлагаете, не осуществимо в настоящее время, вы требуете невозможного! Вы забываете, что у нас есть правительство и выполнение вашего плана было бы делом слишком преждевременным, даже если бы я и решился вновь вступить на поприще государственной деятельности!
— Вся Испания смотрит на вас, на своего маршала с надеждой и упованием, ждет, что вы выручите ее и спасете от угрожающих ей бед и напастей! Недовольные войска ропщут на теперешнее свое положение и все громче произносят ваше имя. Все настоятельнее и громче требуют они других правителей, требуют подкреплений, призывают вас, своего старого маршала!
— Я буду говорить с вами откровенно, генерал, чтобы вы не думали, что причиной моего бездействия и нежелания снова заняться государственной деятельностью является лень, отсутствие энергии, мужества, отсутствие патриотизма! Нет, генерал, удерживает меня не это. Сядьте ко мне ближе, сюда, — продолжал он, указывая Мануэлю на кресло, стоявшее возле него. — Вы говорите от имени войска, чтобы я стал во главе движения, что нынешнее правительство должно быть смещено. Но это голос ваш, ваших друзей и единомышленников, вы забываете, что не все, не вся нация разделяет ваше мнение, что найдется много людей, которые скажут, что меня выдвинуло на общественную арену только тщеславие и честолюбие!
— Простите, маршал, — прервал герцога де ла Торре Мануэль, — только люди, ничего не понимающие, люди глупые и безрассудные могут сказать это!
— Я знаю настроение народа, генерал! Знаю, что наше отечество находится под влиянием различных партий, которые более или менее открыто будут поддерживать это мнение! Честолюбие, наполнявшее мою душу, когда я был моложе, угасло! Тогда меня, несомненно, привлекала мысль быть во главе государства, держать в своих руках скипетр; я всеми силами стремился тогда к достижению этой высокой цели, я достиг ее, наконец! Вы, генерал, знаете, что бедный молодой офицер Франсиско Серрано сумел сделаться регентом своей отчизны! И поймете, надеюсь, что такой успех мог навсегда успокоить его честолюбивые стремления. Франсиско Серрано добровольно сошел с трона, отказался от власти, как только народ избрал себе нового правителя! Теперь, когда я стал частным лицом, не вынуждайте меня, не требуйте от меня того, на что я не могу решиться, на что не решился тогда! Такова моя воля, таково мое решение, вы их знаете теперь и не сможете изменить даже призывами спасти от неминуемой гибели наше дорогое отечество!
— О, нет, вы не можете, вы не осмелитесь бросить Испанию в этом критическом положении, не прийти к ней на помощь! Нет, маршал, это невозможно!
— Если Испания, а не одна какая-нибудь партия призовет меня, тогда другое дело, я явлюсь на ее зов!
— Так вы не слышите еще этого призыва, маршал?
— Нет, я слышу только единичные голоса!
— Но если эти призывы начнут долетать до вас с разных сторон, если число голосов увеличится, если они будут звать вас все настойчивей и громче, что скажете вы тогда? Если войска открыто восстанут и потребуют, чтобы их маршал встал опять во главе страны, что вы ответите тогда, герцог Серрано?
— Тогда я явлюсь на зов, генерал!
— Вы обещаете, вы даете слово?
— Вот вам моя рука!
— Благодарю вас, маршал, благодарю искренне, от души за эти слова, которые возвращают мне надежду, что Испания еще может быть спасена! — воскликнул Мануэль с восторгом. — Теперь я возвращаюсь к моим друзьям, чтобы сообщить им о вашем решении, и ручаюсь вам, что скоро вы услышите этот призыв, скорее даже, чем ожидаете!
— Что вы намерены предпринять, генерал?
— Только то, что должен делать верный сын отечества, солдат, верный своему знамени; ничего такого, что было бы противно чести моей и совести! Решительный час близок, медлить нельзя, я ухожу от вас счастливый и довольный вашим решением явиться на призыв отечества, который, повторяю, раздастся очень скоро. До свидания, маршал, вы скоро обо мне услышите!
Серрано крепко пожал руку Мануэля, выходившего от него со счастливым, радостным лицом.
План военного восстания с целью призвать в правители Испании герцога Серрано быстро созрел в голове Мануэля, он решил безотлагательно произвести этот переворот, необходимый, по его мнению, для спасения и блага Испании! И прямо из дворца маршала отправился в казармы, расположенные на улице Балья, где он рассчитывал найти многих из высших офицеров, с которыми был в дружеских отношениях.
Мануэль, зная привязанность солдат к Серрано и энтузиазм, который он им внушал, верно рассчитал, что они легко согласятся открыто выступить с требованием вернуть маршала к управлению страной. Тогда цель его будет достигнута, маршал узнает о военном бунте, призывные крики долетят до него, и он примет бразды правления!
Появлению Мануэля в казармах очень обрадовались его друзья, он был принят с распростертыми объятиями, тем более что его приезда в Мадрид никто не ожидал, и свидание это было приятной неожиданностью.
Он встретил множество старых товарищей, которых даже не рассчитывал там найти. Вино полилось, начались расспросы о военных действиях на севере. Мануэль с жаром рассказывал обо всех затруднениях и неудачах правительственных войск и прежде чем успел высказать собеседникам свои планы и свое мнение, у всех на устах прозвучало имя Серрано!
— Нужно маршала Серрано поставить на место Кастелара, только он один может поправить дела! Он живо справится, сделает новый набор, пошлет подкрепления на север, и тогда конец карлистам! Да здравствует маршал!
Все офицеры с громким «Ура!» подняли стаканы за здоровье Серрано; за этими тостами последовали другие — за здоровье Конхо и Мануэля; скоро крики эти долетели до слуха солдат, которые как эхо стали вторить офицерам, и вскоре во всем здании звучало дружное «Ура!» в честь старого маршала.
Мануэль, заметив это всеобщее воодушевление при имени Серрано и видя вокруг себя друзей из всех полков, которые собрались по случаю его неожиданного приезда, незаметно для них самих внушил им свою мысль и свой план.
Так, незаметно, неявно готовилось восстание войск, находившихся в Мадриде, против существующего порядка.
Скоро во всем городе зазвучало имя Серрано, солдаты постоянно вспоминали о его военных доблестях, о славном его правлении, все слышнее становился ропот против нынешнего правительства. И Мануэль убедился, что цель скоро будет достигнута без дальнейших хлопот и усилий с его стороны.
Военный бунт вот-вот должен был вспыхнуть, цель его была очень ясна даже для солдат: они знали, что им нужно одно — свергнуть правительство Кастелара и поставить во главе страны Серрано. Мануэль ждал только удобного момента, чтобы привести в исполнение свой план.
Ни кортесы2, ни окружение Кастелара не подозревали о готовящемся бунте, который должен был вспыхнуть неожиданно! Мануэль сговорился с надежными офицерами, принявшими горячее участие в его планах, на которых он мог вполне положиться в любом случае. Эти офицеры разместились по разным казармам и ожидали сигнала Мануэля, чтобы поднять солдат, находившихся под их командой, и вести их согласно его указаниям. Свержение Кастелара и замена его герцогом Серрано должны были быть произведены внезапно, моментально.
Все было готово к вспышке этого бунта, который должен был произвести необходимый для блага Испании переворот без всякого кровопролития.
XVII. Танцовщица
Попытки Антонио узнать что-нибудь о судьбе графини Инес де Кортециллы были тщетны. В лагере карлистов никто не мог ничего сказать ему, кроме того, что она была увезена из лагеря самой доньей Бланкой, но куда именно, никто не знал.
Куда она могла увезти ее? Вот вопрос, который мучил Антонио. Что Бланка ненавидела Инес, в этом патер не сомневался и понимал, что ей грозят самые ужасные несчастья. Но как освободить ее из рук этой ужасной женщины? Не подождать ли ее возвращения, раздумывал он, чтобы передать ей приказание дона Карлоса? Припомнив, однако, все подробности ее неприязненной последней встречи с ним, он пришел к заключению, что она вряд ли подчинится приказанию, переданному ненавистным ей патером! Но так как другого средства помочь Инес он не видел, то решил остаться в лагере до возвращения светлейшей супруги принца Альфонса, утешая себя тем, что, может быть, ему удастся хоть что-нибудь узнать от нее об участи несчастной пленницы.
Начальник карлистов, узнав, что Антонио намерен остаться в лагере до возвращения доньи Бланки, отвел его к военному епископу, патеру Игнасио.
Антонио знал патера Игнасио и знал, что он друг и единомышленник инквизитора Бонифацио. Симпатии между ними не было и быть не могло, так как во всех отношениях они представляли самые резкие противоположности. Антонио был благороден, великодушен и откровенен. Игнасио, напротив, был жестокосерден, низок и скрытен.
Антонио сделал над собой усилие, чтобы войти в палатку этого человека, ему было тяжело встретиться с ним. «Но что же, — раздумывал он, — бояться его мне нечего, совесть моя чиста, я ничего не сделал предосудительного ни перед Богом, ни перед людьми». С этими мыслями он вошел в палатку епископа.
Игнасио в это самое время сидел за круглым столом и что-то писал; у задней стены палатки стояли два монаха. Одет он был в сутану фиолетового цвета, на шее блестела золотая цепь с крестом. Его круглое безбородое лицо было невыразительно. Темные жесткие волосы окружали, будто венчиком, довольно большую тонзуру, служившую знаком принадлежности к духовенству. На левой щеке резко бросался в глаза красноватый глубокий шрам, свидетельствовавший, что патер провел время своего студенчества не в духовном, но в светском учебном заведении, не в созерцательном настроении, но в шумных разгулах, так как шрам этот был,очевидно, следом раны, нанесенной ему ударом сабли. Он придавал круглому лицу патера, невыразительному вообще, злое и неприятное выражение.
Когда Игнасио увидел вошедшего в его палатку Антонио, в глазах его блеснула как будто злобная радость. Он встал со своего места и молча пошел к нему навстречу, глядя на него вопросительно.
— Почтенный брат Игнасио, меня привели к тебе, чтобы я у тебя подождал возвращения доньи Бланки, — сказал Антонио, кланяясь прелату, занимавшему после архиепископа в армии дона Карлоса самое высокое место.
— Я полагал, брат Антонио, что ты явился ко мне, чтобы заявить о своем ьступлении в должность! Вот уже несколько месяцев мы ждем твоего прихода согласно сообщению, полученному от почтенных патеров монастыря Святой Марии.
— Моему вступлению в должность встретились препятствия. С заявлениями же об этом я должен был явиться к дону Карлосу, но не к тебе, почтенный брат Игнасио!
— Неужели, брат Антонио, я должен напоминать тебе правила нашего ордена, в которых ясно сказано, что каждый брат обязан явиться к старшему брату, стоящему выше него в духовной иерархии?
— Я не знаю здесь никакого старшего брата!
Этот спокойный ответ, в котором явно не было намерения оскорбить, вызвал страшный гнев Игнасио, гордившегося своим местом и предоставленной ему властью.
— Этот старший брат стоит перед тобой, — сказал оскорбленный прелат надменным тоном.
— Извини меня, почтенный брат, я этого не знал! Мне казалось, что мы равны, что мы оба патеры, ты в должности военного епископа, я — в должности духовного советника и наставника полководца тех же войск! Но если бы мы встретились прежде, то, несомненно, я уведомил бы тебя, почему не вступил в должность, на которую назначен.
— Мне поручено допросить тебя от имени трех достопочтенных патеров монастыря Святой Марии, почему ты не приступил до сих пор к исполнению своих обязанностей!
— Ты получил поручение?
— Если ты сомневаешься, то могу показать тебе письменное предписание, которое, может быть, внушит тебе желание отвечать и сделает тебя покорнее!
— Покорнее? Никогда! Что же касается ответа, то я охотно отвечу тебе без всякого предписания.
— Твои выражения подтверждают мое мнение о тебе, что ты отступник и погибший человек! Но исполни же свою обязанность и отвечай мне, почему ты столько времени не вступаешь в должность?
— Ответить на твой вопрос я готов, почтенный брат, хотя твой тон мог бы отнять у меня охоту вступать с тобой в объяснения, но я прощаю тебе его, видя, как дрожат твои руки, как подергивается лицо, и понимая, что ты находишься в страшно возбужденном состоянии!
Прошу тебя успокоиться и хладнокровно выслушать мое сообщение, которое я сделал бы и без всякого приказания! Я явился к дону Карлосу, чтобы вступить в должность, но он отправил меня назад!
— Ты был у короля? Но когда? И с какими словами ты предстал перед его особой?
— Стало быть, ты знаешь, что случилось?
— Я знаю, что ты явился перед его величеством, как будто был одержим злым духом, ибо только он мог внушить тебе ту неслыханно дерзкую речь, с которой ты осмелился обратиться к нему. Но это еще не все! Ты явился через несколько месяцев после твоего назначения, как будто должность твоя при доне Карлосе была делом побочным, не имеющим никакого значения в твоих глазах.
— Обязанности монашеские не должны исключать человеческих обязанностей, последние должны оставаться всегда на первом плане, почтенный брат!
— Ты отделываешься звучными, но пустыми фразами! Не человеческие обязанности, отступник, мешали тебе вступить в должность, а греховная любовь, мирские похоти! Не один месяц прогуливаешься ты с двумя легкомысленными, подозрительного поведения сеньорами, подавая пример соблазна и греха мирянам.
— Остановись, почтенный брат, — воскликнул Антонио серьезно, делая повелительный жест рукой, — остановись! Пока только меня ты старался оскорбить своими недостойными словами, пока изливал яд, скопившийся в твоей душе, только на мою особу, я прощал тебе, но оскорблять и поносить молодых невинных девушек я тебе не позволю, остановись, повторяю тебе, ты не имеешь на это никакого права! Направляй свои ядовитые стрелы против меня, но их не касайся, тебе нет до них никакого дела!
— Так ты осмеливаешься, дерзкий отступник, запрещать мне говорить?
— Да, я запрещаю тебе ругать и поносить невинных сеньор; на дерзкую брань по отношению к ним я буду отвечать дерзостью!
— Ты погряз в своей мирской, греховной любви к графине Инес де Кортецилле, которая, убежав тайком из дома своего отца, повергла его в горе и отчаяние. Осмелишься ли ты отречься от этого? — воскликнул Игнасио, схватив распятие и держа его перед Антонио. — Поклянись же, отступник, перед этим крестом, что ты невинен, что ты не питаешь плотской страсти к графине Инес?
Антонио побледнел, тяжелая борьба происходила в его душе в эту минуту.
— А! Ты молчишь, ты не осмеливаешься лгать перед этим святым изображением и не осмеливаешься сказать мне правду!
: — Нет, правду высказать я не боюсь ни перед кем, я служу ей, служу подлинной истине, не поддельной, не обманчивому призраку, а ей самой! — воскликнул Антонио решительным тоном. — Я люблю Инес де Кортециллу и защищаю ее, это сущая правда!
— Это признание еретика, еретика, одержимого дьяволом! Твоя мирская любовь к Инес погубила тебя, ради нее ты нарушил священный обет целомудрия! Но этого мало, ты нарушил и обет послушания, так как вместо того, чтобы явиться к месту назначения, ты странствовал по свету с двумя безнравственными сеньорами! За все это достопочтенные патеры монастыря Святой Марии приговорили тебя к строгому заточению!
— До сего времени я не нарушил ни одной из обязанностей, возлагаемых на нас орденом, к которому мы принадлежим, — ответил Антонио, — перед людьми и перед Богом совесть моя чиста, я делал только то, что считал своей священной обязанностью! Любовь моя к графине чиста и непорочна, она о ней не подозревает, ни словом, ни намеком я не выказал ей никогда моих чувств!
— Проклятие и самое жестокое заточение, вот что ты заслужил, отступник, вот что тебе предстоит! Ты хуже последнего грешника, ты недостоин принадлежать больше к нашему ордену и носить наше смиренное одеяние, вся твоя жизнь с этих пор должна проходить в покаянии и смирении.
— Если я недостоин этого одеяния, которое я ничем не оскорбил перед Богом, которое носил с честью, можете взять его назад! Я снимаю его с себя, — воскликнул Антонио, сбрасывая с себя монашескую одежду. — Лишь слепой фанатизм мог признать мои действия достойными проклятия! Можете изгнать меня из вашей среды и подвергнуть ссылке, заключению, чему хотите! Я ничего не боюсь! С настоящей минуты я разрываю всякую связь с орденом и со всеми вами, я отрекаюсь от моего сана, от монашеского образа, которые я ничем не запятнал!
— Как… еретик! Ты решаешься даже на это?
— Я возвращаюсь в свет, беру назад свои обеты и возвращаю вам ваши отличительные знаки!
— Неблагодарный! Побойся небесной кары! Ты следуешь греховному влечению сердца, поглощенного мирской любовью, но помни, что тебя ожидает страшное будущее!
— Бояться могут только виновные, только лицемеры и все те, кто, облекаясь в монашеский образ, преследуют эгоистические цели, которые злоупотребляют этим образом! Бог милосердия и любви, которому я всегда служил и буду служить, простит мне мое отречение! Можете сообщить в монастырь Святой Марии, что Антонио оставляет вашу общину, потому что она служит не Богу и благородным стремлениям человечества, а слепому фанатизму и эгоистическим корыстным целям! Можете грозить мне вашими проклятиями, что свойственно вам, не имеющим понятия о любви к ближнему! Удаление из монастыря не помешает мне продолжать служить моему Богу и молиться ему!
— Иди, отверженный, и да постигнет тебя смерть без покаяния на твоем пути! Все храмы будут перед тобой закрыты отныне, ни один патер не даст тебе своего благословения и отпущения грехов. Бог и люди отступятся от тебя. Везде будет преследовать тебя проклятие, которое ты навлек на себя, — воскликнул с бешенством Игнасио, — трепещи перед ожидающим тебя будущим, перед последними часами твоей жизни, ты умрешь без благословения и без покаяния, богоотступник!
Антонио, оглушенный всеми этими проклятиями, поспешно вышел из палатки. Трудный шаг, сделанный им, потряс его самого, и в этом состоянии потрясения он поспешно шел вперед, не оглядываясь. «Но, — раздумывал он, — мог ли я оставаться в монастыре? Сами инквизиторы вынудили меня к этому поступку».
Действительно, их скверные дела и стремления давно возмущали Антонио. Несколько лет тому назад, размышляя о принципах рабской покорности и беспрекословного послушания и повиновения, подавляющих способность к самостоятельному мышлению, он ловил себя на желании вырваться из среды, извращенные понятия и безнравственные, жестокосердные деяния которой потрясали его до глубины души!
Но вот его давнишние, тайные, заснувшие было стремления вдруг неожиданно осуществились! Его христианская кротость и смирение, его честная натура не могли примириться с двуличием и коварством инквизиторов, использовавших свою власть в корыстных целях, сделавших священные обеты, произносимые младшими братьями, орудием, с помощью которого вынуждали их служить своим целям, не гнушаясь никакими бесчестными и бесчеловечными средствами для их достижения! Затаенная борьба, давно происходившая в душе благородного Антонио, окончилась наконец его решительным последним шагом! Связь с ненавистной средой была разорвана!
Независимость в мыслях, которую даже монашеская дисциплина не могла сокрушить в нем, не привела, однако, Антонио к осознанию пустоты и бессмысленности проклятия, к осознанию того, что нет греха в стремлении к независимости. Понятно, что Антонио, воспитанный в монастыре с раннего детства, не мог отрешиться сразу от предрассудков и ложных понятий, привитых ему монахами-воспитателями, поэтому слова Игнасио и его проклятия произвели на него такое сильное впечатление, что, выйдя из палатки, он пошел без цели, без сознания, торопясь только уйти подальше от лагеря. Страшные слова раздавались в его ушах, образ проклинавшего его Игнасио представлялся его воображению, и бедный патер, ошеломленный, как будто оглушенный громовым ударом, стремился вперед. Так продолжал он идти довольно долго, лагерь остался далеко позади, как вдруг сознание внезапно вернулось к нему и он остановился, задавая себе вопрос, куда и зачем он бежит?
С возвращением сознания к нему вернулись мир и спокойствие! Он посмотрел на окружающую его природу, и бледное его лицо вдруг прояснилось, приняло вдохновенное выражение.
Бог милосердия и любви живо представился ему в величии окружавшей его природы, и Антонио, упав на колени и подняв взор к небу, обратился к нему с горячей, искренней молитвой, изливая в ней свои помыслы и чувства. На сердце у него стало светло и радостно, он почувствовал себя сильным и счастливым, природный ум его стряхнул с себя оковы, которые накладывал на него монастырский деспотизм!
С этой минуты он почувствовал, что, разорвав связь с монастырем, сбросив с себя рясу, он не утратил ни своей веры, ни любви к Богу, что, напротив, он спас себя от нравственного падения, от унизительного рабства.
Когда он встал после молитвы, утешенный и успокоенный примирением с Богом и совестью, невыразимое чувство блаженства наполнило его душу при мысли, что он теперь человек свободный, что он возвращается в мир. Хотя он очень любил Инес, любил ее безгранично, однако ни в его внезапной решимости выйти из монастыря, ни в его радостном ощущении своей свободы не было мысли о возможности соединения с ней! К чувству его не примешивались никакие расчеты на обладание ею! Он хотел следовать за ней, хотел разыскать ее, но не для того, чтобы сжать ее в своих объятиях! В настоящее время, по крайней мере, ничего подобного не приходило ему в голову!
Он пошел дальше и к вечеру увидел перед собой какой-то маленький город. Войдя в него, он узнал, что и здесь расквартирован отряд карлистов с многочисленной свитой маркитантов и проституток.
Городские обыватели должны были отдавать им бесплатно свои лучшие комнаты, бесплатно кормить и поить их, даже снабжать деньгами, в противном случае им грозила смерть.
Антонио, сбросивший с себя монашескую рясу, должен был приобрести светское платье.
По приходе в город он сейчас же купил черный широкий сюртук, теплый платок, какими испанцы любят закутываться ночью, и черную простую шляпу без всякой отделки и украшений. Так преобразился он в светского человека.
Дорога, по которой он проходил, пролегала через рыночную городскую площадь. Там он увидел обтянутый полотном балаган, спереди украшенный картиной, пестрота которой резко бросалась в глаза.
На картине были изображены танцовщица и фокусник, играющий шарами.
Вокруг балагана собралась толпа, состоявшая преимущественно из карлистов, нахально разглядывавших молодую черноглазую девушку в пестром театральном костюме, стоявшую у кассы. Девушка была очень хорошенькая, с длинными черными косами, пурпурными губками и прекрасной формы руками.
Костюм ее состоял из белой, довольно поношенной юбки, очень короткой, вышитой блестками и обшитой серебряной тесьмой; ноги были обтянуты розоватым трико и обуты в белые атласные башмаки. Взгляд был серьезный; неподвижно и молча стояла она перед толпой, Странный контраст этой молодой, красивой танцовщице представлял тоже одетый в трико старик, крикливым голосом зазывавший публику в балаган посмотреть невиданные и неслыханные до сих пор фокусы. Борода и волосы его были выкрашены в черный цвет, чтобы скрыть седину. Несмотря на густой слой румян и белил, покрывавший худое лицо, ясно было, что человек этот очень стар. Та же претензия скрыть свои годы видна была и в попытке придать телу нужную полноту с помощью подкладок, но трико предательски выдавало эту подделку.
Сеньор Арторо, так звали старика, завлекал публику уверениями, что он показывал свои фокусы с кольцами и шарами королям и королевам и был удостоен их одобрения, он обещал превзойти самого себя в нынешнем представлении и удивить всех невиданными еще чудесами.
Но главным в этом представлении будет выступление сеньоры Хуаниты Арторо, прозванной царицей танцовщиц.
Свет большой лампы, висевшей у входа и освещавшей старого фокусника и его прелестную дочь, еще больше подчеркивал их контраст: при освещении она казалась еще красивее, а он безобразней; но как ее молодость и красота, так и его старость и "попытка скрыть ее производили в этой обстановке при их жалком ремесле самое тяжелое, грустное впечатление, которое еще усиливалось, когда он выкрикивал, что будет играть пушечными ядрами как яблоками. Вдруг из балагана раздалась какая-то ужасная музыка с барабанным боем, с трескотней и бубнами. Какие инструменты составляли этот странный оркестр, понять было невозможно. Но толпа вообще не очень привередлива относительно музыки, и как бы та ни была плоха, всегда найдутся любители послушать ее. Так и сейчас, карлисты, толпившиеся вокруг балагана, ринулись в двери при первых звуках, раздавшихся оттуда, а с ними и проститутки, их спутницы. Сеньор Арторо, продолжавший стоять у входа, вежливо кланялся каждому из входивших гостей.
Дочь его, встав напротив него с оловянной тарелкой в руках, собирала плату за вход, радуясь прибывавшим в тарелке реалам и посматривая на отца, которому она как будто хотела сказать: «Утешься, добрый мой старик, голодать нынче вечером мы не будем! Посмотри-ка, сколько монет в нашей тарелке — будет чем утолить голод и жажду!»
На Антонио, остановившегося у балагана, глубокое впечатление произвел вид старика и его дочери. Он не мог отвести от них глаз, как будто невидимая сила тянула его к этой странной паре, нищету и страдания которой не могли скрыть сверкающие улыбки и мишурный блеск их театральных костюмов.
Старик в своем шутовском одеянии производил на него особенно сильное впечатление, он чувствовал к нему необъяснимое влечение, смешанное с глубоким состраданием. Он стоял как прикованный к этому месту.
Представление уже должно было начаться, и Антонио тоже решил войти в балаган. Старик раскланялся перед ним, как и перед прочими гостями, и бывший патер, положив в тарелку монету, пробрался в зал, где уже почти все места были заняты.
Сцена, устроенная на заднем плане балагана, отделялась от зрителей красным занавесом.
Антонио встал к ней боком.
Через несколько минут раздались жалкие звуки оркестра. Занавес раздвинулся, и глазам зрителей предстал сеньор Арторо.
Он начал играть пушечными ядрами, то подбрасывая их кверху, то перекидывая из одной руки в другую, завернув одну из них себе за спину, наконец, вскочив на большое ядро, он начал танцевать на нем.
Антонио смотрел на все эти фокусы с глубоким состраданием, представляя себе, как трудно и тяжело бедному старику исполнять их, и понимая, что только крайняя нужда заставляет его делать то, что ему уже не по силам, изнурять себя, чтобы добыть себе и детям кусок насущного хлеба.
Появились на сцене так называемые семь волшебных колец, и сеньор Арторо принялся играть ими, то связывая их вместе очень искусно, то развязывая в один момент, а в заключение своего представления, взяв пустой мешок и встряхнув его перед зрителями, начал из него вытаскивать яйца, а потом и куриц. Этот фокус привел публику в восторг, раздались громкие рукоплескания и оглушительные крики одобрения.
Сеньор Арторо раскланялся и удалился со сцены, на которой тут же появилась его дочь. Она начала с танца с кастаньетами, исполняла его прелестно, все движения и позы ее были полны грации. Затем, бросив кастаньеты, она продолжала танцевать с пандеро (пандеро — это четырехугольная деревянная рамка, на которой натянут пергамент и висит множество колокольчиков и разноцветных лент с развевающимися концами. Все испанские танцовщицы очень любят эти бубны и очень искусно пользуются ими, подстраиваясь в такт всякой музыке). В этом танце она была еще очаровательнее, еще грациознее, и публика разразилась самыми восторженными аплодисментами! Действительно, Хуанита была так обворожительно хороша и так прелестно танцевала, что и более разборчивых зрителей могла привести в бешеный восторг. Когда она в заключение представления легла, как будто в воздухе, поддерживаемая старым отцом, двое карлистов до того воспламенились ее красотой, что, с яростью расталкивая публику, собиравшуюся выходить из балагана, бросились на сцену с диким криком, стараясь схватить танцовщицу в свои грубые объятия, покрывая ее нахальными поцелуями!
Хуанита, вырвавшись от них, бросилась за кулисы, они — за ней и снова схватили ее!
Напрасно боролся с ними старый Арторо, напрасно бедная девушка взывала о помощи, пытаясь вырваться из их рук, — они не выпускали своей жертвы.
Антонио, услышав крик девушки, звавшей на помощь, бросился к сцене, вскочил на нее и в одну минуту очутился за занавесом, где измученная Хуанита из последних сил сопротивлялась негодяям.
При виде этого безобразного насилия в душе Антонио, охваченного и раньше непонятным для него чувством участия и сострадания к отцу и дочери, вспыхнуло негодование. Он резким движением оторвал одного из карлистов от девушки, стоявшей на коленях, и с силой оттолкнул другого.
— Бесчеловечные, бессовестные, что вам нужно от этой сеньоры? — воскликнул он грозным, повелительным тоном. — Вон отсюда!
В первую минуту от неожиданности карлисты отступили, но увидев, что их противник безоружен и, по-видимому, несравненно слабее их физически, они дерзко закричали:
— Ты зачем пришел сюда? С какой стати ты осмеливаешься вмешиваться в наши дела?!
— Я пришел, чтобы защитить эту девушку от насилия, — ответил Антонио решительным тоном, становясь между ними и Хуанитой, крепко уцепившейся за него. — Представление окончено, убирайтесь вон, повторяю вам!
— Проклятая собака! — выругался один из карлистов, замахнувшись кулаком. — Кто ты и зачем здесь?
— Убирайся вон, — воскликнул другой, бросаясь к Антонио, которому не устоять было против этих двух атлетов. Старый Арторо пытался встать между ними и успокоить раздраженных карлистов.
— Остановитесь, сеньоры, остановитесь! — просил он. — Это мой сын! Он защищает свою сестру! Прилично ли таким хитрым солдатам, как вы, нападать на беззащитную девушку, оставьте ее!
— Он должен умереть за то, что осмелился напасть на нас, — кричал в бешенстве один из карлистов, пытаясь свалить Антонио.
— Сжальтесь, сжальтесь! — лепетала девушка чуть слышно.
— Не трогайте его, не убивайте, это мой сын! — воскликнул Арторо, прибегая к этой лжи, чтобы спасти незнакомого ему молодого человека от грозившей ему смерти.
Антонио, и в неравной борьбе сохраняя гордое спокойствие, хотел было сказать, что он вовсе не сын, но в это время оба карлиста, оставив Хуаниту, бросились на него, и под ударами их кулаков он упал. Арторо пытался оттащить злодеев от их жертвы, а Хуанита, вдруг бросившись на своего спасителя, закрыла его своим телом от дальнейших ударов.
К этому времени на шум сбежалось множество людей, и карлисты с ругательствами и угрозами убрались из балагана, где Хуанита, стоя на коленях перед бесчувственным своим защитником, рыдала, в отчаянии заламывая руки.
Арторо, обрадованный, что нападение кончилось без тяжелых последствий, вежливо попросил прочих карлистов и граждан, сбежавшихся на шум, разойтись.
Выйдя на улицу, карлисты, зачинщики всей этой истории, продолжали ругаться и клялись, что они еще покажут брату танцовщицы, что он поплатится жизнью за свое дерзкое вмешательство.
Эти угрозы сильно встревожили Арторо и его дочь и заставили их провести всю ночь в страхе и беспокойстве.
XVIII. Освобождена!
Вернемся теперь к той ночи, когда дон Карлос, увидев на террасе своего дворца привидение, отдал приказ обыскать весь сад, оцепив его со всех сторон.
Приказ был немедленно исполнен усердным управляющим, который, в несколько минут собрав всех своих солдат и слуг, прибежавших на выстрел, расставил у всех входов посты, а сам с остальными людьми, взяв зажженные факелы, пошел обыскивать все кусты, аллеи и закоулки сада.
Поиски продолжались несколько часов, но дон Карлос все это время, не сходя с террасы, с напряженным вниманием следил за их ходом. Он не отводил глаз от этих огней, блуждающих по всему саду, появляющихся то в одном, то в другом его уголке, то вдруг одновременно в нескольких местах. С замиранием сердца ждал он, что вот раздастся крик карлистов, который возвестит, что призрак найден. Но время шло, а поиски оставались напрасными. Никого и ничего не оказалось в саду, все закоулки которого были тщательно осмотрены. Привидение скрылось, бесследно исчезло, хотя сомневаться в его появлении было невозможно: его видел не один дон Карлос, которому при известном настроении оно могло померещиться, его видел и часовой! Но куда же делась эта тень, куда она скрылась?
Наконец Изидор после долгих напрасных стараний обнаружить следы неизвестного ему существа, спрятавшегося в саду, вернулся к дону Карлосу с докладом, что ничего в саду не найдено!
Число часовых было увеличено, но это не успокоило принца, он был страшно взволнован, не зная, чем объяснить это видение. Пребывание во дворце сделалось невыносимым для него.
Заря уже занялась, когда он лег в постель и заснул, но и сон не принес успокоения его встревоженной душе, это был тяжелый, беспокойный сон, ему виделась Амаранта, грезилась ее черная тень, представшая перед ним на террасе, посылавшая ему проклятия выразительным жестом руки.
Он больше не мог оставаться в замке и, несмотря на свое прежнее намерение провести в нем некоторое время, на другой же день после описанного происшествия решил уехать в свою штаб-квартиру. Он сделался суров и мрачен, движения стали резкими и торопливыми.
Встав утром и приказав управляющему соблюдать строгую дисциплину в замке, окружить его надежными часовыми и стрелять в каждого, кто приблизится к нему ночью, он поспешно уехал вместе со своей свитой.
Изидор сделал необходимые распоряжения, строго приказав своим людям зорко и внимательно наблюдать за каждым, кто покажется рядом с владениями замка, и каждого останавливать немедленно. А потом его мысли вернулись к поручению доньи Бланки.
Графиня Инес в своем уединенном покое начинала, видимо, поправляться, с каждым днем силы возвращались к ней, хотя лицо по-прежнему оставалось бледным и грустным.
Страдания свои она переносила молча, ни малейшего ропота, ни одной жалобы не сорвалось у нее с языка.
Марта, жена кастеляна, прислуживающая ей, все старалась вызвать ее на разговор, чувствуя к ней сострадание и участие, но Инес отделывалась всегда самыми короткими ответами, хотя вообще обращалась с ней приветливо и ласково. Марта, всегда заставая ее сосредоточенной, углубленной в свои мысли, догадывалась, что мысли эти невеселы, что на душе у нее очень тяжело, так как часто видела ее в слезах, видела, как трудно ей было иногда сдерживать их, но ни одним словом, ни одним намеком Инес не выдавала своего горя перед доброй женщиной, может быть, не хотела делиться им с посторонним человеком, может, от уверенности, что этот человек все равно не сумеет помочь ей, облегчить ее участь.
Часто смотрела она в открытое окно своей тюрьмы, на дорогу, на лес и заливалась горькими слезами.
Так проходили дни за днями. Когда в замок прибыл дон Карлос, Инес, узнав об этом от Марты, пробовала добиться свидания с ним, надеясь, что он согласится ее освободить, но он отказался встретиться с нею, не желая идти наперекор своей невестке, и бедной пленнице осталось одно: покориться злой судьбе, преследовавшей ее.
Что ждало ее впереди? Долго ли будут держать ее в замке? Почему не хотят, чтобы она продолжила свой путь в Пуисерду? Зачем разлучили ее с Антонио и Амарантой? Эти вопросы ежечасно мучили ее. Она понимала, что все это делалось, чтобы наказать ее за то, что она не выдала местопребывания Мануэля, видела ненависть принцессы к себе, понимала, что она хочет держать ее в своей власти, но для чего? Что она хотела с ней сделать? Вот над чем Инес ломала голову, но не могла, разумеется, разрешить этих вопросов.
Впрочем, скоро кое-что для нее прояснилось. Через несколько дней после отъезда дона Карлоса она узнала намерения доньи Бланки относительно нее! Намерения эти были так бесчеловечны, так ужасны, что она невольно содрогнулась, они казались невозможными, невероятными! Ею овладели страх и отчаяние, она поняла, что гибель ее неминуема, что больше ей не придется увидеться с Мануэлем!
Изидор не дремал и решил добиться Как можно скорей своей цели: оставить свою нынешнюю должность управляющего и быть представленным в генералы. Жизнь в этом уединенном замке казалась ему нестерпимо скучной, и он стремился присоединиться поскорее к армии короля Карла VII. Но кроме этого ему не давала покоя мысль о генерале Доррегарае, которому он жаждал доказать, что он не погиб, что его не удалось стереть с лица земли, что, напротив, гордый мексиканец должен бояться его, которого считал столь ничтожным прежде! Для того, чтобы эти мечты осуществились, что нужно было? Безделица, о которой не стоило бы и задумываться! Нужно было только устранить графиню Инес де Кортециллу! Отправить ее к праотцам — и самое страстное его желание, цель его жизни — погубить своего врага, своего противника — осуществлялась! «Я свергну его, этого Доррегарая, свергну и займу его место!»— думал Изидор, скрежеща зубами при воспоминании о своем смертельном враге!
Он понял из слов своей благодетельницы доньи Бланки, что она не хочет открытого убийства графини, и вскоре нашел средство свести ее в могилу тайком!
Раз поздно вечером, когда в замке все улеглись спать, Изидор осторожно пробрался к пруду, превратившемуся у берегов в тинистое болото, поросшее разными травами; в том числе там рос и болиголов.
Изидор влез в болото и добрался до болиголова, по колени увязая в тине. Стебли растения были так сочны, что, когда он срывал их, из них крупными каплями капал сок. Сок этот содержал в себе сильный яд, который и нужен был Изидору.
Набрав стеблей, он поспешно выбрался из болота и вернулся с драгоценной ношей в замок. Он не пошел в свою комнату, а отправился на кухню подвального этажа, которой никто не пользовался. Придя туда, Изидор развел в плите огонь, взял пустой горшок, валявшийся на полке, налил в него немного воды и бросил туда принесенные стебли, изрезав их на куски, затем поставил посудину на плиту. Подбавив еще дров в печку, он отправился спать, очень довольный собой. Очевидно, что совесть даже не всколыхнулась в его черствой душе.
В течение ночи яд из корней выварился, и управляющий, придя утром в кухню, увидел в горшке темноватую жидкость. Ее оказалось так много, что хватило бы отравить не один десяток людей.
Часть жидкости он отлил в пузырек, специально принесенный им, и, спрятав его в карман, отправился в кухню кастеляна, где Марта обычно готовила обед для Инес.
В это самое время, когда Изидор пришел туда, на подносе стояли блюда с едой, накрытые тарелками, и большая фарфоровая кружка с водой, смешанной с густым темным вином; Марта собиралась нести обед графине и вышла в соседнюю комнату за маисовым хлебом, который обычно подавала к обеду.
Из этой комнаты выходило маленькое окошечко в кухню. Изидор, увидев, что в кухне никого нет, поспешно вынул из кармана пузырек, вылил жидкость из него в кружку с питьем, приготовленным для графини, и, спрятав пузырек в карман, начал громко звать Марту. Когда она явилась на его зов, он отдал ей приказания относительно продовольствия для солдат, желая на всякий случай отвлечь от себя возможные подозрения.
Очень довольный удачным исполнением своего замысла, он вернулся к себе в комнату в полной уверенности, что через несколько часов услышит о болезни своей пленницы. «Если же, — думал он, — этого количества окажется недостаточно, чтобы убить ее, то я дам ей вторую порцию под видом лекарства».
Он торжествовал, будучи убежден, что цели своей достигнет, так как ни в действии яда, ни в том, что он попадет в желудок графини, он не сомневался.
Марта, случайно увидевшая манипуляции Изидора через окошечко, выходившее из комнаты в кухню, поняла его замысел. Но боясь его и не решаясь ему противодействовать открыто, понесла, как обычно, обед Инес, уверенная, что Изидор проследит за ней.
Войдя с подносом в комнату пленницы и заперев за собой дверь, она бросилась на колени перед графиней.
— Случилась ужасная вещь, — испуганно прошептала она, — но никто не должен подозревать, сеньора, что я вам это сообщаю! Мне жаль вас, ужасно жаль! Вас хотят отравить, хотят вашей смерти!
— Моей смерти? Встаньте, добрая женщина, скажите, что привело вас к этому ужасному заключению?
— Счастливый случай, сеньора, сама пресвятая Мадонна подвела меня к окну, тут я и увидела…
— К какому окну? — спросила поспешно Инес.
— К окну, которое выходит из моей комнаты в кухню, тут я и увидела управляющего, — сказала Марта и вдруг остановилась, испуганно озираясь кругом, как будто боялась, что Изидор и здесь может ее подслушать, потом продолжала еще тише: — Он вылил что-то в кружку, где было обычное ваше питье. Он меня не видел! Я уверена, что он влил туда яд, я готова поклясться, что не ошиблась. Не пейте, сеньора, не пейте этого!
— Вы, вероятно, правы, добрая женщина! От этого Изидора можно всего ожидать, и хотя сегодня вам удалось меня спасти, но все равно он доберется до меня завтра, послезавтра… Он способен на любое злодейство. Если он задумал меня убить, то не отступится, пока не достигнет своей цели, он придет сюда ночью и убьет меня!
— О, святой Франциско, помилуй нас! Что вы говорите, сеньора, неужели он решится на открытое убийство?!
— В этом не сомневайтесь. Но благодарю вас, добрая душа, за ваше желание спасти меня, за ваше участие, — продолжала Инес, протягивая руку Марте, чтобы поднять ее, потому что она так и продолжала стоять на коленях, — благодарю вас, что спасли меня сегодня, хотя, повторяю, вам не удастся, несмотря на все ваше желание, на все ваше сострадание, уберечь меня от смерти. Я погибла, если только мне не удастся вырваться отсюда, освободиться из-под власти этого злодея! А это невозможно! Значит, мне суждено умереть! Вы не в силах спасти меня.
— О, это ужасно, вы так молоды! Что вы сделали, за что вас преследуют с такой ненавистью?
Инес, тронутая горячим состраданием Марты, рассказала ей со слезами обо всех своих несчастьях.
Выслушав этот грустный рассказ, Марта воскликнула твердым, решительным тоном:
— Нет, донья Инес, вы должны быть спасены. Нужно во что бы то ни стало вырвать вас из рук этих злодеев, спасти вас от смерти…
— Вы не можете, Марта, спасти меня, не можете защитить меня от них! Но сегодняшний ваш поступок убедил меня в вашей сердечной доброте, вашем доброжелательстве, он внушил мне полное доверие к вам!
— Если бы я только знала, как помочь вам, сеньора, если б только могла оказаться полезной, не сомневайтесь, я бы решилась на все!
— Я бы попросила вас об одной вещи, но боюсь, как бы это не было опасно для вас!
— Говорите, сеньора Инес, и не беспокойтесь, я умею молчать и действовать осторожно, когда это нужно!
— Ваш муле ведь кастелян замка, и я боюсь, что, оказывая мне услугу, вы можете навредить ему!
— О, не беспокойтесь, донья Инес, я очень хитра, вы можете быть уверены, что никто не узнает о вашем поручении и что я сумею его выполнить, не навлекая ни на себя, ни на мужа никаких подозрений.
— Тогда слушайте. Вы рассказывали мне, что дон Карлос в ночь, проведенную им здесь, увидел на террасе призрак в длинной черной одежде.
— Да, донья Инес, это был дух, потому что, несмотря на тщательные поиски, в саду никого не нашли, человек не мог бы так исчезнуть!
— Нет, Марта, это был не дух!
— Вы думаете, что это был человек, и, может быть, имеющий к вам какое-то отношение?!
— Я вам рассказывала уже о добром патере и моей верной подруге Амаранте, и я убеждена, что дон Карлос видел на террасе не привидение, а кого-то из них!
— Это невозможно, донья Инес, если бы это был кто-то из них, его или ее непременно нашли бы тогда в саду!
— Я уверена, что это была моя Амаранта и что она успела вовремя удалиться! Верьте мне, что она блуждает где-то здесь поблизости в надежде подать мне руку помощи!
— В таком случае, она непременно попадет в руки стражи, которой дано строгое приказание зорко наблюдать за окрестностями дворца!
— Я очень боюсь за нее, — взволнованно сказала Инес, — она подвергает себя опасности и совершенно напрасно, так как помочь мне не может! Меня это очень беспокоит, и я хочу вас попросить именно о том, чтобы вы как-нибудь передали ей, что я прошу ее не рисковать понапрасну, и объяснили бы, какие опасности ей угрожают!
— Так вы уверены, донья Инес, что ваша подруга где-то рядом?
— Я уверена, что она бродит вокруг замка! О, найдите возможность, умоляю вас, отговорите ее от напрасного риска, на который она идет ради меня, это может кончиться для нее страшным несчастьем, она может попасть в руки Изидора, а он не пощадит ее.
— Я сама боюсь его ужасно! Да и никому здесь, в замке, он не нравится, все его терпеть не могут! Не беспокойтесь, донья Инес, я найду вашу подругу!
— Указать вам, где именно ее искать, моя добрая Марта, я не могу, но уверена, что вы найдете ее вечером недалеко от замка. Ходит она всегда в черной одежде, роста высокого, стан стройный и гибкий, лицо очень красивое! Если вам удастся ее найти, передайте ей, что я посылаю мой прощальный привет ей и отцу Антонио, посылаю мое последнее слово любви Мануэлю, — с горечью сказала Инес, и на последнем имени голос ее дрогнул. — Скажите ей, что мне суждено умереть здесь и что самое горячее мое желание, чтобы, по крайней мере, хоть она спаслась и не попала в руки этого изверга! Убедите ее, что спасти меня она не может. Беретесь ли вы, Марта, исполнить мою просьбу, готовы ли оказать мне эту огромную услугу?
Марта рыдала и целовала белые, нежные руки графини.
— Да, донья Инес, не сомневайтесь, я найду способ, ни перед чем не остановлюсь, чтобы в точности исполнить все, что вы говорите, — сказала она.
— Будьте осторожны, Марта, моя милая, поберегите себя, чтобы мне не пришлось испытать нового горя, узнав, что вы пострадали из-за меня!
— Обо мне не беспокойтесь, сеньора! Никто не узнает о наших делах, даже мой муж, от которого я еще никогда в жизни ничего не скрывала! Нынче же вечером я пойду искать сеньору в окрестностях замка и сообщу вам сейчас же по возвращении о результатах моих поисков! Пресвятая дева Мария сохранит меня и поможет мне найти Амаранту!
Инес крепко пожала руку доброй женщине, утиравшей слезы, чтобы кто-нибудь не заметил, что она плакала. Несколько минут спустя она ушла.
Инес, немного успокоившись после всех потрясений, пообедала и для вида отлила часть напитка из кружки. К вечеру ее посетил управляющий, желая убедиться в действии приготовленного им яда.
Войдя как будто для осмотра комнаты, он украдкой заглянул в кружку и, заметив, что жидкости там убыло, удалился, весьма довольный этим обстоятельством.
Инес, не удостоившая его ни словом, ни даже взглядом, осталась опять одна.
Марта, с нетерпением дождавшись вечера, выбралась осторожно из дворца через заднюю маленькую дверь, предназначенную для прислуги.
«Куда идти, — думала она, — в какую сторону направиться?» Вокруг сада и на террасе стоят часовые, позади дворца тоже ходил взад и вперед караульный с заряженным ружьем, но, к счастью, он не обратил на нее внимания, зная, что она жена кастеляна.
Удалившись на некоторое расстояние от дворца, она побрела наудачу к лесу. Добравшись до опушки, она пошла вдоль нее, осматриваясь кругом, не мелькнет ли кто-нибудь между деревьями. По счастливой случайности, она шла в том направлении, следуя которым можно было выйти к селению, где Амаранта нашла себе приют в домике бедной вдовы.
Марта, не зная этого обстоятельства, шла все дальше и дальше, пока, наконец, не вышла к дороге. Замок остался так далеко позади, что она не могла его даже увидеть. Остановившись у дороги, она раздумывала, идти ей вперед или возвратиться назад, как вдруг увидела человеческую фигуру, идущую со стороны селения. Она не могла различить, мужчина это или женщина, и решила спрятаться за деревом и посмотреть. Темнота сгущалась с каждой минутой.
Фигура подходила все ближе и ближе. Марта пристально всматривалась в нее с замирающим от нетерпения сердцем; наконец, она увидела, что это была женщина, потом рассмотрела, что на ней черная одежда и. что сама она высокого роста.
Но все-таки она еще не была убеждена, что это именно та, кого она ищет. Прижавшись плотнее к дереву, Марта продолжала внимательно рассматривать уже совсем поравнявшуюся с ней сеньору, которая, проходя мимо, не заметила ее в темноте.
Наконец, когда та отошла на несколько шагов, Марта тихо сказала:
— Амаранта, — и женщина тотчас обернулась.
— Кто зовет меня? — спросила она с удивлением. — Не ты ли это, Инес?
После этих слов Марта не могла более сомневаться, что перед ней именно Амаранта, и поспешно подошла к ней.
— Вас звала не донья Инес, сеньора Амаранта, а я, посланная ею, чтобы вас разыскать, — сказала добрая женщина приятным голосом, внушавшим доверие. — Пресвятая Мадонна привела меня, видно, на эту дорогу и помогла мне найти вас!
— Вы пришли от графини Инес?
— Да, я жена дворцового кастеляна.
Амаранта невольно посмотрела на незнакомую ей женщину с некоторым недоверием.
— И Инес поручила вам найти меня и передать мне что-нибудь? — спросила она.
— Да, сеньора, донья Инес поручила мне передать вам, что она очень опасается за вас. А у нее и без того много горя, много беспокойства и достаточно причин бояться за себя! Она сказала мне, что видение, представившееся дону Карлосу, было не дух, а вы.
— Она вам сказала это? — воскликнула с радостью Амаранта. — О, расскажите мне об Инес, о моей дорогой Инес!
— Она очень беспокоится о вас!
— Обо мне ей нечего беспокоиться! Мне ничего не угрожает!
— Она боится, что вы попадете в руки управляющего замком, что было бы для вас величайшим несчастьем, гибелью. Именно потому она и просила меня отыскать вас и передать, чтобы вы не приходили туда и не заставляли ее волноваться за вас.
— Расскажите, как поживает моя Инес?
— Все очень плохо, сеньора, — ответила Марта, и слезы выступили у нее на глазах. — Управляющий замком уже пытался ее отравить!
— Изидор! От него всего можно ожидать!
— Сегодня он отравил питье, приготовленное для доньи Инес! К счастью, я случайно увидела это и сумела отвести от нее беду!
— О Боже мой, какое мучение — знать, что она во власти этого злодея, и не иметь возможности вырвать ее из его рук!
— Донья Инес, предвидя близкую смерть, посылает вам и патеру свой прощальный привет и просит вас передать какому-то дону Мануэлю, вероятно известному вам, ее последнее слово любви.
— Она не должна умереть! — воскликнула Амаранта решительным тоном. — Знаете ли, зачем я пришла на террасу в тот вечер, знаете ли, зачем я сейчас направляюсь к замку? Чтобы спасти Инес, освободить ее!
— Что вы делаете, сеньора?! Разве вы не знаете, что сад и замок окружены со всех сторон часовыми?
— Я знаю это!
— И несмотря на это, хотите проникнуть туда? Да ведь это значит идти на верную смерть!
— Я готова рисковать своей жизнью ради спасения Инес! Вы меня не выдадите? Прошу вас вернуться теперь в замок и передать Инес, что я решила во что бы то ни стало прорваться к ней сегодня ночью и чтобы она приготовилась бежать!
— Вы идете на верную смерть, сеньора, пожалейте себя! У всех входов стоят часовые! Пробраться в замок невозможно!
— Разве и черные ходы стерегут?
— Все, без исключения!
— Не можете ли вы указать мне какой-нибудь лазейки? О, ради Господа, помогите мне пробраться в замок! — воскликнула Амаранта. — Скажите мне только, как я могу это сделать?
— Это невозможно, сеньора, — ответила Марта и задумалась. — Управляющий расставил часовых у всех входов, не забыл ни одного из них! Впрочем, постойте, отличная мысль! Кажется, можно будет проникнуть в замок через погреб… Да, да, превосходно! Ночь темная… Слушайте же! Из погреба, если вы будете осторожны, вы сможете пройти к донье Инес! Дверь погреба заперта изнутри, но я отопру ее!
— Где находится этот погреб?
— По ту сторону замка, с северной его стороны! Рядом с ним нет часовых. Дверь в погреб очень низкая и совсем немного выступает над землей, ее почти не видно!
— А куда я попаду из погреба?
— Сперва вы выйдете из него в подвальный этаж, где живет управляющий со своими солдатами, там вы должны идти очень осторожно! С этого этажа вы подниметесь по лестнице в коридор, пройдя его, попадете в другой, там опять увидите лестницу, на верху которой я буду ожидать вас, чтобы отвести к донье Инес!
— Так я могу рассчитывать на вашу помощь?
— Да, сеньора, я готова вам помочь, насколько могу это сделать, не выдавая ни себя, ни вас, в этом вы можете быть уверены!
— О, прекрасная, честная женщина! Как благородно с вашей стороны помочь несчастной Инес!
— Ее участь волнует меня до глубины души, и вы можете смело рассчитывать на мою помощь!
— Только не подвергайте себя опасности из великодушия.
— Мы все подвергаемся опасности! — возразила жена кастеляна.
— Бог поможет нам! Мы ведь хотим сделать доброе дело, — сказала Амаранта, протягивая руку Марте. — Возвращайтесь поскорей во дворец! Я приду после полуночи.
— А я тем временем подготовлю донью Инес. Но, ради Господа и всех святых, будьте осторожны, сеньора, — сказала Марта, исчезая в темноте, еще больше сгустившейся, пока они разговаривали.
Амаранта смотрела ей вслед, скрестив на груди руки и обратясь душою к Богу, благодаря Его за эту помощь, ниспосланную ей с неба!
Через несколько часов их судьба должна была решиться! Или ей удастся освободить подругу, или она разделит ее участь и тоже попадет во власть Изидора, этого дьявола, которого она страшно боялась, но еще больше ненавидела.
Она свернула с дороги и углубилась в лес, чтобы под его защитой подойти к дворцу и после полуночи быть на месте, указанном Мартой.
Смелому мероприятию Амаранты помогало, казалось, само провидение, небо покрылось черными тучами, и мрак сделался непроницаемым, в двух шагах ничего не было видно.
Амаранта шла по густому лесу, не обращая внимания на происходившее вокруг нее; выскакивал ли из-за куста зверь, перебегая ей дорогу, раздавался ли шорох ветвей и треск ломающихся сучьев под ногами какого-нибудь четвероногого обитателя этого леса, она не замечала этого, как не слышала и завывания ветра, гудевшего и валившего гнилые деревья, которые, падая, порой задевали ее. До того ли ей было, до этих ли пустяков, когда все мысли ее были поглощены тем, как поскорее помочь Инес, вырвать ее из злодейских рук!
Приблизившись к замку, выглядевшему во мраке сплошной темной массой, она вышла из лесной чащи, внимательно прислушалась и попыталась рассмотреть сам замок, окутанный непроницаемым мраком, и все, что прилегало к нему, — ни огонька, ни малейшего звука, выдававшего присутствие человека.
Все вокруг было тихо и темно.
Амаранта взглянула на небо: по нему неслись рваные, черные тучи, и хотя сейчас оно было темным и мрачным, видно было, что скоро оно прояснится, так как местами уже появлялись просветы.
Медлить было нельзя. Нужно было спешно приниматься за дело.
Она быстро пошла к северной стороне замка, держась на таком расстоянии, чтобы карлисты, находившиеся вокруг него с других сторон, не могли ее увидеть или услышать ее шаги.
Сердце ее сильно билось, наступала решительная минута!
Расположение дворца и сада ей было хорошо известно. Все ближе и ближе подходила она к своей цели. Дворцовые стены были у нее перед глазами. Она ясно слышала шаги часового, ходившего взад и вперед с той стороны, где были задние входы. «Если только, — думала она, — он дойдет до угла, возле которого находится дверь погреба, тогда все погибло, он увидит меня!».
На террасе не было слышно шагов, там часовой не ходил взад и вперед, как караульный заднего фасада.
Амаранта вышла наконец из-под прикрытия деревьев. Она уже ясно различала дверцу погреба, и это послужило ей доказательством, что облака расходятся и становится светлей. Тихо, как тень, подошла она к заветной двери, осторожно нажала на нее, и дверь открылась. Марта сдержала свое слово! Ощупью спустилась Амаранта по лестнице в погреб, ощупью обошла его кругом и наткнулась наконец на лестницу, по которой поднялась в подвальный этаж замка. Там тоже было темно, как и в погребе. Малейший шорох, малейшее неосторожное движение могли сейчас же выдать ее присутствие, а она хорошо помнила, что на этом этаже разместился страшный Изидор со своими солдатами. Вытянув вперед руки, медленно продвигалась она к лестнице, которая должна вывести ее наверх.
Вдруг она услышала недалеко от себя голос, шепотом окликнувший ее:
— Сеньора, это вы? Марта ожидала ее.
— Да, это я! Где вы?
— Здесь!
Они наткнулись друг на друга и, взявшись за руки, пошли вперед.
— Осторожно, сеньора, ради Бога, осторожно! — повторяла Марта.
Они подошли наконец к лестнице и неслышно поднялись наверх. Самое опасное место было пройдено.
— Знает Инес о моем приходе? — спросила тихо Амаранта.
— Она ждет вас и приготовилась к побегу. Еще одна лестница — и мы у цели.
— Никто не догадывается о нашем плане, никто ничего не заметил?
— Никто, сеньора!
Они прошли последнюю лестницу. Марта отперла комнату пленницы, и подруги бросились друг другу в объятия. Наконец они опять были вместе!
— Благодарение Господу, что он вернул тебя мне, — воскликнула Амаранта тихим голосом.
— Ты пробиралась ко мне, рискуя жизнью, дорогая моя Амаранта!
— Успокойся, утешься, я спасу тебя! Но идем скорей, дорога каждая минута, ночь становится все светлее!
Инес протянула Марте руку.
— Благодарю вас за все, что вы для меня сделали, — сказала она, — да помилует вас Господь и не допустит, чтобы вы пострадали за то, что помогли мне!
— Я буду молиться за вас, донья Инес! Идите с Богом!
Амаранта тоже горячо пожала руку Марты, которая повела их к лестнице, уговаривая быть как можно осторожнее.
Неслышными шагами спустились они вниз, прошли по коридорам и, достигнув подвального этажа, Инес и Амаранта остановились, а Марта пошла вперед послушать, не идет ли кто. Вскоре она услышала шаги и, быстро вернувшись к девушкам, опять потащила их наверх. Остановившись с ними на верхних ступенях, она продолжала слушать. По походке она узнала, что это управляющий, выходивший, вероятно, проверять посты и теперь возвращавшийся в свою комнату.
Они дождались, пока шаги стихли, и тогда снова двинулись вперед.
«Что если Изидор вздумал проверить маленькую дверцу погреба? — думала Марта, содрогаясь от этого предположения и припоминая, что дверца осталась незапертой. — Тогда наше дело проиграно». К счастью, управляющему никогда не приходило в голову проверять погреб.
Наконец они выбрались из страшного этажа в погреб и скоро очутились у двери, за которой… Амаранта, приоткрыв ее немного, посмотрела кругом. Никого не было видно, но небо прояснилось, месяц освещал всю окрестность и теперь дойти до леса незамеченными было очень трудно, они были бы там как на ладони. Но нужно было решиться на этот шаг, другого выхода не было. Они вышли из погреба, простившись с Мартой, которая осторожно заперла за ними дверь. Инес, дрожа от страха, схватила Амаранту за руку, с жадностью вдыхая ночной воздух. «Еще несколько минут, — думала она, — и я спасена!»
— Идем, — прошептала Амаранта, — прижмись ко мне плотнее, надо добраться до леса!
— Ты слышишь шаги часового? Он увидел нас!
— Возьми себя в руки, ты вся дрожишь, — отвечала Амаранта, увлекая за собой Инес под сень ближних деревьев, за которыми начиналось то роковое, открытое пространство, отделявшее их от леса, где их легко мог увидеть при лунном свете караульный. Осторожно добежав до ближайших деревьев, девушки остановились, выжидая, пока часовой, ходивший взад и вперед, не повернется к ним спиной.
Как только часовой повернул, подруги бросились бегом к лесу.
Услышал их или просто случайно, но часовой. вдруг обернулся и увидел девушек, едва успевших пробежать несколько метров. Он громко окликнул их, но не получив ответа и видя, что они не останавливаются, прицелился и выстрелил в беглянок. Пуля пролетела мимо. Инес присела было от страха, ноги у нее подкосились, но Амаранта дернула ее изо всех сил и, крепко ухватив за талию, потащила за собой.
— Бежим, бежим, не останавливайся, — воскликнула она повелительным тоном.
Изидор, услышав выстрел, выскочил из задних дверей замка и, как только часовой указал ему на бегущих, сразу догадался, что случилось.
— Ага! Бегство! — прошептал он, стиснув зубы, и опрометью бросился в погоню за девушками.
Несмотря на его повелительные окрики, они мчались вперед, не оглядываясь и не останавливаясь.
Амаранта, не терявшая присутствия духа, поддерживала Инес словами и примером. Их отделяло от леса не более ста шагов, но Изидор настигал их и должен был непременно догнать прежде, чем они успели бы скрыться в лесу; еще чуть-чуть — и они в его руках! Однако ему не суждено было поймать их. Из леса вдруг раздался выстрел.
Инес и Амаранта в отчаянии остановились, уверенные, что в лесу тоже расставлены посты и что выстрел сделан одним из часовых.
Но, обернувшись после этого внезапного выстрела, Амаранта увидела, что Изидор зашатался, и догадалась, что пуля попала в него.
— О, это ты, Доррегарай, это ты или один из твоих гардунцев! — вскричал он с пеной у рта и тут же упал.
Амаранта и Инес поспешно скрылись в лесу, надеясь убежать от преследования. Карлисты же, услышав выстрел, бросились туда, куда бежал их начальник, и вскоре нашли его, лежащего в крови. Занявшись им, они и не думали преследовать девушек, которые тем временем под надежной защитой леса бежали вперед и вперед, пока наконец Инес не остановилась, не в силах больше не только бежать, но и просто держаться на ногах.
Замок остался далеко позади. О карлистах не было ни слуху ни духу. Инес была спасена! Со слезами радости бросилась она в объятия своей самоотверженной подруги, прижавшей ее с нежностью и любовью к своему сердцу.
XIX. Антонио и герцог
От встречи с прегонеро старый герцог Кондоро был так расстроен и находился в таком возбужденном состоянии, что Рикардо сильно опасался за него. Горе и гнев наполняли душу старика. Мысль, что он был так жестоко обманут, что Клементо, которого он уже успел полюбить, не был его сыном, не давала ему покоя, терзала и мучила его!
Он опять был одиноким стариком без сына и без наследника!
Ему было нестерпимо тяжело, он невыносимо страдал. К Клементо, невинному герою всей этой драмы, он чувствовал еще большее сострадание, чем прежде, и оставил его в полном неведении о случившемся, по-прежнему окружая его нежным вниманием, заботясь о его спокойствии и жизненных удобствах. Оттолкнуть от себя несчастного он не мог, но все же тот не был его наследником, не был его сыном, которого он так долго разыскивал!
Этот обман, это заблуждение еще сильнее разожгли в душе герцога желание найти своего настоящего сына, передать ему свое имя и богатство. Осуществление этого желания стало смыслом всей его жизни, пробудило в нем силы и энергию молодости. Он твердо решил довести дело до конца.
Через несколько дней старик стал неузнаваем: он окреп, горе как будто оставило его, он стал бодр душой и телом.
Перемена эта особенно резко бросилась в глаза Рикардо, когда он однажды утром, войдя в комнату герцога, увидел его почти веселим, с оживленными глазами, с бодрой осанкой.
— Рикардо, мы едем на север, — сказал он твердым голосом, — распорядись, чтобы все было уложено!
— На север, ваше сиятельство? — спросил с испугом старый дворецкий. — Там же очень неспокойно, он наводнен карлистами!
— Несмотря на это, мы едем в Логроньо, и не противоречь, это мое непреклонное решение, я так хочу! Завтра рано утром мы выезжаем из Мадрида!
— А сеньор Клементо?
— Остается здесь со всей прислугой. Жизнь его должна идти по-прежнему, он должен быть окружен теми же удобствами. Ты один отправишься со мной!
— Позвольте, ваше сиятельство, спросить вас об одном?
— Говори, Рикардо!
— Не угодно ли будет вашему сиятельству послать меня одного в Логроньо? Я разыщу семейство танцовщика Арторо и узнаю об участи дукечито.
— Нет, Рикардо, мы поедем вместе!
— Ваше сиятельство, умоляю вас, пошлите меня одного в Логроньо, не подвергайте себя опасности. Примите во внимание, что сообщение по железным дорогам во многих местах прекращено, что эти разбойники карлисты нападают на проезжающих, грабят их, обвиняя в шпионаже, и убивают!
— Ни слова более, Рикардо! Несмотря на все эти опасности, я остаюсь при своем решении: завтра утром мы уезжаем!
Старый дворецкий, зная вспыльчивость и твердость характера своего господина, не сказал больше ни слова и с озабоченным видом направился к двери.
— Еще одно поручение, Рикардо: распорядившись насчет укладки вещей, сейчас же поезжай к герцогине!
— Слушаю, ваше сиятельство!
— Ты знаешь все, что рассказал Оттон Ромеро относительно моего пропавшего сына?
— Да, ваше сиятельство, я все слышал!
— Постарайся же добиться от герцогини еще каких-либо подробностей, грози ей преследованием по закону, тюрьмой, скажи, что, только сообщив требуемые сведения, она может избежать этого и тогда все ее неприятности ограничатся только уплатой десяти тысяч дуро бывшему воспитателю Оттону Ромеро!
Рикардо низко поклонился и вышел из комнаты герцога. Затем, распорядившись насчет укладки вещей, немедленно отправился на улицу Сиерво, где на одном из домов красовалась вывеска «Бальный салон дукезы».
Старый дворецкий, подойдя к этому дому, поморщился; его покоробило такое издевательство над герцогским титулом! Но, подавляя в себе неприятное чувство, он вошел в дом. В прихожей ему встретились танцовщицы и музыканты, выходившие из салона после репетиции.
Рикардо, поднявшись на лестницу, которая вела в покои герцогини, дернул звонок.
Дверь сейчас же отворилась, и показался слуга, спросивший, что ему угодно.
Рикардо назвал свое имя и просил немедленно доложить о нем герцогине.
Слуга тут же отправился и, вернувшись, провел его в великолепно убранную приемную. Вся эта роскошная обстановка была приобретена Сарой Кондоро на деньги, полученные ею от герцога за бедного Клементо, ее родного сына, которого она, нимало не смущаясь, выдала за другого своего сына.
Герцогиня, заставив дворецкого долго ждать себя, наконец вышла с раскрасневшимся лицом. По-видимому, она была удивлена этим посещением.
— У меня пропасть дел, любезный Рикардо, я очень занята, — сказала она сиплым голосом. — Скажи, однако, что случилось? Что тебя привело ко мне? Несколько минут я готова тебе уделить.
— Я пришел к вам по очень неприятному делу, сеньора герцогиня!
— Как так? Что-то с дукечито? Боже мой, с ним нужна большая осторожность! Ах, Рикардо, я так устала, у меня головокружение, — сказала Сара, поспешно опускаясь на диван. — Что случилось? Говори же скорей!
— Я не ожидал, сеньора герцогиня, что вы меня так жестоко подведете. Подумайте, вся ответственность за вашу проделку падает на меня!
— О какой проделке ты говоришь, я не понимаю?!
— Как! Вы еще спрашиваете меня, сеньора герцогиня!
— Да, любезный Рикардо, я спрашиваю, потому что не могу понять, о чем ты говоришь!
— Его сиятельство так раздражен, так взволнован, что вчера вечером я положительно боялся за его жизнь!
— Но что же случилось?
— Его сиятельство намерен передать виновников обмана в руки правосудия!
При этих словах лицо герцогини покрылось синевато-багровыми пятнами.
— Обман! — пролепетала она. — Правосудие! Что все это значит?
— Его сиятельству известно, что сеньор Клементо не его сын, а сын…
Рикардо замялся на последнем слове, у него не хватило духу добавить: «Сын ваш и бывшего воспитателя вашего законного сына».
— Как! Кто это донес герцогу? — закричала Сара Кондоро в бешенстве, и на лице ее опять появилось хищное выражение.
— Оттон Ромеро сам во всем признался герцогу!
— Этот негодяй, этот мошенник, которому я отдала половину полученных мною денег? Этот проклятый прегонеро, ненасытную жадность которого я ничем не могла удовлетворить, чья тяга к крови чуть не погубила меня… Так этот каторжник…
— Сеньор Оттон Ромеро был у сиятельнейшего герцога и рассказал ему все. Это, разумеется, довело его сиятельство до крайнего раздражения, и он решил обратиться в суд, чтобы подвергнуть законному наказанию сеньору герцогиню! Кроме того, сиятельный герцог обещал Оттону Ромеро, что ему будут уплачены сеньорой герцогиней десять тысяч дуро!
— Чтобы я еще отдала десять тысяч дуро этому мошеннику, этому негодяю в награду за его предательство? Нет, никогда!
— Его сиятельство обещали это, а свои обещания сиятельнейший герцог исполняет всегда! И сеньора герцогиня будет вынуждена уплатить эти деньги!
— Этому проклятому предателю? Этому негодному прегонеро? Чтобы я позволила ему себя одурачить! — кричала старуха с пеной у рта. — Десять тысяч дуро! Легко сказать, да откуда же я их возьму сейчас? Я должна всего лишиться, чтобы достать их, остаться без копейки — и ради чего же? Чтобы отдать ему, этому отчаянному каторжнику?
— Сеньора герцогиня будет вынуждена возвратить всю сумму, полученную ею от сиятельнейшего герцога, из которой и будут уплачены Оттону Ромеро десять тысяч дуро, но, кроме того, ей придется еще предстать перед законом, так как сиятельнейший герцог твердо решил подать на нее в суд. Сеньора Клементо он оставляет у себя!
— Этого я не позволю! Он мой сын, и я хочу, чтобы он был при мне, — воскликнула Сара Кондоро, ударив кулаком по столу. Этим заявлением она надеялась что-цибудь выиграть. — Мой сын Клементо не останется у герцога, если последний начнет против меня дело, я не хочу этого!
— Его сиятельство оставляет у себя сеньора Клементо из сострадания, на что его отец изъявил свое согласие, а сеньора герцогиня по закону не имеет права препятствовать этому, — отвечал Рикардо очень вежливо и хладнокровно, как всегда. — Он не дукечито, и всеми удобствами жизни, негой и спокойствием, которые у него есть, он обязан благотворительности, и лишить сеньора Клементо всего этого, повторяю, герцогиня не может!
Мысль, что ей предстоит не только возвратить полученные деньги, но еще и попасть под суд, привела герцогиню в бешенство. Она не могла выговорить ни слова, у нее дыхание сперло от злости и страха. Наконец она отрывисто спросила:
— И герцог не отступит перед скандалом, выставит свое имя на позор, потащив меня на скамью подсудимых?
— Его сиятельство твердо решил отдать сеньору герцогиню во власть закона!
— И этот миллионер, этот богач хочет опять отнять у меня все, что дал мне? — продолжала она.
— Так, по крайней мере, сказал мне сиятельнейший герцог, и, по-видимому, он твердо решил выполнить задуманное. Впрочем, мне кажется, есть одно средство смягчить его сиятельство, сделать так, чтобы он не требовал от сеньоры герцогини возвращения всей полученной ею суммы, а только лишь тех десяти тысяч дуро, которые были обещаны им Оттону Ромеро, но этого сиятельный герцог мне не говорил, я высказываю не более как свое предположение!
— Какое же это средство, любезный Рикардо? Может быть, оно поможет мне отделаться и от уплаты прегонеро десяти тысяч дуро?
— Нет, сеньора герцогиня, они ему обещаны за то, что он подсказал, как можно найти дукечито!
— Ах он каторжник! Так он и это сделал!
— Он сообщил сиятельному герцогу все, что ему было известно!
— Что же он мог сообщить? Он не знает ничего!
— Вероятно, сеньора герцогиня рассказывала ему некоторые подробности, потому что он многое знает!
Герцогиня, не в силах больше сдерживать свою ярость, разразилась громкими ругательствами.
— Попади он мне только, окаянный, узнает он меня! — кричала она, сжимая кулаки. — Проклятый каторжник, кровопийца, предатель! Погоди, ты меня еще узнаешь, не сдобровать тебе!.. Но скажи, Рикардо, о каком средстве ты говорил? Не поможет ли оно мне, по крайней мере, избавиться от возвращения всей суммы? Ведь это разорит меня вконец!
— Я полагаю, что сиятельный герцог смягчится, если только сеньора герцогиня скажет наконец всю правду о дукечито, настоящем дукечито!
— Клянусь всеми святыми, что я готова это сделать, но обещаешь ли ты, что герцог не будет требовать с меня возвращения денег?
— Да, обещаю, но только за исключением десяти тысяч дуро!
— И откажется от процесса? Ты понимаешь, надеюсь, как неприятно иметь дело с судом.
— Я полагаю, что его сиятельство согласится отказаться даже и от этого решения, если только сеньора герцогиня расскажет все!
— Хорошо, Рикардо, я согласна на этот договор! Ты узнаешь все. Я полагаюсь на твое слово, что герцог оставит меня в покое. Прежде ты был честным человеком, Рикардо, и я тебе верю!
— Я обещаю вам это, сеньора герцогиня, и вы действительно можете положиться на мое слово!
— Слушай же, и да накажет меня пресвятая Мадонна, если я погрешу хоть одним словом! Проезжая через Логроньо, я нашла там семейство одного танцовщика которое согласилось усыновить маленького герцога за триста дуро.
— Что это было за семейство, сеньора герцогиня?
— Фамилия этого танцовщика — Арторо, он постоянно жил в Логроньо.
— Эту же фамилию назвал и сеньор Ромеро.
— Семейство состояло из самого сеньора Арторо, его жены, лежавшей тогда при смерти, и маленькой дочери, годовалой девочки по имени Хуанита, это я помню очень хорошо! Они были в крайней нищете, и, несмотря на мою собственную бедность, я из сострадания подарила этой малютке десять золотых сверх трехсот дуро, выданных мною ее отцу. Оставив у них маленького герцога, я уехала из Логроньо.
— Значит, он остался в семействе Арторо?
— Да, Рикардо. Но не более как через год меня отыскал сеньор Арторо и передал мне, что сын мой умер!
— О, пресвятая дева Мария! Вы клялись сказать правду, а между тем, что я слышу! — воскликнул с испугом старый дворецкий.
— Это сущая правда, Рикардо, клянусь Богом, что я говорю вам правду! Танцовщик Арторо сам пришел ко мне с известием, что дукечито умер. Когда ты в первый раз был у меня, сперва я ведь сказала тебе то же самое, и это была правда, но ты не хотел мне верить и, соблазняя деньгами, заставил меня выдумать всю эту историю с Клементо. Теперь же я сказала правду, и это все, что я знаю сама!
— Итак, умер… Действительно умер! О Боже милосердный, какой страшный удар для его сиятельства! Я не решусь передать ему это известие, оно может поразить его смертельно. Живет ли еще в Логроньо этот танцовщик, сеньора герцогиня?
— Этого я не знаю, Рикардо. С тех пор, как он уведомил меня о смерти дукечито, я не имею о нем никаких сведений.
Старый дворецкий поднялся с места, уставившись бессознательно в одну точку, и, видимо, потрясенный сообщением герцогини до глубины души, раздумывал, что сказать герцогу и как передать ему это ужасное известие.
— Теперь я сказала все, Рикардо! Сдержи же и ты свое слово!
Дворецкий герцога раскланялся перед Сарой Кондоро и, выйдя из ее дома, отправился обратно в гостиницу в самом мрачном расположении духа.
Дорогой он решил не говорить герцогу о смерти его сына, желая отдалить хотя бы на несколько дней страшный удар.
«Пусть узнает о своем несчастье в Логроньо, — думал Рикардо. — По крайней мере, там нам удастся получить более точные сведения о кончине бедного дукечито, и не останется больше никаких сомнений насчет его участи».
Приняв это решение, дворецкий по возвращении домой явился к герцогу и доложил ему, что все сведения, сообщенные Оттоном Ромеро, оказались верны, но не сказал ни слова о смерти дукечито.
Все это ободрило герцога и еще подстегнуло его желание поскорее добраться до Логроньо и узнать наконец что-нибудь о своем несчастном сыне.
Надежда старика и его уверенность в том, что они найдут дукечито, приводили в отчаяние преданного слугу, знавшего наперед, какое тяжелое разочарование ждет его в Логроньо.
На следующий день рано утром герцог и Рикардо выехали из Мадрида. Вечером прибыли они в Логроньо, занятый уже правительственными войсками, так как кар-листы начали отходить все дальше и дальше к северу.
На другой день герцог в сопровождении своего дворецкого отправился разыскивать танцовщика Арторо. В городском управлении, куда они прежде всего обратились за справками, им сказали, что Арторо, совсем разорившись, продал все свое имущество и отправился странствовать с дочерью и одним из своих музыкантов, надеясь поправить положение представлениями в разных городах. Чиновник, сообщивший герцогу эти сведения, рассказал, что он слышал, будто бы в настоящее время Арторо устроил балаган для представлений в том городке, в котором, как уже известно читателю, встретился с ним Антонио и спас его дочь от насилия карлистов. Герцог, не теряя ни минуты, поехал в означенный город и, прибыв туда на другой день, послал своего дворецкого разыскивать балаган. Рикардо вскоре вернулся с неприятным известием, что балаган он нашел, но тот пуст, в нем никого нет.
Герцог, не удовлетворившись этим сообщением, сам отправился на площадь, где стоял этот жалкий балаган, обтянутый грязным полотном.
Он пришел как раз вовремя, так как двое людей под надзором третьего разбирали его, снимали с него парусину и укладывали все прочие принадлежности.
Тот, кто смотрел за этими работами, обратил на себя внимание герцога благородной внешностью и приличным, скромным видом. Хотя он был в светском платье, но многое обличало в нем особу духовного звания.
Герцог, всматриваясь в этого молодого человека с тонкими изящными чертами лица, с аристократическими манерами, не мог понять, что он может иметь общего с грязным балаганом старого танцовщика. Под влиянием какого-то безотчетного, непонятного для него самого влечения к этому юноше, он подошел к нему, приветливо раскланиваясь.
Антонио, а это был он, вежливо ответил на поклон.
— Позвольте вас спросить, сеньор, — произнес герцог, — не принадлежит ли этот балаган танцовщику по имени Арторо?
— Да, сеньор, это балаган Арторо.
— Я ищу самого Арторо, мне необходимо его видеть по очень важному делу. Не принадлежите ли вы к его семейству?
Антонио отрицательно покачал головой.
— Нет, сеньор, — ответил он, — я узнал его только несколько дней назад.
— Где он находится в настоящее время?
— Несколько часов тому назад он уехал со своей дочерью в Мадрид, чтобы давать там представления. Вот этот человек, — продолжал Антонио, указывая на одного из хлопотавших вокруг балагана, — может, вероятно, сообщить вам, так как это музыкант, который всюду сопровождает Арторо и нынче вечером отправляется вслед за ним со всеми своими балаганными принадлежностями.
— Он из семейства Арторо?
— Нет, сеньор, он не принадлежит к их семейству, но ездит с ними везде в качестве музыканта.
— Так Арторо уехал в Мадрид… Если б я приехал сюда вчера, — рассуждал герцог, — я бы застал его, какая досада! Ведь я приехал именно из Мадрида и только для того, чтоб найти его и переговорить с ним.
— Не хотите ли вы его ангажировать, сеньор?
— О, совсем не то! Я герцог Кондоро и разыскиваю этого танцовщика, чтобы расспросить его об одном, весьма важном деле, об одном семейном деле.
— Простите, ваше сиятельство, что, не имея никогда чести видеть вас, я не оказал вам должного уважения, — сказал Антонио с изысканной вежливостью и с поклоном, обличавшим в нем молодого человека, знакомого с приличиями высшего круга.
— Вы, разумеется, не принадлежите к обществу актеров, сеньор? — спросил герцог Антонио очень приветливо, испытывая к нему все большую и большую симпатию.
— Конечно нет, ваше сиятельство, до сих пор я принадлежал к братству монастыря Святой Марии, имя мое Антонио! Я вырос, в монастырских стенах.
— Так вы были в Мадриде?
— Я недавно оттуда, ваше сиятельство! Несколько дней тому назад я вышел из монастыря.
— Как, вы отказались от духовного звания?
— Этого я еще не решил и пока не знаю, какое поприще изберу, сейчас я не могу думать о себе! В Мадриде я жил во дворце графа Кортециллы, а теперь сопровождал дочь графа в Пуисерду! К несчастью, в неразберихе, которая царит здесь, я был разлучен с графиней и теперь должен найти ее!
— Вы вышли из ордена? Что подтолкнуло вас на такой шаг, патер Антонио? — спросил герцог. — Простите этот нескромный, быть может, вопрос, но поверьте, он вызван не любопытством, а глубоким расположением к вашей личности, живой симпатией, которую вы внушаете мне!
— Благодарю вас, ваше сиятельство, за эти дружеские слова. Выйти же из монастыря я вынужден был потому, что не разделяю верований и убеждений братства, что мои понятия о религиозных и человеческих обязанностях совершенно противоположны монастырским понятиям об этих обязанностях, вот из-за этого несогласия, из-за нежелания лицемерить и изменять своим убеждениям я не мог оставаться в ордене! Богу я могу служить и не будучи монахом, и служить усерднее, служить лучше, так как меня не связывают разные человеческие уставы и формальности, не связывает воля других, воля, зачастую злонамеренная! Очень может быть, что в стране более свободной, чем наша, я вступлю когда-нибудь опять на духовное поприще, буду патером, но не монахом — монастырь опостылел мне.
— Смелый, честный поступок! — воскликнул герцог. — Я не ошибся в вас! Открытый взгляд, благородные черты лица сразу говорят о честности и возвышенности вашей натуры, об искренности и красоте души! Вы не можете принять это за лесть, вам говорит это старик, сеньор Антонио, старик, который мог бы быть вашим отцом.
— Благодарю вас, ваше сиятельство, за это лестное мнение, в искренности которого не сомневаюсь. Но что с вами? Вам как будто нехорошо, вы чем-то взволнованы, огорчены? — спросил с участием Антонио.
— Да, мой юный патер, я взволнован и огорчен. Скажите мне, есть ли у этого танцовщика Арторо сын? Не видели ли вы какого-нибудь молодого человека при нем, которого бы он называл своим сыном?
— Нет, ваше сиятельство, у него одна дочь.
— Не упоминал ли он, не говорил ли, что у него есть или был когда-нибудь сын?
— Он говорил, что у него одно-единственное дитя — дочь, которую он возит с собой везде.
— Куда он мог отдать его? Неужели и эта последняя надежда должна рухнуть, и мне придется узнать, что он умер? Это было бы ужасно! Вы смотрите на меня с удивлением, патер Антонио, смотрите вопрошающе, и какое-то непонятное чувство подталкивает меня доверить вам мою тайну, мое горе! У меня был один-единственный сын! Жена моя, с которой я был в разводе, отдала это дитя на воспитание семейству Арторо! Теперь только мне удалось узнать об этом, и вот я ищу его, чтобы расспросить о моем ребенке, о моем единственном сыне.
— Мне он ничего не говорил ни о каком ребенке, ваше сиятельство, — ответил Антонио.
— Как я боюсь узнать от него самое ужасное для себя — что мой сын мертв! Тогда и для меня остается одно — умереть. Умереть в безутешном горе, тоске, умереть одиноким стариком. Неужели небо не сжалится надо мной? Неужели Бог пошлет мне такое тяжкое испытание?
— Бог знает, что делает, ваше сиятельство, отдайтесь Его святой воле, мы слишком близоруки, чтобы постичь разумность и целесообразность этой воли! Горе ваше понятно и естественно, и я от души желаю, чтобы вы нашли вашего сына у этого бедного старого Арторо! Если же вам суждено обмануться в вашей последней 'надежде, да укрепит вас Господь и утешит!
— Еще один вопрос, патер Антонио. Вернетесь вы во дворец Кортециллы или нет?
— Нет, ваше сиятельство. Там моя миссия окончена!
— В таком случае поселитесь у меня, будьте моим утешителем, моим духовным наставником и руководителем, проведите со мной те немногие дни, которые мне еще остается прожить. Согласитесь, патер Антонио, на мою просьбу!
— Я бы охотно это сделал, ваше сиятельство, но мне нужно исполнить свой святой долг, я должен найти графиню Инес де Кортециллу и отвезти ее в Пуисерду!
— Я понимаю причину вашего отказа, патер Антонио, и она еще больше поднимает вас в моих глазах! Но когда вы исполните эту обязанность, даете ли слово приехать в Мадрид и отыскать там старого герцога Кондо-ро, чтоб быть его утешителем и духовным наставником?
— Обещаю и очень охотно исполню, ваше сиятельство, это обещание!
— Благодарю вас! — воскликнул герцог, крепко .сжимая руку своего молодого друга, так неожиданно посланного ему судьбой. — Я буду ждать вас с нетерпением, надежда видеть вас возле себя, слышать ваши утешения, молиться вместе с вами наполняет мою душу несказанной радостью! До свидания, патер Антонио, и не заставляйте старого герцога Кондоро напрасно ждать этого радостного свидания.
XX. В Мадриде
В столице Испании готовился государственный переворот, совершиться он должен был без мятежа и кровопролития. Большинство населения Мадрида не имело ни малейших подозрений об этих приготовлениях, и совершившийся факт был для него неожиданностью. Переворот был осуществлен тихо и спокойно, можно было бы сказать, что все было сделано самым изящным образом, если бы такие выражения были приложимы к делам подобного рода.
Мысль о перевороте, как читателю уже известно, возникла в головах нескольких военных, которые так тайно сумели все подготовить, что ни до правительственных кругов Кастелара, ни до кортесов не дошли никакие слухи об их замыслах.
Между тем как на заседаниях кортесов спорили по разным вопросам, обсуждая их по целым неделям, дон Карлос разорял страну, усиливал свои войска, власть его росла все больше и больше. Правительство, как нарочно, давало ему время и возможность устраивать свои дела, как будто было заодно с ним.
Сам Кастелар, его министры и кортесы, усердно занимаясь делами второстепенной важности, не обращали ни малейшего внимания на самый существенный вопрос дня — вопрос о том, как избавить страну от карлистов, громивших и опустошавших ее северные провинции. О единственном, что могло спасти страну от этих несчастий, об увеличении армии, никто не заботился.
Народ с неудовольствием смотрел на апатию правительства, на заседаниях которого шла борьба партий, старавшихся взять верх друг над другом и споривших о самых незначительных вопросах, между тем как положение страны становилось все тяжелее и безысходней, угроза жизни, имуществу и благосостоянию граждан усиливалась с каждым днем.
Разумеется, мадридским жителям жилось еще хорошо, до их слуха не долетал гром пушек дона Карлоса, бесчинства карлистов впрямую не задевали их! Газеты были полны неясных, противоречивых сведений об этой несчастной войне, так что настоящее положение дел и те бедствия, которые она несла, были мало известны в Мадриде, куда по большей части доходили только такие известия с театра войны, которые сами карлисты хотели предать гласности.
Как-то утром люди, живущие в окрестностях дворца маршала Серрано и проходившие случайно мимо него, заметили, что туда стекается множество военачальников, но это не вызвало ни особенного любопытства, ни удивления, так как известно было всем и каждому из мадридских обывателей, что у маршала множество друзей и единомышленников среди военных.
Но почему именно в это утро явились к нему все эти генералы, все эти высшие чины? Может, это был день какого-нибудь юбилея одной из его славных прежних побед? Не напоминало ли все это те времена, когда гбрцог де ла Торре был правителем Испании? Такие вопросы возникали у многих, видевших этот необычный поток почетных посетителей во дворец старого маршала. Но никто не находил ответа на них, да и найти не мог.
Посетители, выйдя от герцога де ла Торре, разъехались по своим казармам. Что происходило во дворце герцога во время их пребывания там, никому не было известно, кроме них самих и герцога.
А произошло вот что. Собравшиеся во дворце генералы заявили бывшему регенту Испании, каждый от имени своего военного отряда, что войско и вся страна с нетерпением ждут, чтобы он взял опять в свои руки бразды правления, что давно пора это сделать. Серрано, услышав это заявление из стольких уст, отнесся наконец к нему благосклонно.
Затем генерал Мануэль Павиа де Албукерке, подойдя к маршалу, сказал, что день, когда переворот должен совершиться, настал, что все подготовлено и он берет на себя ответственность за то, что не будет ни кровопролития, ни мятежа.
Маршал ответил на это, что он, в свою очередь, готов последовать призыву и принять на себя управление страной. Раздалось воодушевленное, громкое «Ура!»
Старый герцог ожил, он был опять в своей стихии, было сказано об изменении порядка правления, о военных реформах, об усилении войск, необходимом для освобождения страны от карлистов, — и судьба Испании была решена во дворце герцога де ла Торре.
После полудня, как только кортесы открыли обычное заседание, на котором присутствовал Кастелар со своими советниками, здание было окружено солдатами под предводительством самого генерала Павиа де Албукерке. У всех входов были расставлены посты.
Вслед за тем Мануэль в сопровождении офицеров и целого отряда солдат направился в зал кортесов.
Государственные сановники и сам Кастелар, ничего не подозревавшие, пришли в крайнее изумление, увидев вдруг множество военных, показавшихся во всех дверях зала заседания. Возникло страшное смятение, все вскочили со своих мест, поднялся крик, шум. Один Кастелар понял сразу, в чем дело.
Впрочем, неразбериха продолжалась недолго; не успел генерал Павиа, подойдя к президенту, объяснить ему ситуацию, а в зале уже разнеслось известие о военном бунте и о том, что Серрано просят взять власть в свои руки.
Кастелар объявил, что отказывается от президентства, что он не хочет управлять страной хоть один день против ее воли, это было бы противно всем его убеждениям.
Итак, хватило часа, чтобы совершить государственный переворот, совершить мирно, без всякой борьбы.
Серрано, явившись в собрание, изъявил готовность принять бразды правления и сейчас же назначил министров, на которых мог положиться.
Вечером из газет народ узнал, что маршал Серрано принял исполнительную власть в республике.
Герцог де ла Торре встал опять во главе испанского правительства и вступлением своим на этот пост обязан был только влиянию и деятельности Мануэля, преследовавшего одну цель — благоденствие Испании.
Какая благодарность его ожидала за эту самоотверженную, воодушевленную деятельность, мы увидим впоследствии.
Серрано прежде всего обратил внимание на странную войну, происходившую на севере; он немедленно занялся увеличением армии, объявил дополнительные наборы, образовал новые полки, окружил себя своими старыми товарищами, лучшими испанскими генералами, чтобы с их помощью избавить, наконец, Испанию от войны, грозившей ее вконец разорить.
Даже старый Конхо, испанский маршал, маркиз дель Дуэро, изъявил готовность стать главнокомандующим армией, а одно это уже служило залогом победы правительственных войск над карлистами, так как Конхо был не только отличным полководцем, имя которого было известно всей Испании, но он был еще и чрезвычайно любим солдатами, которые, узнав, что пойдут на войну под его началом, пришли в такой восторг, как будто им предстояло идти на торжественный пир, а не на поле битвы.
Прежде чем продолжать наш рассказ, считаем не лишним познакомить читателя хотя бы отчасти с биографией этого знаменитого испанского полководца.
Дед Конхо был поляк, уроженец Ковенской губернии, имя его было Фортунат Консца. До сих пор еще в Польше живут потомки этого рода. В прошлом столетии Консца отправился во Францию, оттуда перебрался в Испанию и там женился. После него остался один сын, поселившийся в Мадриде и имевший двух сыновей, один из них был тот самый Конхо, старый маршал, который принял на себя командование республиканской армией, отправлявшейся на север воевать против войск дона Карлоса, брат же его, другой Конхо, стал генералом на Кубе.
Маршал Конхо родился и вырос в Мадриде. Он принимал участие в войнах, которые Испания вынуждена была вести за свои южно-американские колонии. За храбрость он был очень скоро произведен в бригадиры, а во время первой войны против карлистов был уже дивизионным генералом. Серрано только начинал карьеру, когда Конхо был уже маршалом.
Город Кадис избрал его своим депутатом в кортесы, там он состоял в партии умеренных, был приверженцем королевы Христины и ее дочери Изабеллы, сторонником Эспартеро, а позднее горячо поддерживал энергичного Нарваэса и был его твердой опорой.
Он подавил восстания в 1843 и 1844 годах в Валенсии, Мурсии и в Сарагосе. Во время столкновений между Испанией и Португалией он командовал корпусом и занял тогда Опорто. За это он получил титул маркиза дель Дуэро. В 1849 году он был послан в Италию с испанскими войсками на помощь прежде высланной туда армии для водворения Папы в его владения. В 1853 году он издал вместе с Донелем, Гонсалесом, Браво и другими тот манифест, который вызвал в 1854 году бунт, вследствие чего он вынужден был уехать во Францию.
Узнав о падении министерства Нарваэса и о возвышении опять Эспартеро, он вернулся на родину, чтобы принять участие в происходящих там событиях. Королеве Изабелле он оставался верен до ее побега; вообще, это был человек чести, с открытым, прямым характером. Он вполне заслужил то уважение, ту любовь и благодарность, которые питали к нему соотечественники. Никогда за время своей долгой жизни не прибегал он ни к каким интригам для достижения честолюбивых целей.
Патриотизм и военное искусство маршала были настолько известны, что его назначение главнокомандующим армией было встречено с восторгом не только войсками, но и народом.
Серрано убил двух зайцев одним ударом: поставив Конхо на этот важный пост, он исполнил желание войска и приобрел доверие народа.
Вообще, правление его начиналось счастливо; вслед за назначением Конхо, получившим горячую поддержку, в Мадрид пришло известие, что старый генерал карлистов Карбера, храбрейший из полководцев дона Карлоса, открыто объявил, что не намерен сражаться за нынешнего дона Карлоса. И еще один успех ожидал Серрано, успех, который можно назвать торжеством: все европейские державы признали его законным правителем Испании.
Конхо немедленно после своего назначения отправился на север, чтобы встать во главе республиканской армии, которая теперь могла смело продолжать войну с карлистами. Вслед за старым маршалом отправились Мануэль Павиа и другие генералы, чтобы принять командование над своими отрядами.
Все они ехали с радостной надеждой положить конец бесчинствам карлистов и с каждым днем возрастающей власти дона Карлоса. Грустную мрачную картину представляли собой северные провинции, разоренные, опустошенные, жители которых страдали от убийств, грабежей и насилия, совершаемых открыто этими разбойничьими бандами претендента на испанский престол. Пора было, наконец, искоренить все это зло.
С ужасом смотрел весь мир на эту страшную междоусобную войну и на ее зачинщика, пытавшегося, не гнушаясь ничем, проложить себе дорогу к престолу, законными правами на который он хвалился.
Завязалось, наконец, сражение, сражение страшное с обеих сторон; убитых и раненых было не счесть, города и села горели, земля дрожала от пушечных выстрелов. О подробностях этой битвы мы будем говорить в следующих главах.
XXI. Прощание
— Сеньор маркиз, — произнес метис Алео, стоя у дверей и обращаясь к своему господину, маркизу де лас Исагасу, сидевшему спиной к двери; на столе перед ним лежало начатое письмо. — Сеньор! — повторил Алео.
Горацио обернулся.
— Это ты, Алео? Что тебе нужно? — спросил он.
— Ах, сеньор маркиз, у меня к вам просьба!
— Говори, Алео, о чем ты хочешь еще просить? Я тебя отпустил, жалованье тебе выдал.
— Я уходил, да вернулся назад, так и тянет сюда! Что я буду делать? Куда мне деваться? За что взяться?
— Я ведь тебе сказал, чтоб ты нашел себе другое место, а я завтра ухожу с полком, где мне не нужно слуги!
— Я все это знаю, только уж очень не хочется мне от вас уходить, противно и думать, чтоб к другому господину поступить! Я вот и пришел просить вас, будьте милостивы, оставьте меня у себя, — говорил Алео, наблюдая исподлобья, какое действие производят на маркиза его слова. Он знал причину, почему тот его отпустил, знал, что маркиз разорился и не мог держать прислуги, но, разумеется, Алео не хотел показать, что догадывается об этом, и продолжал, как будто ничего не подозревая: — Во время моей службы у господина маркиза я скопил порядочную сумму денег, поступи я на другое место, у меня, пожалуй, украдут их! Дурных людей на свете больше, чем хороших, всякий норовит стащить, украсть, как только видит у другого деньги, так вот я и пришел просить господина маркиза взять мои деньги и оставить меня у себя.
— Да ведь ты знаешь, что завтра я ухожу с полком, следовательно, не могу я взять ни твоих денег, ни тебя самого! Ступай!
Алео замолчал на минуту.
— Господин маркиз! — начал он опять. — Мне бы очень хотелось попасть в солдаты и отправиться на войну!
— Как! Ты хочешь на военную службу?
— Нынче же хотел поступить, чтоб завтра выступить! Если бы вы изволили дать мне маленькую записочку, чтоб меня приняли в ваш полк, тогда я ведь могу остаться при господине маркизе!
— Добрый ты малый! — сказал Горацио, протягивая руку Алео и вставая со своего места. — Хорошо, я исполню твою просьбу и возьму тебя с собой! Ступай и запишись у капрала Тринко в мой эскадрон, скажи, что я тебя прислал!
— Верьте, господин маркиз, что вы мне доставили большую радость, — сказал Алео, смеясь от удовольствия. — Ну, теперь я спокоен, слава Богу!
— Добрая ты, преданная душа!
— Так завтра мы выступаем, — воскликнул Алео, — и я остаюсь у господина маркиза!
— Поспеши записаться, чтобы успеть получить мундир и всю амуницию! Да, кстати, не знаешь ли ты, где находится сеньора Белита, где она живет?
— Знаю, господин маркиз, она живет на Валгесхен, на правой стороне, в маленьком домике старого слесаря, во дворе, — ответил Алео. — Господин маркиз хочет проститься с сеньорой Альмендрой! Конечно, на войне все может случиться, едешь здоровым и веселым, а, Бог знает, вернешься ли назад!
— Да, Алео, ты прав, Бог знает, вернемся ли мы назад, — повторил маркиз, мрачно глядя в окно.
Алео, взглянув на своего господина и заметив этот мрачный взгляд, понял, по-видимому, причину печали маркиза.
— Что делать, — сказал он, — я сегодня же пойду исповедаться в храм Атоха! А это для меня большая радость, что сеньор хочет перед отъездом проститься с сеньорой. Ах, сеньора — просто ангел!
— Ступай, Алео, поспеши, — воскликнул маркиз. — Капрал Тринко примет тебя, и ты тотчас же узнай у него, в котором часу мы выступаем.
— Слушаюсь, сеньор, — отвечал метис, поспешно выходя из комнаты.
— Честный, славный малый! — проговорил ему вслед маркиз. — Как я доволен, что он со мной идет на войну! Да, теперь следует проститься навсегда, он прав, он знает, что влечет меня туда, на поле чести, знает, что, если все пойдет по моему желанию, я не вернусь оттуда. Это будет тяжелая минута… Но так должно быть, мы должны расстаться, если она не может принадлежать мне! О, как невыразимо я люблю тебя! Если бы ты только знала, как ты дорога мне! Но полно… Мужайся, и в бой! Ступай сражаться за свое отечество; если ты падешь, то падешь за свою прекрасную Испанию. Да, ты найдешь там желанную смерть, какой-то внутренний голос твердит мне это. Поэтому простись со своими родными и близкими, допиши свои письма, а потом, закутавшись в плащ, поспеши на ту темную, узкую улицу, в бедный, низенький домик слесаря, поспеши к своей Альмендре! Она и не подозревает, что ты придешь к ней, она, может быть, совсем больше не думает о тебе… Нет, я знаю, она не забыла меня, она будет молиться за меня… Этот метис даже называет ее ангелом! Почему же она не хочет, не может быть моею? Но полно об этом, Горацио, завтра мы выступаем!
Пока Горацио еще дописывал свои письма, Белита сидела в небольшой мастерской цветочного магазина, находившегося недалеко от кладбища.
Белита не слушала веселых песен и шуток своих подруг, она сидела с грустным лицом и сортировала цветы: розы, гранаты, жасмин… Жасмин! Какие мысли возникали, какие чувства наполняли ее душу, когда она касалась этого безжизненного жасмина…
Белита была прилежна, и хозяйка цветочного магазина это заметила; она скоро стала давать ей лучшую работу. При этом у Белиты было гораздо больше вкуса, чем у других мастериц, и она лучше составляла букеты из цветов. Это, однако, скоро возбудило зависть подруг, и Белита вынуждена была смиренно выносить их колкие замечания и насмешки. В последнее время Белита стала еще прилежнее, казалось, что в работе она искала утешения, спокойствия и забвения. Она приходила в мастерскую раньше других и оставалась еще долго после того, как все расходились.
Белита старалась работой разогнать мучившие ее мысли. Она не видела Тобаля с того вечера, когда он оттолкнул ее от себя. Она и не желала вовсе видеть его. Она похоронила свое счастье, а с ним и все свои надежды.
Тобаль оттолкнул ее! Его презрение до того оскорбило ее, что забыть это было невозможно. Теперь, чтобы заглушить свои страдания и забыться, она еще прилежнее занялась работой, но напрасно! Холодный взор Тобаля повсюду преследовал ее, и ей все еще слышались ужасные слова, произнесенные им.
Но разве он был неправ? Разве не была она царицей полусвета? Разве не была она той самой Альмендрой, о которой еще совсем недавно ходили в Мадриде разные слухи? Разве не была она возлюбленной маркиза? Разве она не заслужила упреков Тобаля?
Если да, то надо было уметь выносить их. Белита старалась работой заглушить мучительные упреки совести, но иногда сомнение одолевало ее, и она спрашивала себя: не бросить ли эту новую жизнь и не предаться ли снова прежнему вихрю веселья, из которого, она знала, в этот раз ей уже не вырваться? Отчаяние внушало ей, что, может быть, легче будет в этом омуте найти забвение.
«Нет, — в то же время раздавался в душе ее другой голос, — прочь искушение! Пусть Тобаль презирает меня, мое прошлое дает ему на это право! Белита твердо пойдет вперед своей дорогой, она не остановится, не вернется снова к прежнему образу жизни!» Белита с двойным рвением принялась за работу, исполняя свои обязанности с какой-то лихорадочной поспешностью.
В тот вечер, когда Горацио намеревался навестить ее, Белита, по обыкновению, еще долго сидела за работой. Прочие девушки уже давно ушли, но Белита боялась одиночества, боялась своих собственных мыслей, поэтому она так долго работала в мастерской и часто еще брала работу на дом.
Хозяйка вошла в мастерскую, где сидела прилежная мастерица, и очень удивилась, застав Белиту за работой. Хозяйка с заботливостью стала настаивать, чтобы она тотчас же пошла домой, и вместе с тем похвалила ее за прилежание.
Белита накинула свою поношенную шаль, надела старенькую шляпу и отправилась домой.
Ее ждал еще один страшный вечер с воспоминаниями и мучительными мыслями, очередной страшный вечер, который она должна была провести одна в своей комнате! Когда Белита возвращалась к себе, ее одолевали тяжелые раздумья и воспоминания, она не в силах была отрешиться от них и поэтому так боялась одиночества, когда приходилось собирать все силы, чтобы громко не разрыдаться и не предаться полному отчаянию.
Томительный, бесконечный вечер! И так каждый день! За длинным вечером наступала ночь, которую Белита по большей части проводила без сна. Утром, однако, ночные призраки рассеивались, все опять было мирно и спокойно, и Белита могла снова забыться в работе.
Белита медленно шла по улицам, погруженная в свои мысли, и наконец достигла узкой темной улицы, на которой жила. Она вздохнула при мысли о предстоящем ей длинном вечере.
У дверей низенького домика встретила она старого слесаря, который уже запирал ставни. Он поклонился прилежной работнице, снимавшей у него маленькую комнату и так красиво уставившей свое окно цветами.
— Здравствуйте, сеньорита, здравствуйте! — любезно произнес он.
— Как, мастер Фигуарес, вы уже закончили работу? — спросила Белита.
— Точно так, сеньорита, только хочу еще в казармы сходить, попрощаться с моим младшим сыном, завтра они выступают.
Альмендра вздрогнула.
— Завтра они выступают? — повторила она, побледнев.
— А вы разве этого не знаете? Да, войска отправляются на север, чтобы под руководством маршала Конхо сражаться с карлистами, — отвечал ремесленник, — тут уж делать нечего! Конечно, мне жаль сына, кто знает, увидимся ли мы снова? На всякий случай отнесу ему еще немного денег, это всегда может понадобиться.
— Да, это правда. Только я не знала, что у вас еще есть сын в солдатах, я думала, что у вас один сын, министр.
— Он был министром, пока маршал Серрано снова не вступил в свои права! Это мой сын, да! А вы откуда же это знаете?
— Вы ведь сами мне это когда-то сказали.
— Ага! Ну это я забыл. Я горжусь этим сыном, сколько ведь он у меня учился! Теперь он опять может вернуться к своим старым занятиям, он нотариус… Но что-то я заболтался, пора мне идти. Спокойной ночи, сеньорита!
Старик поклонился Белите и быстро удалился. Казармы были далеко, ему надо было спешить, чтобы успеть попрощаться с сыном. «Гарнизон выступает завтра, а значит, и Горацио», — невольно подумалось Белите. Он всегда был так добр к ней! Почему же и как это случилось, что она не могла полюбить его, тогда как он так безгранично любил ее? Почему любила она другого, почему Тобаль все еще был ей дорог, несмотря на то, что оттолкнул ее от себя?
Белита потрясла головой, прогоняя от себя мучительные мысли.
Она прошла по узкому маленькому дворику и открыла дверь своей комнатки. Белита зажгла заранее заправленную лампу, поставила ее на стол и заперла дверь.
Она была опять одна в своем маленьком, но чистеньком и уютном уголке, где все было куплено на заработанные ею деньги. Поэтому особенно любила и берегла она каждую вещь; простой шкаф, такой же стол и стулья были для нее дороже, чем прежняя ее богатая мебель, дорогие платья и жемчуг.
В маленькой комнатке Белиты все было чисто, уютно и мило. Нигде не было ни пылинки. Белита вставала рано, и первой ее заботой было убрать свою комнату. Зато как благодарны были цветы на окне, как пышно росли и цвели они под ее присмотром! Просто весело было смотреть на них.
Белита сняла свою шаль и шляпу, убрала их на место. Она только хотела еще поработать при свете лампы и закончить несколько цветов, которые она принесла с собой, как кто-то постучал в дверь.
Белита испугалась, кто бы это мог быть, кто теперь мог прийти к ней? Но дверь быстро распахнулась, и в комнату вошел военный, плотно закутанный в плащ.
Она не успела опомниться, как вошедший уже сбросил с себя плащ и перед удивленной Белитой предстал Горацио де лас Исагас.
Первым движением Белиты было подойти к нему и радостно протянуть ему руку, но потом ей стало почему-то тяжело видеть его у себя.
— Не бойся, Белита, — сказал он серьезно, — не отворачивайся от меня, ничего не бойся. Я уже знаю все, что ты хочешь мне сказать. Я не затем пришел, чтобы бередить старые раны, я пришел проститься с тобой!
— Проститься, да, — произнесла Белита, — я знаю, что вы выступаете завтра.
— Поэтому-то я хотел еще раз увидеть тебя; Белита, в последний раз пожать твою руку и проститься с тобой. Не сердись на меня за это, но я не мог уйти без этого последнего свидания! Не бойся ничего, я был осторожен, никто в доме не видел меня.
— Садитесь, Горцио, — сказала Белита.
— Как ты холодна, Белита, но голос выдал твое волнение!
— Да, Горацио, не скрою, меня волнует что-то, чего я не могу назвать, что-то мучает меня, и в то же время мне приятно… Я думаю, это благодарность. Вы всегда были так внимательны и так добры ко мне, вы никогда ни в чем не противоречили мне ни словом, ни даже взглядом, вы никогда не требовали от меня невозможного; этого я никогда не забуду, Горацио, никогда, и всегда буду с благодарностью вспоминать о вас…
— Но только не любить меня?
— Вы богатый, знатный маркиз, а я бедная, простая сирота.
— Это неправда! — воскликнул Горацио. — Я тоже беден, но я не за тем пришел сюда, чтобы упрекать тебя. Моим последним словом, моей последней мыслью будешь ты! Мы расстаемся. Но как охотно бы я для тебя отказался от всего, как охотно стал бы для тебя работать и был бы счастлив тем, что ты принадлежишь мне! Но этому не суждено быть. Я не торгуюсь с судьбой, я спокоен.
— Беден — вы сказали, Горацио?
— Да, я так же беден, как ты!
— Для вас это, должно быть, ужасное несчастье, Горацио?
— Отчего же?
— Вы привыкли к довольству. Это действительно правда, то, что вы сказали?
— За меня не бойся, мне больше ничего не нужно.
— Что значат эти слова, Горацио?
— Это значит, что я пришел с тобой проститься, Белита. Завтра мы выступаем на север, чтобы драться за отечество. Несчастные, которых оставила надежда, могут в этой битве найти прекрасную, славную, желанную смерть! Недостойным тоже представляется возможность послужить великой цели, и даже люди, которые никогда, может быть, не решились бы на хорошее дело, могут прославить себя и оставить о себе добрую память. Это утешительная, прекрасная мысль, Белита. Я же с миром ухожу отсюда и со спокойной совестью могу идти навстречу смерти!
— У вас, несомненно, прекрасная душа, Горацио, — отвечала Белита, и на глазах ее выступили слезы. — Хотя я и не могла полюбить вас, я все-таки уважаю и люблю вас, как сестра.
— Не говори этого! Такой любви мне не надо! — возразил Горацио. — Но я хочу расстаться с тобой в мире, я не сержусь на тебя за то, что ты не могла полюбить меня, пусть это и было для меня источником всех бед и страданий, пусть это лишило меня будущего. Но теперь все забыто, ты видишь, я доволен и спокоен.
— О Господи! Это спокойствие меня пугает! Горацио, что у вас на уме?
— Ничего, я просто пришел проститься с тобой, Белита.
— Да, но каким вы пришли сюда! Или вы с трудом сдерживаетесь…
— Ты это знаешь, ты это чувствуешь, но не буди во мне страстей… Прощай, моя возлюбленная! — горячо воскликнул маркиз. — Прощай, мы никогда, никогда больше не увидимся! Я расстаюсь с тобой навеки!
— У вас что-то страшное на уме, вы что-то задумали, Горацио, ради Бога…
— Мое единственное желание — пасть за отечество, это моя единственная надежда! Ни одно сердце не будет здесь страдать обо мне, у меня нет никого на свете, кто любил бы меня, и такие люди счастливы, когда смерть зовет их, когда они могут пожертвовать жизнью за отечество.
— Одна душа все-таки будет помнить о вас и за вас молиться! — рыдала Белита.
— Все кончено! Прощай! Ты будешь моей последней мыслью. Да хранит тебя Бог, мы никогда больше не увидимся.
Он накинул на себя плащ и схватил свою шляпу, потом обернулся, горячо поцеловал Белиту и поспешно вышел. Она, вся в слезах, хотела остановить его, но он уже не слышал ее и скоро скрылся в темноте.
Белита все еще смотрела ему вслед.
«Ты будешь последней моей мыслью… Да хранит тебя Бог! Мы никогда больше не увидимся…» — слова эти все еще раздавались в ушах Белиты, и крупные слезы катились по ее щекам.
— Да, он идет навстречу смерти… Все кончено. Прощай, Горацио! Меня тоже зовет смерть, она манит меня к себе…
XXII. Арторо
— Однако ты сыграл со мной хорошую шутку! — этими словами встретила дукеза своего старого друга прегонеро, который намеревался, кажется, говорить с нею холодно.
— Ты сама того хотела, — сварливо возразил прегонеро. — Очень уж важны вы стали и таких людей, как мы, больше к себе не пускаете! Не спорь! Три раза меня прогоняли, это чересчур много! А нищего разыгрывать я не хотел, это для меня слишком унизительно.
— Роль доносчика тебе больше пристала. Зачем ты пошел к герцогу? — отвечала дукеза спокойно, надеясь спасти от прегонеро хотя бы некоторую часть денег. — Знаешь ли, что и ты за это дело поплатишься не меньше меня?
— Я-то за что?
— За то, что был соучастником в обмане! Герцог хочет доказать это перед судом. Не думаешь же ты, что я возьму всю вину на себя? Ведь ты тоже деньги получил, и не ты ли первым вспомнил о Клементо и предложил его? Ты же все это сочинил, а теперь на себя же донес и опять барыш получил.
— Это мне все равно, пусть будет по-твоему. Я только хотел доказать тебе, что со мной нельзя так свысока обращаться, это рассердило меня, и поэтому я пошел к герцогу.
— Нет, я думаю, что ты это сделал из родительской любви! — язвительно засмеялась старуха. — Не так ли? Тебе стало невмоготу терпеть, что ты продал своего сына.
— Что болтать-то! — воскликнул досадливо прегонеро. — Я пришел за деньгами, вот и все тут!
— За какими деньгами? Уж не за моими ли?
— Нет тут никаких твоих денег, они по праву принадлежат герцогу, а он подарил их мне.
Сара Кондоро все еще старалась сдержать свое бешенство.
— Я все обдумала, — начала она, — я все возьму на себя, а ты удовольствуешься теми деньгами, которые я, не спросясь у герцога, выделила тебе.
— Удовольствоваться этими? Да я не осел! Отдавай мне сейчас же мои десять тысяч золотых!
— Полно сумасбродничать! Поторгуемся.
— Ты с ума сошла? О чем тут торговаться? О чем еще говорить. Герцог подарил мне эти деньги, ты должна только отдать их мне. Отдавай прямо сейчас!
— Ах ты, низкий вор, обманщик! — вдруг вскричала дукеза, не в силах больше сдерживать свой гнев, видя, что прегонеро неуклонно стоит на своем. — Ах ты, трава сорная! Сама, впрочем, виновата. Зачем я связалась с такой сволочью! Постой, ты еще поплатишься за это!
— Молчи! Или худо будет!
— Я ж упеку тебя под суд, изменник! Пусть сама разорюсь, лишь бы тебя упечь, негодяй!
— Молчи! — в бешенстве воскликнул прегонеро.
— Смотри, чтобы я не приказала своим людям вы* швырнуть тебя из моего дома, разбойник!
— И им и тебе тогда худо придется! Я требую своих денег и не уйду отсюда, пока не получу их!
Злой и громкий смех дукезы был ему ответом.
— Стой, если у тебя так много времени, а у меня ничего нет. Ничего, слышишь? Совсем ничего. Подай на меня жалобу, если хочешь, но если ты не уйдешь, я позову, полицию, чтобы вывести тебя отсюда. Вот до чего мы дошли!
— Лучше не ворчи. Смотри, чтоб я не рассвирепел, ты меня знаешь!
— Ворчать будешь ты вместо того, чтобы деньги считать, — продолжала взбешенная Сара Кондоро. Лицо ее покраснело и глаза, выкатившись из орбит, налились кровью. — У меня больше ничего нет! Ступай, жалуйся на меня! Но Тобаль прогонит тебя со своего двора, об этом уж я похлопочу. Погоди, разбойник, ты еще узнаешь меня!
— Что ж, дашь ты мне деньги или нет?
— Ни одной монеты не дам!
— Подумай сначала, пока я еще не ушел.
— Это мое последнее слово: я тебе ничего не дам! Я хочу проучить тебя, изменник, будешь знать, как доносить! Я бы тебе еще пять тысяч дала, а теперь не дам ничего!
Прегонеро взялся за шляпу.
В эту минуту в комнату вошел слуга и, подойдя к дукезе, сказал ей несколько слов на ухо. Сара Кондоро заметно испугалась.
— Погоди, — закричала она прегонеро, который уже собирался выйти из комнаты, — погоди еще!
Потом она тихо что-то сказала слуге, и тот поспешно вышел.
Дукезу, казалось, взволновало полученное известие.
— Подумай хорошенько, — уже спокойнее заговорила она, обращаясь к прегонеро, которого хотела удержать. — Пять тысяч я тебе дам, но не больше. Если ты согласен, то и дело с концом.
Прегонеро молча направился к двери.
— Так ты не хочешь? Ну, ступай! — крикнула ему вслед Сара Кондоро.
У двери прегонеро обернулся.
— Ну, давай свои пять тысяч, — глухо сказал он с заметным волнением.
— Ого! Я понимаю, хитрая лисица. Ты думаешь, что и так можно: взять теперь пять тысяч, а потом еще потребовать пять! Но я говорю тебе, что больше у меня нет! Ты должен мне дать расписку в том, что полностью удовлетворен.
Прегонеро опять направился к двери.
— Я получу свои деньги от герцога, — сказал он. Старуха сжала кулаки; эти последние слова подействовали на нее.
— Ты подлейший плут! — проворчала она. — И лучше мне сразу и навсегда с тобой расстаться. Я дам тебе деньги, но берегись! В мой дом тебе больше нет дороги после этого!
— Я знал, что ты образумишься, — спокойно заметил прегонеро. — Давай деньги!
— Сегодня я дать их не могу, у меня здесь нет такой суммы.
— В таком случае, герцог мне ссудит ее.
— Уж как ты жаден до золота! — злобно заметила старуха.
— Я хочу получить все сегодня. Это мое последнее слово!
— Ну так ступай вниз к кассиру, сеньору Дурасо; он выплатит тебе всю сумму. Но знай, я не забуду тебе этого, и ты у меня не раз припомнишь эти десять тысяч! — грозила Сара Кондоро. Злость почти лишала ее сил. Она подошла к столу, написала что-то на клочке бумаги и швырнула написанное прегонеро.
Тот поймал бумагу и вышел, не сказав ни слова.
— Погоди, жадный, хитрый сутяга! — бормотала Сара Кондоро, грозя ему вслед. — Погоди, бездельник! Ты еще вспомнишь меня! Чтоб тебе не впрок пошли эти деньги! Хорошо, однако, что Хуан не вслух доложил об Арторо, а то бы прегонеро еще услышал и намотал себе на ус; хорошо, что он не видел его. Но что ему нужно, этому старому плясуну? Зачем он из Логроньо пришел сюда? Не хочет ли он тоже пощипать сеньору дукезу теперь, раз у нее снова копейка завелась? Ну, это будет с его стороны лишний труд, однако чего ж ему еще искать здесь? Правда, он многое знает из моего прошлого, но пусть хоть все об этом знают, мне все равно, денег я больше давать не стану.
Она подошла к двери, которая вела в смежную комнату, и, открыв эту дверь, сказала:
— Войдите, Арторо. Что скажете новенького? Давно мы не виделись. Как поживаете? Как вы, однако, постарели и похудели, Арторо!
Старый танцор, низко поклонившись, подошел поближе. Лицо его было грустно. Он был одет в длинный широкий плащ, театрально закинутый за плечо. Редкие волосы его и борода были седыми. Он оставил свою старую измятую шляпу в другой комнате.
— Постарел и похудел, — с горечью повторил он. — Да, сеньора дукеза, вот что значит нужда и голод!
— Ваши дела все еще так плохи, Арторо? Танцор пожал плечами.
— Мне уже недолго осталось выступать, а все же немногие могут сравниться со мной. Вы еще сами в этом убедитесь, сеньора. А Хуанита, моя дочь Хуанита! Вот бы вы посмотрели на нее. Она танцует прекрасно! Она могла бы выступать на любой испанской сцене. Я прибыл с нею в Мадрид, потому что на севере бесчинствуют карлисты и оставаться там небезопасно. Тут я стал осведомляться о здешних ценах, и как же я удивился, и обрадовался, услышав о прославленном вашем салоне и о том, что вы сами им заведуете.
— А! Я понимаю, Арторо, вы хотите у меня дебютировать.
— Это пламенное желание мое и Хуаниты.
— Невозможно. Я не могу принять вас. Вы не можете себе представить, сколько уже артистов в моей труппе.
— Для старого знакомого, сеньора дукеза, надеюсь, вы сможете сделать исключение, тем более что я пришел к вам в этот раз с повинной головой. Когда я узнал, что судьбе угодно опять свести меня с вами, я тотчас же решился открыто признаться во всем…
— В чем же, Арторо?
— Да в том, что отчасти похоже на преступление, сеньора дукеза! Однако страшная нищета извиняет мой поступок. Теперь тому уже более двадцати лет, с тех пор все изменилось, одна только нужда моя осталась прежней.
Дукеза широко раскрыла глаза и насторожилась.
— Признание? — сказала она. — Что же это? Рассказывайте, Арторо!
— Могу ли я еще рассчитывать на ваше прощение, сеньора? Теперь я уже раскаявшийся грешник. Но я виноват в страшном проступке, и это долго мучило меня, я даже думаю, что этой страшной нуждой я наказан за него! До сих пор еще никто не слышал моей тайны, я даже на исповеди не сознавался в ней, но эта тайна гнетет меня, я хочу от нее избавиться. Может быть, вместе с нею я избавлюсь и от этой страшной нужды, которая с тех пор преследует меня. Я забочусь не столько о себе, сколько о своей дочери Хуаните. Она пропадет со своим талантом! Тогда как здесь она могла бы показать себя, сеньора дукеза; в Мадриде бы ее оценили. Поэтому я сказал себе: ступай к сеньоре дукезе, открой ей все, во всем признайся и упроси оказать покровительство Хуаните и дать ей возможность дебютировать. И вот я пришел к вам, сеньора дукеза. Неужели моя последняя надежда обманула меня?
— Вы возбудили мое любопытство, Арторо. Ну, говорите же скорей вашу тайну! Мы еще поговорим о вашей дочери. Если она хорошо танцует, то сможет у меня дебютировать.
— О, благодарю вас за эти слова, сеньора дукеза! Я так и думал, что судьба недаром снова сводит нас вместе, и сразу решил во всем перед вами признаться. Однако я должен прибавить, что несколько лет назад я тщетно пытался отыскать вас с той же целью. Тогда я собрал свои последние деньги, чтобы съездить в Мадрид и все вам рассказать, но мне не удалось отыскать вас.
— Говорите, Арторо. Я знаю, вам известно многое из моего прошлого, — сказала дукеза.
— Многое, сеньора. Мне отрадно, что я могу, по крайней мере, сказать вам все. Когда вы все узнаете, я могу умереть спокойно. Если бы в этот раз я опять не отыскал вас, то непременно пошел бы к вашему сыну, чтобы от него узнать, где вы находитесь.
— Разве вы что-нибудь знаете о Тобале? Вы знаете, что Тобаль Царцароза здесь? — удивилась графиня.
— Тобаль Царцароза? Нет, сеньора.
— О каком же моем сыне вы говорите? У меня, кроме Тобаля, больше нет сыновей.
— Я говорил о графе Кортецилле.
Сара с минуту молча смотрела на старика; казалось, она припоминала что-то в своей прошедшей бурной жизни.
— Кортецилла? — наконец произнесла она. — Я никакого графа Кортециллы не знаю.
— Но граф живет здесь, дукеза. Я помогу вам припомнить, если позволите. У вас разве около сорока лет тому назад не было двух сыновей от благородного гранда Вэя?
— Двух сыновей? Да, точно! Один из них был убит в сражении, а другой тоже умер, либо пропал без вести; по крайней мере я больше не слышала имени Вэя.
— Вот как! Значит, я одновременно принес вам две важные новости! — воскликнул обрадованный танцор. — Этот второй ваш сын не умер, не пропал, а жив и здоров, и это граф Эстебан де Кортецилла.
— Эстебан… Да, так его звали, я это помню, но почему же он зовется Кортециллой?
— Сестра благородного Вэя была еще в живых тогда?
— Я думаю.
— Она была замужем за графом Кортециллой, и у них не было детей. Графиня усыновила своего племянника. Эстебана Вэя, и с тех пор он стал называться графом Кортециллой. Он давно живет здесь, в Мадриде.
— Это для меня новость! Я, конечно, знала, что здесь живет какой-то граф Кортецилла, но до этой минуты и не подозревала, что это мой родной сын.
— Поверьте, сеньора дукеза, что все сказанное мной — сущая правда.
Старуха покачала головой.
— Странно! Мое семейство снова начинает увеличиваться. Так этот граф — мой сын! Конечно, вы должны хорошо это знать; я в ваших словах не сомневаюсь. В то время я мало об этом заботилась, но теперь я постараюсь повидать его.
— Я не думал, что для вас это будет новостью. Как хорошо, что мы заговорили о графе. Я пришел сюда совсем с другими вестями, которые, может быть, будут для вас еще важнее и радостнее. Я должен, наконец, приступить к своей исповеди. Я покажусь вам страшным грешником, но вы должны выслушать мое признание, без которого я не могу умереть спокойно! Дукечито, которого вы тогда принесли мне и за которого тут же заплатили триста золотых, не умер на следующий год…
Дукеза вскочила с кресла, в котором все время сидела.
— Как? Что же это, Арторо? Говорите скорее, дукечито еще жив? — воскликнула она в крайнем удивлении.
— Жив ли он еще, я не знаю, сеньора дукеза, но тогда, когда я сообщил вам о его смерти, он не умер. Нужда у нас была страшная после моей болезни. Ваших денег нам едва хватило на год, и у меня больше не было куска хлеба ни для себя, ни для моей маленькой Хуаниты. Тогда мне пришла мысль как-нибудь отделаться от чужого ребенка. Простите меня, сеньора дукеза, но виной всему этому нужда. Я не мог больше содержать ребенка, мне нечем было его кормить. Если бы я оставил его у себя, он бы умер с голоду. Но мне было так жаль этого невинного мальчика, который так доверчиво смотрел на меня и просил у меня хлеба, что я не мог равнодушно видеть, как он голодает. Принести его снова вам я не смел, ведь я же получил от вас деньги за него. И однажды ночью нечистый одолел меня: какой-то голос шептал мне, что никто ведь не станет спрашивать у меня ребенка, что мне нужно как-нибудь от него отделаться и сказать потом, что он умер. Я все скажу вам, сеньора дукеза! Я хочу, чтобы вы знали, до чего нищета и несчастье могут довести даже честного и любящего человека. В эту ночь я решил утопить мальчика, бросить его в воду! Теперь я сам содрогаюсь от собственной мерзости, от этого ужасного намерения. Но я был вне себя, я обезумел от горя — больше ничем не могу объяснить себе своего поступка. Я просто не знал, что делал. Жена моя скончалась, дети плакали и просили хлеба, а у меня не было ни гроша. На другой день я хотел уйти с Хуанитой из Логроньо, чтобы искать счастья дальше, а мальчика в ту же ночь хотел утопить… Мне страшно признаться в том, но я должен с этим покончить. Я до того опустился, до того был унижен нищетой, что хотел умертвить невинного младенца, который так любил меня! Нечистая сила обуяла меня. Я потихоньку встал с постели, набросил на себя плащ и подошел к кроватке, в которой спали дети. В пустой холодной комнате было темно. На дворе выла буря, был декабрь… Как хорошо я это помню! Я никогда не забуду той ночи… Это была самая страшная ночь в моей жизни! . Арторо, будучи не в силах сдержать своего волнения, на минуту прервал рассказ, который дукеза слушала с напряженным вниманием.
— Что же дальше? — спросила она.
— Я подошел к кроватке, в которой спали дети, и поспешно схватил мальчика. Ребенок не шевелился, он крепко спал. Я выбежал на улицу и только хотел броситься к реке, как, вынув дитя из-под плаща, увидел, что в спешке я схватил не мальчика, а свою собственную дочь! Неописуемый ужас объял меня! Если бы я еще раз не взглянул на ребенка, движимый каким-то необъяснимым инстинктом, я бы стал убийцей своего собственного дитя, и это было бы достойным наказанием за мое преступное намерение! Несколько минут я стоял неподвижно, потом поспешно вернулся домой, положил Хуаниту в постель и взял мальчика. Мальчик обнял меня за шею руками и крепко прижался ко мне… У меня не хватило духу исполнить мое намерение, я понял, что не могу тронуть ребенка, пусть бы мне пришлось тут же на месте умереть от голода. Я опустился на колени и прижал к своей груди бедное невинное дитя, я сложил руки, горячо помолился и был спасен. О, сеньора дукеза, поверите ли, я часто после того на коленях благодарил Господа за это спасение!
— И вы снова положили дукечито в кроватку? — спросила дукеза.
— Нет. Я не хотел больше держать его у себя. У меня он не был в безопасности. Ведь нечистый мог бы снова попутать меня. Пока я стоял на коленях и молился, неожиданная мысль осенила меня; я думаю, Бог внушил ее мне. В окрестностях Логроньо много монастырей. В один из этих монастырей я решил отдать мальчика. Я плотно завернул ребенка в свой плащ и отправился с ним в дорогу. Долго шел я в ночной темноте и, наконец, дошел до монастыря, но там меня не хотели принять. Я пошел дальше. Всю ночь блуждал и, наконец, к утру дошел до Ираны. Это уж очень далеко от Логроньо, но я не чувствовал ни усталости, ни голода. Тут увидел я другой монастырь и осторожно постучал. Дежурный монах отворил мне, я спросил настоятеля, и меня повели к старому приору, которого звали Элалио. Это был добрый, почтенный старик, — сказал танцор, и глаза его наполнились слезами, — он действительно был набожный, безбоязненный человек. Отец Элалио был истинный служитель Божий, исполненный любви и сострадания к ближним. Долго еще я буду чтить его память и всю жизнь, кажется, не забуду его!
— Вы знаете, какой это был монастырь? — спросила дукеза. — А приор Элалио еще жив?
— Нет, сеньора дукеза, он давно уже отошел в лучший мир.
— И ему-то вы передали дукечито?
— Он принял меня и прежде всего приказал подать мне поесть, так как я от слабости едва держался на ногах, — продолжал Арторо, — потом он попросил меня рассказать ему все о моем положении и о моих намерениях. Приор внимательно выслушал меня. Он взял ребенка на колени и принялся хвалить его нежные благородные черты и кроткое выражение лица. Отец Элалио взял у меня дукечито и обещал мне оставить его в монастыре, любить его и заботиться о его воспитании. Я был чрезвычайно счастлив, поблагодарил благородного приора со слезами на глазах и оставил ему дитя, мальчик был здоров и весел. Но вам, сеньора дукеза, я не смел во всем этом сознаться, я боялся вашего гнева, боялся закона. Короче сказать, прибыв в Мадрид, я сообщил вам, что дукечито скончался. Я отделался от своих забот, но вам сказал неправду.
— А дукечито спокойно жил под присмотром старого приора? Это нехорошо, Арторо, что вы не сказали мне этого.
— Простите, сеньора дукеза! Вы видите, я покаялся. Теперь вам известно все.
— Но я еще не знаю главного, — отвечала Сара с озабоченным видом.
— Спрашивайте, сеньора дукеза, я ничего не скрою от вас.
— Были ли вы в том монастыре после того, Арторо?
— Я был там вскоре после того, как отдал туда дукечито. Он прекрасно рос среди монахов и успел очень полюбить их. Потом, несколько лет спустя, я снова был там. Старого приора уже не было в живых. Патер Пабло занял место настоятеля, и он же воспитывал дукечито, который уже почти возмужал к тому времени. Я видел его, но не назвал себя, а .притворился странником, зашедшим в монастырь помолиться.
— Неужели приор не спросил вас о том, чей это был ребенок и как его зовут?
— Я должен был записаться у него и подтвердить, что этот мальчик мой.
— Как же вы назвали его?
— Антонио, сеньора дукеза. Так его и потом стали звать — брат Антонио. Наконец, несколько лет спустя, когда я опять зашел в монастырь, чтобы посмотреть на дукечито, он был уже монахом. Антонио был высоким, стройным, серьезным юношей и, казалось, был в тесной дружбе с настоятелем. Но в прошлом году, когда я снова пришел в монастырь, я тщетно искал молодого монаха…
— Так он умер!
— Нет, сеньора дукеза. Я осторожно стал расспрашивать о нем и узнал, что патер Антонио был переведен в другой монастырь, но куда — я не мог узнать. Вот все, что я знаю. Дукечито жив и посвятил себя Богу.
— Этой исповедью вы доставили мне неожиданную радость! — заговорила дукеза. — За это я хочу отплатить вам тем же. Вы не зря обратились к старой дукезе, полно вам без цели странствовать по свету с вашей дочерью. Я хочу вам обоим предоставить хорошее место, я принимаю вас, Арторо! Приведите ко мне вашу дочь Хуаниту. Пусть она у меня дебютирует, а вас я назначаю управляющим. Если вы согласны на это, то дело кончено!
— Еще бы, сеньора дукеза! Вы не поверите, как я счастлив! Вы принимаете нас и надолго?
— Надеюсь, что вы останетесь у меня до конца вашей жизни, Арторо. Теперь вы пристроены, и ваша дочь — тоже. Приведите ее скорее!
— О, благодарю вас, сеньора дукеза, благодарю вас! Какое это неожиданное счастье для меня! — в восторге воскликнул старик.
— Я буду платить вам приличное жалованье и уж позабочусь о том, чтобы вы остались довольны своим местом, но я требую, чтобы все ваше время принадлежало мне.
— Это понятно, сеньора дукеза, разумеется! Я согласен на это. Я буду служить вам верой и правдой, и вы увидите, какой прилежный, находчивый и изобретательный управляющий Арторо!
— Часто со двора вам уходить тоже будет нельзя.
— Куда же мне ходить-то, сеньора дукеза? Я рад буду, если окажусь в состоянии денно и нощно служить вам.
— Балы и представления обычно продолжаются до двух часов ночи, после чего вы должны будете составлять программу на завтра, все приводить в порядок, и потом уже ложиться спать. До двенадцати часов вы можете делать, что вам угодно, но затем ежедневно следует репетиция, вечернее представление и подробный отчет мне обо всем. Вы видите, вам придется много работать.
— Не бойтесь, я не пожалею трудов, чтобы оказаться для вас полезным. Я счастлив тем, что вы берете меня к себе, сеньора дукеза, и вечно буду вам за то благодарен.
— Еще одно, Арторо!
— Приказывайте, распоряжайтесь мной!
— Для нас обоих будет лучше, если вы и ваша дочь иначе назоветесь здесь. Вы понимаете меня? Под вашими настоящими именами вы известны в тавернах и провинциальных городках, а это могло бы повредить и вам, и моему салону.
— Я совершенно с вами согласен, сеньора дукеза, и предоставляю вам решить этот вопрос.
— Еще одно условие, Арторо: вы никому не должны говорить ни о графе, ни о дукечито.
— Никому, клянусь в этом!
— Теперь ступайте за дочерью. Скоро ли вы вернетесь?
— Самое позднее — через час.
— Я буду ждать вас! — сказала дукеза вслед Арторо, удалявшемуся со счастливым лицом.
Сара Кондоро тоже казалась довольной. «Вот так хорошее дельце! — думалось ей, и потухшие глаза ее сверкали, а на лице снова появилось хищное выражение. — Дукечито жив, и единственная душа, которая знает об этом, теперь постоянно будет под моим присмотром, будет жить в моем доме и под другим именем! Теперь Арторо в моих руках, и я всегда могу заставить' его молчать! Если прегонеро или самому герцогу Кондоро вздумается искать Арторо, они не сумеют его найти. В Мадриде не будет никакого Арторо, им и в голову не придет, что он совсем рядом, в моем салоне».
Сара была в самом лучшем расположении духа. Она позвонила и приказала подать себе шампанского, чтобы достойно отпраздновать только что одержанную победу.
ХХШ. Испытание
— Пошлите ко мне прегонеро! — приказал Тобаль Царцароза своим работникам, подметавшим двор. Старший из них, подосланный товарищами, приблизился к начальнику, а младший бросился искать прегонеро.
— Позволишь, хозяин, — сказал работник, снимая перед Тобалем шапку, — мы давно хотим спросить тебя.
— Говори, — отвечал палач равнодушно.
— Правда это, хозяин, что ты нас хочешь оставить? Товарищи послали меня спросить тебя об этом. Они говорят…
— Ну, что же они говорят, Сирило?
— Да говорят, что ты хочешь пойти в солдаты и отправиться на север воевать с карлистами.
— Может быть, это и правда.
— А мы хотим просить тебя, останься лучше здесь и будь по-прежнему нашим хозяином.
— У вас будет другой начальник.
— Это мы знаем, что прегонеро займет твое место, Он был твоим первым помощником. Но мы не хотим прегонеро, лучше ты по-прежнему оставайся с нами.
— Надеюсь, вы будете так же беспрекословно повиноваться и так же верно служить новому хозяину, как и мне.
— Так это правда, хозяин?
— Вы еще услышите об этом. Теперь принимайтесь за работу, — отвечал палач. — Войди! — обратился он затем к прегонеро, подошедшему к крыльцу.
Прегонеро повиновался и вслед за Тобалем вошел в комнату, уже знакомую нам.
— Я должен сообщить тебе нечто важное, — начал Тобаль, — садись вон там! Я намерен оставить Мадрид и отказаться от своего места.
— Так это правда, что ты от нас уходишь?
— Я иду на войну, я не хочу больше оставаться здесь. Поэтому я давно уже присматривался к тебе как к своему преемнику и устраивал тебе разные испытания. Я знаю, ты силен, тверд и неустрашим. Одно только вызывает опасения: твоя кровожадность. Но я надеюсь, что ты постараешься побороть ее, тогда я смогу назначить тебя своим преемником. Помнишь, ты обещал мне…
— Я выполню свое обещание, хозяин. Я горжусь тем, что ты выбрал меня; я благодарен за это и не посрамлю тебя.
— Ты обладаешь всеми необходимыми для палача качествами, поэтому я решил предложить тебя. Тебе придется выдержать еще одно испытание в присутствии судей и докторов, смотри, чтобы твоя кровожадность тебя не одолела!
— Не беспокойся, хозяин, я выдержу. В молодости я тоже учился кое-чему и сумею говорить с докторами и судьями. Другие твои работники едва умеют писать свое имя, а я доказал тебе, что грамотен, когда ты заставил меня писать отчет о самоубийцах. Можно сказать, что я родился для этой должности. Но как бы охотно я ни принимал твоего места, все же мне жаль, что ты уходишь, и лучше бы я по-прежнему остался твоим помощником. Мне тяжело расстаться с тобой, я еще ни к кому не был так привязан, да никого и не слушался, кроме тебя. Ты приворожил меня, и я служил тебе как раб. А приворожил ты меня своей твердостью и своим ледяным спокойствием. Зачем же ты хочешь нас оставить? Без тебя… нет, лучше оставайся с нами, хозяин!
— Я не могу изменить своего решения. Я знаю, у тебя хватит денег, чтобы выкупить у меня инвентарь за ту же цену, за которую его купил я.
— Да, это я могу и сделаю с удовольствием.
— Таков обычай, освященный годами, но ты знаешь, что я многое устроил заново и приобрел новых лошадей, и все-таки, несмотря на это, я требую с тебя те же две тысячи золотых, какие сам заплатил когда-то за инвентарь.
— Это невыгодно для вас.
— Если ты выдержишь испытание и займешь мое место, ты заплатишь мне ровно две тысячи золотых; я не хочу, чтобы ты мне потом сказал, что Тобаль Царцароза взял с тебя больше, чем следовало. Мне самому не надо этих денег, они не нужны мне на войне. Ты поступишь с ними согласно письму, которое я оставлю тут в этом запечатанном конверте. Я дарю эти деньги, но законным порядком. Раскрой это письмо, когда займешь мое место, и поступи так, как в нем сказано.
— Я свято исполню твою волю, хозяин.
— Запечатанный конверт будет лежать тут, в этой книжке.
— Это похоже на завещание, хозяин.
— Это не завещание, это дар. Теперь ступай за мной. Ты должен выдержать при мне еще одно последнее испытание. Отнесли ли повешенного, найденного вами сегодня, в сарай?
— Да, он лежит там на каменном столе. Должно быть, он повесился незадолго до того, как мы нашли его. Он был уже мертв, но еще не окоченел.
— Так Сирило уверен в том, что это бедняк Гаспар?
— Да, хозяин, Гаспар, у которого не оставалось больше никого на свете.
Тобаль и прегонеро, выйдя из дома, направились через двор к большому сараю, где обычно лежали тела самоубийц до той поры, пока их не зарывали в землю. В сарае царил полумрак, там было всего одно маленькое окошечко. Посередине с потолка спускалась, лампа, горевшая днем и ночью.
Обстановка в сарае была страшной. По стенам висели старые платья и вещи, на земле стояли плахи, топоры, носилки. В одном углу стоял большой низкий каменный стол, на который укладывались тела, так что сарай похож был на морг. Покойники лежали нагие, покрытые белыми простынями.
Посреди сарая стояла большая плаха, рядом с ней лежал топор. Сырые черные пятна крови виднелись еще на плахе и вокруг нее. Когда Тобаль и прегонеро вошли в сарай, на каменном столе лежал только один покойник, наполовину прикрытый полотном. Это был повесившийся Гаспар, человек, боявшийся труда, которому наскучила жизнь.
Тобаль подошел к столу, откинул покрывало. Перед ним открылось широкоплечее мускулистое тело человека, который предпочел петлю работе. Тело было совершенно невредимо, и только на шее виден был след петли.
Палач убедился в том, что Гаспар, действительно, умер, хотя все члены его еще были гибкими. Он не успел окоченеть.
Тобаль обернулся к прегонеро, который, подобрав топор, лежавший возле плахи, тщательно осматривал его лезвие.
Прочие работники понемногу собрались и остановились у полуоткрытой двери.
Завидев их, Тобаль подал им знак удалиться и запер дверь.
Теперь должно было произойти нечто ужасное, и Тобаль, зная наперед, что будет с прегонеро, хотел остаться с ним наедине.
— Ну, — сказал он, — я испытаю тебя на этом мертвеце.
И Тобаль, скрестив руки, стал у плахи.
Прегонеро снял шапку, засучил рукава и подошел к столу, предварительно поставив за плахой старую корзину, наполненную опилками.
Потом он поднял со стола тело, которое было страшно тяжелым, взвалил его себе на плечи и понес к плахе.
Тут он опустил его на землю и быстро и ловко привязал тело к плахе.
Тобаль отступил на несколько шагов назад, прегоне-ро же подошел ближе, схватил топор, окончив все свои приготовления, взмахнул им и тяжело опустил на шею мертвеца. Топор врезался прямо в надлежащее место между позвонками, голова упала в подставленную корзину, и из туловища брызнула кровь.
Этой минуты и страшился несчастный. То, чего он опасался, произошло.
Только прегонеро увидел кровь, его и без того отвратительное лицо приняло ужасающее выражение. Все мышцы лица задергались. Кровожадность мгновенно проснулась в нем, глаза его выкатились и налились кровью, руки дрожали.
Как тигр, как лютый зверь, почуявший теплую человеческую кровь, бросился прегонеро с диким воплем на мертвое тело.
Но в ту же минуту он был сбит сильным ударом в грудь и упал навзничь.
— Изверг! Что ты хочешь делать! — раздался голос Тобаля. — Ты навек так и останешься диким зверем! Пойми, что ты должен только приводить в исполнение приговоры, что ты будешь только палачом, ты должен уметь укрощать свою кровожадность!
— Прости, хозяин, — просил прегонеро, еще лежа на земле, — я не смог совладать с собой.
— Поди сюда! Учись спокойно смотреть на кровь. Поди сюда и смотри все время на это тело и на струю крови, текущую из него.
— Это трудное дело… ты требуешь… хозяин? — прерывисто проговорил прегонеро. — Но я повинуюсь.
— Ты плохо выдержал испытание. Но я это знал наперед. Что же будет, когда я уйду от вас и тебе придется кого-нибудь казнить?
— Я буду упражняться, постараюсь привыкнуть, — поторопился ответить прегонеро.
— Смотри же, упражняйся чаще и не на окоченевших телах, а на таких, из которых еще льется кровь; только тогда ты сможешь, наконец, справиться со своей кровожадностью.
— Я уже теперь могу смотреть на кровь, — радовался прегонеро, не отводя глаз от трупа, — все пойдет на лад, поверь, хозяин, я излечусь совершенно.
— Ты не долго продержишься на моем месте, если не научишься укрощать свои порывы. Думай о том, что ты не дикий зверь, а человек: люди должны уметь владеть собой.
— Да я могу это, я смогу владеть собой. Я многим обязан тебе, хозяин. Но я знаю, все пойдет хорошо. Сегодня был хороший урок. Как кровь быстро течет в корзину, и какая лужа на плахе!.. Я могу теперь смотреть на это, хозяин.
— Отвяжи тело, — приказал Тобаль, — положи его снова на стол и приставь к нему голову. Ночью пусть работники отнесут его на кладбище.
Прегонеро повиновался немедленно, видимо желая доказать свою пригодность. Он положил тело и голову на место, снова накрыл покойника простыней и вычистил плаху.
Тобаль вернулся в свой домик и привел в порядок — бумаги. На следующий же день он должен был оставить Мадрид и ехать с войском на север. Он был уже принят на военную службу. Мысль о том, что он идет сражаться за отечество, была ему отрадна, и возможность осуществить ее представлялась ему чем-то вроде искупления.
На следующий день прибыла комиссия, которая должна была освободить Тобаля от его должности и назначить прегонеро его преемником, предварительно испытав его.
И доктора, и судьи остались вполне довольны испытанием, и Тобаль мог теперь оставить свой дом, а затем и Мадрид.
Когда Оттон Ромеро утвержден был в своей новой должности, прежние товарищи его сначала не хотели оставаться под его началом, но потом, казалось, одумались и решили не сопротивляться. Однако прегонеро показалось невыгодным держать их, он подумал, что когда-нибудь их послушание ему дорого станет, и потому отпустил всех. Он нанял новых работников и начал свою деятельность с того, что распечатал письмо, оставленное Тобалем, в котором содержалось распоряжение относительно денег.
Письмо было следующее:
«Моему преемнику! Вы должны заплатить мне за мой инвентарь две тысячи золотых. Я поручаю вам, чтобы деньги эти по истечении трех дней были отданы сеньоре Белите Рюйо, которой я дарю их. Сеньора эта живет в доме слесаря Фигуареса и работает на цветочной фабрике. Не говорите ей, если возможно, от кого эти деньги, но заставьте ее принять их! Если же сеньора не захочет брать этих денег, потому что, несмотря на свою бедность, она все же очень горда в некоторых вещах, я прошу своего преемника выплачивать ей ежегодно проценты с этой суммы незаметно, чтобы она не знала, от кого и как они до нее доходят. Всю сумму преемник мой должен законным порядком сберечь для сеньоры. Это моя собственная воля, засвидетельствованная моей подписью и печатью. Тобаль Царцароза».
Прегонеро это распоряжение показалось очень странным. Он тотчас же подумал, что речь идет о какой-нибудь возлюбленной Тобаля, и задумался, стоит ли действительно отдавать ей деньги? Две тысячи золотых — это были хорошие деньги, а к тому же исполнение распоряжения связано было с некоторыми затруднениями. Сначала нужно было найти девушку, да потом еще, чего доброго, упрашивать ее взять эти деньги. А если она не согласится принять их, он должен будет законным порядком пристроить их куда-нибудь и выплачивать ей проценты.
Все это было чрезвычайно хлопотно. Однако прегонеро решил исполнить желание Тобаля хотя бы отчасти и разыскать Белиту Рюйо. Но на следующий день прегонеро забыл о своем намерении, а на третий день письмо полетело в огонь, который уже не раз избавлял прегонеро от разных неприятных обязанностей.
На четвертый день преемник Тобаля окончательно забыл бы обо всем, если бы в этот день не пришел к нему человек, назвавшийся нотариусом Бокано, и не объявил, что непременно желает поговорить с сеньором Ромеро о весьма важном деле.
Прегонеро провел незнакомца в свой домик и спросил о причине его посещения.
— Я имею удовольствие говорить с самим сеньором Ромеро, не правда ли? — начал нотариус, вынув из кармана несколько бумаг.
— Это я, сеньор.
— Вы преемник сеньора Тобаля Царцарозы?
— Точно так, сеньор.
— Вы приняли письмо от сеньора Царцарозы.
— Я ни о каком письме не знаю, — отвечал "прегонеро.
— Как, вы не принимали запечатанного пакета, в котором находилось распоряжение сеньора Царцарозы…
— А! Вы об этом письме говорите, — небрежно прервал нотариуса прегонеро, — я нашел письмо в этих книгах.
— Но вы уже знали о нем от самого сеньора Царцарозы?
— Да, он как-то говорил об этом.
— И вы прочли письмо?
— Да, прочел.
— Покажите мне его, пожалуйста.
— Зачем мне показывать его вам?
— Мне надобно поговорить с вами о содержании этого письма.
— Что вам за дело, во-первых, до содержания? — грубо спросил прегонеро, которому разговор нотариуса не понравился.
— Я поверенный сеньора Царцарозы и обязан следить за исполнением его распоряжений. Вот моя доверенность.
— Сколько возни из-за таких пустяков! — презрительно отозвался прегонеро.
— Никакое распоряжение, сделанное законным порядком, не может быть пустяком, сеньор Ромеро; оно должно быть выполнено в точности, даже если бы вместо двух тысяч золотых дело шло о двух мараведи. Пожалуйста, дайте мне письмо.
— Да у меня нет его, оно сгорело.
— Тогда посмотрите сюда и скажите мне, такое ли было письмо? — сказал нотариус, подавая прегонеро другое письмо. Оно было написано так же, как и то, которое сжег прегонеро. Это сокрушило последнего. Он и не думал о возможности существования дубликата.
Прегонеро молчал, и нотариус начал снова:
— Вы видите, что здесь все так же, сеньор; здесь написано, что сумму эту по прошествии трех дней надлежит отдать сеньоре Белите Рюйо. Сделано это, сеньор Ромеро?
— Зачем вы спрашиваете, вы ведь, конечно, были уже у сеньоры, — отвечал прегонеро с такой досадой, будто бы ему все это дело до крайности надоело, — зачем вы меня об этом спрашиваете?
— Вы знаете, что сегодня уже пятый день?
— Вовсе это не так спешно, выплатить всегда успеем.
— В таких делах нужна не спешка, а аккуратность, очень нужна аккуратность, сеньор Ромеро!
— Не беспокойтесь, сеньора получит свои деньги.
— Я не о том говорю. Здесь очень ясно назначен день, и если завтра вы не исполните воли вашего предшественника, я вынужден буду возбудить судебное расследование. Нам двоим предписан определенный план действий, поэтому я и потребовал от вас отчета. Если завтра вечером, ибо сеньора Белита Рюйо только по вечерам бывает дома, если завтра вечером деньги ей не будут выплачены, или же, в случае отказа с ее стороны, не будут законным порядком отданы куда-либо на сохранение, я обвиню вас в том, что вы уничтожили документы с целью завладеть означенной в документе суммой. Имею честь кланяться, сеньор Ромеро. — Нотариус поклонился и поспешно вышел.
Он уже давно скрылся из виду, когда прегонеро наконец сообразил, что нотариус, в сущности, в весьма вежливых выражениях назвал его обманщиком. Ромеро хотел бежать за нотариусом, но одумался и понял, что непременно должен уплатить сеньоре Белите назначенные ей две тысячи.
Во всяком случае, ему хотелось покончить с этим делом, поэтому он отправился в тот же вечер на указанную улицу и нашел низенький домик слесаря.
Уже смеркалось. Прегонеро ощупью пробрался в ворота, а оттуда во двор. Не зная, однако, где живет Белита, он постучал в первую попавшуюся дверь.
Дверь открылась, и появился мастер Фигуарес.
— Здесь живет сеньора Белита Рюйо? — спросил прегонеро.
Старик внимательно посмотрел на высокого, широкоплечего, не внушающего доверия человека.
— Вам вероятно, нужна прелестная цветочница, которая живет здесь во дворе, — наконец, сказал он. — Я не знаю, дома ли она. Вчера вечером у нее не было света, и сегодня я не видел ее, должно быть, она не выходила. Не знаю, что с ней случилось. Пойдемте, однако, посмотрим, там ли она.
Мастер Фигуарес принес фонарь и через двор направился с прегонеро к дверям Белиты Рюйо. Мастер постучал два раза, но никто не ответил.
— Уж не случилось ли с ней несчастья? — проговорил Фигуарес. — В это время она обычно бывает дома.
— Значит, мне придется сегодня уйти ни с чем, это неприятно, — заворчал прегонеро.
— Где же она могла остаться?! Мне уже вчера вечером показалось, что она не возвращалась домой.
— Должно быть, не сидится? — заметил прегонеро.
— Что вы, что вы! Сеньора такая прилежная и порядочная, что, право, я от души полюбил ее. Приятно видеть, как v нее чисто и мило, несмотря на то, что она очень бедна. Что только могло с нею случиться!.. — добавил он, нажав на ручку двери, которая тут же открылась. — Что это?! — изумился слесарь. — У нее дверь всегда заперта на замок.
— Войдемте, — предложил прегонеро и первым ступил за порог.
Мастер и сеньор Ромеро подошли к кровати: она была не разобрана, и в комнате все было в порядке, только цветы уныло повесили головки, ясно показывая, что их давно не поливали.
— Посмотрите, на столе записка! — вдруг воскликнул прегонеро, подзывая мастера.
Тот подошел к столу и взял бумагу.
«Дорогой мастер Фигуарес, — прочел он вслух, — под этой запиской вы найдете деньги за квартиру; я выезжаю. Не сердитесь за это… я не могу сделать иначе…».
Старик смотрел то на записку, то на деньги на столе, то на прочие веши в комнате.
— Она выезжает, а вещи?.. — спросил он с удивлением. — Как же это понять?
— Кто знает, что это значит! Может быть, она замуж вышла и эти вещи ей больше не нужны, — сказал прегонеро, — а может быть, она нашла богатого человека, и это бывает!.. А вам не захотела сказать об этом.
Но Фигуарес задумчиво покачал головой, казалось, что слова эти не утешили его.
— Нет, здесь что-то другое, — серьезно сказал он, — тут должна быть другая причина. Мне все кажется, уж не наложила ли сеньорита на себя руки! Я часто видел, как она поздно вечером сидела здесь за работой и вдруг начинала плакать, будто от какого-то скрытого горя. Да, у нее было какое-то горе, я всегда это говорил. Да благословит ее Господь!
— Так вы, значит, думаете, что она переехала туда, откуда больше не возвращаются?
— Я не утверждаю этого, я столько же об этом знаю, сколько и вы.
— Но вам кажется, что она что-то сделала с собой, не так ли?
— Я боюсь, что так, — отвечал мастер, выходя из комнаты вместе со своим посетителем. Фигуарес ничего не тронул в комнате и, выйдя, запер ее на замок. — У нее, должно быть, было горе, а с молодыми людьми, у которых нет никого из близких на свете, это часто случается.
Прегонеро поклонился слесарю и оставил его дом. «Ну, если она наложила на себя руки, так она ко мне же и попадет», — думалось ему, пока он шел по городу к своему отдаленному двору, где он теперь был начальником.
XXIV. Инквизиторы
В башне монастыря Святой Марии сидели ночью за Черным столом три инквизитора. Никто не мог видеть их, и никто не мог слышать их тайного совещания.
В этой башне старого аббатства решалась судьба не только отдельных личностей, но иногда и всей Испании. Влияние этих трех людей и того ордена, к которому они принадлежали, было так велико и всеобъемлюще, что решительно никто не мог избежать его. Но все, что окружало их, все, что они предпринимали, было покрыто таинственным мраком; их влияния не было видно, его можно было лишь почувствовать, и то только тогда, когда уже было слишком поздно.
Инквизиторы вмешивались только в те дела, где они могли надеяться на какую-то выгоду, все остальное их не трогало. Зато там, где выгода была или где речь шла о наказании, невидимая сила их была ужасна. Все, что неожиданно является нам из мрака, кажется вдвое страшнее. Когда мы видим опасность, мы всегда можем отвести ее либо приготовиться к ней, когда же опасность неосязаема для нас, невидима и неотвратима, она для нас губительна.
Никто не замечал таинственных нитей, протянувшихся из аббатства Святой Марии по всей Испании, и тем не менее благодаря им собиралось целое войско, организованное лучше, чем правительственные войска, с его помощью можно было достичь всего.
Перед стариком Доминго лежали на столе какие-то бумаги, на которых он во время совещания делал пометки. Доминго, как известно, был человеком с каменным сердцем, он думал только о выгодах своего ордена. Высокомерие и властолюбие его не знало пределов.
Старательный, худощавый Бонифацио, первый кандидат на место главного инквизитора после смерти Доминго, был ему под стать. Лицо его было невозмутимо, и только глаза изредка вспыхивали, когда он сообщал что-то отцу Амброзио. Этот последний, с каждой неделей все более и более тучневший, спокойно сидел в кресле, сложив руки на животе.
— Поэтому, — говорил Бонифацио, — хорошо бы прекратить всякие отношения с графом Кортециллой. Падение его готовится хотя и медленно, но неотвратимо, и тайное общество, во главе которого он стоит, тоже разрушается. Доррегарай недавно отказался от него, чтобы избежать опасности, — продолжал Бонифацио, — судя по последним сообщениям из лагеря, Доррегарай порвал всякую связь с Кортециллой.
— Мне кажется, это тайное общество злоупотребило своей властью, — вмешался Амброзио, — правительство напало на его след потому только, что слишком явно обокрали маркиза де лас Исагас.
— Вот бумага из Толедо, — заговорил главный инквизитор, — в ней сказано, что тамошний суперьор арестован. Если он только заговорит, все тайное общество рухнет. Подозрение на этого суперьора очень сильное. У Доррегарая тоже есть опасный враг — Тристани, который многое о нем знает. Дон Карлос, конечно, нуждается в помощи Кортециллы, но он не может больше доверять ему, с тех пор как нарушил данное ему обещание.
— Поэтому я и предлагаю не принимать больше графа: за ним станут следить и на нас тоже падет подозрение, — предложил Бонифацио. — Он и без того в последнее время был слишком своеволен. Пусть он падет, не нам его поддерживать.
В эту минуту открылась дверь, и перед тремя инквизиторами с низким поклоном предстал дежурный монах.
— Отец Франциско только что вернулся, — доложил он, — и просит позволения представиться.
— Отец Франциско? — с удивлением спросил Домин-го. — Тот самый, которого мы посылали в армию дона Карлоса?
— Тот самый.
— Веди его сюда! — приказал главный инквизитор. Несколько минут спустя в комнату вошел пожилой монах с обнаженной головой и низко поклонился инквизиторам.
— Мир и благословение Господа да будет с вами, почтенные отцы, — сказал он.
— И с тобой, отец Франциско, — отвечал главный инквизитор. — Ты из лагеря?
— Полевой епископ патер Игнасио прислал меня к вам с важным поручением, почтенные отцы, — произнес монах, — и приказал мне уведомить вас о двух весьма важных происшествиях. Почтенный патер Игнасио шлет вам свой привет и благословение и передает заверения в его истинной преданности нашему делу. Первое сообщение мое касается недостойного, непослушного патера Антонио, которого вы отправили с высоким поручением в лагерь дона Карлоса.
— Мы давно послали его туда, разве патер Антонио не выполнил поручения? — спросил Доминго.
— Патер Антонио нарушил обет послушания, ибо не исполнил вашего приказания. Кроме того, он нарушил обет целомудрия тем, что долгое время скитался на севере с двумя женщинами.
— Об этом мы уже знаем и передали патеру Антонио нашу волю: вернуться к послушанию и исполнению своих обязанностей. Мы рассчитывали, что он давно уже должен находиться у дона Карлоса.
— Вместо того чтобы подчиниться, он объявил патеру Игнасио, что оставляет духовный орден, и отдал ему свою рясу.
Это последнее известие сильно поразило инквизиторов.
— И недостойный монах решился на это! — воскликнул Доминго.
— Я давно замечал в нем дух непокорности, — сказал инквизитор Бонифацио, — он предан мирским делам и слишком много умничал и философствовал.
— Это неслыханно! — бормотал Амброзио. — Он бросает нам вызов, он смеется над нами!
— Я от души жалею ослепленного юношу, — заметил главный инквизитор, — он подчинился дьявольскому наваждению и погибнет от этого.
— Почтенный патер Игнасио тщетно старался вразумить его, вернуть его на путь истинный и спасти его душу. Антонио оставался тверд в своем заблуждении и дерзко отвечал, что добровольно выйдет из ордена.
— Этого он не может, не смеет сделать! — воскликнул Доминго. — Он весь принадлежит нам, и его слова ничего не значат. Да просветит Господь его душу. Пусть он вернется к нам с покаянием и замолит грехи свои! — продолжал отец Доминго.
— Почтенный патер Игнасио отдает провинившегося в ваши руки и очень просит вас не медлить с приговором, потому что иначе зло, причиняемое этим отщепенцем, может вырасти многократно, а душа его тем временем еще глубже погрязнет во грехе. Второе, тайное, но не менее важное известие касается дона Карлоса. Патер Игнасио узнал, что в его лагере принято решение убить маршала Серрано. Кто принял это решение и кому поручили исполнить его, нам еще неизвестно. Но Игнасио убежден, что убийца уже отправлен в Мадрид с поручением под любым предлогом пробраться в окружение маршала. Хотя собранные патером сведения неполны, он поспешил сообщить их вам, чтобы вы успели принять свои меры.
— Ты говоришь, что тот, кто должен привести это решение в исполнение, уже находится в дороге? — спросил главный инквизитор.
— Я нисколько не сомневаюсь в том, что он уже здесь либо находится в окрестностях Мадрида, почтенные отцы.
— Ты знаешь его имя?
— Нет, почтенный отец, имени его я не знаю, но завтра же может прибыть другой посланец патера Игнасио, который принесет вам все нужные сведения.
— Нам не к чему заблаговременно принимать чью-то сторону, во всяком случае, мы должны хранить глубокое молчание, — сказал Доминго. — Где было отдано это приказание, в лагере дона Карлоса или дона Альфонса?
— Это было решено в Иране. И дон Карлос, и дон Альфонс, и донья Бланка присутствовали при этом, — отвечал монах, — поэтому решение можно, кажется, считать общим. Впрочем достоверно ли это, нам еще неизвестно. Одно несомненно: это поручение тогда же было дано надежному человеку, который тотчас пустился в путь.
— У нас нет никакой причины, чтобы препятствовать покушению, то есть принимать сторону маршала, хотя последние происшествия в лагере и поведение самого дона Карлоса действительно таковы, что это может ослабить наши симпатии к нему, — объяснил великий инквизитор, — а потому передай патеру Игнасио, чтобы исполнял по-прежнему свои обязанности полевого епископа и при этом дал бы понять дону Карлосу, дону Альфонсу и его супруге, что мы ими недовольны! По-видимому, они хотят избавиться от нашей власти, освободиться от нашего влияния! И как только это чем-нибудь подтвердится, патер Игнасио должен немедленно сообщить нам об этом. Передай все это патеру секретным образом! Кроме того, приказываем тебе разыскать брата Антонио и передать ему, что он должен явиться в монастырь Святой Марии, а также предупредить, что если, он не исполнит этого требования, то будет проклят и подвергнут самому строгому заточению! Если же вернется, то будет принят как блудный сын и может ожидать помилования, в котором мы не отказываем и другим грешникам.
— Ваши приказания будут в точности исполнены, достопочтенные отцы.
— Ты тогда займешь место погибшего патера Иларио, — продолжал великий инквизитор, — я обещаю тебе это, так как уверен, что мои многоуважаемые братья одобрят мои намерения повысить тебя. Это будет наградой за твои услуги, и эта награда должна побудить тебя и в будущем столь же усердно служить интересам ордена.
— Благодарю за ваше милостивое внимание, — сказал Франциско, низко кланяясь со скрещенными на груди руками. — Когда же я должен вступить в должность духовника и наставника доньи Бланки?
— Когда выполнишь данные тебе поручения, приведение которых в исполнение требует столько же ума, сколько и осторожности! Но я убежден, что у тебя не будет недостатка ни в том, ни в другом и что, сделавшись духовником Бланки Марии, ты будешь внимательно наблюдать за всем происходящим вокруг нее. Предупреждаю тебя, что ты должен поступать очень обдуманно и осторожно, чтобы тебя не постигла участь патера Иларио.
— Надеюсь показать себя достойным вашей милости и вашего доверия, почтенные отцы.
— Чтобы не быть безоружным перед доньей Блан-кой, ты должен сделать следующее: деликатным образом дашь почувствовать ей, что ее прошлое тебе известно, не объясняя, что именно, — этого намека хватит, чтобы подчинить ее своей воле. Если ты сумеешь воспользоваться этим оружием, оно принесет тебе большую пользу — принцесса будет в твоей власти! Спеши же исполнить наши приказания и возвращайся скорей.
Франциско раскланялся и вышел из круглого зала башни. После его ухода наступило минутное молчание, прерванное инквизитором Бонифацио.
— Этот патер Антонио, — сказал он, — не послушает приказания и не вернется!
— Если зло, которое он этим приносит, не будет искоренено в самом зародыше, это может иметь самые вредные для нас последствия, — заметил Амброзио, — а потому я считаю нашим долгом заставить этого отщепенца вернуться в монастырь во что бы то ни стало и подвергнуть его самому строгому наказанию, я даже думаю, что нам не следует останавливаться перед насильственными мерами, так как, разумеется, он не вернется добровольно по простому нашему приглашению.
— Я тоже полагаю, — заметил великий инквизитор, — что мы должны будем прибегнуть к насилию, чтобы привести его в монастырь. Впрочем, он не сможет уйти из наших рук, так как у него нет другого имени, кроме данного ему орденом, а его недостаточно для вступления в мирскую жизнь.
— Он может назваться ложным именем, я считаю его способным на все; он умен, опытен и самостоятелен в высшей степени, — ответил Бонифацио, — и я не думаю, чтобы нам удалось его выследить. Но если б и так, то во всяком случае привести его сюда никак не удастся, напрасный труд, по-моему, добиваться этого. У него хватит и ума, и смелости обнаружить наше преследование и заявить об этом вслух, доказать нам, что помимо монастырских законов мы обязаны подчиняться другим, гражданским законам.
— Этого он не осмелится сделать, — воскликнул великий инквизитор, — он, который вырос и был воспитан в монастыре!
— Но, почтенный брат, предположим, что он осмелится, в чем я твердо убежден, и что тогда? Мы должны помнить, что если только он решится прибегнуть к светским законам, они оправдают его выход из монастыря и за наши преследования мы можем дорого поплатиться.
— Я бы согласился с тобой, почтенный брат, оставить это дело без внимания и не преследовать отщепенца, если бы патер Антонио не был наследником огромного состояния, которое, став собственностью монастыря, значительно усилит власть ордена! Можем ли мы допустить, чтобы наш орден лишился этих богатств?
— А разве мы не лишимся их, если ему удастся встать под защиту закона и, опираясь на него, выйти из монастыря? Нет, почтенные братья, единственное, что поможет нам удержать это наследство, которого мы так долго ожидаем, —это смерть Антонио, так как живым нам его не удержать в монастыре, а если он умрет теперь же, то наследником его как члена ордена будет монастырь Святой Марии. Он должен умереть! Только так мы сможем удержать богатства, которые он должен наследовать, и остановить заразу, которую может распространить поданный им пример.
— Пусть решится этот вопрос баллотированием, — сказал великий инквизитор с мрачным выражением лица. — Во всяком случае, завтра я отдаю строгое распоряжение везде разыскивать патера и, в зависимости от того, как мы сейчас решим, либо привести его в монастырь, либо убить!
Бонифацио, схватив черную урну и накрыв ее платком, подошел с нею сначала к Доминго, который, вынув из-под своей широкой одежды шар, бросил его в урну, затем Бонифацио подошел к Амброзио и, когда тот положил в нее свой шар, бросил туда же свой и подал урну великому инквизитору.
— Выложи на стол шары, почтенный брат, — сказал Доминго.
Приказание было исполнено, и на столе оказалось три черных шара.
— Итак, мы единогласно приговорили Антонио к смерти, да будет так, — заметил великий инквизитор.
XXV. Бел ита
После выхода войск из Мадрида новое правительство продолжало формировать очередные полки, так как во всех провинциях необходимо было содержать гарнизоны для борьбы с беспорядками.
Очевидно было, что карлистским войскам готовился серьезный отпор, что правительство, усиливая армию и назначая главнокомандующим маршала Конхо, затевало войну нешуточную.
Пора действительно было принять решительные меры против бесчинствующих шаек дона Карлоса, так как северные провинции, разоряемые и опустошаемые, не видя никакой помощи от правительства, одна за другой стали переходить на сторону дона Карлоса. Другого выхода им и не оставалось. Недаром пословица с давних пор гласит: «С волками жить — по-волчьи выть».
После выступления главного корпуса было послано еще несколько вновь сформированных отрядов для его подкрепления, и, хотя набор шел медленно, в случае необходимости правительство могло располагать новыми силами и посылать на север новые подкрепления.
В то самое время, когда в Мадриде шли эти важные военные приготовления, Белита продолжала ходить на свою цветочную фабрику и усердно там трудиться. Но и тут скоро пришлось ей перенести тяжелый удар из-за своего прошлого. Она заметила, что остальные работницы затеяли против нее что-то недоброе. Перешептываясь между собой, они то насмешливо, то враждебно посматривали на нее и наконец стали не стесняясь говорить о ее прошлом такие горькие вещи, что у нее надрывалось сердце, в результате пребывание на фабрике и сам труд становились теперь для нее уже не утешением, а тягостным испытанием, хотя внешне она оставалась спокойной и не показывала вида, что слышит их обидные замечания, продолжая по-прежнему усердно работать. Ее спокойствие еще больше выводило из себя ее обидчиц, и они заговорили громче, не жалея оскорбительных слов, из которых Белита поняла, что по какой-то случайности одна из работниц узнала о ее прошлом и рассказала об этом остальным.
— Очень приятно сидеть рядом с женщинами, — сказала громко одна из девушек, — которые корчат из себя сперва знатных дам на балах герцогини, а когда осрамятся до того, что не смеют уже открыто показываться на улицах, тогда для вида надевают бедное платье и хватаются за работу, бросая тень на нас, действительно честных и трудолюбивых девушек!
— Ну, недолго они тут продержатся, — заметила другая, — не бойся, долго работой не проживут, соскучатся!
— Пускай другие работают в обществе таких беспутных, опозоренных женщин, если им не противно, а я не согласна, мне это не подходит! Увидят, что выходишь вместе с такими особами, так после и нам нигде прохода не будет, совестно будет на глаза людям показаться!
Белита все это слышала и молчала.
— Да ведь есть простое средство избавиться от таких товарок, — вмешалась четвертая, — заявим все, что не желаем работать в таком обществе, так и прогонят!
После этого все начали перешептываться между собой и, очевидно, приняли конкретное решение, так как ближе к вечеру несколько девушек отправились к хозяйке фабрики, ее ответ, по-видимому, их не удовлетворил: они вернулись с недовольными лицами и, когда вслед за ними в рабочую комнату пришла хозяйка и осталась там надолго, замолкли и за все это время не произнесли ни слова.
Белита страшно страдала, хотя и не показывала вида, что поняла в чем дело. Прошлое встало перед ней, как грозный призрак, она видела, что его невозможно загладить в глазах людей, что ее всегда будут встречать с презрением. Горе и без того надорвало ей сердце, а теперь она окончательно возненавидела жизнь. При мысли, что здесь, на фабрике, где она так долго находила если не радость, то, по крайней мере, спокойствие, ей нельзя больше оставаться, что и здесь она не найдет больше покоя, раз слухи о ее прошлом проникли сюда, ею овладело горькое отчаяние, она поняла, что всегда и повсюду будет слышать теперь проклятия, встречать презрение со стороны людей.
Но все, что происходило в ее душе, осталось тайной для всех, хотя у нее перехватывало дыхание, в глазах темнело и сердце замирало, как будто переставая биться.
С нетерпением ждала она конца рабочего дня, и когда желанная минута настала наконец и прочие работницы с насмешками и обидными словами в ее адрес удалились, Белита тоже встала со своего места с твердой решимостью не возвращаться больше на фабрику и теперь же отправиться к хозяйке за расчетом.
Нелегко ей было решиться пойти к этой женщине, которой тоже было известно теперь ее прошлое. «Но что же, — думала она, — я должна терпеть эти унижения, а заслужила это!» Никогда еще ее прошлое не представлялось ей столь унизительным, никогда еще она не чувствовала себя столь одинокой, покинутой и оскорбленной, как теперь, когда надежда искупить прошлое покинула ее! Комната эта, в которой она так долго находила мир и душевное спокойствие, в которой ей легче, чем где-нибудь, дышалось, казалась ей нестерпимо душной, она рвалась из нее, рвалась, чтоб никогда больше не возвращаться. Наконец она пошла к хозяйке. Бледная как смерть явилась она перед ней и прерывающимся от волнения голосом попросила выдать расчет. Хозяйка с участием протянула ей руку и начала уговаривать остаться, обещая оградить от оскорблений. Но Белита, поблагодарив ее за все, что та для нее делала, за ее участие, объяснила, что не в силах больше оставаться в ее мастерской.
Хозяйка, ценившая Белиту за прилежание и за вкус, сказала, что готова отпустить всех работниц и набрать новых, но бедная девушка покачала головой, поблагодарив еще раз сеньору за доброе отношение, за желание защитить ее. Она так непохожа была на себя, лицо ее было таким напряженным из-за усилий казаться спокойной, что, когда она ушла, хозяйка бросилась было вслед за ней, чтобы удержать ее у себя хотя бы на эту ночь. Доброй женщине стало страшно за нее, она почувствовала, что в таком состоянии, в каком находилась Белита, люди могут решиться на самоубийство, но когда хозяйка вышла на крыльцо, несчастная девушка уже скрылась из виду. Сеньора задумалась. «Если она решила покончить с жизнью, удержать ее от этого я не в силах», — проговорила она и обратилась к Богу с горячей молитвой о душе несчастной!
Белита, простившись с хозяйкой и выйдя из дома, в который она входила всегда с таким удовольствием, почти бегом пустилась по улице, чтобы поскорее потерять его из виду. В душе ее было такое смятение, она ни о чем не думала, не могла сосредоточиться ни на одной мысли, а чувствовала только страшную усталость, чувствовала, что нигде, никогда ей больше не найти покоя, не найти спасения. Мучительное чувство одиночества и отвергнутой любви, забвение от которого она находила до сих пор в стремлении искупить грехи своей прошлой порочной жизни, теперь с новой силой охватило ее, жизнь представилась ей нестерпимым, невыносимым мучением!
Горацио, любивший ее так искренно, Горацио, от которого она отвернулась, которого оттолкнула от себя, бросился на поле сражения, чтобы отделаться от жизни, которая так же опротивела ему. Тобаль, ради которого она так бесчеловечно отвернулась от Горацио, Тобаль, которого она так горячо любила, заплатил ей за эту любовь глубочайшим презрением, и это презрение следовало за ней повсюду, она никуда не могла от него укрыться.
Что ее привязывает к жизни? Ничего. Чего ей ждать, на что надеяться? Ее ждет одно: презрение и оскорбление на каждом шагу! Не лучше ли разом избавиться от такого будущего, не лучше ли положить конец страданиям, покончить с мучительными воспоминаниями об утраченных надеждах, об ужасном прошлом? Смерть! Да, смерть, избавление от всех мучений и страданий! Белита улыбнулась. Мысль эта показалась ей такой заманчивой, что она почувствовала облегчение. В мечтах о смерти она не заметила, как дошла до темной узкой улицы Валгесхен. Она была спокойна, почти счастлива в предчувствии скорого избавления от всех мук и несчастий! «Никто не будет знать, как и где я нашла долгожданный покой», — думала она. Хотя еще и сама не знала, какую выберет смерть, и этого вопроса еще не задавала себе.
Войдя в дом старого слесаря, где жила, она прошла, никем не замеченная, через двор и скоро очутилась в своей маленькой комнатке, и тут какая-то грусть и тоска нахлынули на нее, когда она увидела дорогие ей вещи, цветы, которым предстояло засохнуть и умереть! Она взяла кувшин с водой и полила их в последний раз, затем, отсчитав от выданных ей хозяйкой денег сумму, которую должна была уплатить мастеру Фигуаресу за квартиру, положила деньги на стол, прикрыв листом бумаги, на котором написала несколько слов.
Теперь она была готова, могла отправиться в путь. Взглянув еще раз на свои вещи и цветы, вышла она потихоньку во двор, прикрыв за собой дверь.
Никого не встретила она, никто не видел ее, когда она выходила из дома и поспешно шла через двор, но едва успела она сделать несколько шагов по темной улице, как к ней подошел человек, и спросил:
— Вы сеньора Белита Рюйо?
Она испугалась, услышав свое имя. Откуда знал его этот незнакомый ей человек? Кто он? Зачем она ему нужна? Все эти вопросы закрутились у нее в голове, и она молча стояла перед незнакомцем.
— Не пугайтесь, сеньора, — продолжал он вежливо, — я должен только спросить вас о некоторых вещах. Но прежде всего скажите, вы ли сеньора Белита Рюйо?
— Да, сеньор, это я, — ответила робко девушка.
— Я очень рад, что вас встретил! Я нотариус Бокано, и мне поручено узнать, получили ли вы от некоего сеньора Оттона Ромеро две тысячи дуро, которые ему были вручены для передачи вам!
— Получила ли я две тысячи дуро? — спросила Белита, глядя с удивлением на незнакомца. — Вы ошибаетесь, сеньор, ваше поручение относится, вероятно, не ко мне, мне неоткуда и не от кого получить две тысячи дуро!
— Однако, сеньорита, вам посланы эти деньги! Если вы еще не получили их, то должны получить от человека, которого зовут Оттоном Ромеро!
— Я не знаю никакого Оттона Ромеро, он у меня не был, я ни от кого не получала и не жду никаких денег.
— Благодарю вас, сеньорита! Только это мне и нужно было узнать от вас, — сказал нотариус и, вежливо поклонившись Белите, поспешно ушел.
«Что-то странное, — подумала девушка, — сумасшедший это или действительно нотариус? Но он знал мое имя, знал, где я живу!»
Не находя разрешения этой загадке, она быстро пошла по темной улице.
Да и на что ей были деньги, о которых говорил незнакомец, что ей было с ними делать, ни радости, ни спасения они не могли ей дать! Это не изменило ее решения, ей по-прежнему хотелось скорей броситься в объятия смерти и заснуть последним сном! Одна эта мысль улыбалась ей, заставляя забывать все горести, все несчастья! Закутавшись в свой старый платок, не обращая внимания на шум и движение вокруг нее, бежала она по темным улицам бесцельно, не зная сама, куда идет. Вдруг, проходя через одну небольшую темную площадь, на которой стоял старый храм, Белита почувствовала желание помолиться Богу, испросить у него прощение, и хотя церковь была давно заперта, она взошла на ее ступени и преклонила колена, возносясь душою к Всевышнему и как будто стараясь оправдать перед ним свое намерение. Со слезами повторяла она:
— Господи, я — сирота, покинутая всеми, никому не нужная, моя смерть никому не повредит, отчего же мне не покончить с жизнью! Что мне делать на свете! Тобаль оттолкнул меня, Горацио отправился искать смерти на поле сражения! — при воспоминании о Горацио она со слезами горячо помолилась о нем, прося Бога помиловать и сохранить его.
Затем она встала и поспешно отправилась дальше, скоро увидела она перед собой замок, погруженный в ночной мрак. Она вспомнила, что другой его фасад выходит в поле, за полем течет Мансанарес, а вдоль него идет дорога, ведущая в Аранхуэс, где, как она помнила, есть пустынный парк, посреди которого находится озеро, именно к нему она и стремилась теперь. Часто сиживала она на его берегу, покрытом мхом и густым кустарником, устремляя взор в его черную стоячую воду, как будто и тогда уже звавшую найти в ней успокоение от жизненных бурь. «Теперь ты примешь меня в свои объятия, — повторяла она, спеша к черному озеру. — Ты будешь моей могилой». Подойдя к нему, она не содрогнулась, не испугалась его черной мрачной глубины.
Это было любимое место прогулок мадридской публики, и в хорошую погоду днем и по вечерам тут было множество народу. Но теперь, в глухую полночь, здесь было пустынно и мрачно. Тихо покачивались от ночного ветра гондолы, привязанные к кустарникам, росшим вдоль берегов, лебедь плыл по черной воде, все вокруг было тихо, ни звука, ни шороха. «Да, здесь я найду успокоение», — размышляла Белита, пробираясь к темной воде сквозь кусты и тростник. Но, спустившись к ней и устремив взор в ее глубину, она вдруг содрогнулась при мысли, что здесь может оказаться слишком мелко и ей не удастся найти тут свою могилу, что вода может не покрыть ее с головой.
Эти мысли заставили Белиту уйти от черного озера, но, может, не столько они, сколько невольный страх перед физическими мучениями, которые несла такая смерть.
«Не поискать ли более легкого выхода из этого мира?» — мелькнуло у нее в голове, пока она пробиралась опять через тростник и кустарник. Постояв несколько минут на берегу, она, по-видимому, придумала другое средство избавиться от жизни, так как направилась вдруг твердыми и быстрыми шагами назад к большой дороге, по которой пришла в этот уединенный парк.
Да, в голове ее созрел новый план. Как бы смерть ни казалась иногда людям привлекательной, но пути, ведущие к ней, часто заставляют их содрогаться, и нужен большой запас мужества, чтобы побороть этот невольный страх. В эти минуты происходит последняя усиленная борьба в душе человека между отчаянием, наполнившим душу и внушившим желание уйти из жизни, и естественным чувством самосохранения. По большей части победа в этой борьбе остается на стороне последнего, и человек остается жить, несмотря на то, что жизнь не сулит ему никаких радостей.
Но в Белите отчаяние пересилило свойственную всякому существу любовь к жизни, ее испугала мучительная, а может быть, и проблематичная смерть в черной воде озера, но она сейчас же нашла более легкий и верный исход из этого мира!
В стороне от дороги, на которую вышла Белита, совсем недалеко от нее находилась железная дорога, которая, по-видимому, и представилась ей тем легким и верным выходом, которого она не нашла на берегу озера. Свернув с большой дороги, ведущей из Аранхуэса в город, она стремительно бросилась через поле к насыпи, на которой лежали рельсы.
Ночной ветер дул прямо в лицо бедной девушке, снявшей с головы платок и подставившей ветру свои прекрасные волосы. Она как будто наслаждалась его свежим, прохладным дуновением. Обойдя на довольно большом расстоянии домик сторожа, стоявший возле железной дороги, она поднялась на полотно дороги, твердо решившись броситься под колеса первого же поезда, верно рассчитав, что тут смерть настигнет ее в один момент, смерть легкая, верная, именно такая, какой она желала!
Кругом царили мрак и тишина, только завывал ветер, и Белите, присевшей на насыпи, завывание это казалось стонами и последними вздохами раненых, долетавшими до нее с поля сражения.
Она сидела неподвижно, устремив взор вдаль и скрестив на груди руки,
Отчаяние, разочарование виделись во всем ее облике, в каждой черте, несмотря на то, что она была очаровательно хороша. Но ни красота, ни молодость не имели для нее никакой цены и не помешали ей искать мира и покоя в объятиях смерти. Еще несколько минут — и ее прекрасное тело превратится в безобразную окровавленную массу!
Кто не пришел бы в ужас и содрогание, увидев эту молодую, прелестную женщину, сидящую на рельсах с отчаянным бледным лицом и развевающимися волосами, с видимым нетерпением ожидающую поезда, чтобы броситься под колеса локомотива? Что сказали бы, увидев ее в этом положении, посетители салона герцогини или оперы, где так недавно еще она появлялась с молодым маркизом в полном блеске своей ослепительной красоты?
Ни малейших признаков внутренней борьбы не проявлялось в ней — она не плакала, не дрожала и, очевидно, спокойно, с твердой решимостью ожидала смерти.
Вот она услышала в отдалении свист смертоносного локомотива, затем ей послышался как будто звон, колокольчиков, она приложила ухо крельсам — да, это шел поезд! Еще было время передумать! Но нет, Белита не думала об этом. Вот показались наконец два огненных глаза, быстро несущихся прямо на Белиту. Но она и тут не содрогнулась, не попятилась назад. Раздался сигнальный свисток, возвещавший о приближении поезда. Но на Белиту и он не подействовал. Еще пронзительный свисток — и она, упав на холодные рельсы, прошептала:
— О Господи, прости меня! Прощай, Тобаль! Прощай, Горацио! Я успокоюсь наконец!
Земля дрожала под ней от приближавшегося поезда.
Больше она ничего не видела и не слышала — в этот ужасный момент сознание оставило ее. Никто не мог видеть ее и вытащить из-под колес! Кругом было темно и пустынно.
Еще минута — и чудовище с огненными глазами подлетело наконец к месту, где лежал не шевелясь этот живой труп. Еще немного — и конец, некому было прийти на помощь; поезд промчался как бешеный зверь, вперед, к мадридскому перрону, из-под колес его не раздалось ни крика, ни стона, да если бы они и раздались, то никто бы и не услышал их в шуме и свисте, сопровождавших этот способ передвижения.
XXVI. Попутчики
Антонио после своей встречи с герцогом Кондоро отправился в лагерь дона Карлоса в надежде узнать что-нибудь об участи графини Инес. В этих поисках он неоднократно подвергался опасности и попадал в самые затруднительные положения. Карлисты, к которым он вынужден был обращаться за сведениями, принимали его за шпиона и не хотели признавать в нем патера. Из-за этого ему не раз приходилось перемещаться под конвоем, часто удаляясь от цели своего путешествия. Но он добился наконец благодаря настоятельным требованиям, чтобы его доставили в штаб-квартиру. Тут он не ошибся в расчете — требование устроить ему встречу с доном Карлосом оказало свое действие, карлисты стали относиться к нему доверчивее. Но однажды ему удалось узнать от конвойных, сопровождавших его, что какая-то неизвестная им сеньора была отправлена под стражей в замок Глориозо и там содержится под строгим надзором.
Антонио, получив эти сведения, почувствовал страстное желание вырваться из рук карлистов как можно скорее. Желание найти девушек не давало ему покоя. В том, что Амаранта последовала за своей подругой, если она не была заключена вместе с ней, он не сомневался ни одной минуты.
Когда он прибыл со своим конвоем в штаб-квартиру, там шел страшный кутеж, солдаты пировали и веселились напропалую, так как дон Карлос а/своей свитой отсутствовал. Антонио узнал, что он отправился именно в замок Глориозо. Его оставили почти без присмотра, и если бы он не знал, что его на другой день отправят дальше на север, то есть ближе к цели его стремлений, то он ушел бы в тот же день из лагеря. Но зачем ему было подвергаться новым опасностям и навлекать на себя еще большие подозрения в случае, если б он опять попал в руки карлистов, когда ему предстояло идти под конвоем по той же самой, дороге, по которой он пошел бы и теперь, убежав из лагеря.
На другой день, действительно, его привели к одному из высших офицеров, и тот сообщил ему, что он должен отправиться в один из северных городов, где относительно него будет проведено расследование.
Следом за этим сообщением Антонио был отправлен из лагеря в сопровождении двух хорошо вооруженных солдат. К счастью, он лучше них знал дороги, по которым приходилось идти, и стал их проводником. До тех пор, пока они не выйдут к дороге, ведущей на Пуисерду, он твердо решил не делать никаких попыток к побегу. Дорогой ему удалось разузнать от местных жителей, в тайне от карлистов, сопровождавших его, где именно находится замок Глориозо. Оказалось, что замок лежит намного дальше того места, куда ему назначено было явиться, и вместе с тем недалеко от дороги в Пуисерду. Тогда он твердо решил избавиться как можно скорее от своих проводников, доверие которых он вполне успел завоевать, не делая до сих пор никаких попыток к побегу, да притом часто угощая их за свой счет обедами с хорошим вином. Он воспользовался своей ролью проводника и вместо того, чтобы идти к назначенному месту-, повел своих стражей к горам, где был расположен замок. Хотя они удивлялись, что не достигли еще места назначения, тогда как данные им на дорогу деньги и провизия давно вышли, но им и в голову не приходило, что Антонио вел их не туда, куда следует. Когда они остановились для отдыха в одном селе, находящемся близ замка, Антонио очень опасался, что, вступив в разговоры с местными жителями, стража узнает, наконец, что он ведет их по ложному пути, но, к счастью, содержатель гостиницы был баск и не говорил почти ни слова по-испански, а карлисты не знали баскского наречия, и потому, все обошлось благополучно. Антонио решил уйти при первом же удобном случае.
Обдумывая, как это лучше сделать, он решил угостить хорошенько карлистов вином, а потом воспользоваться тем, что они заснут, или оплошностью, столь свойственной пьяным людям. Придумав это, он велел подать им две-три бутылки вина, которые они с жадностью опорожнили, закусывая маисовым хлебом. Пока они пили, Антонио, подкрепив свои силы хорошим обедом, успел разузнать у крестьян, что в замке действительно была заключена одна сеньора, которая успела в прошлую ночь убежать оттуда с помощью другой какой-то сеньоры.
Разумеется, патер был в восторге от этих известий и, расспросив о дороге, ведущей в Пуисерду, возвратился к своим карлистам, решившим, чтобы скорее, добраться до места, идти всю ночь.
Антонио поддержал их в этом намерении, уверяя, что завтра они дойдут до цели и освободятся от него.
Но вино и усталость скоро оказали свое действие, и едва успели они отойти от села, как сон начал одолевать их, а ноги отказывались двигаться. Арестант также стал жаловаться на усталость, и все трое согласились, что самое лучшее — прилечь отдохнуть на несколько часов. Антонио, очень довольный этим решением, первый ушел в сторону от дороги и улегся спокойно под деревьями; один из его стражей последовал его примеру, тогда как другой сел на пень и не решался лечь скорей для формы, чем из боязни, что арестант попытается бежать, потому что до сих пор он не давал им ни малейшего повода подозревать его в таком желании, и, как только Антонио прикинулся спящим, сторож тоже заснул, сидя на своем пне, не менее крепким оном, чем его товарищ, растянувшийся под деревом.
Наконец желанный час для Антонио настал. Более удобного случая для побега не могло представиться. Он — не обманул, сказав, что они избавятся от него завтра, он только ошибся на несколько часов — вместо завтра они избавляются от него чуть раньше. Он прислушался к их дыханию — они так громко храпели и сопели, что не могло быть ни малейшего сомнения: оба спят непробудным сном — тогда он встал без всяких предосторожностей и спокойно пошел по направлению к замку. Времени у него было много, так как до утра оставалось еще пять-шесть часов, а если б карлисты проснулись раньше, то откуда им знать, в какую именно сторону он направился? Когда начало светать, Антонио успел уже уйти на несколько миль от места, где оставил свою стражу. Около полудня он увидел впереди селение и решил отдохнуть там; подходя к нему, он вдруг остановился, как будто пораженный каким-то необыкновенным зрелищем. Он увидел двух девушек, бродивших нерешительно около селения. Постояв несколько минут, он поспешно пошел к ним, боясь еще ошибиться в своем предположении, что это именно Амаранта и Инес. Но, к счастью, это были действительно они.
С сияющим от радости лицом он подошел к ним, но они не сразу узнали его из-за перемены в костюме. Радостное было это свидание для всех троих!
Девушки приободрились, очутившись опять под зашитой своего верного друга. Они рассказали ему, что бродили вокруг селения, боясь войти в него, чтоб не попасть опять в руки карлистов. Антонио предложил им обойти его и выйти на дорогу, ведущую в Пуисерду. К вечеру они уже подходили к этой крепости, где рассчитывали отдохнуть у тетки Инес. Антонио был невыразимо счастлив, что девушки будут теперь в безопасности, тем более, что в Пуисерде находились отряды правительственных войск. Он проводил своих спутниц до дома старого майора Камары, дяди графини Кортециллы, который принял их с распростертыми объятиями, не говоря уже о тетке Инес, встретившей графиню с материнской нежностью. Графиня не замедлила представить им своих спутников, которых старые супруги приветствовали самым искренним образом, Амаранту — в качестве подруги своей племянницы, Антонио — как ее воспитателя. Когда путешественники немного отдохнули под гостеприимным кроном, начались бесконечные рассказы об их приключениях, об опасностях, которым они подвергались. Старый майор благодарил Антонио со слезами на глазах за его самоотверженную преданность Инес и так радушно отнесся к Амаранте, что она, как и графиня, стала чувствовать себя как дома.
Как ни тяжело было Антонио расставаться с Инес, он решил, однако, после нескольких дней отдыха вернуться в Мадрид.
Майор дал ему несколько полезных указаний насчет дорог, которых ему следовало держаться, чтобы не попасть опять в руки карлистов, и скоро наступил день его отъезда. Поблагодарив супругов за их радушный прием и простившись не без грусти со своими спутницами, он вышел из Пуисерды, направившись в Витторию, так как оттуда уже действовало железнодорожное и почтовое сообщение с Мадридом. Он благополучно достиг этого города, а дальше намерен был ехать по железной дороге.
Но едва он успел приблизиться к станции, как вдруг перед ним явился монах в одежде полевого патера.
— Наконец-то я нашел тебя, брат Антонио, — произнес он. — Да, я не ошибаюсь, это действительно ты, патер Антонио, хотя и в светском платье.
— Я действительно тот, за кого ты меня принимаешь, — ответил Антонио, — я патер, вышедший из ордена.
— А меня ты узнаешь?
— Еще бы, брат Франциско.
— Я приехал из Мадрида с поручением к тебе, — продолжал Франциско, — и очень рад, что, наконец, после долгих поисков мне удалось найти тебя.
— В чем заключается поручение? — спросил Антонио.
— Три достопочтенных отца монастыря Святой Марии посылают тебе поклон и требуют настоятельно, чтобы ты возвратился немедленно в монастырь и отчитался в своих поступках, — сказал Франциско. — Я бы советовал тебе исполнить их требование и немедленно явиться к ним.
— Ты исполнил возложенное на тебя поручение, а дальше уж мое дело, как поступить.
— Как же ты решаешься поступить, отец Антонио?
— Я решил остаться в духовном звании.
— Благодатное намерение! Итак, ты решил покаяться в своих грехах и вернуться в монастырь?
— Нет, я решил не возвращаться более в монастырь, я не хочу снова вступать в орден.
— Как, ты не хочешь раскаяться и просить прощения?
— Раскаиваться мне не в чем, брат Франциско.
— Прошу тебя, исполни требование достопочтенных отцов! Вернись в Мадрид и явись к ним! Тебя ожидает легкое наказание, и в скором времени ты будешь опять произведен в патеры.
— Ты тратишь понапрасну время, брат Франциско, я решил не возвращаться больше в монастырь, и никакие советы и увещевания не заставят меня изменить мое решение! Служить и дальше трем патерам я не могу, это противно моим убеждениям и моим принципам.
— Безрассудное решение! Необдуманный шаг!
— Очень обдуманный, брат Франциско, иначе поступить я не могу.
— Итак, ты навсегда порвал с инквизиторами?
— Да, я навсегда разрываю всякую связь с ними, — повторил Антонио.
— Ты отступаешь от церкви и от веры?
— Напротив! Теперь только я начну служить истине и вере.
— Берегись, ты впадаешь в ересь! Помни, что если ты не раскаешься, не вернешься в монастырь, ты будешь изгнан из лона церкви.
— Ты исполнил свой долг, теперь оставь меня, я буду действовать, как мне укажет совесть.
Антонио пошел к станции, Франциско провожал его злобным взглядом.
— Ты не хочешь слушаться советов и увещеваний, ну так не прогневайся, тебя заставят покориться, силой принудят изменить твое решение! — прошептал он с ехидством и повернул к городу, где у самой заставы его ожидали двое закутанных в темные плащи широкоплечих бородатых мужчин. Это были уже известные читателю Рамон и Фрацко. Увидев монаха, они сейчас же подошли к нему.
— Я не ошибся, это был он, — сказал Франциско.
— Какое же будет приказание нам? — спросил Рамон.
— Вам дано приказание, как действовать, приказание, которого я не знаю и знать не хочу, это ваше дело, как его выполнить, меня это не касается, — отвечал Франциско.
— Где он сейчас?
— Он пошел на станцию, чтобы отправиться в Мадрид.
— Ну, в таком случае и мы отправляемся за ним, благослови нас, преподобный отец, — сказал Фрацко, снимая шляпу и низко кланяясь монаху.
Рамон последовал примеру своего товарища.
Франциско возложил руки на головы бандитов и затем поспешно удалился от них, они же, надев шляпы, быстро направились к станции.
Придя туда, несмотря на тесноту, они скоро увидели Антонио и, не отставая от него ни на шаг, подошли вслед за ним к кассе, чтоб взять билеты.
Когда пассажиры пошли садиться в вагоны, бандиты, зорко следя за Антонио, поместились в одном купе с ним, куда вошло еще несколько человек. На промежуточных станциях все пассажиры один за другим вышли из вагона, и к вечеру бандиты остались с Антонио одни.
Тогда Рамон и Фрацко решили завязать с ним разговор.
— Не знаете ли вы, сеньор, когда мы приедем в Мадрид? — обратился к нему Рамон.
— Мне сказали, что мы будем там не раньше трех часов ночи, — ответил Антонио, не подозревая, с кем говорит.
— Это хорошо, если так, — заметил Фрацко.
— Хорошо, да не совсем, — возразил Рамон, — куда мы пойдем ночью? Где вы остановитесь в Мадриде, сеньор?
— В отеле «Три короны».
— Для нас слишком дорого там ночевать, — проворчал Рамон, — мы обанкротились совсем.
— Да, неприятно возвращаться опять в Мадрид, не добившись своей цели, без всякой уверенности найти там, что ищем, — сказал Фрацко.
— Простите, сеньор, если я задам вам один вопрос, — обратился Рамон с доверчивым видом к Антонио, — мне кажется, что я имею честь говорить с патером.
— Вы не ошиблись, сеньор.
— В таком случае я полагаю, что мы можем рассказать вам о нашем затруднении и о деле, по которому мы едем в Мадрид, ведь все патеры поддерживают дона Карлоса?
— Вы можете сказать — многие, но не все, — возразил Антонио горячо.
— Мы хотели вступить в войска карлистов и с этой целью ездили в один из их отрядов, расположенный к востоку от Виттории, но начальник его нам отказал! Деньги у нас вышли, и мы решили вернуться в Мадрид. Но, между прочим, мы узнали, что там есть тайная контора для набора людей, где желающие могут записываться в это войско, и даже говорят, что эта контора выдает деньги на дорогу. Не слыхали ли вы, сеньор, чего-нибудь об этом?
— Нет, не слышал, я давно уже из Мадрида. Но, во всяком случае, я полагаю, что вам следовало обратиться к другому начальнику, если один вам отказал, а не возвращаться в Мадрид, чтобы искать неизвестную вам контору, тем более, что вы легко можете попасться и тогда вам грозит судебное разбирательство.
— Вы ведь нас не выдадите? — спросил Фрацко почти угрожающим тоном.
— Я бы должен был это сделать, — ответил искренне Антонио, — но не считаю себя вправе выдавать что бы то ни было, сказанное мне по доверию, а потому с моей стороны вам нечего опасаться.
Сыщики замолчали, но после краткой паузы Рамон опять начал:
— Вы, вероятно, знаете, сеньор, монастырь Святой Марии?
— Монастырь Святой Марии находится на улице Гангренадо, — ответил Антонио.
— Вы не можете оказать нам услугу, сеньор, сделать для нас одолжение… — продолжал Рамон.
— Что вы хотите?
— Контора вербовки в карлистские войска находится вблизи этого монастыря. Не могли бы вы проводить нас туда?
— Я могу очень подробно рассказать, как добраться туда, так что вы наверняка сами найдете дорогу, — сказал Антонио.
— Нет, очень трудно запомнить, где свернуть, где идти прямо, — заметил Фрацко, —'Особенно ночью, как раз запутаешься.
— Если б цель ваша была другая, я бы охотно проводил вас, — ответил Антонио, — но вести вас в контору, где вербуют людей в войска дона Карлоса, я не могу, это было бы против моей совести.
— Наконец-то мы выведали ваше мнение, — сказал Рамон, добродушно смеясь, — теперь мы знаем, с кем имеем дело. Стало быть, вы не приверженец дона Карлоса? В таком случае доверюсь вам, что мы агенты тайной полиции правительства.
— Мне, действительно, показалось весьма подозрительно, что вы едете из Виттории в Мадрид, чтобы определяться в войска дона Карлоса.
— Нам было дано секретное поручение, с которым мы ездили в Витторию и там узнали, что около монастыря Святой Марии находится контора, где вербуют в банды карлистов неопытных молодых людей, прибегая и к обману, и к насилию.
— Это кладет еще одно пятно на эту несчастную войну.
— Скверное, позорное дело! — воскликнул Рамон. — И какова дерзость, затеять его прямо в Мадриде, на глазах у правительства! Мне кажется, что обязанность каждого честного гражданина накрыть и разорить это гнездо.
— Вы правы, сеньор.
— Мы решили сразу, как только приедем в Мадрид, отправиться туда и поймать вербовщиков на месте преступления, ведь ночью это удобнее всего будет сделать, и такие дела, по-моему, лучше не затягивать, не откладывать на другой день.
— И вы не знаете улицы Гангренадо, сеньор? — спросил Антонио.
— Мы не знаем, где именно она расположена, а спрашивать мы бы не хотели, чтобы не вызвать подозрений, можно ведь попасть на какого-нибудь сторонника карлистов, и тогда вербовщики сумеют принять меры предосторожности.
— В таком случае я готов вам содействовать и буду вашим проводником.
— Примите нашу благодарность, сеньор. Сразу видно, что вы верный слуга правительства, — проговорил Рамон.
Около трех часов пополуночи поезд подошел к мадридскому перрону, который был почти пуст в это позднее время.
— Не будем проходить через станцию, пойдем прямо в сторону, — сказал Фрацко, вылезая из вагона.
Антонио и Рамон последовали за ним.
Дорога, ведущая в город, была пуста. Когда наши путешественники вышли на нее, Рамон спросил:
— Далеко отсюда, сеньор, улица Гангренадо?
— Мы дойдем туда за четверть часа, — ответил Антонио.
— Мне совестно, что пришлось просить вас об этой услуге, уже так поздно, да и идти так далеко, хотя, конечно, вы содействуете доброму делу.
— Я не устал, — ответил Антонио, — и успею еще прийти в гостиницу.
Антонио с Районом шли впереди, а Фрацко следовал за ними.
Где-то на колокольне пробило три часа.
На улицах, по которым проходили наши путешественники, встречались одни лишь ночные сторожа. Весь город был погружен в глубокий сон.
На одном из перекрестков бандиты успели обменяться знаками.
Антонио, не подозревая своих спутников ни в чем дурном и потому не присматриваясь к ним, не заметил этого знака.
Так дошли они до улицы Гангренадо, вдоль которой тянулась одна из древних стен монастыря Святой Марии.
Фрацко приготовился перерезать патеру путь к отступлению.
Рамон же, зорко следя за каждым его движением, шел рядом, выжидая удобную минуту, чтоб напасть на него. Теперь, находясь возле монастырских стен, они были уверены, что достигли своей цели и сумеют доставить инквизиции свою жертву.
— Вот и улица Гангренадо, сеньоры, — сказал Антонио, останавливаясь.
Но как только, раскланявшись, он хотел повернуть назад, Фрацко так ухватил его сзади за шею, что он не мог даже вскрикнуть, и на пустынной улице прозвучал только какой-то сдавленный хрип.
Антонио рванулся было из железных рук, сдавивших ему горло, но Рамон хватил его кулаком по голове, сбив с ног. Затем бандиты схватили свою жертву и быстро понесли ее к монастырским воротам.
Антонио был так оглушен ударом Района, что не оказывал уже ни малейшего сопротивления, хотя сознавал, что попал в руки врагов и погиб безвозвратно.
ЧАСТЬ IV
I. Разгорелась битва!
Маршал Конхо повел свои отряды на север, преследуя разрозненные банды дона Карлоса. Готовились дать несколько решительных сражений, на этом настаивал командующий, под началом которого соединились значительные силы; он стремился быстрей начать наступление.
Дон Карлос, узнавший о приготовлениях противника, тоже решил вступить, в открытый бой. Он не сомневался в успехе, потому что, по дошедшим до него сведениям, войска правительства под командой Конхо и других генералов значительно уступали его армии, по крайней мере по численности. Стянув вместе отдельные отряды, он мог получить гораздо большее войско, чем у противника, правда, армия его была очень разношерстной и походила скорей на толпу пестро одетых разбойников и авантюристов.
Конечно, войска правительства были лучше обмундированы, обучены и вооружены, чем карлисты, но дон Карлос говорил себе, что зато они могут взять отвагой. Дошло наконец до горячей, кровавой схватки между авангардом Конхо и одним из карлистских отрядов, карлисты были отбиты, но войска правительства заплатили за свою победу слишком большим числом убитых и такой невыгодной, со всех сторон открытой позицией, что победа не радовала.
Дон Карлос между тем полностью подготовился к сражению, которое хотел дать маршалу Конхо, он был твердо уверен в успехе.
Выдвинув вперед правый фланг, он укрепил центр, а командование поручил своему брату Альфонсу и Бланке, этой кровожадной гиене, личным примером подстрекавшей и без того жестоких карлистов к новым жестокостям по отношению к неприятельским солдатам и мирным жителям.
Стоило возникнуть подозрению, что жители какого-нибудь селения стоят на стороне правительства или чем-нибудь поддерживают его, тотчас Бланка отдавала приказ предать селение огню и убивать всех жителей без разбора. Перед ней дрожали больше, чем перед доном Карлосом и доном Альфонсом. Она была кровожадней их обоих.
Ей чужда была жалость! Она всюду рыскала со своими зуавами и уничтожала все, что ей сопротивлялось. Даже там, где из страха перед ней смирялись и шли на всякие жертвы, она не имела жалости, позволяя своим солдатам делать все, что им вздумается. Этим донья Бланка надеялась добиться их преданности и готовности не останавливаться ни перед чем.
Однажды, вскоре после бегства графини Инес из разбойничьего замка Глориозо, в лагерь дона Альфонса въехала какая-то странная повозка. Это была крестьянская телега, лошадью правил карлист. В телеге на маисовой соломе лежал укутанный одеялом, по-видимому, тяжело раненный предводитель какого-то карлистского отряда. Похоже было, однако, что он уже начинал поправляться, потому что, когда повозка остановилась, он поднялся с помощью карлиста и пошел, опираясь на него, правда, при каждом шаге лицо его подергивалось и зубы крепко сжимались. Рука у него была на перевязи, и, видимо, болело плечо. Он был страшно бледен и худ и походил на живого покойника.
— К донье Бланке! — приказал он глухим голосом. — Туда, к палатке с красным знаменем.
Карлист повел его. Встретившиеся солдаты кланялись и провожали его глазами.
Подойдя к палатке, раненый велел дежурному зуаву доложить и через минуту стоял перед доньей Бланкой. Она была одна.
— Как! Это вы, капитан Тристани?
— Я сделался неузнаваем после того выстрела, — отвечал он.
— Слышала о вашей ране, но не поняла, как это случилось, ведь в ту местность бунтовщики еще не проникли. У вас был, верно, какой-нибудь враг среди окрестных басков или выстрел предназначался не вам.
— Мне, ваше сиятельство! Изидор хорошо знает, кому обязан своей раной.
— Не графиня ли Инес, бежавшая в ту ночь, указала вас какому-нибудь скрытому в засаде врагу?
Изидор медленно покачал головой.
— Нет, ваше сиятельство, не с этой стороны была направлена пуля! Но довольно об этом.
— Вы на себя не похожи, Тристани!
— На волоске висел, ваше сиятельство! Ни за какие сокровища в мире не хотел бы выдержать еще раз такие муки, я готов был лишить себя жизни, меня поддерживала только мысль о мести.
— Вам вынули пулю?
— Вырезали, ваше сиятельство! Доктор в поисках ее ковырялся во мне зондом. Пресвятой Бенито! Я точно жарился на вертеле! Это продолжалось целых четыре дня. Сеньор доктор думал, вероятно, что у нас лошадиные натуры. Я стал наконец биться, как безумный, меня связали и чем-то одурманили, не знаю, что было дальше, после мне показывали сплюснутую пулю, засевшую глубоко в плече. Эти мучения усиливались еще мыслью о бегстве моей пленницы. Ах, ваше сиятельство, я предпочел бы чувствовать пулю у себя в плече, чем потерпеть такую неудачу!
— Нетрудно представить, Изидор, что я почувствовала, узнав об этом! Вам приказано было стеречь пленницу.
— И я исполнил приказание, ваше сиятельство.
— Дав ей убежать?
— Вы правы, ваше сиятельство, конечно, я виноват, — отвечал Изидор, останавливаясь на каждом слове, так прерывисто было его дыхание, — но на самом деле я не сидел сложа руки. Я отравил питье пленницы, но или она его не пила, или выпила недостаточно!
— Может быть, оно подействовало на нее позже, и она уже мертва?
— Нет, ваше сиятельство, она жива и благополучно добралась до Пуисерды.
— До Пуисерды? — быстро повторила Бланка Мария, и лицо ее приняло вдруг демоническое выражение. — Вы это точно знаете, Тристани, она в Пуисерде?
— Так мне передали мои агенты.
— Так, теперь я все понимаю! У вас хорошие шпионы. В Пуисерде!
— Там живет дядя графини Кортециллы.
— Да, да! Она нашла у него приют. Вчера мне сообщили, что генерал Мануэль Павиа воспользовался коротким затишьем и поехал в Пуисерду. Я думала, захотел осмотреть крепость, ха-ха-ха! — засмеялась Бланка с такой злобой, что даже Изидор с ужасом взглянул на нее. — Теперь все понятно! — продолжала Бланка. — Маркиз Павиа де Албукерке поехал в Пуисерду искать свою прекрасную возлюбленную! Добрый дядюшка выступит сводником, и молодая чета отпразднует там свою свадьбу! О, это приводит меня в бешенство!
— Дон Мануэль в Пуисерде! — сказал с усмешкой Изидор. — Черт возьми! А я хотел с помощью вашего сиятельства дойти до генерала. Теперь приходится расстаться с этими мечтами.
— Они теперь торжествуют в Пуисерде, — продолжала Бланка Мария. — Ну, Тристани, поблагодарила бы я вас за такую услугу, если бы не вспомнила…
— Вы приказали бы повесить меня, ваше сиятельство, я догадываюсь и на вашем месте сделал бы то же самое! Но я могу поправить дело, и тогда вы смените гнев на милость, ваше сиятельство.
— Вы — калека! — презрительно воскликнула Бланка.
— И калеке может прийти умная мысль, даже иногда умнее, чем геркулесу, ваше сиятельство, — отвечал Изидор, сдерживая досаду. — Во всяком случае, я ведь и калекой сделался, служа вашему сиятельству…
— Вы должны были сделать свое дело получше, а вы позволили выстрелить в себя и стали в результате совершенно бесполезны.
— Это я тоже понимаю, ваше сиятельство, — отвечал Изидор, едва сдерживаясь, — но надеюсь скоро выздороветь и снова стать полезным. Конечно, с моим назначением теперь придется повременить, я вижу, что мне нечего ждать от вашего сиятельства. Есть люди, напоминающие муху, попавшую в миску с супом, — она все старается выползти оттуда, но всякий раз снова соскальзывает в суп. Как только я подхожу к самой цели — вдруг словно что-то толкает меня назад. Черт возьми! Это, впрочем, не моя вина, ваше сиятельство. Меня приводит в ярость мысль о том, что враги мои теперь торжествуют, а я должен опять все начинать сначала. Мне это так же досадно, как вашему сиятельству досадна мысль о маркизе Павиа, обнимающем графиню Инес. Ваше сиятельство, если бы мы опять стали действовать заодно…
— Могу ли я рассчитывать на вас, если вы не сумели справиться с поручением, когда были здоровы!
— Я скоро выздоровею, ваше сиятельство!
— А события в Пуисерде будут ждать этого? — холодно спросила Бланка Мария. — У вас голова тоже, кажется, пострадала во время болезни. Между нами больше нет ничего общего.
— Это жестоко сказано, ваше сиятельство! Я пришел сюда в надежде поправить дело… Что бы вы сказали, если бы я предложил вам окружить Пуисерду и поймать птицу в клетке? Пуисерда — крепость, которую нужно взять…
— Его величество, дон Карлос, не хочет делать этого сейчас.
— Крепость нужно взять в осаду и захватить рано или поздно, ваше сиятельство; нельзя иметь с тыла защищенную неприятельскую местность.
— Повторяю вам, что король Карл против этого плана! Ничто не заставит его пойти сейчас на Пуисерду!
— Скажите прежде всего, ваше сиятельство, хотите ли вы, чтобы крепость была взята? Ведь тогда, во всяком случае, хоть одна птица будет в наших руках.
— Я бы прямо сейчас взяла Пуисерду в осаду и приказала обстрелять ее из пушек! — вскричала Бланка Мария, и глаза ее сверкнули мрачно и грозно. — Я бы разрушила эту крепость, сровняла ее с землей, но, увы! Это желание никогда не исполнится.
— А если бы я сделал его исполнимым, ваше сиятельство? — спросил Изидор, взглянув на нее своими косыми глазами, и самоуверенная улыбка скользнула по бледному, худому лицу.
— Вы хотите сделать то, что не под силу даже мне? Повторяю вам, король Карл намерен вступить в открытый бой с бунтовщиками и не согласен затевать сейчас что-либо еще.
— Никогда бы я не осмелился сомневаться в вашем влиянии, ваше сиятельство, или превозносить себя — нет, нет! Но у меня есть верное средство убедить его величество короля Карла благосклонно отнестись к плану. Я обещаю вашему сиятельству осуществить ваше желание и взять Пуисерду!
— Вы, кажется, относитесь к тому типу людей, которые все хотят сделать, много обещают и ничего не исполняют.
— Испытайте меня еще раз, ваше сиятельство, в этот раз я не обещаю ничего такого, чего бы не мог выполнить.
— Мне и самой хотелось бы сделать последнюю пробу, хотя бы для того, чтобы посмотреть, удастся ли вам повлиять на дона Карлоса и убедить его предпринять осаду Пуисерды.
— Я калека, но вашему сиятельству не придется повторить, что мой мозг пострадал так же, как и мое тело. Я исполню свое обещание. Смогу ли я потом надеяться на прошение и прежнюю милость?
— Если Пуисерда будет взята в осаду — клянусь душой, вы будете генералом и главнокомандующим.
— Я еще чертовски слаб, — сказал Изидор, — но обещание такого будущего действует на меня лучше всякого лекарства. Сейчас же отправляюсь в штаб-квартиру. Не могу обещать вашему сиятельству, что исполню ваше желание на этих днях, но ручаюсь, что оно будет исполнено непременно. Пуисерда будет взята в осаду. Честь имею кланяться вашему сиятельству! По всей вероятности, скоро вернусь с отчетом.
Изидор поклонился, насколько позволяла ему его рана в плече, и вышел.
Он тотчас же хотел отправиться в штаб-квартиру. Снова устроившись на маисовой соломе в телеге, он велел карлисту ехать туда, и повозка снова застучала по дороге.
Изидор улыбался. Он, видимо, доволен был результатом своего визита к Бланке Марии и не сомневался в дальнейших успехах.
Эта уверенность вливала в него новые силы, в первый раз он почувствовал, что не умрет от своей раны.
Имя Доррегарая огненными буквами горело в его воспаленном мозгу! Ненависть и жажда мести затмили ему все — а средства удовлетворить их все еще не было, все еще приходилось утешаться мыслью, что желанной минуты надо только немного подождать. Но так или иначе, а он должен был отомстить ненавистному. Бумаги, взятые у суперьора, ничему не могли помочь, потому что дон Карлос не обращал никакого внимания на подобные тайные общества, которые ему нисколько не вредили. Найти же какую-то другую силу и перед ней обвинить его в связях с Гардунией, было бы не только безумно, но даже невыполнимо при настоящем положении дел.
Этому воскресшему покойнику приходилось рассчитывать только на себя! Он должен был пролить кровь ненавистного на поле сражения или подкараулить его и выстрелить из засады. Эти мысли благотворно действовали на карлистского черта. Один сообщник сатаны поклялся извести другого. Доррегарай не уступал Тристани в жестокости и коварстве, только был несколько в другом роде.
Изидор занимался пустяками, то есть преследовал планы, которые сравнительно с планами мексиканца были пустяками! Доррегарай же был убийцей высшего полета, и если не считать донью Бланку, то самые страшные дела на этой войне, как мы увидим дальше, творил именно он. В последнее время он еще больше вошел в милость дону Карлосу, оставшись победителем в нескольких битвах и отличившись редкой бесчеловечностью во многих случаях.
Имя его произносилось со страхом. Пленные, имевшие несчастье попасть к нему в руки, были обречены на смерть. Он прославился своей смелостью, солдаты называли его новым Кабрерой и все как один хотели служить под его начальством.
Не только в лагере, но и на поле битвы, в самых кровавых схватках он постоянно был впереди со шпагой в руке. С тайным страхом уже начинали говорить, что он неуязвим и, наверное, связан с сатаной, так как его не берут ни штык, ни пуля.
Для предводителя банд авантюристов была очень выгодна такая репутация.
Доррегарай боялся Тристани, тот был опасен для него. Через несколько дней после выстрела, сбившего Изидора с ног, Доррегараю донесли об этом, и он считал его теперь умершим.
Изидор знал это и заранее радовался, представляя себе удивление Доррегарая, когда он вдруг явится перед ним.
Занятый этими мыслями, он и не заметил, как доехал до штаб-квартиры. Уже наступил вечер. От штабных офицеров он узнал, что дон Карлос уехал и вернется не раньше завтрашнего дня. Ему отвели помещение, куда он пригласил полкового доктора, осмотревшего рану и сделавшего новую перевязку. Изидор уснул в эту ночь спокойнее, хотя тревожные мысли все еще не покидали его.
На следующее утро знакомый офицер из свиты дона Карлоса позаботился, чтобы его хорошо покормили, и, как только дон Карлос вернулся, Тристани велел отвести себя к нему.
Ему довольно долго пришлось ждать, пока до него дошла очередь, так как в штаб-квартире принца скопилось много дежурных офицеров и адъютантов с депешами. Когда они закончили свои доклады, Изидора ввели к дону Карлосу. При нем были адъютант и его секретарь Виналет, которому он отдавал приказания на вечер.
Появление Изидора, казалось, не было ему неприятно. Тристани, несмотря на рану, стоял, вытянувшись по-военному. Дон Карлос тотчас обратился к нему.
— Так вам удалось спастись, капитан? — спросил он. — Мне сообщили, что в вас выстрелили из засады и что вы убиты.
— На этот раз кое-как уцелел, ваше величество, — отвечал Изидор. — Недалеко был от смерти, но, видимо, не суждено еще мне умереть.
— Да вы и теперь, кажется, не совсем оправились, капитан?
— Рана еще не закрылась, ваше величество.
— А вы уже опять торопитесь на службу? Слишком рано! Вам надо прежде окрепнуть. Здесь сейчас не место для инвалидов, потому что в ближайшее время нам предстоит большое сражение, где будут задействованы все наши военные силы.
— Я и сам чувствую, ваше величество, — отвечал Изидор, — что не в состоянии еще исполнять какие-либо обязанности, я пришел с тайным донесением, которое должно быть передано только вашему величеству.
— Тайное донесение? Говорите, капитан.
— Прошу ваше величество всемилостивейше простить, но это частное и очень деликатное дело, — сказал Изидор, взглянув на адъютанта и Виналета.
— Ваши частные дела требуют, как видно, больших предосторожностей, — сказал дон Карлос, — но я исполню желание воскресшего из мертвых.
Он сделал знак адъютанту и Виналету удалиться.
— Теперь мы одни, — прибавил он, — говорите.
— Дело, о котором я буду говорить, — продолжал Изидор, — касается не меня. Я, с позволения вашего величества, хотел бы сказать об одном обстоятельстве, все детали которого известны только мне.
— О каком обстоятельстве вы говорите, капитан?
— О привидении, явившемся в полночь в замке Глориозо, с позволения вашего величества.
Дон Карлос быстро взглянул на Изидора.
— О привидении? Разве оно появлялось еще раз? — спросил он.
— Несколько иначе, чем в первый раз, ваше величество. Привидение явилось снова в ту ночь, когда я был так тяжело ранен и когда графиня Инес таким непонятным образом ушла из замка. Говорят, молодая графиня Кортецилла подвержена лунатизму, может быть, эта таинственная болезнь и дала ей возможность выйти из замка, окруженного со всех сторон солдатами. Это было первое привидение, я его хорошо узнал, а второе привидение помогало графине в побеге.
— Лунатик действует во сне, а побег может быть совершен только в сознательном состоянии.
— В таком случае, ваше величество, это непостижимо.
— Кто же был вторым привидением?
— Это была сеньора Амаранта! Она жива, это была она, а не призрак! Ваше величество, поверьте мне, я хорошо знаю сеньору.
— Она жива, — Карлос, по-видимому, не хотел показать своего удивления или интереса, которое вызвало у него это сообщение. — Значит, сеньора пришла за графиней Кортециллой, но ведь та в замке Глориозо была вне опасности! Я был бы не против, если бы вы, вместо того чтобы выпустить графиню, привели к ней сеньору, и заперли бы их вместе, капитан.
— Я пытался вернуть их в замок, несмотря на свою рану, но напрасно. Однако желание вашего величества может быть исполнено еще и теперь.
— Каким образом, капитан? Разве обе сеньоры находятся сейчас в таком месте, где их можно поймать?
— Сеньора Амаранта проводила графиню в Пуисерду. По моему приказанию за ними следили, и моим солдатам удалось узнать, что сеньоры нашли убежище в доме дяди графини.
— Пуисерда…
— Это небольшая крепость, принадлежащая бунтовщикам, и там стоит небольшой неприятельский гарнизон. Если бы ваше величество отдали приказ окружить ее и взять, обе сеньоры были бы в ваших руках. Занять же крепость — просто пустяки.
— Но в настоящую минуту я не могу дробить силы, мои планы этого не позволяют.
— Ваше величество, я не говорю о непременном захвате, Пуисерду можно просто окружить небольшим числом солдат. Рано или поздно ведь ее все равно придется брать, а до тех пор я буду стоять в карауле с какой-нибудь сотней человек. Ваше величество дадите мне таким образом спокойный пост, на котором я успею окрепнуть, пока со своей сотней буду ждать, когда ваше величество вернетесь с победой и соберете войско для дальнейших завоеваний.
— Боюсь, что вас с вашей сотней ожидает плохой конец в случае вылазки гарнизона.
— Испытайте нас, ваше величество, жертва, во всяком случае, будет невелика, но я ручаюсь, что с сотней своих солдат неделями буду стоять в Пуисерде и не дам шевельнуться ее гарнизону.
—Ну, хорошо, желание ваше будет исполнено, капитан.
—Благодарю, ваше величество, за вашу милость и даю слово, что ни одна мышь не выйдет из Пуисерды и не войдет в нее, пока войска не придут брать крепость.
— Оставайтесь здесь, в штаб-квартире, и ожидайте дальнейших приказаний, —сказал дон Карлос Изидору, который теперь достиг своей цели и мог сообщить донье Бланке о предстоящей осаде Пуисерды.
Спустя несколько дней карлистский черт шел со ста пятьюдесятью вверенными ему солдатами к маленькой крепости.
П. Ламповый бал
В ту ночь, когда Тобаль Царцароза присоединился волонтером к правительственным войскам, оставив свой двор, одна из тех таверн «маленькой Прадо», в которой всегда бывает так много посетителей, была сильно оживлена. Тут давали народный бал, в каких охотно принимают участие и молодые девушки, и замужние женщины, женатые и холостые мужчины, потому что испанцы и испанки больше всего на свете любят танцевать.
Знатная донья со своим кавалером так же страстно предается танцу на частном балу, как и мещанка, идущая туда, где танцуют фанданго и ригодон3, как и простая девушка, цветочница, продавщица магазина, гризетка, с неподдельной радостью танцующие на тех народных балах, которые получили название от чадящих ламп, освещающих огромные танцевальные залы.
Только неудержимая страсть к танцам может объяснить, почему эти залы бывают всегда так полны народа, а таких залов бесчисленное множество в беднейших кварталах Мадрида.
Название «зал» здесь совсем не подходит, эти помещения скорее похожи на огромные амбары. Но что за дело, были бы пол и стены, играла бы музыка, да было бы достаточно танцующих сеньоров.
Зал в таверне «Солнце», куда мы теперь войдем, был велик и душен, четыре свешивавшиеся с потолка лампы, казалось, качались в каком-то тумане, в воздухе плавали дым и пыль, поднятая танцорами.
Хозяин, боясь, как бы потолок не рухнул от дружного топота множества ног, велел расставить кое-где подпорки, нимало не мешавшие танцующим. В уголке на небольшом возвышении помещался оркестр из пяти музыкантов: двое с тамбуринами, двое с гитарами и один с кларнетом.
Музыка очень напоминала китайскую и невыносимо терзала слух, но музыканты хорошо держали такт и играли знакомые танцующим мелодии: в этом было все ее достоинство.
Танцующие сплетались руками и двигались с такой грацией и страстью, какие незнакомы жителям севера. Многие пары привлекали всеобщее внимание. Они были так хороши, что украсили бы любой балет, и заставляли забыть про их убогие наряды.
Все танцевали неистово. Смеясь и в такт покачиваясь, пары то плыли, то проносились мимо. Лица пылали, глаза горели, партнеры поднимали высоко в воздух своих дам, едва прикрытая грудь девушек бурно вздымалась, и короткие юбочки высоко взлетали кверху в страстном танце, хозяин с прислугой разносили вино, воду со льдом и фрукты тем, кто не танцевал или отдыхал после танцев, какая-нибудь особенно ловкая и красивая пара исполняла между тем грациозное па-де-де, поодаль за столами сидели за вином пожилые мужчины, явившиеся просто в качестве зрителей.
Тобаль Царцароза, только поздно вечером покинувший дом, по набережной вышел к таверне «Солнце», в то же время с другой стороны улицы, навстречу ему, показались двое мужчин, одетых как угольщики, с выпачканными сажей лицами.
Дав обоим пройти, Тобаль остановился и с изумлением поглядел им вслед. Внешность одного из них, по-видимому, пробудила в нем какое-то воспоминание…
— Неужели это он?.. — прошептал Тобаль, — неужели это Мендири, мой бывший товарищ, перешедший к карлистам и ставший одним из их предводителей?
Тобаль еще с минуту смотрел на спокойно удалявшегося мужчину…
— По всему — это он, но как Мендири мог очутиться в Мадриде? Он сильно рискует, показываясь здесь, но он ведь всегда был смел до дерзости и падок на такие выходки, которые как раз в духе карлистских капитанов… Зашел в таверну… клянусь душой! Надо бы удостовериться и посмотреть, что он будет делать! Сходство удивительное! Пойду погляжу! Выходим еще не скоро, до утра ведь далеко!
И Тобаль Царцароза, не надевший еще мундира, завернувшись в широкий темный плащ и надвинув на глаза шляпу с большими полями, повернул назад и вошел в таверну, встретившую его чадом и звуками музыки.
Прислонясь к одной из деревянных колонн, недалеко от которой разместились за столиком оба незнакомца, не заметившие его, он стал смотреть на танцующих, наблюдая в то же время за этими двумя.
— Это он, — прошептал опять Тобаль, — такого сходства не может быть! Это Мендири! Но с чего же этот ветреный волокита нарядился в такой костюм и выпачкался сажей? Кто это с ним? И что он делает тут, в Мадриде, когда несколько дней тому назад в газетах было сказано, что в окрестностях Виттории небезопасно из-за банд, возглавляемых Лоцано и Мендири?.. Нет, нет, это не он! Но эти лукаво сверкающие глаза! Послушаю, о чем они так серьезно рассуждают, надо узнать, Мендири это или нет. Другой мне совершенно незнаком, я никогда его не видал.
Угольщики между тем тихонько разговаривали.
— Туда ли мы пришли, Лоцано? — спросил один из них.
— Час тому назад я говорил с Ураменте, — отвечал другой, — и он сказал, что встретится с нами в таверне «Солнце», а на вывеске так и написано.
— Когда он хотел прийти? — спросил Мендири.
— Он не мог сказать точно, — тихо отвечал Лоцано, — он хотел сначала, одевшись слугой, пробраться во дворец Серрано и там разузнать немного о его образе жизни, чтобы можно было что-то планировать.
— Только бы был осторожен, — прошептал Мендири, — одно необдуманное слово может выдать его!
— Не беспокойся, я недаром его выбрал! Ураменте хитрый как лисица. Да и кому придет в голову, что слуга…
— Тише! — прервал его Мендири, — видишь этого в плаще у колонны?
— Который стоит спиной к нам?
— Он, может быть, подслушивает.
— Ну, ты уж слишком осторожен, — сказал Лоцано, похлопав его по руке и отодвинув кружку с вином, которое спросил только для вида, так как ни вино, ни сама кружка ему не понравились, — кто тут обратит на нас внимание? Мы выбрали такие маски, которые как раз под стать этому ламповому балу.
— Что если б маркиза Ирокедо увидела меня в таком наряде, —усмехнулся Мендири, — любопытно знать, признала бы она меня?
— Ты в самом деле не был у нее?
— Сохрани Бог! Ведь я тебе обещал.
— А я думал, что любовь к прекрасной маркизе не даст тебе покоя! Я был только у графа Тормадо и кабальеро Бланда.
— Что же они говорили? Узнали они тебя?
— Бланда узнал, но Тормадо уже собирался звать слуг, чтобы выгнать дерзкого угольщика.
Мендири засмеялся.
— Тогда ты назвался ему? — спросил он.
— Он очень обрадовался и обнял меня, несмотря на мой непривлекательный костюм. Они с Бландой не остаются без дела. Их партия, то есть партия короля Карла, все увеличивается.
— У Тормадо много людей, и он пользуется огромным влиянием.
— Он изъявил готовность принять нас у себя, но я из осторожности отказался. Он тебе кланяется.
— А Бланда?
— Хочет увидеться и поговорить с тобой.
— Ты им сказал о цели нашего приезда?
— Я дал понять.
— Что же они?
— Тормадо задумался, но его пугала только мысль об опасности нашего положения.
— Разве ты ему не говорил, что мы привезли с собой надежного человека, который выполнит задуманное?
— Именно это он и считает самым опасным.
— Ого! Не думает ли он, что Ураменте может изменить нам?
— Он намекнул, что все мои влиятельные сторонники в Мадриде не спасут меня тогда от топора или веревки, — прошептал Лоцано, — и он прав!
— Ты раскаиваешься? — с удивлением спросил Мендири.
— Что за вопрос! Разве не я первый начал дело? Нет, нет, я только передаю мнение Тормадо.
— Знаешь, — заметил Мендири, — он всегда был боязлив, сколько я помню. Я доверяю малому, которого мы привезли с собой.
— Ураменте создан для подобного дела.
— Договорился ты с Бландой и Тормадо насчет второго свидания, Лоцано?
— Я ни о чем не договаривался, так как все зависит от решения Ураменте.
— А как влияние Серрано? Колеблется?
— Какое! Бланда говорит, растет!
— Черт возьми!.. Меня ужасно стесняет этот человек у колонны, — пробормотал Мендири, с досадой взглянув на Тобаля. — Я почему-то все время невольно на него смотрю.
— Что нам до него за дело! Он глядит на женщин.
— Я его как будто где-то видел…
— Да ну его, — проворчал Лоцано. — Что-то Ураменте долго не идет!
— Надеюсь, что он не подопьет и не проболтается.
— В случае беды мы всегда успеем удрать. В этой таверне два выхода, — шепнул Лоцано, так что Тобаль не мог расслышать его слов. Он вообще немного разобрал из всего разговора, но убедился теперь, что это был Мендири, его прежний товарищ, перешедший в лагерь карлистов, и что другой сидевший возле него человек, тоже принадлежал к сторонникам дона Карлоса.
— Вот Ураменте, — сказал Мендири, толкнув Лоцано.
Тобаль осторожно, не поворачивая головы, покосился на отворившуюся дверь. В таверну входил человек в голубой ливрее, подбитой красным. Как у всех слуг в знатных домах, на нем была шляпа с галунами, панталоны до колен, белые чулки, плотно обтягивающие ногу, и башмаки. Появление его не привлекло ничьего внимания, так как слуги, освободившиеся поздно вечером от своих обязанностей, часто заходили в таверну выпить или поиграть в карты.
Мнимый лакей, отлично исполнявший свою роль, подошел к столу, за которым сидели угольщики, слегка кивнул им головой и снял свои белые перчатки.
— Ну, что? — спросил Лоцано.
— Все идет отлично, сеньор, — шепотом отвечал карлист Ураменте.
— Был ты во дворце Серрано?
— Точно так, сеньор. Это ведь пустяки, и дело было бы уже сделано, если бы мне не помешал проклятый адъютант. Стоя в портале дворца, я видел маршала, как теперь вижу вас, сеньор.
— Как же ты сумел войти, Ураменте? — спросил Мендири. — Тебя в этой ливрее не узнать.
— Очень рад, очень рад, сеньор! Я назвался слугой маркиза Алькантеса, у которого действительно служил прежде, я знал, что маркиз был в дружбе с маршалом, но, разумеется, не мог знать, что он теперь живет не в Мадриде, а в Севилье, это вызвало небольшие затруднения, но Ураменте всегда выйдет сухим из воды.
— Расскажи подробней, — сказали оба вождя.
— Придя вечером во дворец маршала, я обратился к носатому швейцару, или кто он там такой, у него еще толстая палка с золотым шаром на конце, и спросил, дома ли маршал. Он пренебрежительно посмотрел на меня, я еще более пренебрежительно поглядел на него — ведь я сам служил и знаю, как надо обращаться с подобными людьми.
Лоцано усмехнулся, Мендири тоже улыбался, поглаживая свою холеную бороду, Ураменте продолжал: «Светлейший герцог уехал, — отвечали мне. — Что вам нужно?» — «У меня поручение к господину маршалу». — «От кого?» — «От маркиза Алькантеса». — «Как? — закричал красноносый толстяк с палкой. — От маркиза Алькантеса? Как же так? Сеньор маркиз вчера приезжал из Севильи посоветоваться здесь с докторами и сразу же уехал». Это немного огорошило меня, но Ураменте всегда найдется. «Так, любезный друг, — сказал я, — но сегодня маркиз опять приезжал для совета с докторами». — «Ну, — проворчал старик с палкой, — так дайте мне ваше письмо, как только светлейший герцог вернется, а он может вернуться нескоро, я ему и передам». — «Нет, — отвечал я, — мне приказано передать маршалу на словах. Если позволите, я подожду его». Старик что-то проворчал и ушел к себе, а я остался ждать у одной из колонн портала и успел приготовиться.
— Ну, это было рискованно, — заметил Лоцано.
— Говори, говори дальше, — торопил Мендири, — мне кажется, ты хорошо затеял!
— У меня за пазухой был револьвер, данный вами, сеньор, и мой кинжал, хорошо наточенный! На него-то я и рассчитывал, думая воспользоваться револьвером для собственной защиты, когда придется убегать. Я продумал также, что буду говорить. Не прошло часа, как подъехала карета, в ней сидел маршал Серрано с адъютантом. Я отошел к швейцарской, чтобы выждать удобную минуту. Когда маршал прошел мимо меня, я ему поклонился, и мне стало как-то не по себе, у него такой гордый, величественный вид! Все низко кланялись ему, и он шел, точно король. Через некоторое время я последовал за ним. Клянусь вам, сеньоры, что завтра я найду удобный момент, и тогда или я, или этот маршал, но кто-то отправится на тот свет. Ведь дело самое пустое. Сегодняшняя сцена повторится завтра, и мне непременно удастся, клянусь пресвятой Девой!
— Итак, ты поднялся по лестнице… Что же дальше? — спросил Мендири.
— Там я обратился к камердинеру и попросил доложить маршалу, что я пришел с важным поручением от больного маркиза Алькантеса. Меня ввели в переднюю, где я должен был подождать немного, затем отворилась высокая дверь, и я увидел маршала. Он знаком позвал меня в кабинет. Я вошел. В маленькой роскошной комнате никого не было, кроме нас. Я поклонился маршалу, взявшись правой рукой за кинжал. Он спросил меня о здоровье маркиза и о причине его вторичного приезда в Мадрид. Мне показалось, что наступила удобная минута, и я уже сделал шаг к герцогу, как вдруг дверь открылась, вошел один из офицеров его штаба и остался в кабинете. Я сейчас же ответил герцогу, что маркиз вернулся в Мадрид, потому что ему сделалось опять хуже. «Так маркиз действительно решается на операцию?» — спросил маршал. — «Точно так, ваша светлость, — отвечал я, — и сеньор маркиз приказал мне спросить у вашей светлости насчет доктора». — «Но ведь маркиз знает, где живет доктор Антурио?»— сказал маршал. — «Точно так, ваша светлость, но сеньору маркизу хотелось услышать от вашей светлости, посоветуете ли вы взять этого доктора для операции». — «Конечно, конечно! — вскричал маршал. — Я завтра же пошлю Антурио к маркизу». — «Послезавтра, ваша светлость, если смею просить». — «Хорошо, кланяйтесь маркизу и завтра придите сказать мне о его здоровье». Затем он отпустил меня. Ну, скажите сеньоры, хорошо ли я исполнил свое дело?
— До сих пор хорошо, но главное-то ведь завтра, — отвечал Лоцано.
— Черт возьми! — вскричал вдруг Мендири, не возвышая голоса и указывая на колонну. — Где этот, что тут стоял?
— Он ушел?
— О ком вы говорите, сеньор? — спросил Ураменте. Мендири вскочил, он мельком увидел в эту минуту
Тобаля у выхода и поспешил за ним.
— Что нам-то до него, — заметил Лоцано, — просто кто-нибудь из посетителей! Садись, Ураменте, пей!
Карлист с благодарностью взял стакан того вина, которое казалось недостаточно вкусным Лоцано.
Между тем Мендири вышел из таверны и в темноте пошел за Тобалем, повернувшим за угол. Но в переулке он потерял его из виду. Тобаль спешил к ближайшей гауптвахте. Мендири, ничего не подозревая, вернулся в таверну, где Лоцано несколько успокоил его, кругом стояло много мужчин, так же, как и Тобаль, смотревших на женщин, пивших вино и куривших.
По дороге Тобалю, к счастью, встретились два офицера, возвращавшихся из гостей, и он подошел к ним.
— Простите, кабальерос, — сказал он, — но я должен сообщить вам о готовящемся покушении на жизнь маршала Серрано.
Офицеры испугались и велели ему рассказать, что он слышал. Конечно, он немного узнал из разговора троих заговорщиков и мог только сказать, что его прежний товарищ Мендири и двое других были переодетые карлисты и что один из них, выдающий себя за слугу маркиза Алькантеса, намеревался убить маршала Серрано.
Офицеры решили сами арестовать заговорщиков, так как идти за караулом было бы слишком долго. Тобаль пошел с ними для помощи в случае надобности, и они отправились к таверне.
Едва успели они войти, как Мендири заметил их и вскочил. Лоцано тоже быстро поднялся. Тобаль, входя, увидел всех троих за столом, но офицеры в толпе и давке не могли их сразу разглядеть. Один Ураменте остался на месте, не понимая, в чем дело, и с удивлением глядя на Лоцано и Мендири, которые поспешно бросились вон, расталкивая толпу.
Все переполошились, увидев офицеров и Тобаля, все кричали и бежали, толкая друг друга, так как никто не знал, что случилось и что должно произойти.
Офицеры тотчас бросились за двумя убегавшими карлистами. Ураменте попытался защищаться, выхватив свой кинжал, но Тобаль одним ударом лишил его возможности бороться.
Он в нескольких словах объяснил подбежавшему хозяину, в чем дело, и тотчас несколько человек побежали преследовать карлистов, но тем удалось пробраться сквозь толпу к другому выходу из таверны и счастливо избежать преследования, скрывшись в узеньких переулках.
При Ураменте нашли револьвер, но никак нельзя было доказать, что он карлист, а он, конечно, от этого отрекался. Его передали властям, стали расследовать дело и узнали, что он приходил к маршалу будто бы с поручением от маркиза Алькантеса, и не думавшего возвращаться в Мадрид. Этого было достаточно, чтобы обвинить его в измене и предать суду. Жизнь маршала была спасена.
III. Битва при Эстелье
Силы карлистов под предводительством Олло, Доррегарая и дона Альфонса были стянуты к Эстелье, так как маршал Конхо приближался с большой армией, готовясь атаковать их.
Дон Карлос тоже находился здесь и осматривал надежные, хорошо вооруженные укрепления, которыми окружили Эстелью. Тут солдаты могли спокойно ожидать нападения войск правительства, заняв лучшие позиции во всей окрестности.
Карлисты были полны мужества и воодушевления, чему в немалой степени способствовало то обстоятельство, что подготовленные окопы были прочны и надежны и могли служить не только прикрытием, но и давали возможность сдержать напор неприятеля. В продолжение всей войны банды дона Карлоса держались тактики как можно меньше подвергать свою жизнь опасности, и противники их несли огромные потери при попытках взять карлистские укрепления. В открытом бою карлисты явно уступали, но за своими окопами они были очень воодушевлены и мужественны.
Генерал Олло, высоко ценимый Карлосом как опытный полководец, выбрал в качестве поля битвы окрестности Эстельи, он командовал центром армии, Доррегарай и с ним для виду дон Карлос — правым флангом, а дон Альфонс и несколько других полководцев — левым.
Среди последних находился и старый генерал Себальяс.
Перед началом битвы к дону Карлосу явились представители отрядов его войск и сообщили, что Кастилия, Валенсия, Арагония, Каталония и другие провинции требуют старого генерала Кабреру, потому они просят принца назначить его главнокомандующим.
— Кабрера бунтовщик, — отвечал дон Карлос в сердцах и повернулся к представителям спиной. — Я бы хотел, чтобы он сейчас стоял рядом! — прибавил он, обращаясь к своей свите.
— Поэтому мы и просим ваше величество приблизить его, — сказали представители.
— Эти господа не поняли меня! — вскричал дон Карлос, продолжая обращаться к своей свите. — Скажите им, что я только для того хотел бы видеть Кабреру возле себя, чтобы велеть расстрелять его!
Мы знаем причину этого гнева.
Укрепления карлистов не ограничивались окрестностями Эстельи, где был центр армии, но простирались и к Муро, и к другим селениям, занятым флангами.
Несчастные жители давно скрылись, захватив с собой все необходимое из имущества.
Сбылось предсказание Антонио дону Карлосу: народная война погубила и торговлю, и земледелие.
Богатые поместья стали несчастьем для их владельцев, потеряв всякую ценность и в то же время облагаясь огромными военными налогами.
Вот что пишет очевидец: «Я знал одного несчастного владельца, у которого было огромное поместье, но он сделал все возможное, чтобы избавиться от него. Ему доказывали, что оно его собственность, но он клялся всеми святыми, что это не так, иначе ему пришлось выплатить тяжелые налоги. Когда его спрашивали: „Отчего же вы в таком случае не продадите его?“ — он отвечал: „Это невозможно, никто даже и даром не возьмет, хотя именье отличное“. Оно находилось милях в двадцати от Мадрида, и налоги с него платились только правительству — подумайте, а каково приходилось тем владельцам, которые должны были платить и правительству, и карлистам!».
Это подлинный рассказ очевидца, дошедший до нас. Ну а в тех местностях, где происходили сражения, положение было еще ужасней. Оттуда бежали все, унося с собой самое необходимое, чтобы избавиться от требований республиканцев и хищничества карлистов.
Целые селения стояли пустые, как вымершие. Карлисты, досадуя, что им нечем поживиться, сжигали дома и амбары, лишая таким образом жителей возможности вернуться впоследствии. Так как селения были брошены, то за них доставалось маленьким городкам.
Все время кого-то ставили на постой, все время требовали провианта. Если кто-нибудь смел сопротивляться, его без всяких разбирательств убивали или сжигали его дом.
С теми, кто пытался жаловаться, поступали еще хуже: либо их раздевали донага и привязывали к дереву, и так они должны были оставаться до совершенного изнеможения или до тех пор, пока кто-нибудь не сжалится над ними, либо убивали самым варварским образом.
Но и там, где карлисты встречали покорность, где им оказывали всевозможную поддержку, с жителями обращались ничуть не лучше. Эти варвары не только требовали доставки продовольствия, но отбирали у жителей даже деньги, уводили дочерей и жен. Если же мужья обращались с жалобами, их ждала смерть, и такая мученическая, какую могли выдумать только эти варвары.
Из городов все, кто мог, захватив с собой самое необходимое имущество, тоже бежали в Мадрид или на юг. Но многие не в состоянии были этого сделать, потому что пришлось бы оставить на произвол судьбы свой дом и двор. Эти бедняки доставляли карлистам не только провизию, но даже одежду и одеяла на ночь, потому что у большинства из них не было самого необходимого. За жалобы тоже грозила смерть.
Но ужаснее всего было положение мест, в окрестностях которых шли сражения, приводившие к страшным опустошениям. Снаряды разрушали селения и друга, и недруга, дома горели! И все-таки, насколько можно, войска старались обычно щадить мирное население, в этой же войне с карлистами главной целью было уничтожение, без пощады и сострадания, всякое человеческое чувство презиралось. Местности, удаленные от поля битвы настолько, что снаряды не доставали их, сжигались карлистами, искавшими случая удовлетворить свою бешеную жажду разрушения.
Никто не мог рассчитывать на жалость! Женщин, детей, стариков — всех убивали. И поскольку подобные злодейства дон Карлос, этот честолюбивый претендент на корону и богатства Испании, считал вполне естественными, вся Европа вынесла ему свой приговор! Виралет, министр иностранных дел при доне Карлосе, не постыдился послать европейским державам письменное объяснение, в котором вздумал доказывать, что правление Серрано есть правление противозаконное и что злодейства, приписываемые карлистам, совершаются республиканцами. Военный министр дона Карлоса, Игнасио Пиана, тоже поставил свое имя под этой бумагой.
Только безнравственные соратники дона Карлоса, надеявшиеся на богатую награду после въезда его в Мадрид, могли решиться публично говорить подобные вещи! Но история вынесет свой приговор им и их повелителю, как уже давно и повсюду вынесло его общественное мнение. Удивительно только, как дон Карлос и его орды, проклятые всеми, так долго продолжали творить свои бесчинства!
Войска правительства под командованием Мануэля Павиа де Албукерке, Жиля-и-Германоса и других полководцев соединились под единым командованием Конхо. Теперь старый, опытный маршал располагал огромными силами, которые в состоянии были дать большое сражение дерзким карлистам. Пример, геройская слава и решительность Конхо вызывали в республиканцах то воодушевление и мужество, которые так необходимы для достижения настоящего успеха. Все любили и почитали поседевшего в битвах полководца, которого заслуженно называли отцом солдат. Его имя вдохновляло войска. Громкое «ура» и горящие мужеством лица приветствовали везде его появление. Там, где он со шпагой в руке вел своих солдат, там не могло быть поражения. Ведь вся жизнь его была непрерывной цепью блестящих военных подвигов!
И этот герой вел войско против карлистов! Он зажег солдат простой, энергичной речью, он назвал святой обязанность защитить Испанию от злодея, освободить их прекрасную родину.
Солдаты громко вторили ему: «Идем победить или умереть за нашу прекрасную родину!» — и смотрели на седого полководца как на бога войны, несущего им победу.
Офицеры тоже были полны уверенности в успехе.
Вся армия была в самом радужном настроении.
Мануэль вернулся из Пуисерды, куда, как увидим дальше, его привело радостное событие, чтобы во главе своих отрядов принять участие в предстоящей битве. Его напутствовали горячими благословениями, пожеланиями и молитвами графиня Инес и ее домашние.
Жиль-и-Германос, маркиз Горацио де лас Исагас со своим верным Алео и Тобаль Царцароза тоже присоединились к армии Конхо.
Наступил вечер перед битвой при Эстелье. Большая часть войск правительства подошла к неприятельским позициям и растянулась вдоль них. Обширные поля, на которых завтра прольется кровь и раздастся гром пушек, теперь погрузились в мертвое молчание и мрак.
Вечер перед битвой несет в себе что-то торжественное! Каждый углубляется в себя, мысленно прощается с дорогими и близкими и совершает молитву. Каждый знает, что завтра жизнь его может кончиться, потому что завтра такой день, когда смерть собирает обильную жатву.
Кругом все было тихо. Солдаты спали одетые, положив оружие рядом с собой, возле кавалеристов стояли оседланные лошади, артиллеристы лежали около. стоявших на лафетах орудий. Везде были расставлены караулы и форпосты; все были утомлены и отдыхали, набираясь сил перед завтрашним днем.
Несколько поодаль от спавших солдат на пнях сидели три офицера, вполголоса разговаривая между собой. Папиросы их беспрестанно вспыхивали в ночном мраке, а на траве лежали жестяные фляжки с вином.
Двух офицеров мы знаем, это были Жиль-и-Германос, несколько более серьезный, чем обычно, и молодой маркиз Горацио де лас Исагас. Третий же, еще не старый мужчина с серьезным спокойным лицом, был в немецком мундире, на груди у него висел железный крест первой степени, знак отличия за участие в войне 1870— 1871 гг.
Он рассказывал офицерам, что Конхо разрешил ему идти вместе с войсками, что он должен все видеть своими глазами, ибо намерен посылать сообщения о событиях в немецкие газеты.
Жилю и Горацио, видимо, понравилась открытая, располагающая внешность немца.
— Если позволите, — обратился он к Жилю, — я останусь некоторое время с вами, не принимая участия в действиях, а только в качестве наблюдателя и буду пересылать сведения на свою родину, которая с самым живым интересом относится к событиям.
— Вы под моей защитой, капитан Шмидт, —отвечал Жиль, — и если наш маршал позволил вам видеть и слышать, что здесь происходит, то вы, конечно, можете оставаться, где вам угодно.
— Скажите, капитан, — спросил Горацио, — чью сторону принимает немецкая нация — нашу или кар-листов?
— Можно ли спрашивать, сеньор маркиз! — вскричал Шмидт. — В моем отечестве с участием относятся к республиканским войскам и желают им от души успеха, тогда как бесчинства карлистов вызывают у нас только отвращение и презрение.
— Еще вопрос, капитан, — сказал Горацио, — орден, который я вижу у вас, я слышал, дается за храбрость, когда вы его получили?
— В декабре 1870 года я командовал артиллерией в Амиенской цитадели, — начал Шмидт4, — мне поручено было наблюдать за населением города и не допускать мятежа, пока армия была отвлечена битвой. Я оставался один в цитадели, гарнизон вынужден был оставить город. Между тем я начал замечать, что в городе что-то готовится. Тогда я распространил заявление, что об-, стреляю город, если замечу малейшее волнение среди жителей. Это подействовало.
— Черт возьми! У вас был отчаянный пост, — заметил Жиль.
— Все успокоилось, — продолжал Шмидт. — Я воспользовался затишьем, чтобы составить как можно скорее осадный парк из отнятых у французов орудий и взять тем временем маленькую французскую крепость Перон, мне очень этого хотелось. Она несколько раз за время битвы очень неприятно напоминала о себе. Я был тогда еще только фельдфебелем. И, спросив разрешения идти со своим осадным парком на Перон, я был послан с небольшим числом солдат обстрелять крепость. После семидневной осады крепость сдалась. Тогда меня произвели в капитаны и дали вот этот знак отличия.
— Вы заслужили его! — воскликнул Горацио. — Как бы я хотел, чтобы и мне пришлось участвовать в тех битвах, делать то же, что и вы, пусть даже за это пришлось бы заплатить жизнью!
— Не знаю, почему, но у меня как-то тяжело на душе сегодня, — заметил Жиль, пуская кольцами дым. — Это совсем на меня непохоже.
— А мне, чем ближе подходит решительная минута, тем становится легче, — отвечал Горацио.
— Мне кажется, мой друг, у вас есть на это какая-то особенная, тайная причина, — сказал Жиль. — Конечно, это не мое дело, я только говорю, что думаю. Но вы не считайте, что мне тяжело от страха за свою жизнь, нет, мне терять не много придется, меня гнетет предчувствие тяжелых потерь для Испании. Впрочем, все это вздор! Чокнемся за победу, маркиз, и вы тоже, капитан Шмидт, раз вы и ваш народ желаете нам успеха!
Все трое чокнулись и опустошили стаканы. В эту минуту к ним подошел метис Алео, верный слуга Горацио, которому очень шел военный мундир.
— Что тебе? — спросил маркиз.
Алео наклонился к нему.
— Сеньор, — шепнул он, — какой-то человек непременно хочет говорить с вами.
— Со мной? Кто же это?
— Капрал, сеньор!
— Ты его знаешь?
— Да, но…
— Говори же?!
— Я не смею, сеньор. Вы тогда, пожалуй, не станете его слушать.
Капитан Шмидт продолжал свой разговор с Жилем. Горацио встал.
— Да говори же, кто такой? — нетерпеливо вскричал он.
— Капрал линейного полка Христобаль Царцароза! Маркиз слегка вздрогнул.
— Это меня… — прошептал он, — но нет… как же он… Где капрал? — громко обратился Горацио к Алео.
— Вон там, сеньор!
Горацио приблизился к высокому, широкоплечему капралу, стараясь разглядеть его лицо. Теплая летняя ночь была достаточно светла для этого.
Он вдруг застыл на месте…
— Да, это он сам… — прошептал маркиз, — но почему он в мундире… и что ему от меня нужно…
— Сеньор маркиз, — начал Тобаль своим приятным голосом, подходя к нему на шаг ближе.
— Что такое? О чем вы хотите доложить, капрал? — спросил Горацио холодным, официальным тоном начальника, сам весь дрожа от волнения.
— Простите, сеньор маркиз, перед вами не капрал со служебным донесением! На рассвете начнется битва, мы оба готовимся к ней с желанием и жаждой найти смерть! Еще раз мы встречаемся с вами после Мадрида. Я Тобаль Царцароза, сеньор маркиз! Я вижу по вашему лицу, что эта встреча вам неприятна… Для меня же она — потребность!
— Почему же, сеньор Царцароза?
— Потому что я хотел бы перед битвой протянуть вам руку в знак мира… Не отстраняйтесь так гордо, сеньор маркиз! Сегодня я капрал, а вы вельможа, завтра же мы оба сравняемся — смерть уравнивает всех. Мне хотелось идти в бой примирившись и сказать вам, что я вас прощаю. Никогда не сказал бы вам этого, если б мы не встретились здесь перед лицом смерти. С самой юности я любил Белиту, целые годы искал ее, чтобы назвать своей, и нашел — в ваших объятиях! Если и вы любите ее так же, как я, вы поймете, что я в ту минуту испытал. Любовь и надежда разбились разом, с потерей Белиты исчезло и мое счастье. Вы отняли у меня то, что я имел, но и вам не приходится слишком радоваться и гордиться, потому что и вы ее потеряли, как и я. Мы оба лишились того, что наполняло наше сердце надеждой, что мы любили, вот почему мы здесь теперь! Примиримся же, сеньор маркиз, не отталкивайте протянутой вам руки!
В первую минуту Горацио хотел прервать капрала и напомнить ему разницу между ними, но тут он не выдержал. Тобаль перед лицом смерти протягивал ему руку и делал это так откровенно и просто, что он не мог ответить отказом.
Маркиз молча и крепко сжал руку капрала.
— Ну, теперь будь что будет — мы помирились. Один из нас, а скорей мы оба не вернемся с поля битвы, — сказал Тобаль, — но, по крайней мере, мы спокойно, не врагами идем в бой, нам легче на сердце.
— Благодарю вас за ваш благородный поступок, — отвечал Горацио, — он и мне облегчил душу. Нас воодушевляет одна цель — биться за родину и умереть.
Они еще раз пожали друг другу руки и разошлись, каждый к своему отряду, чтобы отдохнуть несколько часов перед битвой.
Едва занялась утренняя заря и прогнала ночную тень, как зазвучали барабаны и лагерь республиканцев мигом был на ногах.
Мануэль стоял на левом фланге, Жиль и капитан Шмидт — на правом, Горацио назначили адъютантом главнокомандующего. Тобаль был в одном из передовых отрядов левого фланга.
Артиллерия Конхо начала бой, открыв сильный огонь по неприятельским укреплениям.
Карлисты сначала отвечали с той же энергией, но затем немного притихли, так как не видели еще смысла в этом. Когда же Конхо придвинул ближе свои батареи и снаряды стали чаще бить по окопам, карлисты возобновили огонь с прежней силой, направив его на неприятельские орудия.
Земля стонала от взрывов, и черный дым застилал солнце.
Конхо велел обстрелять занятые карлистами дома и продвигаться вперед по всей линии.
Началась страшная пальба. Республиканцы шли штурмом на окопы карлистов, град пуль осыпал их. Войска Конхо смело двигались вперед, их отбрасывали, но они снова штурмовали неприятельские укрепления.
Жиль-и-Германос и весь правый фланг продвинулись вперед дальше всех и оттеснили войска дона Альфонса. Республиканцы понесли страшные потери, но захватили окопы и дома, занятые карлистами.
Не то было на левом фланге, где Мануэль и его солдаты геройски дрались с отрядами Доррегарая. Они оттеснили неприятеля от укреплений и пытались взять их приступом, но в это время Олло выслал отряды кавалеристов в помощь ослабевшему флангу. Мануэль и весь левый фланг, осыпаемые градом пуль, вынуждены были отступить.
Битва шла с переменным успехом. Поле покрылось ранеными и убитыми. Гром орудий, сигналы, победные крики — все смешалось в один оглушительный шум, темные клубы дыма заволакивали небо. Уже приближался полдень, а битва все не утихала.
Что происходило в это время в окрестностях Муро мы расскажем в одной из следующих глав.
Уже ряды левого фланга республиканцев так поредели, что солдаты начали падать духом.
Правому флангу, видимо, тоже трудно было бы удержаться на отбитых у неприятеля позициях.
Олло непременно выслал бы подкрепление оттесненным отрядам дона Альфонса. Но в ту минуту, когда солдаты Мануэля пришли в отчаяние, когда отдельные отряды лишились своих командиров, геройский подвиг одного из республиканцев придал битве новый поворот.
Капрал какого-то полка, большая часть офицеров которого пала, выхватив знамя из рук умиравшего знаменосца, прокричав что-то своим солдатам, бросился на неприятеля.
Это был Тобаль Царцароза! Со знаменем в левой руке и со шпагой — в правой бросился он на карлистов с мужеством, близким к отчаянию. Его пример воодушевил всех, мужество вернулось к солдатам, и все устремились за отрядом смелого капрала. Артиллерия поддержала их. Мануэль видел героя, и с громким «ура» тоже бросился вперед со своими солдатами. Через несколько минут ряды карлистов дрогнули.
Доррегарай, заметив опасность, пробился к тому самому месту, где дрался отважный капрал, дрался отчаянно, как человек, которому жизнь в тягость.
Бешенство охватило генерала. Он видел, что этот смельчак вырвал у него из рук такую верную победу.
Неуязвимый Доррегарай сумел пробиться к Тобалю иударить его шпагой. Тяжело раненный капрал упал, но на его месте тут же поднялся другой, подхвативший знамя из рук товарища, и республиканцы продолжали продвигаться, уничтожая все, что мешало этому движению.
Карлисты, видя тщетные усилия своего командира, отступали шаг за шагом и наконец снова укрылись в окопах.
Теперь поле очистилось перед войсками республики; с оружием в руках, несмотря на страшный неприятельский огонь, они шли все дальше вперед и выбили наконец карлистов с их позиций.
Напрасно Доррегарай и Олло выслали кавалерию против флангов наступавшего врага, она вернулась с большими потерями. Пример павшего героя-капрала заразил республиканцев. Тобаль не даром пожертвовал собой, после его смелого поступка отряды левого фланга рвались в бой, соперничая друг с другом в храбрости. Победа была бы блестящая и несомненная, если бы и центр армии действовал так же успешно, но о нем на флангах не было еще никаких известий.
IV. Жених и невеста
Прежде чем досмотреть до конца битву при Эстелье, оставим на время картину страшного кровопролития и отдохнем душой, вернувшись к событиям, происходившим в Пуисерде.
Невыразимо тяжело видеть, что до сих пор еще люди выходят друг на друга с оружием в руках! Всюду беспокоятся о том, чтобы распространять цивилизацию и учение христианской любви, расширять медицинские познания и облегчать страдания человечества, а тут толпы людей беспощадно убивают друг друга. Труд целой жизни гибнет в угоду честолюбию одного человека, домогающегося короны. Тысячи здоровых, сильных людей, которые могли бы принести столько пользы своему отечеству, вступают в беспощадный бой ради прихоти, ради мечты о престоле какого-то дона Карлоса, и Испания все ближе и ближе подходит к своей гибели!
Короткой передышкой, данной для отдыха перед битвой, Мануэль Павиа воспользовался, чтобы съездить в крепость Пуисерду, надеясь увидеться там с Инес.
Она говорила ему, что собирается жить там у своего дяди, старого майора Камары.
Дядя и тетка давно уже знали от Инес о ее сердечной тайне, и приезд генерала Мануэля очень обрадовал всех в доме.
— Дорогой маркиз Павиа, добро пожаловать! — вскричал старик Камара, протягивая гостю обе руки. Поздравляю с производством в генералы, очень порадовался, прочтя о вашем назначении. Когда я вышел в отставку, вы были еще совсем молоденьким офицером.
— Однако, — прервала его майорша, — позволь и нам поздороваться с маркизом!
Мануэль с любезной улыбкой подошел к хозяйке, за которой вошли Инес с Амарантой, и поцеловал ей руку, а затем обратился к Инес, совершенно оправившейся в доме доброй, заботливой тетки и радостно приветствовавшей Мануэля.
Старый Камара с удовольствием глядел на радость племянницы и очевидную привязанность к ней генерала. Ему очень приятно было думать о предстоящем союзе, так как генерал был, по его мнению, во всех отношениях хорошей партией. То же думала и жена его.
Сначала Инес несколько смутилась, но когда увидела, как ласково дядя и тетка приняли Мануэля, сделалась непринужденней, разговорилась и рассказала вместе с Амарантой, как они добирались до Пуисерды, после чего Мануэль поведал о своих приключениях.
— Я знаю по слухам и из газет, маркиз, — сказал майор, — что вы дали новый поворот событиям и что скоро, вероятно, будет положен конец бесчинствам кар-листов! С ними надо поступать без всякого сожаления. Право, я за всю свою службу не слыхивал о подобном способе вести войну!
— Сейчас готовится решительное сражение, майор. Власти не могут себе представить, с какими затруднениями мы здесь сталкиваемся! Казна пуста, а надо очень аккуратно производить выдачи, полки не все надежны, да мало ли еще что! Но я не сомневаюсь, что Серрано и Конхо положат этому конец. Маршал уже организует армию и скоро даст решительное сражение карлистам! Я воспользовался несколькими днями отдыха, чтобы поспешить сюда…
— И доставили нам этим большую радость, сеньор маркиз, — сказала майорша, еще очень красивая, несмотря на свои годы, и вполне светская дама. — Мы часто говорили о вас!
— Меня в высшей степени радует это, — отвечал Мануэль, с благодарностью взглянув на Инес, которая слегка покраснела и опустила глаза, — я и сам постоянно думал о донье Инес и беспокоился за нее, хотя знал, что она под защитой моего дорогого друга, патера Антонио.
— Патер изменил своему ордену, он вышел из монахов! — воскликнул майор.
— Это меня не удивляет, — сказал Мануэль. — Антонио принадлежит к тем благородным людям, которые ничего не делают против убеждения, малейшее разногласие между его обязанностями и совестью должно было непременно привести к подобному разрыву!
— Но он этим навредит себе, это опасно.
— Антонио не побоится никаких лишений и страданий, когда дело касается его убеждений. Я его знаю не один год, это сильный человек!
— Он благородный, возвышенной души человек, — поддержала Инес, — я глубоко уважаю патера Антонио.
— И хорошо делаешь, что с признательностью относишься к нему, — сказала майорша. — Это достойный человек, похоже, видевший мало радости в жизни.
— Но, несмотря на это, сохранивший любовь к людям, доходящую до самопожертвования, — сказал Мануэль. — Он всегда держался в стороне от всех. Выросши в монастыре, он никогда не знал отца и матери, никогда не знал родительской любви!
— А между тем он такой кроткий, как его не любить! — воскликнула Инес. — Не правда ли, милый дядюшка, и тебе ведь понравился патер Антонио?
— Да, должен сознаться! Мне особенно понравилось в нем то, что он, прощаясь со мной, обещал сделать все для примирения твоего с графом, как только вернется в Мадрид… Постой, дай мне сказать, милая Валентина, — обратился майор к жене, — я знаю, что этот разговор вам неприятен и тяжел, но тем не менее нечего бояться смотреть правде в глаза.
Племянница наша милое, доброе дитя, я очень рад видеть ее у себя, но вся эта история с ее отцом очень неприятна, и надо приложить все усилия, чтобы устроить примирение.
Патер, несмотря на то, что граф поступил с ним очень сурово, обещал мне все-таки уладить дело, и я надеюсь, что ему это удастся.
— Дай Бог, — сказала майорша, молитвенно складывая руки. — Граф во многих случаях бывает неумолим, и должна сознаться, если уж мы об этом заговорили, что наша Инес несколько поспешила, но мы, женщины, чаще слушаемся сердца, чем рассудка. Утешься, милое дитя, — прибавила добрая женщина, обнимая Инес, глаза которой наполнились слезами, — все уладится, и граф простит.
В такой откровенной беседе прошло время до ужина. Затем Мануэль простился и ушел в гостиницу, обещая вернуться на следующий день.
Оставшись одна с дядей и теткой, Инес рассказала им все то, о чем они еще только догадывались.
Уже из посещения генерала старики поняли, что у него серьезные намерения относительно Инес, но тем не менее не скрывали, что несогласие графа служит большим препятствием.
Инес, разумеется, была в сильной тревоге, так как и Мануэль, и отец были одинаково дороги ей, и размолвка с отцом была очень тяжела для нее.
Старый майор послал графу письмо, в котором призывал его к смирению, а майорша утешала и ободряла Инес. Придя на другой день, Мануэль нашел всю семью в прекрасном, большом саду, раскинувшемся вокруг домика майора.
Майор предложил Мануэлю пройтись, чтобы дать ему возможность высказаться.
Генерал заметил заплаканные глаза молодой графини и с участием смотрел на нее.
— Вы знаете причину горя Инес, — сказал, пожимая плечами, старик, — вам известно, что случилось. Инес горюет по отцу, а он жесток и неумолим. Но я вчера еще говорил, что надеюсь все-таки на счастливую развязку.
— Мне хотелось бы, майор, откровенно поговорить с вами, — отвечал Мануэль, — и попросить вашей помощи.
— Говорите, говорите, дон Павиа, — с улыбкой сказал старик, — чем могу, с радостью готов послужить.
— Как вам известно, граф Кортецилла имел планы насчет замужества графини Инес, которым не удалось исполниться…
— Странные планы, клянусь честью! Но граф всегда был чудаком, любившим окружить себя таинственностью. Мы с ним никогда не сходились. Но продолжайте, дон Павиа.
— Графиня Инес сбежала к вам из-за этих планов графа…
— Она должна была бы подождать, планы разрушились бы сами собой.
— Я явился к графу Кортецилле официально просить у него руки его дочери.
— В самом деле? Что же вам отвечал граф?
— Он отказал мне, это тяжелое для меня воспоминание, дон Камара! Граф Кортецилла обвинил меня в том, что я увез его дочь, и вызвал меня на дуэль.
— Что за глупость! Что он мог иметь против вас, дон Павиа?
— Он был очень разгорячен, и я едва сдержался, чтобы не отвечать в том же тоне. Вызов его я отклонил, так как не хотел поднимать оружие на отца той, которую люблю больше всего на свете. Мы расстались. Меня произвели в генералы, графиня Инес бежала к вам, вот в каком положении дело! Я горячо люблю графиню и не дождусь минуты назвать ее своей.
— Так этому-то мы и обязаны честью видеть вас у себя, генерал? Так, так, понимаю, — говорил старик, делая вид, что ничего не знает. — Ну, а что же говорит Инес?
— Донья Инес не против!
— То есть она заодно с вами, дон Павиа?
— Кажется, я смею это подтвердить, майор.
— Эге, так вот оно что! Тайный сговор, свидание в доме старого дяди, целый военный план нападения врасплох.
— Нет, нет, майор, не истолковывайте так моих слов! Я только надеялся найти в вас и вашей супруге добрых советчиков.
— Понимаю, понимаю, дорогой генерал! — вскричал старый Камара, с сердечной благодарностью протягивая руку. — Вы найдете в нас и советчиков, и верных помощников, потому что мы очень рады вашему союзу. Надеюсь рано или поздно уговорить и графа: я, говоря между нами, никогда не был его другом, но в настоящем случае мое вмешательство необходимо.
— Благодарю вас за эти слова! Они доказывают, что вы одобряете нас.
— И я, и моя жена! Как же могло быть иначе, дорогой генерал! Мне очень было бы приятно видеть племянницу возле вас, оба вы расположены друг к другу, оба хорошей фамилии, — говорил старик, — не вижу ничего, что мешало бы вашему союзу, и, со своей стороны, готов назвать вас женихом моей племянницы, так же как и жена моя.
— Вы делаете меня счастливым, майор! Я пришел к вам с тем, чтобы откровенно сказать, что у меня на душе. Вы знаете, все готово к решительной битве, знаете также, что в этом случае каждый должен готовиться к смерти, и поймете мое желание отправиться в бой с уверенностью, что донья Инес принадлежит мне, это так важно для меня!
— Я-то понимаю вас, дорогой генерал, но отец, граф!
— Совершенно справедливо, дон Камара, но, видя ваше дружеское отношение ко мне, решаюсь спросить, нельзя ли нам с доньей Инес обручиться без отцовского согласия?
— Конечно, это возможно, генерал! Когда кончается ваш отпуск?
— Завтра, дон Камара.
— Хорошо! Мы сегодня в кругу семьи объявим вас женихом и невестой. Пойдемте, генерал. Уже наступает вечер, вернемся к дамам, и я посвящу жену в нашу тайну, о которой, могу теперь признаться вам, она догадывается. Я очень рад, дон Павиа, что вы входите в нашу семью, и я, и жена моя. Дело теперь только за графом, а он-то еще ведь главное лицо тут. Ну, попробуем взять его врасплох, может, тогда поймет свою неправоту и даст согласие! Пойдемте же, дорогой генерал!
Добрый старик подхватил Мануэля под руку и повел его в беседку, где сидела майорша с Инес и Амарантой. Служанка принесла воду со льдом и любимое испанцами печенье ацукарильос5.
— О, сегодня это не пойдет, — сказал майор, подходя с Мануэлем. — Милая Инес, ты ведь, кажется, умеешь хозяйничать? Будь добра, прикажи подать нам вместо воды шампанское со льдом и еще какое-нибудь вино.
— Что это значит, дядюшка? Разве сегодня праздник какой-нибудь? — спросила Инес.
— А разве мало того, что генерал Мануэль Павиа де Албукерке приехал к нам в гости? — вскричал майор. — Живей, моя крошка, живей!
— Я пойду с тобой, милая Инес, — сказала Амаранта, заметившая, что затевается что-то.
Они ушли, и майор рассказал жене в чем дело.
— И я тоже от души рада, сеньор маркиз, — сказала она взволнованным голосом, — но мне и грустно вместе с тем. Я надеялась, что Инес останется с нами навсегда, а вот вы и отнимаете ее у нас. Но все-таки я рада ее счастью, и зять мой, наверное, скоро сменит гнев на милость. В ней вы найдете, сеньор маркиз, милое, чистое, нежное существо, способное сделать счастливым каждого!
— Заверяю вас, — отвечал Мануэль, — что буду достоин вашего участия и расположения, я уверен, что с доньей Инес найду истинное, высочайшее счастье в жизни и постараюсь заслужить его.
Девушки вернулись с бокалами. За ними служанка внесла несколько бутылок вина и серебряное ведерко, в котором стояло шампанское, обложенное льдом.
Инес украдкой посматривала то на Мануэля, то на тетушку, то на старика дядю, улыбающееся лицо которого уже выдало ей его намерение.
— Дорогой гость наш завтра снова покидает нас, — начал майор после некоторого молчания, — обязанность зовет генерала на поле битвы, но мы должны сперва удовлетворить его желание, исполнить просьбу, с которой он явился к нам. Мы, конечно, не имеем права распоряжаться рукой нашей племянницы, граф Кортецилла, отец Инес, должен еще дать свое согласие, однако согласие это нельзя получить скоро, и поэтому в кругу нашего семейства мы позволим себе сегодня перед отъездом генерала отпраздновать событие, столь счастливое для нас: торжественную помолвку нашей племянницы Инес де Кортециллы с маркизом Мануэлем Павиа де Албукерке! Действительно, дитя мое, — обратился майор к Инес, — по здравому размышлению, я решил, что поступлю вполне разумно, отдав сегодня, накануне битвы, твою руку генералу. Ты плачешь, плутовка! Но я вижу, что это слезы радости. Позвольте же от всего сердца поздравить вас и пожелать вам счастья!
Инес сначала бросилась на шею доброму дядюшке, потом тетушке, которая вместе с нею плакала от радости. Графиня не находила слов, чтобы выразить свое счастье.
Майор поддел ее к Мануэлю, который нежно обнял и поцеловал ее.
Последней Инес обняла и поцеловала Амаранту, в то время как майор разливал по бокалам шипучее шампанское.
Скоро в старой беседке, куда с наступлением сумерек собрались домашние майора, раздался звон бокалов. Невеста была бы еще несравненно счастливее, если бы отец ее был с нею и если бы он в этот час дал свое согласие на ее брак.
Мануэль сиял счастьем и не мог выразить майору и доброй тетушке свою благодарность за их любовь и ласку.
Амаранта тоже душевно радовалась счастью Инес, хотя мысль о своей собственной судьбе по-прежнему угнетала ее.
Что ждет ее впереди? Она уже никогда, никогда больше не найдет спокойствия! Правда, на время она может забыть ради других свое горе, свое отчаяние, свое одиночество, но тем сильнее почувствует она потом свое несчастье снова пускаясь в скитания и нигде не находя покоя. Одно остается с ней неизменно — жажда мщения и ненависть к тому, кто соблазнил и бросил ее, кто отказался от нее и ее ребенка, кто в дьявольском ослеплении выхватил нож против нее: месть и ненависть к дону Карлосу. Он являлся ей ночью у ее постели, являлся среди белого дня, когда она оставалась одна в комнате, всюду тень его преследовала ее, всюду он вставал перед ней и нигде она не могла отделаться от мучительных мыслейо нем. Ведь это из-за него ее преследовали, из-за него она вынуждена была бежать из монастыря, оставив монахам свое сокровище. Свое дитя. Что еще ждало еевпереди? Что готовила ей судьба? Что готовила она ей ее несчастному ребенку и тому третьему, тому королю без королевства, усеявшему свой путь трупами?
Пока обманутая, покинутая Амаранта предавалась чтим мучительным мыслям, теплая прекрасная испанская ночь спустилась на землю, и влюбленные Мануэль и Инес, обнявшись, гуляли по саду, освещенному луной.
Старики сидели с Амарантои в беседке и тихо разговаривали о счастливом событии этого дня.
— Теперь ты наконец моя! —повторял Мануэль под тенью развесистых каштанов, тихонько привлекая к себе девушку и нежно прижимая ее к своему сердцу. — Мы расстанемсялишь на короткое время, чтобы потом навсегда принадлежать друг другу. Поверь мне, твои отец согласится на наш брак, не сомневайся в этом.
— Я не могу быть спокойна, зная непреклонный нрав моего отца, — отвечала Инес, — и еще одно омрачает мою радость… Ты снова идешь на воину!
— Не беспокойся, душа моя, и эти заботы рассеются. Я вернусь и поведу тебя к алтарю, назову тебя своей попел Богом и людьми. О! Как я счастлив от одной этой мысли! Ты будешь моей навеки!
Мануэль обнял Инес, которая обвила его шею руками, подняв к нему свое лицо, сиявшее любовью и счастьем, и ответила поцелуем на его горячий поцелуй.
Слабый лунный свет проникал сквозь густую листву, ночной ветер тихо качал деревья, осыпая цвет на стоявших под ними влюбленных, будто благословляя их священный союз. Никто не видел, никто не караулил их кроме луны: Инес и Мануэль стояли одни, и благоуханный ночной ветерок овевал их.
V. Геройская смерть маршала Конхо
28 июня 1874 года при Эстелье дано было самое ужасное, самое кровопролитное сражение.
Дон Карлос, хорошо понимавший значение этого дня, старался по возможности сосредоточить на месте битвы все свои силы. Все отряды его попеременно были пущены в дело, но, несмотря на это, победа все не приходила. Дон Карлос начал отчаиваться.
Левый и правый неприятельские фланги уже далеко оттеснили карлистов за линию укреплений.
Однако центр еще держался. Тут битва кипела, и тут еще можно было надеяться на успех, если Олло удастся одолеть неприятеля.
Дон Карлос со своим штабом разместился на возвышенности и в подзорную трубу наблюдал за движениями своих и неприятельских еойск.
Ординарцы то подъезжали к нему с докладами, то снова летели к войску с приказаниями. Олло и Доррегарай уже давно уехали к своим отрядам и бились с ними вместе. И с той, и с другой стороны солдаты уже начинали утомляться, но еще нельзя было предвидеть исхода, еще ни одна сторона не одолела.
Почти с лихорадочным нетерпением следил дон Карлос за каждым нападением, за каждым маневром, за каждым движением вперед. Со своего наблюдательного поста он мог видеть все поле и еще не считал сражение проигранным.
Действительно, карлисты бились славно и ни в чем не уступали республиканцам. Храбрость карлистов тем больше внушала уважение, что войска их были собраны из разного сброда, тогда как войско республиканцев состояло из обученных, дисциплинированных солдат. Карлисты не были обучены, и поэтому храбрость и смелость были единственным их оружием.
Особенно следует воздать должное их предводителям, которые повсюду шли впереди солдат и часто проявляли необыкновенную осмотрительность и демонстрировали смелые стратегические решения. Предводители эти не были исключительно иностранцами, среди них были и испанцы, прежде служившие в рядах правительственных войск и перешедшие к карлистам в надежде на скорейшее повышение.
Доррегарай изо всех сил старался вернуть потерянные позиции. Непостижимая неуязвимость его, казалось, подтверждалась и сегодня. Вокруг Доррегарая все гибли, падали, умирали, он один стоял невредим, и солдаты, все время видя его перед собой, снова возобновляли атаку.
Вокруг небольшого селения Муро, перед которым карлисты расположили свои окопы, разгорелась страшная битва. Здесь, казалось, возникала та самая точка, в какой иногда решается судьба всего сражения.
Сюда привлечено было внимание воюющих сторон, и карлисты, и республиканцы одинаково теснились к укреплениям.
Центр карлистов находился недалеко от селения, и здесь было собрано много орудий, так что все атаки республиканцев до сих пор оставались безуспешными.
Обе стороны бились неутомимо. Правительственные войска заняли селение Муро и непрерывно атаковали оттуда неприятельские окопы. Однако карлистские батареи, выгодно расположенные вдоль окопов и на окрестных возвышенностях, не подпускали неприятеля к укреплениям. Карлисты стали обстреливать селение, в котором тотчас же загорелось и задымилось несколько домов.
Батареи республиканцев не замедлили с ответом, однако неприятельские окопы были так прочны, что результатов обстрела почти не было заметно.
Все ясней становилась необходимость взять окопы приступом и прогнать оттуда карлистов. Только это могло решить сражение в пользу республиканцев. Однако трудно было надеяться при общем ослаблении войск на благополучный исход приступа. Неприятель занимал сильную позицию, и Конхо знал, что при таком штурме потери будут громадны.
Маршал Конхо на своем белом коне в сопровождении маркиза де лас Исагаса объезжал войска, воодушевлял их на битву и зорко наблюдал за движениями своих войск.
Побывав на правом фланге и похвалив солдат за удачный захват неприятельской позиции, маршал отправился на левый фланг, находившийся на противоположном конце поля почти в миле от правого. Тут Конхо дружески попрощался с Мануэлем, который тоже готовился оттеснить неприятеля и занять его позицию. Маршал понял, что если ему удастся занять еще центральную позицию неприятеля, то победа останется за ним.
Оставалось только выбить карлистов с этой последней позиции, захватить их орудия, и тогда правительственные войска ждет победа.
Маркиз Гутиерес де ла Конхо не мог отказать карлистам в храбрости и стратегических способностях, он не мог не удивляться их смелости и не мог не признать их опасными неприятелями. Хотя в течение своей долгой жизни маршал был свидетелем бесчисленных битв, однако он должен был сознаться, что это было самое кровопролитное из всех когда-либо виденных им сражений и что карлисты ни в чем не уступали регулярным войскам.
Поле было усеяно убитыми и ранеными. Носильщики и доктора не знали, за что браться, так много было для них работы. Всюду видны были следы ужасного, Все еще продолжавшегося побоища, Кое-где еще стояли или лежали в оврагах простреленные фуры и валялись впряженные в них раненые лошади. Республиканцы и карлисты, истекающие кровью, лежали на поле вперемешку. Это было страшное зрелище! Привыкший к таким сценам маршал Конхо и тот не мог не почувствовать сострадания к этим несчастным.
Но вместе с тем эти ужасные картины пробуждали в нем желание поскорее закончить кровопролитную битву. Число убитых было очень велико. Смерть свирепствовала, собирая все новые и новые жертвы. Отдельные полки пострадали так, что в них почти никого не осталось.
Вернувшись с Горацио к центру, маршал нашел в арьергарде несколько полков, меньше других участвовавших в деле и поэтому понесших меньшие потери. К этим войскам и обратился Конхо. Он сказал, что им нужно достойно завершить нынешний день и окончательно склонить победу на свою сторону. Он прибавил, что они обязаны прийти на помощь к своим товарищам, а когда в заключение маршал упомянул о победах левого фланга и о готовящейся атаке правого, восторженные крики солдат огласили воздух.
— Да здравствует отец наш Конхо! Вперед! Вперед!
Воодушевленные речью Конхо, пользовавшегося их безграничной любовью и уважением, солдаты, потрясая оружием, требовали, чтобы их тотчас же вели в бой и дали им возможность еще раз попытаться взять приступом батареи.
Возбужденные войска не сомневались в победе. Видя их воодушевление, маршал почувствовал, что смог зажечь их, и с новой надеждой повел их в бой.
— Вперед, дети! — воскликнул он. — Я сам поведу вас. Победа или смерть!
— Вперед! Вперед! Победа или смерть! — повторили за ним тысячи голосов, и войско двинулось за маршалом.
Как буря внезапно разражается, распространяя страх, трепет и смятение, так точно лавиной пошли теперь на неприятеля республиканские войска под предводительством Конхо и Горацио. Маршал смело несся вперед, счастливый тем, что ему удалось воодушевить и поднять солдат, рядом с ним, с восторженной улыбкой, высоко подняв саблю и вполоборота повернувшись к солдатам, летел Горацио. Наконец настала для него желанная минута: он мог достойно пасть на поле чести.
Осаждающие были встречены залпом неприятельских орудий.
— Прощай, Белита! — шептал Горацио. — Прощай, моя возлюбленная! Мы идем на смерть. Я никогда больше не увижусь с тобой.
Снаряды продолжали сыпаться, сея смерть в рядах наступающих. В пороховом дыму солдаты видели перед собой на белой лошади маршала Конхо с высоко поднятой саблей и возле него молодого адъютанта, ретивая лошадь которого взвивалась на дыбы. То были два героя, представлявшие великолепную картину: старик и едва возмужавший юноша, оба они бесстрашно глядели в глаза смерти, оба были впереди всех и вели за собой солдат в самый пыл сражения.
Солдаты пронеслись сквозь горевшее разоренное селение Муро, несмотря на то, что карлисты отчаянно пытались их сдержать. Все патроны были израсходованы. Карлистам приходилось стоять грудью против неприятеля, драться прикладами или вступать в рукопашный бой. Республиканцы теперь так близко подступили к окопам, что рукопашный бой завязался на всей линии.
Отчаявшиеся было карлисты, воодушевленные своими предводителями, опять пошли в атаку, чтобы удержать позицию. Обе стороны бились отчаянно, победа, однако, несомненно стала клониться на сторону республиканцев. Карлисты начинали отступать, а республиканские батареи продолжали свое наступательное движение. Победа республиканцев была несомненна, победа, к которой они так стремились и из-за которой так ожесточенно бились.
В эту минуту маршал Конхо смело бросился в гущу неприятелей. Горацио и другие офицеры последовали его примеру, рубя направо и налево. Знаменосец тоже не отставал от них.
Но вдруг недалеко от Конхо разорвался снаряд, и его ранило осколком в то самое мгновение, когда он ринулся вперед.
Горацио видел, как маршал левой рукой схватился за грудь, смертельно побледнел и покачнулся в седле…
Горацио страшно испугался, он понял, что Конхо ранен.
Карлисты с громким криком бросились вперед.
— Я ранен!.. — воскликнул маршал и упал с лошади.
Горацио схватил лошадь за узду, и в то же время несколько солдат подбежали, чтобы поднять и унести из схватки умиравшего.
Шпага вывалилась из рук маршала, и смерть запечатлелась на челе его, лошадь нетерпеливо заржала и рванулась к своему хозяину, будто понимая, что с ним происходит.
Смерть маршала придала карлистам смелости, и они уже надеялись вернуть потерянное, но солдаты Конхо, страшно озлобленные смертью своего предводителя, с новой силой ринулись на них.
Пока правительственные войска таким образом завершали свою победу, купленную столь дорогой ценой, Горацио сопровождал умиравшего маршала к перевязочному пункту.
Горацио, который желал и искал смерти, остался невредим, а маршал пал вместо него!
Доктора тотчас же осмотрели рану, но здесь уже ничто не могло помочь, и Конхо умер на руках у врачей.
Так с саблей в руке, посреди битвы, ведя своих солдат на приступ, скончался в битве при Эстелье испытанный герой, лучший из республиканских предводителей, добрый отец и покровитель своих солдат, маршал Конхо. Это была геройская смерть, достойная всех его подвигов, смерть, какой, может быть, втайне он сам желал себе.
Битва кончилась. Республиканцы победили. Карлисты были разбиты. Однако эта победа стоила Испании ее лучшего маршала.
Когда, наконец, ночь слетела на поле битвы и прекратилась долгая, упорная битва, а солдаты подошли в последний раз взглянуть на своего маршала, на своего отца и покровителя, который еще за несколько часов перед тем воодушевлял их на битву, восклицая: «Победа или смерть!»
Он победил, но победа эта стоила ему жизни.
С ним вместе полегло столько верных его солдат, что нельзя было и думать о том, чтобы преследовать карлистов и тем самым закрепить положение победителей.
Республиканцы заняли неприятельские позиции и забрали их орудия, но карлисты отступали, сохраняя порядок.
Дата битвы при Эстелье, 28 июня 1874, стала датой смерти великого человека, которого тем сильнее оплакивала страна, что его некем было заменить.
Конечно, в Испании было много хороших генералов и предводителей, но не было среди них такого, кого бы так любили и уважали солдаты, как старого Конхо.
VI. Примирение
Среди раненых, которых носильщики и доктора принесли с поля сражения, находился и капрал Тобаль Царцароза, мужественный и смелый подвиг которого был замечен генералом Мануэлем Павиа. Генерал тут же, на поле сражения, произвел Тобаля в офицеры. Но на что была Тобалю его слава и почести? Он был тяжело ранен и чувствовал, что его смерть близка. Он искал смерти и нашел ее.
Кроме зияющей раны на голове, нанесенной ему Доррегараем, Тобаль еще был ранен пулей в грудь. Доктора объявили, что первая рана хотя и медленно, но заживет, а вот пуля попала в легкое, и поэтому на полное выздоровление рассчитывать нельзя.
Тобаль сам говорил докторам, что для него нет спасения, но он не хотел бы перед смертью долго страдать и потому просит дать ему что-нибудь, что сократило бы ему жизнь и тем облегчило его страдания. Доктора только пожимали плечами, но не смели исполнить его желание, несмотря на то, что считали его весьма понятным и естественным. Им было жаль храброго офицера, иони постарались утешить его тем, что есть надежда и что в таких случаях часто происходят чудеса.
Тобаль Царцароза только холодно улыбнулся на это. На его бледном лице можно было ясно прочесть, что он вовсе не желал себе спасения.
Какое ледяное спокойствие выражало лицо раненого! Казалось, этот сильный человек до того утомлен жизнью, что надежда на нее не могла его радовать.
Сделав ему перевязки, доктора позаботились о том, чтобы в эту же ночь вместе с другими ранеными его перевезли в другое, более безопасное и спокойное место. Близ Логроньо в небольшом селении находился лазарет, куда осторожно повезли раненых и вместе с ними Тобаля.
Тобаль позволял делать с собой все; ни словом, ни звуком не выдал он своих страшных мучений. Тобаль по-настоящему мужественно, безмолвно и терпеливо переносил их. Он был настоящим мужчиной, самообладание его и стойкость были действительно безграничны.
Но тот, кто мог бы наблюдать за ним в эту ночь, заметил бы выражение страдания на его лице и, конечно, приписал бы его ранам. Но гораздо сильней, чем от ран, он страдал нравственно, и на лице его читалось именно это страдание.
Направляясь в лазаретном фургоне с двумя другими ранеными к селению, расположенному близ Логроньо, Тобаль всю эту бессонную ночь думал о Белите, о своем прошлом, о своей любви к этой девушке, которую он нашел в Мадриде дамой полусвета, всем известной красавицей.
Тобаль видел перед собой Белиту, о ней думал он в эту ночь… Ею были заняты его мысли, его сердце. Да, Тобаль так горячо любил Белиту, с такой тоской вспоминал о ней, что эти страдания пересиливали боль от ран. А все же он оттолкнул ее, когда она раскаявшейся грешницей пришла к нему, все же он с презрением отвернулся от нее, когда она бросилась к нему с такой радостью и надеждой.
Тобаль был не похож на других мужчин. Никакие жертвы, ничто в мире не могло бы его заставить протянуть этой вернувшейся Белите, этой покаявшейся грешнице руку примирения. Именно это стало причиной его несчастья, это он ясно понимал теперь.
Находясь при смерти, в ночной тишине жалел ли он о том, что сделал, о том, что не мог заставить себя поступить иначе? Раскаивался ли в том, что оттолкнул от себя Белиту?
Он сам не знал. Он чувствовал только, что любит ее больше всего на свете и что она лишила его счастья.
Тобаль сначала долго искал ее, потом несказанно обрадовался, найдя нгконец, и вдруг узнал, что она теперь принадлежит к тем женщинам, которые кокетничают со всеми мужчинами и шутя вступают в любовные связи.
Это было невыносимо для гордого сердца Тобаля. Он все бы мог пережить, даже ее смерть, только не эту ужасную действительность, которая мучила и терзала его, но все же не уничтожила в нем любви. Самым ужасным было то, что он любил и в то же время презирал ее, видя, что она развлекается и кокетничает с другими, она, которую он любил так давно, так искренно, так горячо. При одной мысли об этом сердце его разрывалось на части, и он ни в чем, нигде не находил покоя.
Тобаль много думал об этом. Он узнал в маркизе де лас Исагасе и в первую минуту поклялся убить его, но потом услышал, что маркиз сам добровольно ищет смерти и собирается на войну.
Это не только примирило его с противником, но и пробудило в нем желание поступить так же. Во всяком случае, смерть Горацио не могла уничтожить прошлого Белиты. Уйдет маркиз, место его займет другой, так думалось Тобалю, который не верил ни обещаниям, ни благим намерениям падшей Белиты.
Но он видел, как прилежно ходила она на работу, и поэтому решил облегчить ей путь к добродетели. У Тобаля были небольшие сбережения. Но они были ему больше не нужны, так как он надеялся, что не вернется. Мы уже знаем, как распорядился он своими средствами. Он передал свои деньги на доброе дело: они должны были помочь несчастной, если она действительно хотела исправиться, противостоять искушениям.
Сделав это распоряжение, Тобаль пошел на войну. В ночь перед сражением, следуя влечению своего сердца, он мужественно простился с Горацио, а теперь его цель была близка, он добился того, зачем пришел сюда: он был смертельно ранен, и дни его были сочтены.
Теперь, когда он был уверен в близкой смерти, перед ним еще яснее, еще прекраснее, чем когда-либо, являлась Белита, и он уже не гнал этих воспоминаний. Теперь все переменилось, и в глубине души его проснулось желание еще раз увидеть Белиту, проститься с ней. Все было кончено: он умирал, и Белита ничего об этом не знала.
Думала ли она еще о нем? Или проклинала его?
Она не подозревала, что Тобаль все еще любит ее и думает о ней, она не знала, что эта любовь сделала его несчастным и что из-за нее он решился умереть.
К утру лазаретный фургон въехал в город, жители которого столпились вокруг раненых, предлагая им еду и помощь.
Тобаль только выпил немного воды с вином — от значительной потери крови его страшно мучила жажда. Потом пришли два городских доктора, сменили раненым повязки, попытались вынуть пулю у Тобаля из груди, но им не удалось ее найти.
Несколько часов спустя раненых повезли дальше, и к вечеру они наконец достигли селения, расположенного неподалеку от Логроньо, в котором находился лазарет.
Однако барак, выстроенный для больных, был уже так полон, что в нем удалось поместить только одного из спутников Тобаля. Другого его товарища и его самого перенесли в сарай, наскоро подготовленный для приема больных и оборудованный всем необходимым.
Вдоль стен были сделаны лежанки из маисовой соломы и мягкого тростника, в сарай нанесли одеял и открыли наверху окошечки, чтобы внутри было побольше воздуха. В этот сарай внесли Тобаля и второго его спутника, положили их на лежанки и оставили лежать без присмотра, потому что лазаретных служителей не хватало. На весь лазарет был всего один служитель, и ему приходилось ухаживать за столькими больными в бараке, что на этих двух, помещенных в сарай, у него не оставалось времени.
Пришел доктор, осмотрел раны и сказал, что завтра вырежет пулю у Тобаля из груди.
Во время операции Тобаль с невозмутимым спокойствием позволял с собою делать что угодно и ни разу, ни одним звуком не выдал своих страданий. Но и в этот раз докторам не удалось вынуть пулю. Она так глубоко вошла в легкое, что нечего было и думать о том, чтобы ее извлечь. Надежды на выздоровление было очень мало. Потеря крови при операции была так значительна, что больной совершенно ослаб.
Доктор вынужден был прекратить свои тщетные попытки. Он с сожалением объяснил двум раненым, что при лазарете находится всего один служитель, поэтому он не может прислать его, хотя они и нуждаются в особом уходе. Доктор прибавил, что он охотно бы сам ухаживал за ними, но у него в бараке столько больных, что он просто не в состоянии это сделать.
Он позаботился о том, чтобы Тобалю сделали новую перевязку и дали обоим раненым прохладительное питье, а потом ушел, оставив их снова одних. Тобаль был очень плох. Он чувствовал, что слабость все увеличивалась и начинался нестерпимый лихорадочный жар. Тобаль надеялся, что смерть скоро избавит его от этих страданий.
Всю ночь он провел без сна. К утру наконец немного успокоился и заснул, но во сне его преследовали и мучили страшные видения. На следующий день снова пришел доктор и сообщил, что нашлась сестра милосердия, которая готова добровольно принять на себя обязанности сиделки. Тобаль едва слышал доктора, он впал в совершенную апатию. Лицо его горело, глаза глядели без всякого выражения, и видно было, что он уже не принадлежит этому миру. Лихорадку невозможно было унять, она грозила совершенно изнурить его, а раны все больше и больше воспалялись. Доктор вышел и скоро вернулся с сеньорой, которая твердой, спокойной походкой шла за ним. На ней было черное платье и такая же вуаль на голове.
Она была бледна, и в ее манерах, несмотря на молодость, видно было достоинство, как нельзя более гармонировавшее с высоким призванием, которому, казалось, она полностью посвятила себя. Видно было, что ей, должно быть, знакомы были несчастья, и что это побудило ее посвятить себя уходу за ранеными, пострадавшими за отечество.
Тихо и спокойно подошла она к Тобалю с намерением тотчас же заняться добровольно возложенными на себя обязанностями.
Но вдруг она всплеснула руками, громко вскрикнула и упала на колени у постели больного.
Доктор в удивлении сделал шаг назад.
Услышав ее возглас, раненый быстро повернулся к сестре милосердия, будто пробудившись от страшного сна.
— Белита! — воскликнул он, приподнявшись на своем ложе и простирая к ней руки. Лицо его сияло радостью. В эту минуту он не чувствовал своих ран. — Белита!.. Это ты? Я не брежу? Белита, ты со мною!
Белита, рыдая, закрыла лицо руками. Она не могла сказать ни слова, это неожиданное свидание до глубины души потрясло ее.
Доктор, не видя надобности беречь Тобаля от волнений, поскольку для него уже не оставалось никакой надежды, отошел в глубину сарая.
— Белита, ты ли это? Да, да, я не сплю, это не во сне! Ты пришла… Пришла ко мне… Я вижу тебя.
— Тобаль, мой милый! — воскликнула Белита, схватив его руку и прижав к своим губам. — Тебя ли я думала найти здесь!..
— Так было угодно Господу, Белита. Я ранен, я нашел смерть, которую искал. Да, я хотел умереть, я не мог больше жить без тебя! Я не мог этого вынести! Но теперь все кончено… Ни одного упрека ты не услышишь больше! Не плачь, мне это больно. Останься, останься здесь со мной… Уже недолго… Я это чувствую…
— Ты умираешь, ты оставляешь меня! — плакала Белита. — А я не нашла смерти, хоть и искала ее. Я бросилась на рельсы железной дороги, но меня, наверное, отбросило в сторону, потому что, когда я пришла в себя, то лежала уже далеко от рельсов и только чувствовала страшную боль, должно быть, от удара. Тогда я подумала, что мне еще рано умирать и что осталась у меня еще какая-то священная обязанность на земле. Когда же я совсем пришла в себя, то поняла, что мой долг — ухаживать за больными и ранеными, пострадавшими за отечество, в этом мое искупление.
Это решение пробудило меня к новой жизни, вытащило меня из пучины отчаяния, дало мне силу и мужество жить и до того воодушевило меня, что я не чувствовала больше своих страданий. Я видела, что мне открывается дорога к искуплению, что Бог указывает мне ее и велит идти на помощь к ближним. Я видела, что еще могу посвятить себя служению людям, и содрогнулась перед своим преступным намерением лишить себя жизни. Я надеялась заслужить милость и прощение, поспешив сюда, к раненым. Я не медлила ни минуты и, прибыв в Логроньо, узнала, что тут, в соседнем селении, уже нуждаются в моей помощи. Но тебя ли я думала найти здесь, Тобаль!.. — рыдая, она опустилась на колени, уткнувшись лицом в одеяло.
— Не плачь, — уговаривал Тобаль твердым голосом, гладя ее по волосам, — не плачь, мне больно это видеть. Не станем тратить последних минут попусту. Теперь ничего не изменишь. Но я горячо благодарю небо за то, что мне еще раз довелось увидеть тебя! Будем сильны, Белита! Не поддавайся печали, это недостойно! Нам не суждено было принадлежать друг другу и быть счастливыми, Белита! Но теперь ты можешь все узнать, я должен сказать тебе все: я никогда не переставал любить тебя, ты для меня и сейчас дороже всего на свете! Все мое упование, все мое счастье были в тебе, но теперь все кончено! К чему теперь думать о прошлом…
Знай, Белита, я годами искал тебя, все время искал, ни на минуту тебя не забывал! Но нам не суждено было соединиться, нам не дано было счастья на земле, так простимся по крайней мере дружески и помиримся перед разлукой!
— Так ты прощаешь мне все, все, в чем я грешна перед тобой?
— Я прощаю и благословляю тебя. Теперь я умираю спокойно, я верю, что ты станешь другой, что по крайней мере одна душа здесь будет молиться за меня! Я благодарю Создателя за этот миг блаженства, которым Он в последнюю минуту наградил меня! Белита, в этот торжественный час нашего последнего свидания помиримся, забудем все, что было между нами!
— Может быть, еще можно спасти тебя! О, не отнимай у меня этой надежды! Я сделаю все, все возможное, чтобы успокоить твои страдания, залечить твои раны и помочь тебе!
Печальный взор раненого был ей ответом. Тобаль снова опустился на лежанку, обессиленный этими неожиданными волнениями.
Ночью лихорадка возобновилась, и начался сильный бред, так что испуганная Белита разбудила и привела доктора.
Тот с сожалением объяснил ей, что он ничего не может больше сделать. Он только дал больному какое-то лекарство, и оно на время успокоило его и уменьшило страдания, но лихорадка временами возвращалась с новой силой, каждую минуту угрожая окончательно задуть еле теплящийся огонек жизни в измученном теле. Когда в промежутках к Тобалю возвращалось сознание, он с любовью и благодарностью смотрел на Белиту.
Через восемь дней, наконец, прекратились страдания Тобаля Царцарозы, и Белита тихо плакала и молилась над усопшим.
Она закрыла ему глаза, помолилась за него на кладбище, он же украсила его гроб цветами и бросила на него первую горсть земли.
Теперь Белите оставалось только идти дальше по избранной ею стезе искупления.
VII. На улице Гангренадо
Однажды вечером, повстречавшись со своими старыми друзьями-фокусниками, с которыми когда-то он вместе кочевал, прегонеро пропировал с ними всю ночь.
Не один бокал был опорожнен, но прегонеро не был пьян. Он мог много пить, не пьянея; никто бы не поверил, что он всегда первым осушал стакан.
Второй час уже был на исходе, когда веселое общество оставило питейное заведение и, оживленно разговаривая, направилось по домам.
Фокусники возвращались в свой барак, стоявший у ворот Аустраль, и прегонеро шел с ними, пока им было по дороге.
Так прошли они по улице Сиерво мимо салона дукезы, где еще продолжалось представление, в котором на этот раз принимали участие два новых артиста: сеньор Ребрамуро и его дочь Алисия, так они были названы на афише.
Часть компании не могла удержаться от искушения посмотреть на этих новых артистов, о которых они еще ничего не слышали, и решила пойти в салон. Прегонеро, видя это, попрощался со своими старыми товарищами и один пошел домой.
Погрузившись в свои размышления, прегонеро направился к улице Гангренадо.
Вокруг было совершенно тихо и пусто. На колокольне пробило три часа. Еще немного, и на востоке займется заря.
Двор прегонеро находился так далеко, что у него было достаточно времени, чтобы проветриться и совершенно прийти в себя после неумеренного употребления вина. Прегонеро и не стремился скорее оказаться дома, потому что после попойки он часто не мог заснуть. Прегонеро снял шапку, расстегнул жилет и рубашку на груди, чтобы вполне насладиться прохладой, и, сделав это, почувствовал себя очень хорошо. Ночной встречный ветер освежил его. Небо было ясное, безоблачное, и, несмотря на то, что многие фонари уже гасли, на улице не было темно.
В ту минуту как прегонеро завернул в мрачную, совершенно пустую улицу Гангренадо, до него долетел какой-то сдавленный крик. Казалось, кто-то звал на помощь.
Прегонеро остановился и прислушался.
Что это за крик? Откуда он? То был, несомненно, мужской, сдавленный голос…
Прегонеро невольно бросил испуганный взгляд на высокую старую стену монастыря, ему показалось, что, услышанный им, крик раздался оттуда, а то, что происходило за этой стеной, было скрыто от взоров всех смертных.
В народе ходили слухи, что вблизи монастыря часто слышались сдавленные крики и стоны. Может быть, наказывали какого-нибудь непослушного монаха или монахиню, нарушивших какой-либо орденский обет. Никто не мог в точности знать, что происходило там, за стеной, в монастырских кельях. А может быть, крик этот долетел в ночной тишине из тайной комнаты пыток?
Но нет, шум доносился не из монастыря.
Сдавленный крик повторился снова, и прегонеро на другом конце длинной улицы различил темные очертания нескольких человек, казалось, боровшихся между собой.
Что такое там было? Какая-нибудь драка…
Прегонеро все еще стоял на месте. Он подумал, не лучше ли ему убраться подальше, так как в последнее время он особенно тщательно старался избегать всех случаев, где могла пролиться кровь. Пока он не видел крови, действующей на него так ужасно, он оставался спокоен, но стоило ему увидеть ее, и он переставал владеть собой, а этого прегонеро боялся.
Он был уже готов повернуть назад и, оставив улицу Гангренадо, отправиться домой в обход, как вдруг тот же крик раздался в третий раз еще отчаяннее прежнего.
Прегонеро не выдержал. Что есть силы бросился он бежать вдоль монастырской стены к тому месту, где два человека, казалось, навалились на третьего, которого они теперь поспешно волокли по земле к монастырским воротам.
Увидев быстро приближавшегося постороннего, они пошептались между собой и еще больше заторопились.
— Эй, вы! Что вы там делаете? — вскричал прегонеро.
— Вы здесь живете? — спросил один из этих людей, обратившись к прегонеро.
— Нет, но я слышал, тут кто-то звал на помощь.
— Так я вам советую об этом не заботиться. Это не ваше дело, — грубо отвечал Рамон.
— Ступайте лучше своей дорогой, — добавил Франка и снова потащил теперь уже бессловесную жертву.
— Это что за дела? — воскликнул прегонеро, быстро надевая шапку, чтобы свободнее действовать руками. — Это что еще такое? Кто этот сеньор, почему он звал на помощь и что вы с ним…
— А вам что за дело? — бросив Антонио, обернулся Фрацко к прегонеро с видом, не оставлявшим никаких сомнений насчет его намерений. — Убирайтесь-ка лучше отсюда, не то вам придется отведать наших кулаков. Ясно?
— Правильно ли я вас понял? — отвечал прегонеро, с такой силой ударив Фрацко в грудь, что тот повалился как сноп. — Я хочу знать, что вы здесь делаете и кто этот человек, которого вы избили? Отвечайте!
Антонио начал шевелиться. Рамон, заметив это, не хотел продолжать драться с незнакомцем, опасаясь, чтобы громкие возгласы его не привлекли в их сторону прохожих.
— Ну, оставьте это, — примирительно обратился он к прегонеро, — ведь это дело вовсе вас не касается. Мы ничего дурного не хотели сделать. Мы только хотели этого пьяного патера отнести в монастырь, а он кричит и зовет на помощь спьяну каждый раз, как мы за него беремся, будто мы хотим его обокрасть!
— Патера? — повторил прегонеро, пристально вглядываясь в Антонио. — Ну, на патера он вовсе не похож!
Фрацко тем временем, придя в себя, поднялся с земли и сердито бормотал что-то сквозь зубы о сломанных ребрах.
— Оставайтесь здесь, если хотите, — продолжал Рамон, — и вы убедитесь, что мы ничего не собираемся с ним делать, а просто отнесем его в монастырь. Вот ворота. Мы отдадим его, чтобы не было скандала. Надеюсь, вам ясно, что я не лгу?
— Ну, если это правда, если патер просто пьян, и вы хотите отнести его в монастырь…
— Спасите меня от этих разбойников! — раздался слабый голос Антонио, старавшегося приподняться с земли. — Они напали на меня здесь, на улице.
— Не верьте ему, сеньор, — смеясь, повторил Рамон, — он пьян. Помогите нам отнести его в монастырь!
— Нет, я не пьян… Не оставляйте меня с ними! — воскликнул Антонио. — Эти люди напали и одолели меня, несмотря на то, что я защищался.
— Ну, он на пьяного не похож, — заметил прегонеро. — Сведу-ка я вас в ближайший караул, пусть там разберутся. Марш!
Этот неожиданный оборот, казалось, вовсе не понравился ни Району, ни Фрацко.
— Что тут долго толковать, — снова попытался уговаривать Рамон, — все так, как мы сказали; у нас нет никаких дурных намерений, избави Бог! Что мы можем ему сделать?
— Мне это все равно! Ступайте за мной в караул!
— Да брось ты его вместе с этим пьяным патером, — в бешенстве воскликнул Фрацко, — пусть с ним возится!
Рамон видел, что дело может кончиться плохо, и потому тоже решил убраться подобру-поздорову.
— Мне все равно, — отвечал он, — только берегитесь, сеньор, новой встречи с нами, а сегодня нам недосуг!
— Вы еще поплатитесь за это, вы еще вспомните о нас! — кричал Фрацко, удаляясь вместе с товарищем.
— Что мне до ваших угроз, убирайтесь, — крикнул им вслед прегонеро, — радуйтесь, что больше не отведали моих кулаков!
Прегонеро повернулся к Антонио, старавшемуся подняться с земли.
— Чего же они хотели от вас, эти два молодца? — спросил он Антонио.
Тот коротко рассказал ему обо всем случившемся, а Рамон и Фрацко тем временем скрылись в отдалении.
— Проклятые негодяи! — ругался прегонеро. — Видимо, они служат инквизиции, эти мошенники. Ишь, как улепетывают… Вы ранены, сеньор?
— Мне трудно дышать, они сильно сдавили мне горло, — слабым голосом отвечал Антонио, — и по голове сильно ударили.
— Да, я вижу, что вы не в состоянии идти дальше, а ведь ночь! Где же вы живете?
— У меня здесь, в Мадриде, сейчас нет жилья, — ответил Антонио.
— Куда же я отнесу вас? Нет ли у вас близких в Мадриде?
Антонио покачал головой.
— У меня нет близких, сеньор.
— Это плохо! Но тут на улице я тоже не могу вас оставить… Если б только все это случилось не ночью! Ну вот, он опять лишился чувств! — прервал прегонеро свои размышления, увидев, что Антонио снова повалился на землю. — Однако они хорошо отделали его, негодяи! Что же мне с ним делать? Куда его нести?
Прегонеро на минуту задумался, стоя возле Антонио. «Все уже давно улеглись спать, — думалось ему, — не в караул же его нести… Он, кажется, хорошего звания и ни в чем не виноват, а напротив, сам пострадал. Если б хоть один дом был открыт, а то все заперто и все спят. Может, отнести его в монастырь? Но он этого не хотел. Куда же мне с ним деться? Вот нашел я себе заботу! Я бы взял его к себе на двор, если б это не было так далеко! Черт возьми! Я тоже не могу торчать здесь всю ночь, да и ему нужна немедленная помощь, иначе того и гляди… Крови не видно, но они порядком помяли его!»
Антонио пошевелился.
— Э! Да о чем же я думаю! — пробормотал прегонеро. — Вот и прекрасно! Она приютит его до завтра, а я сбегаю за доктором! Она должна помочь ему из человеколюбия! Сеньор, как вы себя чувствуете?
— Я думаю, что смогу идти, если вы меня поддержите, — отвечал Антонио, собрав свои последние силы, чтобы встать.
— Вы чертовски слабы, сеньор. Пойдемте со мной. Я отведу вас здесь поблизости в один дом, а сам сбегаю за доктором.
Антонио, очевидно, находился в таком положении, что ему было решительно все равно, куда идти; он только смутно сознавал, что здесь ему не следовало оставаться.
— Держитесь за меня, сеньор, — продолжал прегонеро поддерживая Антонио и помогая ему подняться. Мнимый патер, должно быть, сильно страдал, он совсем не мог держаться на ногах.
Прегонеро обхватил его своими сильными руками.
— Так хорошо? — спросил он.
Антонио утвердительно кивнул головой. Он попытался идти, и это удалось ему. Машинально переставляя ноги, он потихоньку шел вперед с помощью прегонеро. Голова Антонио тяжело склонялась ему на грудь, и было видно, что он страдал сильней, чем можно было подумать. У него хватило силы воли, чтобы скрыть свои страдания, но он не мог пересилить овладевшего им оцепенения. Он не спрашивал прегонеро, куда тот ведет его, у него не было сил думать об этом.
Прегонеро завернул с ним на улицу Сиерво; казалось, что он вел умирающего.
Навстречу им из салона дукезы высыпали веселые гости — смеющиеся девушки, подвыпившие мужчины, но никто почти не замечал Антонио и прегонеро, а если кто и видел их, то смеялся над несчастным, принимая его за пьяного. Да это было и понятно!
Салон дукезы опустел, и слуги уже собирались закрыть высокие, большие двери подъезда, когда Антонио со своим покровителем подошел к дому.
— Эй, вы, подождите! — вскричал прегонеро. Слуги удивленно посмотрели на него.
— Что вам нужно? — спросили они. — Мы должны запереть двери.
— Пустите нас!
— Этого мы не можем сделать. Что вам угодно? — снова обратились слуги к прегонеро, заслоняя собою дверь. Салон закрывался, да и кроме того, прегонеро казался им не самым подходящим гостем.
— Пустите, мне нужно оставить здесь этого сеньора!
— Зачем? Сеньор, кажется, пьян или ранен. У нас не приют! — закричали слуги, стараясь не пропустить прегонеро. — Этого еще недоставало! Живей, запирайте двери!
— Я говорю вам, что мне нужно войти! — настаивал прегонеро, протискиваясь с Антонио в дом.
— Что тут такое? Что за шум? — раздался спокойный, но вовсе не повелительный голос.
— Пожалуйте сюда, сеньор Ребрамуро, посмотрите, — вскричали слуги в один голос, — вот этот человек протиснулся сюда с пьяным или раненым, Бог его знает.
— Разбудите дукезу, если она уже спит, — приказал прегонеро, — я отвечаю за это! Вот он снова падает в обморок! — воскликнул прегонеро, почувствовав, что Антонио вдруг потяжелел и выскользнул из его рук на пол. — Разбудите дукезу, она должна приютить этого несчастного на ночь, пока я сбегаю за доктором.
Худощавый пожилой человек, названный людьми Ребрамуро, подошел к необычным посетителям.
— Я пока поручаю его вам, — обратился к нему прегонеро, — проследите, чтобы он снова не очутился на улице. Я скоро вернусь.
— Кто же это? И отчего вы принесли его сюда? — спросил Ребрамуро.
— Я не знаю его, но дело не в этом. Вы разве сами не видите, что он нуждается в помощи? А почему я привел его сюда, это вы сейчас узнаете. Во-первых, я знаком с дукезой; доложите ей, что пришел прегонеро. А во-вторых, я пошел сюда, думая, что здесь еще открыто.
Худощавый старичок нагнулся к Антонио, лежавшему на полу без сознания.
Ребрамуро внезапно всплеснул руками.
— Пресвятая Мадонна! — воскликнул он. — Если я не ошибаюсь, это тот самый юноша… Да, да, это тот самый сеньор Антонио, который однажды сослужил мне такую службу!..
Так говорил управляющий дукезы, в котором читатели, вероятно, узнали уже нашего старого знакомого Арторо.
— Тем лучше, — возразил прегонеро, — тем более вы обязаны отплатить ему тем же и позаботиться о нем!
— О, я непременно это сделаю! Хоть я и не хозяин здесь, но надеюсь, что сеньора дукеза не прогневается на меня за это. Бедный юноша!
— О дукезе не беспокойтесь, — заметил прегонеро, — с нею мы договоримся. Ничего другого нельзя было придумать. Куда же его перенести? Я пришлю сюда доктора, и там уж вы присмотрите за сеньором. Я свое сделал.
— Но что же с ним случилось? Его невозможно привести в чувство! — жаловался Арторо.
— Два негодяя напали на него на улице Гангренадо, а я проходил мимо и выручил его. Должно быть, они порядком его помяли. Уложите его где-нибудь поудобней, а я пойду за доктором.
Прегонеро вышел из дома, крайне довольный тем, что ему, наконец удалось так ловко избавиться от этой обузы. Да и дело устроилось удачно, раз управляющий дукезы оказался знакомым сеньора. Прегонеро поэтому ограничился тем, что, отыскав доктора, довел его до дверей салона, а сам отправился домой.
Уже светало. Арторо не посмел тревожить дукезу. Он понимал, что не имеет права приютить у себя незнакомца без позволения хозяйки, но медлить было нельзя, надо было действовать решительно. К тому же незнакомец оказался тем самым Антонио, который защитил его дочь Хуаниту от карлистов и так помог ему! Арторо считал, что помочь этому несчастному — его прямая обязанность.
И, не думая, как примет это дукеза, Арторо приказал унести больного к себе наверх. Помещение управляющего хотя и не было очень просторным, но позволяло удобно устроить несчастного.
Вскоре пришел доктор, присланный прегонеро, и, осмотрев Антонио, посерьезнел, заявив, что у того сотрясение мозга. Он прописал холодные компрессы и полный покой, обещая еще зайти днем.
Хуанита, или Мария Алисия, как ее теперь называли в салоне дукезы, забыв свою усталость, добровольно взялась ухаживать за бедным сеньором Антонио. Воистину трогательно было видеть, как осторожно она двигалась, как заботливо меняла компрессы.
Поспав немного, Арторо сменил свою дочь, чтобы столь же заботливо и преданно присматривать за больным, все еще не пришедшим в сознание. Он делал все необходимое, а сам со страхом думал о том, как объяснит случившееся дукезе.
VIII. Смерть немецкого капитана Шмидта
После того как незаменимый храбрый маршал Гутиерес де ла Конхо погиб в битве при Эстелье, военный министр дон Хуан Сабала сам принял командование войсками.
В его приказе от 21 июля 1874 года из штаб-квартиры Сабалы было сказано:
«Солдаты! В тяжелых, опасных обстоятельствах чувство долга велит мне занять пост главнокомандующего. Великий предводитель маршал Конхо погиб! Его геройская храбрость послужила причиной его гибели. Как военный министр, я не мог никого назначить на этот пост, и поэтому сам принимаю командование над вами с надеждой и верой в вашу воинскую доблесть.
Отечество надеется на нас; оправдаем же его доверие, проявим сплоченность и примерную дисциплину, тогда никакие препятствия, никакие неудачи не остановят нас. И мы, сильные своим единодушием, твердо пойдем к своей цели.
Генерал Хуан Сабала».
Едва ли нужно было подобное воззвание, чтобы воодушевить испанцев на бой. Бесчинства карлистов были настолько возмутительны, что правительственные войска были полны жажды мщения.
Жестокость, какую карлисты проявляли к мирным жителям, к женщинам, пленным и детям, доводила республиканцев до бешенства. Неудивительно поэтому, что республиканцы отвечали жестокостью, не принятой в войнах цивилизованных народов.
Без зазрения совести, с какой-то мстительной радостью убивали карлисты пленных, терзали и расстреливали даже полковых врачей и маркитантов.
Послушаем, как валенсианец доктор Бральо Руес в трогательном письме прощается с матерью и своими сестрами.
Вот это письмо в буквальном переводе:
«Дорогая матушка и дорогие сестры! Сегодня, 17 августа, произведен был смотр пленных и выбрали из нас двенадцать офицеров, меня и несколько сотен солдат. Нас должны расстрелять, мне осталось жить всего несколько минут, и я хочу проститься с вами.
Меня не страшит смерть, но печалит разлука с тобою, возлюбленная матушка, и то, что я оставляю тебя и сестер на произвол судьбы, так жестоко поступившей с твоим единственным сыном. Прощай, матушка!
Прощайте, сестры! Передайте мой последний привет всем друзьям нашим и молитесь за мою грешную душу! Бральо».
Несчастный был расстрелян за то, что лечил раненых! И не он один, а еще многие подверглись той же участи. Действительно, только жестокие, испорченные натуры способны на такие преступления.
Но этим еще не все сказано. Войска карлистов состояли не из самых низших слоев общества. Вначале, действительно, под знаменами Карла VII собирались одни отщепенцы, но постепенно там появились и более достойные солдаты. Среди офицеров было немало образованных, сведущих и опытных людей. Тут было много хорошо обученных и знающих французов, англичан, итальянцев и испанцев. Был ли то пагубный пример дона Альфонса и доньи Бланки или просто желание перещеголять неприятеля в бесчеловечности, но все эти просвещенные иностранцы так же упивались жестокостью, как и самое негодное отребье. Особенно же отличались бесчеловечностью испанцы, перешедшие из регулярных войск под знамена дона Карлоса.
Мы опишем читателям картину, на которой изображена казнь немецкого капитана Шмидта и пленных правительственных войск в лагере карлистов. Зоркий глаз сразу заметит среди последних много весьма выразительных лиц. Они смотрят на казнь совершенно спокойно и даже, можно сказать, с удовольствием. Они следят за расстрелом с интересом, достойным лучшего применения.
Неужели эти изверги не думают, что завтра их может ждать подобная участь, если они попадут в плен к неприятелю, или они так уверены в том, что им удастся спастись от преследования в непроходимых горных ущельях?
Прежде чем приступить к рассказу о том, как немецкий капитан Шмидт был захвачен в плен карлистами, мы постараемся дать читателю некоторое представление об одном испанском племени, участвовавшем в этом деле. Мы приведем здесь описание очевидца, помещенное в одной немецкой газете.
«Из всех племен, населяющих Испанию, — пишет эта газета, племя мараготов едва ли не самое любопытное. У них, как у басков, есть свои обычаи, свой особый национальный наряд, и они никогда не вступают в брак с испанцами. Одежда их состоит из длинного, узкого камзола с широким поясом и коротких штанов до колена. На голове у них неизменное испанское сомбреро с широкими полями. Мараготы, несомненно, потомки тех готов, которые впоследствии смешались с испанскими маврами; само название — мараготы — указывает на это. Готы, как известно, приняли религию, одежду и обычаи мавров, и до сих пор потомки сохранили традиции своих предков.
Но столь же ясно видны в них и черты их степных прародителей. Трудно даже в Норвегии найти столь явный готский тип, какой встречается среди мараготов.
Долго жили они мирно в своем новом отечестве, пока притеснения, которым подверглись они в царствовании Филиппа II в 1568 и 1570 годах, не разбудили их горячую кровь и не подтолкнули к восстанию. Вследствие этого около 120 тысяч мараготов были изгнаны из Испании. В следующее царствование их постигла та же участь, так что почти полмиллиона мараготов эмигрировало из Испании в Африку.
Остатки мараготов рассеялись по Андалусии и Ара-гонии, где их весьма почитают за надежность и честность. Мараготы сильного, крепкого телосложения, но неуклюжи и тяжелы на подъем; лица же их, несмотря на то, что среди них есть и красивые, совершенно лишены выражения. Они говорят медленно, без лишних слов, от них никогда не услышишь шутки или остроумного замечания, что так характерно для испанцев. У них какой-то глухой, грубый выговор, и, слушая их, можно подумать, что это немец или англичанин говорит по-испански. Как правило, они флегматичны и рассердить их довольно трудно, но тем страшнее и опаснее их гнев, чем тише и спокойнее они бывают обычно.
Мужчины вовсе не занимаются земледелием. Занятие это предоставляется женщинам, которые обрабатывают каменистые поля и собирают небогатый урожай. Мужчины же занимаются исключительно перевозкой грузов и смотрят на земледелие как на постыдное занятие. Почти на всех почтовых дорогах Испании можно встретить этих так называемых арриерос. Они возят кладь на мулах. Особенно же часто перевозят грузы через пограничные горы между двумя Кастилиями. Почти вся торговля ведется в Испании мараготами, верность и честность которых настолько общеизвестны, что любой торговец, не задумаясь, доверил бы им доставку целой бочки золота от Бискайского залива до Мадрида. Если же, паче чаяния, что-нибудь произойдет с поклажей, то можно быть уверенным, что марагот-перевозчик здесь ни при чем. Чтобы напасть на марагота, нужна необыкновенная храбрость. Эти люди до последней возможности отстаивают вверенное им добро и часто собственным телом прикрывают его, если пуле случается сразить их, пока они заряжают свои длинные ружья.
При всем том нельзя сказать, чтобы они не были корыстолюбивы. Они берут за транспорт гораздо дороже других испанских арриерос, и всякий, кто вверяет им свое добро, уже знает, что платить придется много. Таким образом, мараготы далеко не бедны и потому не отказывают себе в наслаждениях, которые другим испанцам часто оказываются не по карману; они хорошо едят и много пьют, что немало способствует их тучности. Некоторые из них оставляли после себя громадные имения, завещая их храмам. На восточном портике собора в Асторге и теперь еще красуется скульптурное изображение одного из таких жертвователей. Марагот этот тоже был перевозчиком и пожертвовал на собор в Асторге много денег».
Часть мараготов с необыкновенной верностью, свойственной их племени, служила интересам дона Карлоса. Они были преданы претенденту так же, как и баски.
Раз вечером несколько мараготов, явившись к командиру Себальясу, доложили, что могут сообщить ему весьма важную новость. Новость эта состояла в том, что мараготы заметили невдалеке неприятельский отряд, при котором, как им показалось, находилось несколько иностранных офицеров.
Себальяс тотчас двинулся со своим войском в направлении, указанном мараготами, и, найдя выгодную для себя позицию, выслал авангард, чтобы привлечь к себе внимание неприятеля.
Загорелась ожесточенная битва, в которой карлисты победили. Вместе с другими пленными захватили они и немецкого корреспондента, капитана Шмидта.
Карлисты чрезвычайно обрадовались, заметив, что среди пленных находился немец, так как немцев они особенно ненавидели. Чтобы иметь основание поступить с ним так, как им того хотелось, карлисты объявили, что этот немец — шпион, да к тому же еще и еретик.
И эти люди хотели всех заставить верить, что они воюют за законного наследника и отечество! Они пытались показать, что делают угодное Богу дело, заточив в темницу немецкого корреспондента и обвинив его в государственной измене. Стыд и позор этим обманщикам, этим палачам, которые точно так же обвинили бы этого немца, если бы он был католиком.
О том, каким образом капитан попал в плен и что потом с ним случилось, мы узнаем не от него самого, а из рассказов его друзей, которые, подобно ему, тоже были корреспондентами в испанской армии. Однако и этих кратких сообщений достаточно, чтобы вызвать наше негодование.
Карлисты называли шпионом и еретиком человека, достоинство, храбрость, геройство, патриотизм и мужество которого нам уже достаточно известны из его собственного рассказа, приведенного выше. Эти разбойники глумились и издевались над ним. Он чувствовал и знал, что для этих варваров нет ничего святого, и, попав к ним в руки, уже считал себя погибшим.
Шмидт вместе с другими был помещен в отвратительную тюрьму, где пленных сторожили особенно строго. Карлисты радовались, глядя на них, как радуется кошка, глядя на мышь, уже наполовину замученную ею.
С дьявольской злобой, сначала всласть поиздевавшись над пленными, они приговорили их к смерти. Брань и глумление над беззащитными доставляли тюремщикам удовольствие.
— Что это за крест у еретика? — воскликнул один из карлистов, указывая на железный крест, который капитан носил на груди. — Снять его сейчас же!
Шмидт заявил, что лишь в минуту смерти он расстанется с этим знаком отличия, которым дорожит и гордится каждый немец. Он прибавил, что никогда и ни за что не отдаст его карлистам. После его смерти они могут с этим орденом делать, что хотят, но пока он жив, он не отдаст его на поругание.
Капитан сдержал свое слово, несмотря на то, что положение его от этого еще ухудшилось.
Несчастный вынужден был в тюрьме терпеть голод и жажду. До сих пор жизнь его была полна достоинства, и вдруг во цвете лет он должен был умереть такой постыдной смертью, приговоренный к казни разбойниками, после того как бесстрашно глядел в глаза смерти в войнах 1870 и 1871 годов!
Шпионом его прозвали за то, что он находился при правительственных войсках, а еретиком просто для того, чтобы иметь основание надругаться над ним, Еретик! Да разве он еретик? Слово это — пустое измышление фанатиков, домогавшихся власти, придуманное ими для того, чтобы настраивать людей друг против друга, тогда как от Бога завещано людям жить в мире между собой. Слово это — пустой звук, потому что еретиков нет. В том, что у каждой нации свой король и своя религия, еще нет причины для ненависти. Но целью религиозных фанатиков всегда было посеять раздор, зависть и ненависть между людьми для того, чтобы безраздельней властвовать над ними.
В сущности, у всех нас один Отец небесный, который смотрит на всех нас одинаково, как на детей своих. Все мы равны перед Богом, если только стараемся исполнять наши обязанности, служим Ему и любим своих ближних. Твердо уверенный в этой истине, капитан Шмидт согласился принять католичество, когда донья Бланка послала к нему для этого патера Франциско. Он сказал себе, что и в протестантской религии, и в католической можно быть одинаково хорошим человеком и что как протестанты, так и католики молятся единому Богу, Богу милосердия и любви.
Что же обещал этот недостойный патер Франциско несчастному, измученному пленному? Он объявил ему, когда тот принял католичество, что отныне он больше не еретик и что будет помилован.
Да устыдится этот лицемерный, вероломный монах .своего соучастия в злодействе! Он нарушил и опозорил этим святость своего сана.
Франциско хорошо знал, что к тому моменту, когда он обещал капитану помилование, приговор был уже произнесен.
Карлисты вынуждены были признать наконец, что пленный иностранец не шпион, а корреспондент; вторая причина для ненависти тоже не существовала больше, но все же они не хотели выпустить из рук своей жертвы.
Казнь должна была происходить в горной долине, и распорядителями были назначены Мендири и Лоцано, те самые, которые с таким трудом спаслись в Мадриде от преследования Тобаля и других офицеров.
Приготовления состояли в том, чтобы приискать удобное место и поблизости вырыть ров, куда надлежало бросить казненных.
Утром назначенного дня всю долину заняли уланы. За ними пришли могильщики и с лопатами в руках разместились вокруг рва.
Караул из пятидесяти человек карлистов привел неприятельский отряд, а с ним и капитана Шмидта на место казни. Все предводители, старшие офицеры, патер Франциско и еще один полковой патер уже находились на местах.
Приговоренных построили в ряд, и они стали молиться. Солдаты, которые должны были привести приговор в исполнение, выстроились в два ряда против них. Возле солдат с двух сторон расположились начальники, патеры, офицеры, как это изображено на достоверной картине Кейзера.
Теперь все было готово; пленные уже смотрели в глаза смерти.
Приговоренные сняли мундиры. Капитан Шмидт тоже снял свой мундир, украшенный железным крестом, и вслух в последний раз попрощался со своими близкими и далеким отечеством. Он стоял среди приговоренных, как герой, как воин, не знающий страха в минуту сильнейшей опасности.
Раздалась команда.
Карлисты подняли ружья, и каждый прицелился в свою жертву.
— Огонь! — выкрикнул офицер, и раздался ружейный залп.
Все приговоренные в последних судорогах упали на траву, насмерть сраженные пулями.
Один лишь немецкий капитан стоял неподвижно, он был только слегка ранен.
Еще раз прозвучала команда, и последовал второй залп.
Капитан, простреленный пулями, упал на землю.
Это была последняя жертва кровожадных карлистов. Казнь закончилась.
Без почестей, без молитвы, в невозмутимой тишине потащили казненных ко рву и бросили в него. Потом могильщики засыпали ров землей.
Так недостойно был похоронен в чужой земле храбрый немецкий капитан!
Дело было сделано. Карлисты с довольными лицами, как после геройского подвига, вернулись в свой лагерь. Ни памятника, ни даже простого креста не поставили они над казненными.
IX. Мать и сын
— Прегонеро, говорите вы, притащил ко мне в дом этого незнакомца? — спросила дукеза, когда Арторо доложил ей о происшествии, случившемся прошлой ночью. — Что это он вздумал? Разве я здесь открыла больницу или, может быть, он думает, что мой салон — богадельня для бездомных?
— Он действовал так из сострадания, сеньора дукеза!
— Из сострадания! — засмеялась Сара Кондоро язвительно. — Ягораздо лучше знаю приятеля прегонеро! Он хотел мне навязать обузу, ведь еще неизвестно, что такое случилось с этим незнакомцем!
— Он говорит, что он бывший патер здешнего мадридского монастыря Святой Марии, — сказал Арторо, не решаясь сознаться, что он знал Антонио.
— Так пусть он и идет в монастырь!
— Он не в состоянии еще этого сделать, сеньора дукеза!
— Это меня нимало не беспокоит!
— Доктор говорит, что болезнь может оказаться продолжительной.
— Тем хуже! Не держать же мне его здесь так долго! Что же узы думали, когда его приняли? Да и с какой стати я буду здесь принимать больных?
— Я не думал, что сеньора дукеза на меня за это рассердится!
— Чужого человека!.. Подумайте сами, что я буду с ним делать?.. Пусть он отправляется в монастырь, к которому принадлежит, и больше ни слова!
— Да ведь он совершенно без чувств!
— Что мне за дело до этого? — воскликнула дукеза равнодушно.
— Может быть, сеньора дукеза позволит оставить его здесь до тех пор, пока он не поправится настолько что будет в состоянии отправиться в монастырь? Впрочем, насколько я мог понять из слов молодого патера, он, кажется, больше уже не принадлежит к монастырю Святой Марии и до последнего времени находился в доме графа Кортециллы, воспитателем его…
— Все это к делу не относится, — с гневом прервала дукеза старого танцора, от которого, как нам известно, она узнала, что Эстебан де Кортецилла ее родной сын. Она уже несколько раз являлась в его дворец, чтобы увидеться с ним, но ей это так и не удалось, ибо граф, по обыкновению, отсутствовал.
Арторо стоял в недоумении.
— Что прикажет сеньора дукеза? — наконец спросил он ее едва слышно.
— А то, что вы и ваша дочь ухаживаете за этим патером, тоже никуда не годится! Этого допустить нельзя! Вы не в состоянии будете хорошо исполнять свои обязанности, если не будете отдыхать ночью!
— Мы чередуемся, сеньора дукеза!
— Нет, так не годится! Да и к тому же ваше жилище для этого слишком тесно, вашей дочери негде будет упражняться, а это мне повредит!.. Повторяю, этого допустить нельзя.
— Но теперь он совершенно беспомощен, сеньора дукеза!
— Это не что иное, как проделки прегонеро, чтобы доставить мне новую неприятность! Я его знаю! И вы?.. Вы позволили ему себя одурачить?
— Сострадание, сеньора дукеза…
— Сострадание!.. Опять сострадание!.. — воскликнула Сара Кондоро с досадой. — Этак вы из сострадания, пожалуй, навяжете мне на шею всех нищих и убогих Мадрида? Что же из этого выйдет?
— Я и сам думал об этом.
— Вытолкнуть на улицу патера нельзя уже потому, что он был в доме графа, — рассуждала дукеза спустя некоторое время, — но у вас, — продолжала она, — он тоже не может остаться! Перенесите его сюда, в эту незанятую комнату рядом с моим помещением, тут он может остаться, и приставьте к нему одного из слуг, чтобы за ним ухаживал!
— Приказания ваши будут исполнены, сеньора дукеза.
— Я не буду больше говорить об этом, но прошу вас, чтобы ничего подобного больше не повторилось, слышите? Если прегонеро, которому эта новая проделка так дешево сошла с рук, еще раз вздумает преподнести мне подобный подарок, то я прикажу слугам прогнать его палками из моего заведения, поняли? И я исполню то, что сказала! Именно палками! Это не что иное, как следствие его злобы ко мне! Я знаю прегонеро!
Старик-танцор в знак согласия, что исполнит приказания, поклонился и вышел из комнаты дукезы в сильном смятении.
Он и Хуанита осторожно перенесли патера в незанятую комнату, находившуюся рядом с собственным помещением дукезы, и положили его на мягкую, прохладную постель, открыли окна, чтобы дать больному побольше воздуха, и позвали одного из свободных слуг, передав ему поручение дукезы — ухаживать за больным.
На следующий день Антонио пришел в себя, и только тогда узнал, где он находится.
Когда Арторо пришел ухаживать за больным, тот стал расспрашивать его о случившемся и, напрягая память, вспомнил все, что произошло. Но он был еще настолько слаб, что не мог сделать ни одного движения; к вечеру он уснул и проспал до следующего полудня.
Доктор решил, что опасность миновала, но все-таки больному нужен полный покой.
Когда патер проснулся, Арторо, часто навещавший его, дал ему освежающих сочных фруктов и немного печенья, через час он дал еще воды с вином, потому что Антонио жаловался на жажду. Поблагодарив старого комедианта за помощь, Антонио попросил позвать к себе в комнату сеньору дукезу и, когда та вошла, извинился за причиненные им хлопоты, в чем он был невольно виноват, и с удовольствием и благодарностью обещал возместить ей все расходы.
— В этом нет никакой надобности, и я этого не требую, — отвечала старая Сара с некоторой гордостью. — Только лечитесь здесь как следует, вы здесь никому не мешаете, эта комната свободна. И патеру можно подать руку помощи! Вы же, — обратилась она к слугам, — выполняйте все желания патера и доставляйте ему яства и напитки, какие он пожелает, это меня не разорит. Итак, не отказывайте себе ни в чем, слышите ли? Что же касается уплаты, то об этом прошу вас не беспокоиться, дукеза Кондоро не нуждается в ней!
Старый танцор был поражен этой переменой и очень обрадовался, что Антонио, которому еще требовался присмотр, так как он был еще чрезвычайно бледен и слаб, начинает поправляться.
Сара Кондоро, несмотря на бледность молодого, страдающего патера, не могла не увидеть в нем очень красивого мужчину, чего она никогда не упускала заметить, к тому же ей хотелось хоть раз в жизни разыграть роль великодушной женщины, помогающей бедному патеру.
Сон, после которого Антонио чувствовал себя бодрее, казалось, был для него лучшим лекарством, и через несколько дней здоровье его поправилось настолько, что он смог подняться с постели. Но именно тут-то и стала заметна не покидавшая его сильная слабость. Он с трудом держался на ногах и только с помощью Арторо был в состоянии преодолеть небольшое пространство от кровати до стоявшего у окна стула. Доктор же уверял, что эта слабость не замедлит исчезнуть, и для укрепления больного назначил более питательную пищу и немного легкого вина.
Дукеза, услышав об этом, позаботилась, чтобы повар заведения готовил ему дичь, голубей, освежающее желе и всевозможные лакомства, так что Антонио не мог не улыбнуться при виде такого множества блюд и с удивлением смотрел на трогательную заботливость дукезы, с которой до сих пор он совершенно не был знаком.
Она сама навестила его, чтобы продемонстрировать этим свое внимание, и принесла с собой легкого хорошего вина. С большим удовольствием увидела она, как он приятно был поражен. Антонио вежливо поблагодарил ее, заверив, что не употребит во зло ее доброту и, как только будет в состоянии, не замедлит покинуть гостеприимный кров. Сара Кондоро с видом живого участия просила его быть без церемоний и не торопиться покинуть ее дом, так как его пребывание нимало ее не стесняет. Вообще она выказывала Антонио какую-то привязанность и заботу, что старый танцор мог объяснить себе только тем, что в Антонио она видела патера графа Кортециллы, хотя между нею и больным об этом и речи не было.
Дукеза почувствовала к молодому, красивому больному какую-то странную, невольную симпатию и На следующий день не замедлила вновь посетить его. Но так как она по обыкновению вставала не рано, а обедала довольно поздно (этот обычай высшего общества был ею недавно снова возобновлен), то появилась в комнате, находившейся рядом с ее помещением, только вечером. Осведомившись о том, достаточно ли ему удобно, она нашла, что выглядит он несколько лучше прежнего.
Антонио, поблагодарив ее, сказал, что ему гораздо лучше, он чувствует, как возвращаются к нему утраченные силы, и поэтому он надеется, что на следующий день сможет покинуть ее дом…
Дукеза любезно уговорила его, чтобы он не спешил и дал бы себе возможность совершенно восстановить свое здоровье.
В это время начинало темнеть, и в залах уже были зажжены свечи.
Появившийся с докладом слуга поставил в комнате Антонио лампу.
Сообщение слуги о каком-то новом посетителе не произвело, по-видимому, никакого впечатления на Сару Кондоро.
— Кто там такой? — спросила она, даже, как видно, не очень довольная этим обстоятельством.
Слуга пожал плечами.
— Сеньор желает лично видеть сеньору дукезу и говорить с нею.
— Вероятно, какой-нибудь странствующий артист, — сказала Сара Кондоро, — и в такое время! Кажется, всем хорошо известно, что я принимаю артистов только перед обедом, а теперь уже вечер! Чем он занимается?
— Этого я не могу сказать, сеньора дукеза, — ответил слуга, в недоумении.
— Разве он тебе не сказал? — спросила Сара.
— Нет, сеньора дукеза. И ничего особенного я в нем не заметил. На нем испанская шляпа, длинный темный плащ и высокие сапоги.
— И голоса его ты тоже не узнал?
— Я его никогда не слышал, сеньора дукеза, по крайней мере, я не помню такого.
— Гм… Странно!.. Пусть сеньор войдет, — пробормотала дукеза, выходя от Антонио в соседнюю комнату, а следовавший за нею слуга закрыл соединявшую комнаты дверь.
Слуга поклонился и исчез. Сара Кондоро в ожидании опустилась на стул, стоявший в зале у стола с лежавшими на нем книгами в роскошных переплетах.
Дверь отворилась. На пороге появился высокий мужчина, в движениях которого была видна какая-то поспешность и неуверенность. На нем был длинный темный плащ, щегольская черная шляпа, которую он снял только тогда, когда дверь за ним закрылась.
С нетерпением вглядывался он в дукезу, которая, слегка приподнявшись, тоже смотрела на незнакомца…
Так прошло несколько мгновений в странном и неловком молчании.
Почему так долго и так внимательно рассматривал дукезу этот уже не молодых лет человек с мрачным выражением на бледном, но благородном лице?
По выражению ее лица можно было догадаться, что она этого человека никогда не знала и видела теперь в первый раз.
— Знаете ли вы меня, сеньора? — спросил наконец незнакомец глухим, сдавленным голосом, который невольно выдавал его волнение.
— Нет, сеньор, — холодным и спокойным тоном отвечала Сара Кондоро.
Кинув взгляд на двери, незнакомец быстро приблизился к ней.
— Мы одни, сеньора дукеза, нас не подслушивают? — спросил он поспешно и с таким неприятным выражением лица, что почти испугал дукезу, невольно отшатнувшуюся от него.
— Что за вопрос, сеньор?
— Мне очень важно, чтобы меня никто не видел и не мог подслушать, — отвечал незнакомец и вдруг пошатнулся и ухватился за стол, на котором лежали книги, а лицо его приняло мертвенно-бледный оттенок.
Этот человек показался дукезе небезопасным.
— Прошу вас, сеньор, объяснить мне причину вашего посещения, — сказала она, отыскивая в то же время рукой колокольчик.
— Мое появление вас, кажется, пугает, сеньора, — произнес незнакомец. — Я понимаю… но только одну минуту, прошу вас… Вот, теперь мне лучше!.. Сядьте, чтобы я мог сделать то же самое, и заприте двери, — продолжал он с лихорадочной поспешностью, — заприте двери… До сих пор никто еще не знает, что я в Мадриде, и меня пока еще никто не видел!..
— Позвольте узнать ваше имя, сеньор? — повторила старая Сара, недовольная визитом этого мрачного, беспокойного, чего-то опасающегося человека. Она была в недоумении и терялась в догадках, что же это за человек и с какой целью он явился к ней.
— Сеньора!.. Я — ваш сын! — сказал он быстро, следя нетерпеливыми, горящими глазами за тем, какое впечатление производят на нее эти слова.
Сара Кондоро пристально всматривалась в его лицо…
— Как!.. — вскричала она. — Вы… мой сын?..
— Тише! Не так громко… Никто не должен нас слышать!
— Так вы…
— Эстебан де Вэя, которого зовут графом де Кортециллой!
— Стало быть вы… О, Боже! Вот неожиданность! — воскликнула дукеза, все еще опасаясь человека со столь странными манерами. — Вы мой сын — Эстебан де Вэя… Да, да, теперь я вспомнила!.. Эстебан!.. Так звали моего младшего сына… Так это вы! Я недавно узнала от старого комедианта Арторо, что вы были усыновлены и носите другое имя; я вас отыскала, но не смогла увидеться с вами, ибо оказалось, что вы в отъезде…
— Мне сказал о вашем визите мой преданный слуга. После этого я решился, сеньора, явиться к вам! У меня к вам огромная просьба…
— Боже, что с вами, Эстебан?.. Вас шатает… Вы бледны как мертвец!.. Вы так торопитесь и так боитесь чего-то!..
— Я никогда ничего не боялся, а теперь и подавно! Эстебан де Кортецилла не знает страха! — отвечал с мрачным выражением отец графини Инес.
— Но скажите, что случилось?
— Я должен сесть… Спрячьте меня у себя на несколько часов.
— Спрятать?
— Ненадолго, сеньора. Никто не знает, что я ваш сын и никому не придет в голову искать меня здесь!
— Но от кого я вас должна прятать, сын мой?
При этих словах граф Кортецилла взглянул на дукезу с какой-то странной смесью удивления и беспокойства.
— Вы — моя мать, вы узнаете все! Прошу вас, заприте двери! Меня ищут… Нас могут подслушать…
— Здесь вас никто не услышит.
— Может кто-нибудь войти и узнать меня!
— Но почему же, мой сын, вы скрываетесь, отчего этот страх и беспокойство?
— Я погиб… Спасения нет! Я пришел к вам лишь на несколько часов, на эту ночь… Я надеялся укрыться у вас, чтобы умереть спокойно…
— Умереть? Вы все больше меня пугаете, Эстебан…
— Вы тревожитесь? Из-за меня?
— О, сын мой, ваш вид ужасен!
— Яд… Это яд…
— Пресвятая Мадонна!.. Вы отравились?
— Тише, тише!.. Еще несколько часов… Я не хочу, чтобы меня нашли и арестовали, я не хочу дожить до такого позора!
— Вы… Граф Кортецилла? Ужасно… Доктора… Эстебан удержал свою мать, направившуюся к дверям.
— Сеньора, не надо доктора! Я хочу умереть и умереть спокойно! Меня ищут! Я глава Гардунии! Начальник из Толедо, этот жалкий трус, признался во всем!.. Все кончено!.. Уже все было подготовлено, чтобы меня поймать! Уже есть приказ о моем аресте! Дом мой был окружен, когда я, ничего не подозревая, возвращался из поездки. Я уже приближался к своему дворцу, когда преданный слуга предупредил меня об опасности! Я не должен попасть в руки правосудия, я не хочу дожить до этого позора! Уже несколько лет я носил с собой маленький пузырек с ядом… Узнав о том, что произошло, я его выпил!.. Я соскочил с лошади и, передав ее слуге, бросился бежать по темным извилистым переулкам сюда, к вам, чтобы иметь возможность умереть спокойно!
— Святой Бенито!.. Вот до чего вы дожили… Вы — глава Гардунии!.. Неужели же нет спасения?
— Нет! Но стыд и позор для меня невыносимы! Теперь вы все знаете! Я лучше умру, чем предстану перед судом! — О, зачем вы это сделали, сын мой!
— Этого уже не изменить, сеньора! То, что я сделал, было хорошо мною продумано! Я был беден и хотел стать богатым! Плохо носить графский титул и не иметь средств! У меня была дочь, которую я хотел видеть богатой и окруженной блеском! Для этого несколько лет тому назад я вступил в тайное, распространенное по всей Испании общество! А теперь… Все пропало!..
— О, в какую грустную минуту вижу снова я моего сына! Кто бы мог это предположить!
— Я чувствую, что конец приближается… Я умираю… Без мира в душе!.. Без покаяния!.. Без облегчения!.. — стонал граф Кортецилла, падая на стул.
— О Боже!.. Он умирает…
— Нет еще… Но через несколько часов… все будет кончено… Я умираю… без примирения с небом… — продолжал Эстебан глухо, согнувшись от боли.
— Ты не умрешь без примирения… Ты получишь отпущение грехов, сын мой!
— Куда вы… Что собираетесь сделать?..
— Патер, живший в твоем дворце, здесь. Хочешь, я позову его?
— Антонио? Он здесь?.. Да, позовите его, я хочу ему доверить, хочу ему сказать мое последнее желание… Скорее… А то… Я умру…
— Выпей этого вина, оно тебя подкрепит, — сказала дукеза, подавая стакан своему стонущему сыну.
Он начал пить с жадностью.
Между тем Сара Кондоро, заперев дверь в переднюю, поспешила в соседнюю комнату, где находился Антонио.
Через минуту она вернулась вместе с ним. Эстебан, увидев Антонио, протянул ему руку. Его глаза страшно ввалились, и перемена в его лице, произведенная действием яда, была так ужасна, что Антонио невольно содрогнулся.
Граф сделал ему знак, чтобы он подошел.
Сильно тронутый ужасной переменой, происшедшей с этим гордым человеком, патер бросился к нему и схватил протянутую руку…
— Примириться… — прерывисто говорил Эстебан… — Мне кажется… милостью… что я вас здесь встретил!
— В своей душе, граф, я уже давно с вами примирился!
— Вы… Благородный человек… Я это знаю! Сядьте здесь, я вам расскажу все… что меня мучает.
— Он умирает… Пресвятая Мадонна, мой сын умирает!
Антонио с удивлением смотрел на дукезу. В это время у Эстебана начались сильные конвульсии.
— Вина… Дайте мне еще вина! — требовал он.
— Да, граф Эстебан — мой сын, — пояснила дукеза Антонио, подавая графу вино, — и в какой час судьба уготовила нам свидеться, в его последний час!
Эстебан выпил вино с лихорадочной жадностью, и это, по-видимому, подкрепило его.
— Я хочу вам покаяться, хочу сообщить мою последнюю волю, — обратился он к стоявшему рядом потрясенному Антонио, — вы все узнаете и поймете меня. Тогда мне легче будет закрыть глаза! Честолюбие ввергло меня в пропасть! Страсть к блеску, богатству и власти стали причиной моего падения! Но я не жалею о том, что сделал! Я делал это обдуманно и с твердой решимостью! Я хотел видеть себя и свое дитя счастливыми, хотел, чтобы нам удивлялись и нам завидовали! Когда после смерти графа Кантара, влиятельного человека при дворе королевы Изабеллы, освободилось место начальника этого тайного общества, которое он столько лет возглавлял, и когда посланцы Гардунии явились ко мне, чтобы положить к моим ногам власть, влияние и богатство, я ни на одну минуту не задумался принять их…
— Я это знаю, граф, — сказал Антонио серьезно, с присущим ему достоинством.
— Вы знаете… — проговорил Эстебан, глядя своими запавшими широко раскрытыми глазами на патера. — Что вы знаете?
— Про вашу связь с этим тайным обществом.
— Как… Возможно ли?
— Про эту связь я знал еще тогда, когда жил в вашем дворце!
Эстебан в изумлении смотрел некоторое время на Антонио.
— Мне часто казалось, что я должен был вас бояться!
— Для этого, граф, у вас никогда не было повода!
— Так слушайте же дальше! Вместе с моей тайной властью и богатством росло и мое честолюбие! Я хотел видеть свое дитя на самом верху, чтобы все завидовали нам; я хотел сделать свою дочь королевой! Вот почему я пошел на союз с доном Карлосом, претендентом на престол!
— И это я знаю, граф!
— И вы не изменили мне, когда я самым постыдным образом с угрозами выгнал вас из своего дворца?
— Отцу графини Инес я простил все, — отвечал Антонио.
— Инес… Да, она ангел… Благодарю за эти слова, — сказал граф Кортецилла, и его мрачное лицо на мгновение прояснилось, точно солнечный луч осветил его… — Я был к ней несправедлив! Меня ослепляло мое честолюбие! Я хотел заставить ее отдать руку претенденту на престол, хотел своим богатством заплатить за корону для своей дочери! Я не спрашивал себя, сделает ли этот брак ее счастливой?! Я только видел ее, окруженную королевским величием, и ради этого готов был пожертвовать всем! Не думайте, что этим браком я надеялся купить себе прощение и избавление от справедливой кары правосудия, нет! О себе я не думал! Клянусь вам в этот последний час, о себе я не помышлял, я думал только об Инес! Но тогда же я был наказан: мое дитя покинуло меня! Невозможно описать все, что я тогда пережил; наказание было справедливым, и Инес была права, что оставила меня.
Дон Карлос недостоин был обладать ею! Я пришел в страшное отчаяние, вы это знаете! Я использовал все средства, чтобы вернуть мое потерянное дитя, я велел искать Инес… Но все напрасно, я даже не получил о ней никакого известия! До сих пор я томлюсь неведением, и мне кажется, что это ужасное, но справедливое наказание за все то, что я совершил.
— Я очень рад, что могу сообщить вам верные сведения о вашей дочери: графиня Инес находится в Пуисерде под покровительством своих родственников, дяди и тетки.
— Стало быть, она там… Скажите, откуда вы это знаете?
— Я сам проводил ее к родным!
— Благодарю!.. Примите душевную благодарность умирающего за .ваше благодеяние! — воскликнул граф глухо. — О, как еще Бог милостив ко мне! Мое дитя не здесь, оно нашло убежище у Камары! Что бы было, если бы она была здесь! Ужас и стыд ждали бы ее… Ибо ее отец… О, я не могу этого выговорить!.. Я умираю и смертью искупаю позор, в котором сам виноват!
— Графиня Инес хочет только одного — получить ваше прощение, — сказал Антонио.
— Передайте, что я простил ее. Я больше ее не увижу… Я чувствую, что конец близок… — отвечал граф Кортецилла; силы, казалось, совсем покинули его. — Мое дитя, я больше ее не увижу! Я оставляю ее… Она теперь бедна, у меня ничего нет… Мое имение будет конфисковано! Она должна будет услышать… о моем… постыдном падении и конце! И ее… этот позор… потрясет!.. Вот что не дает мне покоя в мой последний час!..
— Обратитесь сердцем к Богу, милосердие его безгранично, — произнес серьезно Антонио, которого сильно взволновала участь этого человека, а еще больше печалила участь его дочери. Он сложил руки и молился, и Эстебан тоже шептал молитву…
Дукеза стояла в стороне. Даже она была потрясена до глубины души этой трагедией и молитвенно сложила руки при виде своего умирающего сына, увиденного только тогда, когда смерть уже витала над его головой.
Эстебан молился с Антонио…
Какое-то торжественное спокойствие царило в комнате.
— Кончено!.. — прошептал граф. — Бог милосерден…
— Он умирает!.. — воскликнула Сара Кондоро.
— Оберегайте… Благословите… мою дочь… Мою Инес! — тихо проговорил Эстебан патеру.
— Я пошлю за доктором… Может быть, еще есть возможность его спасти… — сказала дукеза.
Граф Кортецилла только покачал головой.
— Не нужно доктора, — едва выговорил он и еще раз попробовал приподняться.
— Я перенесу графа на свою постель, — сказал Антонио, собрав все свои силы, чтобы перенести отца графини Инес на свою постель, находившуюся в соседней комнате.
И тот, кто еще сам нуждался в попечении, в свою очередь принялся ухаживать за умирающим! С трогательным сочувствием отнесся Антонио к графу, мучительно умиравшему от яда.
X. Осада Пуисерды
Изидор Тристани, оправившийся от своей раны гораздо скорее, чем ожидали доктора, тотчас поспешил с собранным им небольшим отрядом к маленькой крепости Пуисерде, намереваясь окружить ее.
Обдумав все, он решил, что теперь ему представляется случай заслужить расположение дона Карлоса и тем самым если не возвыситься над Доррегараем, то, по крайней мере, стать с ним на равную ногу. Он был уверен, что если завоюет Пуисерду и возьмет в плен Амаранту и Инес, то его повысят в звании.
Уже теперь он имел все шансы благодаря предпринимаемой осаде этой маленькой крепости возглавить значительные силы, ибо дон Карлос отдал приказ еще некоторым рассеянным отрядам из Каталонии присоединиться к Тристани.
Тристани руководил этой операцией и вместе с тем возглавлял все силы карлистов, соединившиеся под Пуисердой. В результате бывший начальник мелкого отряда имел теперь полную возможность на равных бороться с соперником!
Честолюбие Доррегарая было известно всем, и Изидор очень хорошо понимал, что такое поражение для его врага было хуже смерти. Теперь он видел перед собой давно желанную цель и намерен был для ее достижения сделать решительный шаг.
Само собой разумеется, что в Пуисерде поднялась паника, когда распространился слух о приближении большого отряда карлистов. Комендант крепости заявил гражданам, что готов защищать ее до последнего вздоха.
Вообще, в крепости находилось 300 пехотинцев и 120 артиллеристов, способных сдерживать только незначительные силы противника; но горожане, вдохновленные твердостью и решительностью коменданта, объявили, что готовы тоже встать на защиту крепости.
Часть горожан, немедленно вооружившись, отправилась на крепостные валы и заняла наблюдательные посты, между тем как другую часть старые офицеры, к которым не замедлил присоединиться и майор Камара, обучали обращаться с оружием и пушками. После этого у людей появилась уверенность, что карлистам будет нелегко овладеть крепостью.
12 августа 1874 года перед крепостью показались и снова как будто исчезли первые неприятельские отряды. Несколько дней спустя высланные из крепости на рекогносцировку всадники принесли известие, что к карлистам прибыли новые подкрепления и что во многих местах уже начали рыть траншеи.
В это самое время, как будто специально для того, чтобы запугать горожан, распространился слух об ужасном избиении карлистами олотских пленных, а это, несомненно, могло посеять панику, ужас и сомнения даже среди самых решительных. Пленные из отряда Новеласа находились в Олоте, когда готовилось первое наступление на Пуисерду. Чтобы оказать помощь крепости, правительственные войска двинулись к ней с намерением пройти через Олот.
Карлисты же, чтобы не лишиться своих пленных, отправили их в Вальфагону.
Как только они прибыли в этот город, Себальяс, известный карлистский вождь, отдал приказание всех их расстрелять. Но после некоторого раздумья ему показалось, что на это потребуется слишком много труда, и он изменил свое первоначальное приказание таким образом: расстрелять всех карабинеров правительственных войск в числе 75 человек, а из числа прочих пленных — офицеров и солдат — каждого пятого.
Он велел подать себе список и у каждого пятого имени, как палач, — нет, более кровожадный, чем палач! — поставил крест. Это был смертный приговор!
Таким образом было отмечено сто четырнадцать жертв, которые вместе с карабинерами были отправлены под конвоем к Риполю. На половине дороги отряд разделился: карабинеров повели налево, а прочих пленных — направо.
Когда первые достигли кладбища селения Легакес, входящего в приход Риполя, им объявили, что пробил их последний час.
Их связали по двое и группами от восьми до двенадцати человек отправляли на кладбище, где тотчас же расстреливали и закапывали. Среди них был один офицер. Большей частью это были люди женатые, отцы семейств.
В это время остальные приговоренные к смерти сто четырнадцать человек шли по направлению к Сан-Хуан-де-лас-Абадесасу.
В получасе ходьбы от городка было отдано роковое приказание — снять сюртуки. Из числа пленных успели спрятаться и спастись четверо несчастных. Остальных, связанных по двое, расстреливали одного за другим, как будто для того, чтобы продлить удовольствие их кровожадным палачам.
После этого жителям Сан-Хуан-де-лас-Абадесаса убийцы приказали собрать и похоронить тела убитых.
Горожане вырыли на кладбище огромную могилу, в которой были похоронены сто десять солдат, среди них один доктор и тринадцать офицеров.
В Пуисерде, несмотря на это ужасное известие, все еще надеялись на помощь, прибытия которой ждали с часу на час, но шли дни, а помощь не появлялась.
Поэтому находившимся в крепости приходилось рассчитывать только на свои собственные силы и готовиться к энергичной защите.
Валы и стены были заняты солдатами. Граждане прилежно занимались строевой подготовкой под командой старых, офицеров; насколько это было возможно, запасались всем необходимым, чтобы не остаться без съестных припасов и других средств, необходимых для выживания; каждый готовился к долгой и тяжелой осаде.
Скоро с крепостного вала можно было в подзорную трубу увидеть карлистов, все прибывавших и прибывавших к крепости.
Наконец спустя несколько дней к воротам крепости явилось несколько карлистских офицеров с требованием сдать ее, в противном случае они угрожали начать обстрел.
На это требование комендант и граждане ответили, что они будут защищать крепость до последней возможности.
Такой ответ, по-видимому, поразил карлистских офицеров, так как им хорошо была известна численность гарнизона, а потому решение защищаться казалось им безумным. Они повторили свое требование — сдать крепость без единого выстрела, без боя, ввиду того, что четыре тысячи карлистских солдат были уже на месте и еще одна тысяча должна была прибыть на днях с артиллерией, чтобы начать со всех сторон обстрел крепости.
Но комендант и граждане остались при своем решении, и офицеры удалились.
Небольшому, плохо укрепленному городу предстояла тяжелая борьба.
Старый майор Камара принес известие об этом озабоченным женщинам и постарался как мог подготовить свою жену, Инес и Амаранту к ужасам, лишениям и опасностям войны.
Не было никакого сомнения, что у города и его жителей впереди ужасные дни, ибо во время обстрела даже те, что находились в домах, не могли считать себя в безопасности.
Но у старого майора никто не жаловался и не унывал! Тихо и спокойно встречали его домашние приближавшуюся опасность! С каждым днем все ближе и ближе подступавшие осадные работы карлистов показывали, что в непродолжительном времени Пуисерда будет отрезана от внешнего мира.
С отчаянием смотрели солдаты и граждане на приближение этой минуты. Пороховые запасы были перенесены в крепкие и прочные погреба; крепостные рвы были наполнены водой; все были заняты необходимыми приготовлениями.
Осаждающие были настроены самоуверенно и почти легкомысленно и небрежно в том, что касалось мер предосторожности. Зная, что имеют дело с небольшим гарнизоном, они не сомневались, что легко победят его. Но чтобы окружить Пуисерду, Изидор собрал довольно значительное число солдат и приказал рыть со всех сторон траншеи по всем правилам осады.
Правительственные войска, казалось, не собирались мешать карлистам; помощь, которая очень скоро понадобилась бы маленькой крепости, все не подходила;
В один мрачный августовский вечер карлисты зажгли в нескольких местах траншеи огонь, при красноватом отблеске которого, напевая и прикладываясь к бутылке, продолжали работу под руководством офицеров.
Для Тристани невдалеке от места этих работ была раскинута обширная палатка. Днем присоединил он новый отряд к своему войску, а вечером выехал с группой младших командиров в другую часть осадного круга для осмотра производившихся там работ.
Когда поздно вечером он вернулся к своей палатке, один из офицеров доложил ему, чтю час тому назад в лагерь осаждающих прибыл король Карл VII, без свиты и не замеченный войском, и отправился в его палатку.
Тристани, обрадованный столь неожиданной честью, тотчас соскочил с лошади и поспешил к палатке, где увидел дона Карлоса, сидевшего на походном стуле.
На столе стоял подсвечник с двумя зажженными свечами.
Когда Изидор вошел и, отдав по-военному честь, остановился у двери, дон Карлос сделал ему знак подойти.
— Я вижу, что вы были деятельны и усердны, бригадир, — сказал претендент. — Город окружен?
— На днях он будет окружен со всех сторон, ваше величество!
— Не покидал ли кто города?
— Никто. Граждане, по-видимому, решили защищать город, ваше величество!
Дон Карлос на мгновение замолк, задумавшись и бесцельно глядя перед собой.
— Вы, уверены, что те, о ком вы мне недавно говорили, находятся еще в Пуисерде? — спросил он быстро. — Вы знаете, о ком я говорю? Я вам доверяю мои интимные дела!
— Ваше величество удостоили своего всеподданнейшего слугу такой милостью, которую он постарается заслужить, — отвечал Изидор.
— Вы будете вознаграждены за это, бригадир!
— Я уже вознагражден, ваше величество, вашими словами и вашим доверием! Приношу мою всеподданнейшую благодарность за производство меня в чин!
— Надеюсь, что ваши заслуги продвинут вас еще дальше! Так что вы ответите на мой вопрос?
— Я счастлив, что могу представить вашему величеству самые верные сведения на этот счет! Графиня Инес де Кортецилла и ее провожатая сеньора Амаранта находятся в Пуисерде, и именно в доме майора Камары на улице Монтана, рядом с Монтанскими воротами! Я же ручаюсь жизнью, что после взятия крепости захвачу графиню Инес и сеньору Амаранту и обеспечу защиту их от солдат.
— Для меня важна, собственно, одна сеньора, — сказал дон Карлос глухим голосом, — я желаю с ней объясниться по поводу одного обстоятельства, весьма живо меня интересующего…
— Не далее как сегодня я получил верное доказательство того, что молодая графиня, а следовательно, и сеньора Амаранта находятся в городе! Доказательством этим послужило письмо к молодой графине, которое один крестьянин вместе с несколькими другими письмами, спрятанными в его одежде, хотел пронести в город. Он уже миновал счастливо форпосты, когда был схвачен моими солдатами и приведен ко мне! По моему приказанию его обыскали и письма были найдены.
— Что вы сделали с крестьянином, бригадир?
— Я его отпустил, чтобы он доставил письма по назначению!
— Хорошо! С какой стороны ваши осадные работы ближе всего подошли к крепости?
— С этой стороны, ваше величество! На глазах начальника работа всегда идет успешнее!
— А где находятся ворота крепости, которые называются Монтанскими?
— Справа, если смотреть отсюда.
— Есть ли неприятельское войско вне крепостных стен, перед валами?
— Нет, ваше величество, весь небольшой гарнизон — внутри крепости!
— Увеличил ли неприятель укрепления?
— Мои форпосты и лазутчики донесли мне, что валы заняты солдатами и крепостные рвы наполнены водой, — отвечал Изидор. — О возведении же новых бастионов до сих пор здесь не слышали!
— Нынешней ночью я отправлюсь в крепость, — сказал дон Карлос после короткого молчания глухим голосом и с тем мрачным и решительным выражением лица, которое в последнее время можно было в нем заметить довольно часто.
— Как!.. Ваше величество хотите…
— Идти в крепость! Вы меня проведете до нее!
— Святой Бернардо, на что вы решаетесь, ваше величество!
— Я так хочу! Изидор молчал…
— Где находятся крепостные форпосты? — спросил дон Карлос.
— В нескольких сотнях шагов от валов, ваше величество.
— Известно вам, когда в крепости бывает смена?
— В одиннадцать и в час, ваше величество.
— Который теперь час?
— Начало одиннадцатого.
— Хорошо! Пойдемте! Накиньте ваш плащ! Я не хотел бы быть узнанным нашими форпостами.
Изидор исполнил требуемое, в то время как дон Карлос поднялся со стула и несколько раз прошелся по палатке. Он, в свою очередь, накинул на плечи плащ и вместо своей шапочки надел легкую шляпу карлиста. Ничто в нем не обнаруживало претендента на престол.
— Ваше величество! Позвольте мне обратиться к вам с просьбой, — сказал Изидор, обращаясь к нему.
— Говорите! Что вам еще нужно?
— Ваше величество, этим опасным путешествием вы ставите на карту вашу жизнь и все ваше дело! А потому считаю себя обязанным просить ваше величество…
— Поберегите ваши увещевания, бригадир! Мне необходимо быть в крепости.
— Но, ваше величество, если вас узнают?
— Не беспокойтесь об этом, бригадир! Этого я сумею избежать.
Изидор не решался более настаивать.
— Пойдемте, — приказал дон Карлос и оставил палатку вместе с Изидором.
У входа в палатку стоял дежурный офицер, Изидор на мгновение остановился, вопросительно указав на него.
Дон Карлос решительно покачал головой и направился прочь от палатки с видимым нетерпением.
— Никому ни слова о том, что его величество был здесь! — шепнул офицеру Тристани, последовав за идущим впереди доном Карлосом к находившимся недалеко траншеям, где едва заметно мерцали зажженные огни. Рабочие и карлисты, сновавшие взад и вперед с корзинами и фашинами, представляли собой какую-то фантастическую картину, они напоминали сборище дьяволов или подземных духов. До сих пор они находились еще на довольно значительном расстоянии от валов и стен крепости, так что орудия обеих сторон не могли нанести противнику никакого вреда. Из крепости пробовали уже несколькими выстрелами разрушить земляные работы и помешать работающим, но, заметив бесполезность выстрелов, прекратили огонь, намереваясь с приближением траншей снова его возобновить.
Таким образом, карлисты вели свои приготовления к осаде крепости с большим усердием и без всякой помехи.
Дон Карлос и Тристани довольно долго шли вдоль траншей и, воспользовавшись неразрытым еще местом, подошли к крепости ближе.
— Узнайте у наших часовых о положении неприятельских форпостов, — приказал дон Карлос.
Они направились к своим форпостам, стоявшим ближе других к крепости, и вскоре были уже рядом с ними.
Здесь огни не горели. Ночь была темной, поэтому, подойдя почти вплотную, можно было рассмотреть солдат, расположившихся небольшими группами.
На одном из форпостов заметили приближавшихся и приняли их за проверяющих офицеров.
Их окликнули. Изидор назвал себя, и их пропустили.
Через несколько минут они достигли последнего форпоста, и там им с точностью описали, где виден был вечером неприятельский караул.
Дальше дон Карлос хотел идти один.
То, что задумал претендент на престол, было весьма смелым и рискованным… И все это делалось ради девушки, когда-то отвергнутой и обманутой! Такая перемена была непонятна Изидору; он не мог понять, что заставляло принца так рисковать. Или он из тех людей, которым нужно обладать тем, что всего труднее достается? Не влюбился ли он опять в Амаранту после того, как ей так оскорбительно изменил? Или влекла его к ней какая-либо другая страсть… Боялся он ее или ненавидел?
Может, появление Амаранты на террасе замка было для него напоминанием и живым укором его собственной совести… Или хотел он любой ценой освободиться от этого тягостного воспоминания о прошедшем?
Ненависть или любовь, какая-то из этих страстей воспламеняла его до безумия и заставила отправиться ночью в неприятельскую крепость. Это мог сделать только человек, объятый дикой страстью, раб этой страсти!
Изидор был посвящен в тайны прошлого принца! Все они были ему известны! Потом, в отсутствие Карлоса, он будет посмеиваться при мысли, что принц, разлученный с прекрасной Амарантой, казалось, снова ее полюбил, и с такой страстью, что из-за нее рискует даже жизнью! Изидора удивляло столь разительное непостоянство! Это было необъяснимо для него; он не мог ничего понять! Было время, когда и он с удовольствием и с жадностью во взоре смотрел на Амаранту, но чтобы он когда-либо решился ради нее на такое дело, чтобы стал ее искать с такой страстью — этого он себе представить не мог, такая любовь ему была непонятна! Что же касается принца, иначе объяснить себе его поступка он не мог. После женитьбы на другой, любовь в нем, видимо, разгорелась снова, и притом с такой силой, что не давала ему покоя! Но почему он не хочет подождать, пока Изидор, взяв крепость, не захватит Амаранту? Зачем отправляется он этой ночью в крепость? Он, конечно, надеется отыскать Амаранту, не будучи кем-либо замеченным и узнанным. Но ведь она может его выдать и передать в руки врагов!
Поведение принца трудно было объяснить! Оно было похоже на действия влюбленного, истощенного страстью, пожирающее пламя которой доводит его до сумасшествия, делает его готовым на все!
Вот почему Изидор не осмелился обеспокоить принца новым предостережением, хотя опасность, которой последний подвергал себя, была ему далеко не по нутру. Тристани решил, что всякие благоразумные советы в данном случае были бы бесполезны, ибо дон Карлос ослеплен желанием обладать женщиной, которую он потерял.
— Останьтесь, бригадир, — шепнул Карлос своему провожатому, — и ждите здесь моего возвращения; если на рассвете меня не будет, тогда я вернусь в следующую ночь!
Было так темно, что с трудом можно было что-либо разглядеть на расстоянии десяти шагов.
Изидор пытался со своего места увидеть что-нибудь на неприятельских форпостах, но это было решительно невозможно.
Дон Карлос оставил его и тихо пошел вперед. Сильный ветер поднялся и зашумел на широкой пустой равнине, окружавшей крепость.
В это время донесся глухой бой башенных часов, пробивших одиннадцать.
Дон Карлос, осматривая местность, положил правую руку на револьвер и заткнутый вместе с ним за пояс кинжал.
Двигаясь по-прежнему тихо, он все ближе и ближе подходил к валам крепости.
Вдруг он остановился… В стороне, на некотором расстоянии, он заметил смутный силуэт двух рядом стоящих передовых караульных… Тогда он осторожно скользнул в сторону, не замеченный ими.
Скрывшись от них, он продолжал все ближе и ближе подходить к своей цели. Он еще не видел стены крепости, но, пройдя несколько шагов, обнаружил, что находится около валов и наружных укреплений.
Можно было предполагать, что здесь находятся часовые.
Дон Карлос, казалось, не обращал внимания на опасность, по мере того как приходил к заключению, что пробраться в крепость можно.
Было очевидно, что у него уже есть план. Но любой непредвиденный случай мог не только разрушить этот план, но подвергнуть опасности и саму его жизнь.
Если бы его увидел караульный, которого он вполне мог не заметить, или если бы в это время совершал свой обход патруль, он неминуемо бы погиб.
Но он рассчитывал на свое счастье и уже почти достиг рва, со всех сторон окружавшего крепость.
Пуисерда принадлежала к тем слабо укрепленным местечкам, для защиты которых уже с полсотни лет ничего не предпринималось. Король Фердинанд VII не заботился об этих маленьких и незначительных' крепостях, лежащих в Пиренеях, а его преемницы Христина и Изабелла охотнее тратили средства на монастыри и ордена, чем на такие нужные для города цели.
Вот в таком виде находилась теперь Пуисерда, внезапно оказавшаяся в осадном положении; во всяком случае, она была весьма слабо защищена и даже не вполне окружена водой. Некоторые рвы оплыли, обросли высокой травой и уже не заполнялись водой. В таких местах осажденные могли рассчитывать только на свои орудия, на высокие и отвесные валы и стены, которые штурмом не так легко было взять.
Насмешливая улыбка скользнула по бледному лицу человека, завернутого в темный плащ, когда в глубине рва он не увидел воды; пригнувшись, он осторожно спустился вниз и оказался в одном из обнесенных высокими валами рвов, поросшем высокой травой.
Вскоре в темноте он разглядел очертание ближайшего выдававшегося бастиона, амбразуры которого наверху видны были довольно ясно.
Он повернул в эту сторону и здесь, заметив угол, образуемый крепостной стеной, тихо и осторожно поднялся в высокой траве на вершину вала, который выходил к подножию крепости. Тут он поднял голову, вслушиваясь и напрягая зрение, чтобы удостовериться в том, что вблизи нет караульных.
Он не заметил ничего подозрительного. Все было тихо… Только ветер шумел вокруг валов и стен.
Тогда он совсем поднялся наверх и достиг подножия темной отвесной крепостной стены, около которой тянулся широкий вал.
Вдруг он остановился, плотно прижавшись к крепостной стене… В двадцати шагах от него тихо прохаживался взад и вперед часовой… Вскоре дон Карлос, казалось, на что-то решился.
Он выждал, пока часовой, охранявший маленькие ворота в стене, повернется к нему спиной, и быстро устремился к нему…
Его шаги, хоть он и двигался с величайшей осторожностью, произвели легкий шум, и часовой обернулся.
В нескольких шагах перед собой увидел он на одно мгновение неподвижно стоявшего человека в темном плаще.
— Кто идет? — вскричал часовой, не понимая, откуда тот взялся.
Только одно мгновение размышлял дон Карлос, как ему теперь поступить… Но случай подсказал ему это: рядом с караульным находились ворота, а следовательно, и вход в крепость!
— Кто идет? — нетерпеливо повторил солдат, опустив ружье, чтобы штыком пронзить дона Карлоса.
В этот момент последний, заметив намерение солдата, быстрым движением выхватил из-под плаща свой кинжал, и часовой не успел даже выстрелить, так быстро и верно вонзил свой кинжал дон Карлос! Выпустив ружье из рук, солдат упал со сдавленным, глухим вскриком на вал, поросший травой.
Второй удар кинжалом, нанесенный тотчас вслед за первым, чтобы раненый не сумел позвать на помощь, был смертелен; несколько стонов — и часовой вытянулся, как это обычно бывает с умирающими.
Ворота были свободны… Никто ничего не услышал за шумом ветра…
Дон Карлос бросил быстрый взгляд на часового и, удостоверившись, что он уже не в силах ему помешать, подошел к маленьким узким воротам. Они были крепко закрыты и служили скорее входом во внутренность стены, быть может, в какой-то склад или иное помещение, только не в сам город.
Это сначала раздосадовало Карлоса, так как, пробравшись к этим воротам, он ничего не достиг… Но после короткого раздумья он, казалось, снова что-то придумал.
Была полночь. В час должна была заступить смена. Дон Карлос сбросил с себя шляпу и плащ, спрятал свой кинжал и снял с мертвого часового мундир и кепи. Одевшись в его платье и взяв ружье, он стал совсем неотличим от любого из правительственных солдат.
Он оттащил мертвого к тому месту, где была вода, и столкнул в ров. Вернувшись обратно к воротам, он занял свой новый пост.
Видимо, счастье, не покидало его, и до сих пор все шло отлично. Темнота ночи тоже благоприятствовала ему.
Когда башенные часы пробили час, он услышал приближавшиеся шаги…
Вскоре появилась смена…
Другой солдат стал на часы, а он, вместе с прочими смененными, направился к Монтанским воротам и через них без задержки вошел в город.
XI. Разграбление Куэнки
В то время, когда началась осада Пуисерды, в других местах временами происходили кровавые столкновения неприятельских армий, при этом битвы принимали все больший и больший размах; это говорило о том, что война, против всех ожиданий, будет продолжительной.
Не беремся решить, как бы пошло дело, если бы Конхо не умер, и кто виноват в том, что война приняла затяжной характер, но одно не подлежит сомнению — вМадриде было слишком много разногласий между отдельными политическими партиями, что, безусловно, способствовало затягиванию войны.
Затруднения у республиканцев и правительства Серрано возникали еще и потому, что государственная казна была пуста, хотя налоги на все были уже и так непомерно высоки. Вести же войну без денег до сих пор не удавалось еще никому.
Таким образом, обвинение Серрано в том, что не принимались вовремя меры к подавлению восстания карлистов, не совсем справедливы, хотя многие и предполагали, что он после смерти Конхо не хочет никакому другому генералу дать возможность украсить себя лавровым венком последней решительной битвы. Объясняли это его непомерным честолюбием, из-за которого он будто бы старался замедлить нанесение окончательного удара, чтобы потом самому в качестве главнокомандующего войсками правительства нанести его и, доставив, наконец, спокойствие растерзанной стране, стяжать славу освободителя.
Если бы даже существовали факты, подтверждающие это предположение, то и в таком случае мы полагаем, что для замедления были, по всей вероятности, и другие причины, ибо Серрано имел полную возможность и после сражения при Эстелье, после смерти Конхо, стать во главе войска, чтобы те лавры, о которых говорили, достались ему. Но этого не случилось, и, конечно, причины затяжного характера войны следует искать скорее в недостатке денег и солдат, в интригах политических партий и в разъединении страны!
Правда, и у дона Карлоса не хватало средств, но он старался восполнить это, выпуская бумажные деньги, которые в занятой им провинции обязан был принимать каждый. Кроме того, он нашел поддержку у близких и дальних родственников, у своих приверженцев и у родственников его супруги, Маргариты Пармской.
Герцогиня Мадридская — таков был ее титул — отправилась в сопровождении своей свиты с минеральных вод опять в По, и французское правительство никак не препятствовало ее пребыванию во Франции.
Таким образом, все вышеупомянутые средства помогли дону Карлосу укрепить свои силы, и после битвы при Эстелье были сражения, в которых карлисты поступали с такой ужасающей жестокостью, перед которой бледнеет все, до сих пор нами описанное.
Претендент на престол не был лично главным виновником всех этих ужасов, скорей в них повинны предводители, а главным образом дон Альфонс, его рыжеволосый брат, и его супруга, донья Бланка Мария.
При взятии укрепленного городка Куэнки эти жестокости были доведены до крайней степени. Ниже мы расскажем об этом, ручаясь за достоверность описания, ибо передаем все со слов очевидцев.
Хотя со стороны тех партий, которые по причинам, им одним известным, считали нужным поддерживать кар-листов, были сделаны попытки смягчить факты или даже породить сомнения в их верности, все-таки до сих пор факты эти не были опровергнуты, а напротив, подтверждаются всеми очевидцами. Эти партии оправдывают кар-листов тем, что и правительственные войска допускали много жестокостей, но мы и не намерены скрывать их от суда наших читателей и расскажем об этом в свое время, чтобы дать таким образом истинную картину событий, совершившихся в Испании.
Карлистам, несмотря на храбрость защитников Куэнки, все-таки удалось ее взять. Прежде всего ими было занято предместье Карретариа, где сразу начались грабежи, поджоги, убийства и надругательства над женщинами.
Губернатор провинции послал Мадридскому правительству донесение следующего содержания:
«Со зверской злобой сжигали они дома, в которых скрывались преследуемые ими женщины и девушки; в других зданиях они разбивали и сжигали мебель и домашнюю утварь. Вскоре появились дон Альфонс и донья Бланка, встреченные радостными восклицаниями солдат. Их прибытие, казалось бы не дававшее никакого повода к усилению бесчинств, тем не менее вызвало новую волну жестокостей.
13 июля вечером и 14 июля днем карлисты неоднократно шли на приступ. 14 июля им удалось сделать пролом в стене, и вскоре улицы города были наводнены карлистами. Они врывались в дома, учиняя разбой, убивали жильцов независимо от того, защищались те или нет. Толпами бродили карлисты по городу, грабя дома. В ночь на 16 июля они заставляли оставшихся в живых жителей разрушать крепостные стены и тех, кто не умел действовать заступом или лопатой, тут же убивали у подножия этих стен.
Жители, пришедшие в ужас от убийства безоружных мужчин и женщин, отправили в собор, где дон Альфонс и донья Бланка только что получили причастие от епископа, депутацию женщин и духовенства с просьбой остановить убийства и грабежи, а также уменьшить размер контрибуции.
И какой же ответ получили просители от брата претендента и его жестокосердной супруги?
Без сомнения, мы не заслужим упреков за верное и правдивое описание доньи Бланки Марии де ла Ниевес, дочери похитителя престола Мигеля, которая предстает столь ужасной, что в такое с трудом верится, хотя мы при изображении ее ни словом не погрешили против истины.
Эта мегера, только что осмелившаяся вместе с Альфонсом принять святое причастие перед алтарем Всевышнего, отвечала женщинам, с мольбой опустившимся перед ней на колени, что не может же она не дать солдатам возможности хоть раз потешиться.
И что же произошло в течение этого времени, пока Бланка Мария и Альфонс стояли у алтаря?
Чтобы завершить свои кровавые дела, они объявили помилование тем из молодых граждан, которые в течение семи часов добровольно присоединятся к карлистам. Но это был подлый обман, ловко придуманная ловушка! Лишь только те, кто поверил этому обещанию, присоединились к карлистам, как их схватили и бросили в темницу, где их ждало самое бесчеловечное обращение.
Среди многих других был убит карлистами один сапожник в его собственном доме в присутствии жены и детей. Когда несчастная жена в отчаянии попыталась защитить его, то получила удар саблей по руке, лишивший ее одного пальца, а потом бесчеловечные убийцы заставили ее выбросить тело мужа из окна.
Один полицейский чиновник был заколот штыком, причем эти варвары смеялись, глядя на струившуюся из пронзенного сердца кровь умирающего.
Другая разбойничья шайка ворвалась в комнату, где лежал на кровати двадцатилетний юноша, больной оспой. Не сумев быстро приподняться, чтобы дать карлистам возможность осмотреть постель, он был убит в объятиях его рыдающей матери.
Через все эти ужасы дон Альфонс и донья Бланка торжественно прошествовали с музыкой и знаменами по улицам разоренного города. Покидая город, донья Бланка со знаменем в руках следовала в триумфальном шествии с идущим позади нее пленным бригадиром Игнасисом.
Те из граждан, которые утром добровольно пришли к карлистам, но попались в ловушку, шли теперь среди них, принуждаемые к восемнадцатичасовому форсированному маршу, отстававших карлисты тут же убивали.
Среди зуавов, из которых, как было сказано раньше, образовался особенно предпочитаемый доньей Бланкой батальон и ее почетная стража, находилось несколько французов-коммунаров и много беглых из Алькоя и Картахены.
Мало того, что карлисты грабили в городе кассы и сжигали правительственные архивы, они совершали много актов вандализма: в провинциальном институте уничтожили все физические инструменты и зоологические коллекции, в народных школах уничтожили мебель и все учебные пособия.
Таковы были деяния карлистов в Куэнке, происходившие одновременно с расстрелом немецкого капитана Шмидта. Все это вызвало протест всех цивилизованных наций! И действительно, этот грабеж и эти убийства показывали, что шайки дона Карлоса не воевали, а, как разнузданная толпа вырвавшихся на волю преступников, свирепствовали в несчастной стране, повсеместно производя грабеж и опустошения.
Семьсот пленных увели они с собой из Куэнки после беспримерного кровопролития, учиненного в этом городе, чтобы и потом иметь возможность удовлетворять свою кровожадность на безоружных людях.
Что же предстояло несчастным жителям Пуисерды после таких ужасных происшествий в Куэнке?
В будущем их ожидала подобная, а может быть даже и гораздо худшая, участь, ибо здесь предводительствовал карлистами и вел осаду против Пуисерды, казалось, сам дьявол, воплощенный в образе Тристани.
К несчастью, отряд правительственных войск под предводительством молодого капитана де лас Исагаса, посланный главнокомандующим для освобождения Куэнки, прибыл слишком поздно, чтобы воспрепятствовать грабежу и наказать злодеев на месте преступления. Битва при Эстелье и ее последствия были причиной этой медлительности, ибо там необходимо было сосредоточить все имевшиеся в наличии силы.
Горацио с вверенным ему отрядом форсированным маршем быстро направился к Куэнке и нашел здесь опустошения, о которых мы уже говорили.
Прибежавшие граждане кричали о мщении, девушки и женщины умоляли Горацио спасти их братьев и мужей, уведенных карлистами, и он обещал им это!
Встреченный здесь как спаситель и освободитель от позорной нужды и притеснений, он, напрасно искавший смерти в битве при Эстелье, с радостью видел теперь, что ему представляется прекрасный случай помочь этим несчастным и направить всю свою отчаянную храбрость на спасение пленных, стремительно ударив по неприятелю! Он мог пожертвовать своей жизнью, чтобы возвратить тысячам людей потерянное земное счастье и сотни людей спасти от ужасной смерти! Это была высокая и воодушевляющая мысль!
Хотя отряд, которым командовал капитан де лас Исагас, в сравнении с выступившим на Куэнку карлистским отрядом был весьма незначителен, но мужество и высокая цель, воодушевлявшая его, делали его равным по силе превосходящему его численностью неприятельскому отряду.
Благословляемый жителями Куэнки, выступил он со своими солдатами в погоню за карлистами.
Люди его были воодушевлены благородной целью — спасти 700 пленных собратьев и наказать карлистов без сострадания за произведенные ими в Куэнке зверства. Так объяснил им задачу Горацио.
Солдаты поддержали своего молодого капитана и поклялись лучше умереть, чем позволить карлистам убить 700 захваченных пленников.
В одном местечке, через которое проходил Горацио со своими солдатами, ему сообщили, что неприятель превышает его численностью в три раза и что поблизости его ждет еще подкрепление. Другой на месте Горацио, быть может, воспользовался бы этим известием, чтобы отказаться от исполнения своих намерений, но Горацио был тверд и, кроме того, речь шла об освобождении несчастных, которые без него неминуемо должны были погибнуть; речь шла об исполнении данного им в Куэнке обещания, поэтому, не медля ни минуты, поспешил он дальше, чтобы, следуя форсированным маршем, нагнать карлистов.
Судьба, казалось, благоприятствовала им. На следующий день к ним присоединился отряд, за счет этого подкрепления отряд Горацио увеличился настолько, что карлисты теперь превышали его численностью только вдвое, и, кроме того, в их распоряжений было теперь несколько орудий, в которых они нуждались больше всего и которые могли бы иметь большое значение при атаке.
Это подкрепление подбодрило людей, так что они уже с полной уверенностью в победе спешили скорее догнать неприятеля.
Горацио послал вперед взвод кавалеристов в качестве авангарда, чтобы иметь сведения о силе неприятеля, о его удаленности от них и о местности, где он находится. Вернувшись через несколько дней, они донесли, что карлисты расположились в нескольких милях от Салваканеты, причем лагерь не укрепили даже летними окопами. Один из всадников узнал от жителей, что карлисты все еще вели с собой 700 пленных, вероятно, не имея времени приговорить их к смерти и уничтожить.
Это донесение тотчас побудило Горацио и других офицеров немедленно выступить в Салваканету и атаковать неприятеля в его лагере.
Тотчас вся колонна разделилась на меньшие отряды, которые отправились по различным дорогам, чтобы напасть на карлистов одновременно с разных сторон и штурмом взять их лагерь.
Горацио со своими солдатами прибыл в Салваканету ночью, а утром на рассвете кавалерия уже атаковала карлистов.
В самом разгаре битвы при громе орудий бросился Горацио на неприятеля, стараясь штурмом взять наскоро возведенные окопы и лагерь карлистов.
Но они, хорошо зная, что численное превосходство на их стороне, защищались с большой стойкостью. Батареи их также не замедлили открыть огонь, а поскольку они имели большее число орудий, то и наносили большой вред, который скоро стал весьма ощутим, ибо ядра карлистов производили в рядах нападающих ужасные опустошения.
Но это не поколебало геройской храбрости немногочисленного войска!
Кавалерия продолжала свои атаки на неприятеля, а Горацио во главе своих храбрых пехотинцев пытался прорваться к занятой неприятелем возвышенности.
Сражение принимало все больший и больший размах; очевидно, карлисты не рассчитывали на такую храбрость и настойчивость малочисленного отряда. Они слишком полагались на свой численный перевес, а сами через несколько часов в некоторых местах стали уже отступать.
Когда Горацио заметил этот первый признак успеха, его охватила неудержимая радость и, готовый пожертвовать жизнью за эту победу, он с маленькой кучкой людей так стремительно бросился на неприятеля, что остальные отряды были не в состоянии поспевать за ними. Таким образом, он со своими людьми оказался окружен неприятелем, наступавшим на него со всех сторон и хотя поминутно отбрасываемым назад, но тем не менее, кажется, задавшимся целью победить этого смелого удальца.
Остальные офицеры со своими отрядами напрасно старались пробиться на помощь к своим слишком смелым товарищам; они не могли так быстро проложить себе путь через отважно сражавшихся карлистов.
Горацио и его маленькому отряду не было спасения! С неудержимой злобой вновь бросился в бой предчувствующий уже свое поражение неприятель, и тогда противники схватились врукопашную, причем на одного правительственного солдата приходилось десять кар-листов. Горацио и теперь, как бы воодушевленный предсмертной храбростью, бросился на окружавших его кар-листов и, опьяненный победоносными криками следовавших за ним, врубился в неприятеля, отступавшего перед ним.
В тот момент, когда он защищался от напавшего на него карлистского офицера, ему нанес сабельный удар кавалерист, и, смертельно пораженный, этот храбрый юноша упал…
Солдаты его, воспламененные жаждой мести за своего храброго начальника, неудержимо рвались вперед, и через несколько минут, когда Горацио выносили с поля битвы, сражение было окончено.
Карлисты были разбиты и бежали, преследуемые кавалерией, отнявшей у них три пушки, которые уже стреляли им вслед.
Когда отправленному через несколько часов в Салваканету тяжело раненному Горацио сообщили, что была одержана блистательная победа и 700 пленных освобождены, то лицо его прояснилось и он, казалось, забыл о своих страданиях.
Сложив руки в тихой молитве, принес он благодарение Богу за счастливый исход битвы… Представители от освобожденных пленных явились к тяжело раненному и со слезами на глазах благодарили его за спасение.
XII. Ужасное известие
— Сегодня одному крестьянину удалось, несмотря навсе опасности, пробраться через неприятельскую линию, — сказал майор Камара, возвратясь с утренних занятий. — Эти негодяи, правда, его схватили и обыскали, но потом все-таки отпустили; начальник карлистов сказал, что не желает лишать находящихся в крепости известий об ожидаемой ими помощи. Этот мошенник, кажется, насмехается над нами!
— Что же заставило этого человека пробраться в город? — спросила жена майора.
— Он принес письма, адресованные жителям Пуисерды!
— И из-за этого крестьянин так рисковал?
— Но ведь в этих письмах могли быть весьма важные известия, — предположил майор, бросив взгляд на Инес. — Иной, может быть, с нетерпением ожидает писем из Мадрида или еще откуда-нибудь.
— Мне кажется, дядя опять шутит, — сказала Инес, взглянув вопросительно на майора, который никогда не упускал случая повеселить дам.
— Я совсем не шучу, милое дитя. Осаждающие, кажется, согласились пропускать все письма, адресованные в город, но не согласны выпустить из него ни одного письма!
— Вероятно, у дяди есть письмо и к тебе, — обратилась майорша к Инес, видя недоумение и ожидание, ясно читавшиеся на ее лице.
— Дядя, в самом деле у тебя есть письмо и для меня? — с радостным нетерпением воскликнула Инес, быстро подбежав к слегка улыбавшемуся старому майору и умоляюще глядя на него.
— Разве ты ждешь от кого-нибудь письма, милое дитя? — спросил Камара.
— К чему так мучить ребенка? — сказала майорша.
— Ведь ты знаешь, дядя, что я с нетерпением жду письма из Мадрида, — сказала Инес, — и это письмо для меня так важно, что я дрожу от волнения и ожидания!
— Разве у тебя в Мадриде есть какие-то дела с судом? — продолжал спрашивать майор.
— С судом? Ты меня пугаешь, дядя! С каким судом? Я почти не знаю, что такое суд и что там делают.
— Гм! Это довольно странно, —продолжал старый Камара с задумчивым выражением лица, в то же время опуская руку в карман своего мундира. — По-настоящему следовало бы старому дяде прежде самому распечатать и прочитать это письмо.
— Так действительно для меня есть письмо?
— Да, и с большой казенной печатью, — сказал майор, вынимая письмо из кармана.
— Что же это значит? — спросила майорша. — Ведь ты, любезный Камара, писал письмо отцу Инес, пытаясь примирить его с генералом и вместе с тем ходатайствовать за него перед графом.
— Ну конечно, ведь ты же читала его! Майор подал удивленной Инес письмо.
— Открой его, дитя мое! Что же ты так дрожишь? Ты думаешь, что с генералом что-то случилось и суд извещает тебя об этом? Погоди, я открою письмо! Оно из суда и, кажется, из опекунского, — сказал старый майор, качая головой…
— О Боже… Уж не случилось ли чего с отцом нашей Инес? — заметила со страхом майорша.
— Боже мой… — прошептала Инес, в то время как Камара, распечатав письмо, бросил взгляд на его содержание. Он переменился в лице… При виде этого майорша испугалась.
— Говори же, что случилось? — сказала она. — Посмотри, бедное дитя совершенно напугано.
— Это тяжелый удар! — сказал майор глухим голосом. — Клянусь пресвятой Мадонной, это удар не только для Инес, но и для всех нас!
— Уже не умер ли Кортецилла? — спросила, побледнев, старая дама.
— Хуже того! Приготовьтесь к ужасному известию, — отвечал дрожащим голосом старый Камара, обычно столь сдержанный и спокойный. — Суд сообщает нам, что отец Инес пропал без вести.
— Пропал! Это я, я виновница всему! — воскликнула Инес с отчаянием.
— Нет, дитя мое, не ты виновна в том! Твой отец обвиняется в ужасной, страшной вещи! Он признан главой тайного общества, с давних пор известного в Испании под именем братства Гардунии, общества, прославившегося своими страшными злодеяниями. В руки правосудия попало несколько членов этого общества. Будучи арестованными, многие из них дали показания, и Кортецилла, чтобы избежать ответственности перед законом, скрылся. Бежал он или наложил на себя руки, это неизвестно, только найти его не могли, и в этой бумаге он значится пропавшим без вести.
— О Господи! — проговорила Инес слабым голосом, бросаясь в объятия своей тетки, между тем как Амаранта со слезами на глазах подошла к ней и молча, с немым участием, смотрела на нее.
— Кортецилла — глава общества? Это невозможно, — проговорила наконец супруга майора, глубоко взволнованная, но не потерявшая присутствия духа и самообладания, — нет, этого не может быть!
— Однако неопровержимые доказательства найдены в его дворце, — продолжал Камара, просматривая еще раз бумагу, — нет ни малейшего сомнения, улики слишком очевидны, да и само его исчезновение подтверждает это.
— Бедное мое дитя, — прошептала тетка Инес, прижимая ее к своему сердцу, — можно ли было подумать об этом! Какое счастье, что ты здесь, с нами. Сам Бог привел тебя сюда! Мы заменим тебе родителей, будь уверена, что ты найдешь в нас отца и мать.
— Суд спрашивает меня, согласен ли я принять опеку над тобой, дитя мое, — обратился майор к Инес, — и вместе с тем предупреждает, что дворец и все движимое и недвижимое имущество твоего отца должны быть конфискованы, — продолжал старик все еще взволнованным голосом, очевидно не оправившись еще от изумления и испуга, — Аресты продолжаются, судебный процесс принимает все больший и больший размах, весь Мадрид взбудоражен этим делом, но, несмотря на все розыски, следов Кортециллы не могут найти.
— О мой несчастный отец, — воскликнула Инес, рыдая, — что с ним, где он? Верьте, что все, все, что он делал и за что должен пострадать, он делал ради меня, меня одной!
— В этом ты не ошибаешься, дитя мое, это так, — сказала тетка, которая хотя и была в ссоре с Кортециллой, но все-таки чувствовала к нему глубокое сострадание и обрадовалась словам Инес, как оправданию, смягчению до некоторой степени его вины, если не перед судом, то по крайней мере в ее сознании. — Бедный, несчастный человек! Что он наделал!
Камара сложил бумагу и сказал более спокойным голосом, обращаясь к плачущим женщинам:
— Теперь обдумаем хорошенько, как поступать и что делать. Рыданиями и отчаянием горю не поможешь. Случившегося нельзя исправить! Конечно, для тебя это страшный удар, мое бедное дитя, но не предавайся отчаянию, постарайся перенести это мужественно, тем более что ты не одна в мире, у тебя есть мы, мы заменим тебе семью. Я сейчас же напишу заявление, что принимаю на себя не только опекунство над тобой, но и берусь полностью заменить тебе отца, что ты будешь моей дочерью! Поди ко мне, дитя мое, — продолжал мягким отеческим голосом старик, протягивая руки к рыдающей Инес, — успокойся, дорогая моя, мы родная твоя семья, ты можешь быть уверена, что мы никогда не оставим тебя, что мы любим тебя, как родную дочь!
Жена его в это время взяла судебное уведомление и сама прочитала его. Чтение это произвело на нее еще более угнетающее впечатление, чем пересказ фактов, сделанный майором. Ее фамилия никогда не была ничем запятнана, и читать официальное обвинение мужа ее родной сестры в том, что он глава разбойничьей шайки, было ужасно для нее. Его преступление ложилось клеймом и на его дочь, и на нее, и на весь их род!
«Эстебан Кортецилла — разбойник, злодей! О Боже! — думала бедная старушка. — Как хорошо, что сестра умерла в молодости и не дожила до этого ужасного несчастья!» Конфискация богатств Кортециллы представлялась ей самым незначительным событием в сравнении с лишением его дворянства, с бесчестьем, навсегда опозорившим его имя. И хотя в первые минуты после того как ее муж сказал, что Кортецилла исчез без вести, что, может быть, наложил на себя руки, ей было очень жаль его, но теперь она благословляла судьбу, что он скрылся, и признавала, что смерть его была бы еще большим счастьем!
Но потом опять грустные, тяжелые мысли охватили бедную женщину. «Хорошо, — думала она, — мы избавлены от позора видеть его осуждение, видеть его казнь на лобном месте, но что будет с бедной Инес? Какая судьба ожидает ее? Захочет ли генерал Мануэль, занимающий такое видное место в испанской армии, столь уважаемый всеми, жениться на ней, на дочери злодея, уличенного разбойника? Захочет ли он назвать ее своей женой? Общественное мнение вынудит его отказаться от нее, как бы дорого это ему ни стоило, как бы ни было ему тяжело это сделать!»
Эта мысль жаром обдала тетку Инес, она вся сосредоточилась на ней, забыв даже о причине, породившей ее, забыв о самом Кортецилле. «Мануэль должен отказаться от Инес, — думала она с отчаянием, — что тогда будет с ней?»
Прижав ее к своему сердцу и повторив еще, что теперь она должна считать ее своей матерью, она вышла вместе с мужем и последовала за ним в его кабинет, куда никогда не ходила, не вынося запаха табачного дыма, которым была пропитана атмосфера этой комнаты. Но теперь ей было не до этих мелочей.
Когда они вошли в кабинет и майор закрыл дверь, она в отчаянии заломила руки, старик был поражен, он ни разу в жизни не видел своей супруги в таком состоянии.
— Что же будет? — воскликнула она дрожащим голосом. — Перед Инес я не выкажу своего горя, я не подам ей вида, но этот удар сведет меня в могилу.
— Мы должны уметь переносить несчастья. Примем это как испытание и постараемся с достоинством перенести его! Конечно, это ужасное, страшное несчастье. Но отразиться на близких, на родственниках позором и бесчестием оно не может, не должно, по крайней мере!
— Да, это только так говорится, а на деле, поверь мне, бесчестье ляжет на всех нас.
— С какой стати, ведь мы даже не носим одной с ним фамилии, да и многие ли знают, что мы с ним родня, что он был женат на твоей сестре? — хладнокровно ответил майор. — А чтобы людям недоброжелательным, готовым всегда чернить другого, не дать повода бросать в нас камни и взваливать на нас ответственность за преступления Кортециллы, мы не должны показывать нашего горя, не должны подавать вида, что это ужасное дело сколько-нибудь касается нас лично.
— Скрыть это невозможно!
— Нынешние смуты и волнения как нельзя более
способствуют этому. Каждому теперь не до того, чтобы думать о других; каждый опасается за завтрашний день, думает и заботится лишь о себе.
— О, как мало ты знаешь людей! Будь уверен, они никогда не упустят случая, чтобы навредить другому, как бы ни были они озабочены своими делами; тем более они не оставят без внимания такое событие и доберутся до всех, имеющих несчастье находиться в родственных связях с виновными. Но представь себе еще то горе, которое ждет бедную Инес. Ведь несчастная девушка совсем надломлена и душевно и физически, а что ждет ее впереди, подумать страшно. Господи, кто же мог ожидать такое? Кто мог предвидеть это несчастье!
— Припомни мои слова, однако. Мне всегда казалось подозрительным поведение Кортециллы и то, что его богатство росло с каждым годом в течение последних семи лет. Источников его я никогда не мог понять, но они мне всегда казались нечестными. Не говорил ли я тебе несколько лет назад, узнав о его беспрестанных путешествиях в Пиренеи, что он, верно, игрок и проводит время в таких местах, как Дуранго, Андорра или Клисонда, что оттуда все его богатство. Ты оказалась права, что не верила мне тогда, он нашел источники почище этих вертепов.
— Да, в то время я его защищала.
— Защищала, обвиняя меня в несправедливости, в нерасположении к нему. Но теперь все объяснилось! Хуже этого он ничего не мог придумать!
— Несчастный, жажда к богатству ослепила, погубила его!
— Это нисколько не оправдывает злодейства.
— Тише! Ради Бога, тише! Инес не должна слышать этих ужасных обвинений, как бы они ни были заслужены. Пожалей ее, бедняжку!
— Разумеется, я никогда при ней не скажу ничего подобного, упаси меня, Боже. Но что за гадкий, отвратительный человек, не подумать…
— Молчи, Камара, он достаточно наказан, теперь не время осуждать его!
— Не время осуждать! А он не задумался отравить всю жизнь своей несчастной дочери, наложить на это невинное дитя такое клеймо…
— О Господи, Господи! — воскликнула сеньора Камара, закрывая лицо руками.
— Еще великое счастье, что он скрылся, и суд, считая его пропавшим без вести, приговорил его только к лишению дворянского звания и состояния, — прибавил майор.
— Лишение это распространяется на Инес или нет? — спросила его жена. — Сердце сжимается у меня при мысли о новом горе, новом несчастии, ожидающем ее.
— Ты говоришь об отношениях ее с генералом Павиа?
— Да, страшно, ужасно подумать об этом новом ударе для Инес. Он должен будет от нее отказаться. А какой стыд уведомлять его об этом позоре! Какими глазами он взглянет на нас!
— Ты несправедлива к генералу, считая его способным переносить на нас ответственность за поступки Кортециллы! Верь мне, он иначе взглянет на дело! Он слишком честен, чтобы оценивать людей не по их собственным достоинствам, а по их родственным связям!
— Но он не может жениться на Инес, он должен отказаться от нее!
— Да, он должен отказаться от графини Инес де Кортециллы. Генерал Мануэль Павиа Албукерке не может быть мужем графини Кортециллы, так как это имя опозорено. Но генерал Павиа может свободно жениться на Инес Камаре!
— Так ты думаешь, что мы можем дать ей наше имя? — спросила с изумлением добрая женщина.
— Разумеется! Мы удочеряем Инес, сироту, не имеющую ни отца, ни матери, понятно, что при этих условиях она принимает нашу фамилию! А на этой фамилии нет никакого пятна, она ничем не замарана, и потому для генерала нет никакого бесчестия жениться на девушке с этим именем!
— Но ведь он узнает о позоре, который навлек на себя Кортецилла, и хотя Инес будет носить нашу фамилию, фактически она все-таки остается дочерью преступника, все-таки она его плоть и кровь, да и перед светом этого нельзя скрыть, нет ни малейшего сомнения, что всем будет известно, что Павиа женится на Инес де Кортецилле, хотя в бумагах она и будет значиться Инес Камарой. И я сильно сомневаюсь, что генерал удовлетворится этой переменой имени своей невесты и не откажется от нее! Инес же не перенесет этого нового несчастья, этот удар сломит ее окончательно!
— Во всяком случае, мы обязаны предупредить генерала об всем случившемся! А дальше уже его дело, как поступить! Мы можем быть уверены в одном, что имеем дело с человеком честным и благородным, который пощадит и нас, и Инес, ибо в этом несчастии мы нисколько не виноваты! Но на этих днях нас ждут такие кровавые события, такие беды и несчастья, что дело Корте-циллы невольно позабудется!
— Но каково для Инес — переносить эту неизвестность?
— Не стоит ломать голову над тем, что может случиться да чего можно ожидать, когда, повторяю тебе, на днях мы услышим и увидим такие страшные военные события, что все остальное будет забыто! Война в самом разгаре, везде начинаются осады, каждому впору думать и заботиться о спасении своей жизни!
— Для Инес, — возразила сеньора Камара, — забота о жизни останется на последнем плане, я знаю ее, она так страстно любит генерала Павиа, что, откажись он от нее, жизнь ей станет немила, он для нее дороже всего на свете!
— Сейчас мы не должны показывать ей, что их свадьба может не состояться, — заметил майор. — Однако уже шестой час, а мы еще не обедали, я страшно хочу есть. Вообще я тебе советую не менять под влиянием горя нашего обычного распорядка жизни и, в особенности, не выказывать своего отчаяния. В подобных случаях пример много значит, если ты не станешь все время думать об этом ужасном происшествии, не выбьешься из колеи своих обычных занятий, ты поддержишь Инес, отвлечешь ее от дум о том, чего ни исправить, ни предотвратить нельзя. Идем же в столовую и сядем, как обычно, за стол!
Сеньора Камара не могла не признать благоразумными советы своего мужа, и вскоре все семейство сидело за столом. Хотя аппетита у молодых девушек и не было, но, чтобы не изменять обычного порядка в доме доброго майора, они приняли участие в обеде.
Ближе к вечеру Амаранта и Инес отправились гулять в сад вместе с супругами, и сеньора Камара со спокойным видом утешала свою племянницу.
Небо покрылось черными облаками, и в десятом часу, когда совсем стемнело, все семейство разошлось по своим комнатам, искренне пожелав друг другу спокойной ночи.
Дом майора был одноэтажный, и кровля на нем была почти плоская, как у большинства домов в Пуисерде.
Спальня старых супругов выходила окнами в сад, и потому на ночь их оставляли открытыми. Инес же и Амаранта занимали маленькую комнатку с одним окном, выходящим на улицу.
Когда молодые девушки пришли к себе, простившись с майором и его супругой, им показалось, что очень душно, и, против обыкновения, они тоже не закрыли окна.
Они долго разговаривали, и было уже за полночь, на улице стояла мертвая тишина и не было видно ни души, когда Амаранта легла наконец в постель. Инес же осталась сидеть у окна, говоря, что ей еще не хочется спать.
Через несколько минут раздалось тихое, ровное дыхание крепко заснувшей Амаранты. Подруга ее, глядя на пустынную улицу глазами, полными слез, погрузилась в свои грустные думы.
Ей страшно захотелось увидеть своего пропавшего отца. Ее мучила совесть, что она покинула его! «Что бы он ни сделал, — думала она, — он все же мой отец! И, может быть, он уже умер, не простив мне моего поступка, не прижав меня в последний раз к своему сердцу!».
Ее воображению живо представился его образ, в памяти всплывали разные воспоминания о нем. Веки ее сомкнулись, и воспоминания перешли скоро в грезы. Она задремала, и ей снилось, что она слышит его голос, что он зовет ее, но она не знает, где он, куда ей идти!
Желание увидеть его становилось все сильнее и сильнее, он не переставал звать ее. И она вдруг неслышно как тень встала со своего места и направилась к двери, следуя этому призыву, который явственно слышался ей во сне.
Амаранта крепко спала и не слышала, как ее подруга приблизилась к двери, открыла ее и вышла из комнаты.
Все потрясения дняи возбужденное состояние вновь вызвали припадок ее давнишней болезни, которой она была подвержена с детства. Читатель, вероятно, помнит, что она была лунатиком, и что не раз Антонио спасал ее от смерти во время опасных похождений, совершаемых ею во сне.
Все в доме спали крепким сном, и удержать ее было некому, на улице тоже не было ни души, и она неслышными, но твердыми шагами вышла во двор и взобралась на крышу дома. Месяц только что показался из-за облаков, которые начал разгонять ночной ветер. Инес шла вдоль самого края крыши.
В это время на улице показался какой-то. солдат. Робко осмотревшись по сторонам, он стал внимательно изучать улицу, где находился, и с любопытством, как будто нашел именно то, что искал, остановил свой взор на самом изящном из всех домов, на доме майора Камары.
Острый, наблюдательный взор задержался на открытом окне, но тут солдата отвлекла тень на крыше дома. Солдат в первую минуту бессознательно, как будто испугавшись, вздрогнул и припал к земле.
Инес продолжала свое опасное путешествие. Наконец, когда он внимательно всмотрелся в женскую фигуру, свободно и в то же время твердо идущую по самому краю крыши, улыбка показалась на его губах, он, по-видимому, понял, что перед ним лунатик. Солдат этот был дон Карлос. Он скоро узнал в лунатике Инес и сообразил, что это именно тот дом, который он ищет, и что она, блуждающая по крыше под влиянием лунатизма, неопасный свидетель. Обдумав все это в одну секунду, он быстро прокрался коткрытому окну, но вдруг в этот момент в комнате раздался крик и в окне показалась Амаранта, которая, проснувшись и увидев, что Инеснет в комнате, с испугом начала звать на помощь, догадавшись, в чем дело. Крик ее громко разносился по всему дому.
Дон Карлос продолжал стоять под окном, прислушиваясь, что будет дальше.
В доме послышались голоса, дверь на улицу с шумом отворилась, и он быстро удалился на безопасное расстояние.
Майор Камара, набросив на себя что попалось под руку, выскочил на улицу и убедился, что Амаранта не ошиблась в своих предположениях. Но на крыше уже появилась его жена со служанкой.
Женщины осторожно приблизились к Инес и тихонько отнесли ее в одну из самых уютных и веселых комнат изящного дома. Шум этот привлек на улице ночных сторожей, которые почтительно вступили в разговор с майором. Дон Карлос, все еще остававшийся на улице Монтана, проворчав проклятие, поспешно удалился, направляясь к заставе города, возле которой находился сторожевой домик.
В это время на городской башне пробило два часа ночи, через два часа наступал рассвет и оставаться в городе дольше было бы опасно.
XIII. Удачные розыски
Старый герцог Кондоро возвратился в Мадрид из маленького городка, в котором он не нашел разыскиваемого им старого танцора, но зато встретил Антонио и полюбил его с первой минуты знакомства. По возвращении в столицу он решил принять все меры для розыска Арторо. Надежда найти наконец этого человека, который один только и мог дать ему верные сведения об участи его пропавшего сына, придала ему силы и избавила от болезненных припадков. Герцог помолодел, ни разъезды, ни возбужденное состояние нимало не утомляли его, к великому удивлению Рикардо. Его мучило нетерпение: скорей, как можно скорей отыскать старого танцора. Он твердо решил добиться своей цели во что бы то ни стало и не отступать, пока не достигнет ее!
В первый день по возвращении в гостиницу «Три Короны», где он оставил бедного Клементо на попечение слуги, герцог пришел в его комнаты и был очень рад увидеть ложного дукечито в наилучшем расположении духа. Добродушно выслушал старик рассказы слабоумного юноши о том, какой славный шоколад ему дают каждый день и как его отлично кормят. Говоря же о вине, которым его угощали, он даже прищелкнул языком; очевидно, он считал себя вполне счастливым, так как единственные его потребности, потребности материальные, удовлетворялись вполне.
Старый герцог дал себе слово обеспечить бедного юношу на всю жизнь так, чтобы он мог пользоваться теми благами, которые предоставлены ему теперь и которых ему вполне достаточно для счастья. Он дал себе слово исполнить это и в том случае, если ему удастся найти своего настоящего сына и наследника.
Это доброе решение так благотворно повлияло на старого Кондоро, что из человека, всегда недовольного, раздражительного, сурового, он сделался вдруг очень общительным и мягким в отношениях с людьми. Многие знакомые, избегавшие прежде его общества из-за его неприятного характера, были поражены этой переменой и не знали, чему ее приписать; Рикардо, хотя и довольный счастливым настроением своего господина, не переставал, однако, переживать за него, уверенный, что это не долго продлится.
«Теперь, — раздумывал он, — герцог надеется разыскать старого Арторо и добиться от него сведений о сыне; и какие сведения он получит? А если ребенок действительно умер?! Каково ему будет тогда? Что будет с ним?»
Герцог же, по-видимому, не хотел допускать этой возможности, напротив, он, казалось, был твердо убежден, что дукечито жив! Было ли это предчувствием, или он не хотел никак расстаться с надеждой, стараясь утешить себя, поддержать свои силы? Вероятно, он и сам не определил бы этого.
Не раз обращался он к Богу с горячей молитвой помочь ему найти сына, без которого не милы ему ни жизнь, ни богатства.
На другой день по возвращении в Мадрид он велел Рикардо навести справки о старом танцоре, побывать во всех балаганах странствующих фокусников и во всех увеселительных заведениях.
Рикардо исполнил в точности приказания своего господина и пошел прежде всего к заставе города, где устанавливали свои балаганы все странствующие артисты, но в одном из них показывали человека в два фута ростом, в другом — великана, в третьем — женщину с тремя руками, в четвертом помещался зверинец; были тут балаганы с индейцами, с фокусниками, предсказателями и акробатами. Рикардо останавливался возле каждого из них, читал все объявления на стенах и у входов в балаганы, смотрел все представления, расспрашивал фокусников, акробатов, нет ли в их труппах Арторо, и в конце концов, пробродив там чуть не весь день, узнал только, что Арторо не было в этих балаганах; один из фокусников сообщил ему, впрочем, что он знает старого танцора и что несколько недель тому назад он встретил его в Виттории, но куда он отправлялся дальше, этого он не знает, однако уверен, что его с дочерью нет в Мадриде, потому что иначе он, конечно, от кого-нибудь услышал бы об этом.
Из балаганов Рикардо вернулся домой и сообщил герцогу, что поиски оказались безрезультатными, затем, наскоро пообедав, он отправился искать танцора в других местах. Он заходил во все увеселительные заведения, зашел даже в цирк, где показывали дрессированных собак и обезьян, но все было напрасно, Арторо нигде не оказалось. И тут он встретил только одного жонглера, который тоже знал старого танцора и сказал, что его в Мадриде еще нет, что, по всей вероятности, он дает свои представления где-нибудь в окрестностях столицы. С этим известием и вернулся дворецкий к герцогу.
Беспокойство и нетерпение герцога возрастали с каждым днем, и, наконец, он отправился сам за справками во все полицейские управления Мадрида. Но и это ни к чему не привело. Ни в каких списках этих учреждений не значились ни Арторо, ни его дочь. Чиновники, весьма почтительно относившиеся к герцогу, сказали ему, что разыскивать странствующих артистов и фокусников весьма трудно, но если только означенный танцор появится в Мадриде, то его сиятельству об этом сразу сообщат.
Герцог в ожидании этого известия успокоился на несколько дней, но потом снова впал в нетерпение и начал придумывать, где и как продолжать ему розыски.
Рикардо, живший интересами своего господина, с таким же нетерпением жаждал найти, наконец, старого танцовщика. «Очень возможно, — думал он, — что Арторо действительно дает свои представления где-нибудь в окрестностях столицы, но вполне может быть, что он и в Мадриде, просто полиция об этом не знает». Герцог дал в газете объявление, что Арторо приглашается по важному делу в гостиницу «Три Короны». Но это приглашение осталось без последствий. Тогда Рикардо предложил герцогу попробовать еще одно средство.
— Что за средство, Рикардо? — спросил герцог нетерпеливо. — Говори же скорей.
— Ваше сиятельство, для таких розысков нужен человек, знающий все трущобы, имеющий много знакомых среди здешних обывателей, ему легче будет выследить Арторо!
— Ты знаешь такого человека? Есть у тебя кто на примете?
— Мне кажется, что для этого годен сеньор Оттон Ромеро, от которого мы хоть что-то узнали о дукечито, тот прегонеро, ваше сиятельство, который…
— По-видимому, он страшный пройдоха, Рикардо!
— Тем больше он нам подойдет!
— Гм! Пожалуй, ты прав! Можешь ты найти его?
— Я его приведу, если угодно вашему сиятельству!
— Хорошо. Попробуем воспользоваться им!
— Он знает, где искать таких людей, как Арторо, ведь он и сам принадлежал некогда к их числу, сам странствовал с разными труппами, ему известны все уголки, все трущобы в Мадриде, а именно там и нужно искать старого фокусника!
— Да, это верно. Передай ему, что я обещаю большое вознаграждение за труды, если только он сумеет найти Арторо! Хотя мне и противно видеть его, но я готов пересилить свое отвращение к нему!
— Я думаю, что он будет нам очень полезен!
— Приведи его скорее, — воскликнул герцог, в душе которого слова Рикардо пробудили вдруг полную уверенность, что добиться своей цели он может именно через ненавистного ему Оттона Ромеро. — Неизвестность хуже всего на свете, во что бы то ни стало и как можно скорей я хочу наконец узнать истину!
Старый дворецкий тотчас отправился к прегонеро и, застав его дома, предложил немедленно поехать к герцогу. Предложение это чрезвычайно удивило Оттона Ромеро, хорошо помнившего презрение, выказанное ему герцогом при последней их встрече. Но после короткого раздумья он изъявил готовность следовать за Рикардо, рассчитав, что ему, может быть, удастся извлечь какую-нибудь выгоду из предстоящего свидания. Поспешно одевшись в свое парадное платье, он отправился с дворецким в гостиницу «Три Короны», и там Рикардо провел его прямо в комнаты герцога, ожидавшего их с нетерпением.
Прегонеро низко поклонился старому гранду.
— Ваше сиятельство желали видеть меня? — сказал он. — Если я только чем-нибудь могу быть полезен сеньору герцогу, смею уверить, что недостатка в готовности с моей стороны не будет!
— Получили ли вы от сеньоры герцогини причитающиеся вам деньги? — спросил герцог.
— Получил все сполна, ваше сиятельство! Но прежде всего примите мою душевную благодарность за все ваши милости по отношению к бедному Клементо, которому, как я вижу, ваше сиятельство доставили самое беззаботное, счастливое существование!
В этот момент в комнату вошел слуга и доложил вполголоса герцогу о каком-то посетителе.
— Патер Антонио? Просите его немедленно, — воскликнул герцог радостно. Затем, обращаясь к прегонеро, сказал: — Подождите одну минуту, не уходите!
Прегонеро поклонился и отошел в сторону.
На пороге показался Антонио, и герцог пошел к нему навстречу с распростертыми объятиями. Прегонеро, взглянув на гостя, сразу узнал в нем человека, спасенного им от смерти на улице Гангренадо.
— Как я счастлив, что вижу вас наконец, патер Антонио, — сказал герцог, взяв его за руку и подводя к креслу. — Но что с вами, вы очень изменились! — продолжал старый гранд, глядя с участием на молодого человека.
— Я был болен, ваше сиятельство! Но, слава Богу, теперь все прошло, я поправился и поспешил исполнить обещание, данное вашему сиятельству!
— От души рад видеть вас, так как с первой минуты нашего знакомства я искренно полюбил вас и надеюсь, что вы не откажетесь быть моим советником и утешителем! Я уже говорил вам при первой нашей встрече, что желал бы видеть вас возле себя, так как нуждаюсь в нравственной поддержке, которую, я уверен, найду в вас! Скажите же, свободны ли вы теперь и можете ли располагать собой?
— Свободен, ваше сиятельство, и вполне могу располагать собой!
— И вы согласны остаться у меня в доме, остаться со мной? Но прошу вас, подождите одну минуту, я должен несколько слов сказать сеньору, — торопливо проговорил герцог, указывая рукой на прегонеро, поклонившегося в это время патеру с многозначительным видом, показывающим, что патер не может не узнать его, ибо он оказал ему слишком важную услугу.
Антонио, прежде не обративший на него внимания, только сейчас взглянул на эту массивную фигуру в глубине комнаты и, сразу узнав своего спасителя, быстро встал со своего места и подошел к окну.
— Кажется, я не ошибаюсь, — сказал он, — не вы ли спасли меня от злодеев на улице Гангренадо?
— Да, вы не ошиблись, это был я! — ответил прегонеро.
— Как я рад, что встретил вас наконец, и могу отблагодарить и вознаградить вас за вашу помощь! Этот сеньор, — продолжал Антонио, обращаясь к герцогу и указывая на прегонеро, — несколько недель тому назад спас меня от двух разбойников, напавших на меня в ту ночь, когда я возвращался в Мадрид, и уже сбивших меня с ног! Нет ни малейшего сомнения, что они покушались на мою жизнь и я был бы убит, непременно погиб бы, не вмешайся этот сеньор!
— Прекрасный поступок! — заметил герцог.
— Услуга не такая уж важная, — скромно возразил прегонеро, — мне не стоило больших усилий справиться с этими мошенниками! Но действительно, судьба вовремя привела меня тогда на улицу Гангренадо, так как сеньор, которого я не имел чести знать, сильно нуждался в помощи. Спасти его было нетрудно, но после я действительно оказался в затруднении, ибо избит он был жестоко, а время было ночное, все дома заперты. Да, к счастью, я вспомнил о салоне сеньоры герцогини, открытом и в три, и в четыре часа ночи, туда-то я и отнес патера.
— В дом сеньоры герцогини? — повторил герцог.
— Да, ваше сиятельство, я отнес его туда, там он нашел приют и уход, в чем очень нуждался; я позвал доктора, и, как вижу теперь, все обошлось благополучно! Очень рад видеть достопочтенного патера на ногах!
— А я приношу вам, сеньор, искреннюю благодарность за спасение моей жизни, — сказал Антонио, протягивая руку прегонеро, — и считаю своей первейшей обязанностью вознаградить вас за вашу помощь, без которой я должен был неминуемо погибнуть!
— Адрес мой известен сеньору Рикардо, — заметил прегонеро, указывая на стоявшего в углу комнаты домоправителя, и затем с великодушным видом, что выглядело чрезвычайно комично, прибавил: — Но прошу вас не думать о вознаграждении, это совсем не нужно!
— Я попрошу у вас позволения переговорить с сеньором, — вмешался герцог, обращаясь к Антонио, — я хочу дать ему одно поручение. Садитесь, пожалуйста, патер Антонио! Отпустив сеньора, я смогу поговорить с вами, а я очень нуждаюсь в этом и так давно жду этой минуты!
Антонио сел, а герцог, подойдя к Оттону Ромеро, вполголоса попросил его приложить все усилия, чтобы отыскать танцора Арторо, который должен быть или в Мадриде, или в его окрестностях, а найдя его, немедленно сообщить ему, герцогу, где именно тот находится.
Прегонеро обещал исполнить данное ему поручение и, поклонившись старому гранду и патеру, вышел в сопровождении Рикардо из комнаты. Герцог же сел напротив Антонио, и лицо его выражало такое удовольствие, что очевидно было: он действительно рад гостю!
— Наконец-то мы одни, патер Антонио! — начал он. — Я очень боялся, что вам что-нибудь помешает исполнить ваше обещание! Меня бы это сильно огорчило, так как я вас искренно полюбил и положительно чувствую потребность в вашей поддержке.
— Я боюсь, ваше сиятельство, не оправдать ваших надежд, боюсь, что не в силах буду дать вам те советы и то утешение, которых вы ждете от меня. Я, как говорил вам уже, вышел из монастыря, официально я уже не принадлежу к духовенству.
— Все это я знаю, но вы остаетесь тем же патером Антонио, каким были в монашеской рясе, тем же истинно религиозным человеком, с благородными, высокими принципами и убеждениями, человеком в высшей степени симпатичным, доверясь которому, я смогу облегчить свою измученную душу! Какой-то внутренний голос говорит мне, что в вас я найду отраду, утешение, нравственную поддержку в те немногие дни, которые мне осталось прожить на свете!
— Ваши слова трогают меня до глубины души, и я хочу одного: оказаться вполне достойным вашего доверия, которого я еще ничем не заслужил!
— Да, вы оправдаете все мои надежды, патер Антонио. Я не из тех людей, что легко увлекаются, а потом ни с того ни с сего охладевают в своих чувствах и симпатиях, — сказал герцог. — Я нелегко схожусь с людьми, вообще я очень недоверчив и далеко не филантроп и не оптимист! И к вам я привязался не без основания, меня привлекло спокойное достоинство, благородство ваших принципов и убеждений, высказанных вами с такой простотой, что сомнения в их истинности и быть не может! Но довольно слов! Вы видите, как я отношусь к вам, теперь мы более не будем об этом говорить.
— Я пришел к вам как для того, чтобы исполнить мое обещание, так и для того, чтобы сообщить вашему сиятельству о местопребывании танцора Арторо, которого вы тогда искали!
Герцог вздрогнул.
— Как, вы знаете, где он находится?
— Да, я знаю и очень доволен, что могу порадовать вас известием, имеющим для вас такое важное значение!
— Оно для меня важнее всего на свете, патер Антонио! Говорите скорее, где он?
— Арторо и его дочь Хуанита дают свои представления в салоне герцогини, — сказал Антонио, еще не знавший, что эта герцогиня — бывшая жена герцога.
Старый гранд, видимо, испугался при этом известии.
— В салоне герцогини? — переспросил Кондоро. — Значит, она заманила-таки его к себе?
— Да, Арторо и Хуанита дают у нее свои представления!
— Вы, ошибаетесь, патер Антонио! Ни в объявлениях салона герцогини, ни в полицейских реестрах танцор Арторо не значится!
— Это ничего не значит, ваше сиятельство, я вам ручаюсь, что дочь и отец находятся у герцогини! Арторо показывается на сцене изящного салона герцогини под новым именем, чтобы скрыть свое балаганное прошлое, так как до сих пор он выступал только на ярмарках и в балаганах маленьких городков, теперь он называется Раменом Ребрамуро, а дочь его известна под именем Алисии.
— И вы сами видели их и узнали?
— Я видел их и говорил с ними, ваше сиятельство! Арторо и его дочь ухаживали за мной во время моей болезни, когда этот сеньор, вырвавший меня из рук злодеев, принес меня в дом герцогини!
— Так это он, действительно он, Арторо! — воскликнул герцог, вскочив со своего места с легкостью юноши. — К нему, скорей к нему! Я должен сейчас же его видеть и говорить с ним! Но нет, — вдруг остановился он, впадая в раздумье, — нет, так нельзя. Нужно это сделать как-то иначе; пожалуй, так недолго все дело испортить!
— Вы, вероятно, ваше сиятельство, находите неловким для себя появиться в салоне герцогини, не так ли? Не могу ли я исполнить ваше поручение и переговорить от вашего имени с Арторо?
— Нет, нет! Я должен видеть его и говорить с ним лично. И мне бы хотелось так устроить это, чтобы никто не слышал нашего разговора, чтобы никто не знал о моем свидании с ним! Я должен говорить с ним о таких важных вещах, о которых можно говорить только с глазу на глаз и которых никто не должен знать! Но я сгораю от нетерпения его видеть, помогите мне найти способ устроить наше свидание, так чтобы герцогиня не знала о нем! Постойте, кажется, мне пришла хорошая мысль. Ведь завтра или послезавтра в салоне герцогини будет маскарад, и мы отправимся туда с вами, патер Антонио, в масках. В этой суматохе я найду, вероятно, возможность поговорить с Арторо! Да, славная мысль, сделаем так, почтенный патер, и, может быть, после этого разговора вы увидите меня счастливейшим человеком!
XIV. Пуисердские женщины-героини
Наутро после ночного переполоха в доме майора Камары карлисты вдруг совершенно неожиданно атаковали маленькую крепость. С раннего утра до обеда земля дрожала от пушечных выстрелов.
Осажденные ответили тем же, и пока они осыпали осаждающих ядрами, принц сумел беспрепятственно вернуться к своим войскам, выбравшись из города с другой стороны. Это внезапное нападение, осуществленное отрядом под командованием Изидора Тристани, было предпринято именно для того, чтобы помочь дону Карлосу выбраться из города и вернуться в лагерь.
Но когда цель была достигнута и принц благополучно покинул крепость, карлисты решили продолжить возведение батарей и другие осадные работы. И все же маленькое войско, защищавшее крепость, отбросило карлистов назад с большой потерей для них; множество убитых и раненых оставили они на поле сражения. Храбрые защитники покрыли себя славой, особенно блестяще действовала их артиллерия!
Около полудня карлисты удалились. Пушечные выстрелы замолкли, в городе наступили тишина и спокойствие.
Неприятельские ядра причинили мало повреждений, так как только небольшая часть их попала в город. Не было разрушено ни одного дома, убитых не оказалось, были только раненые. Вообще эта первая попытка кар-листов овладеть маленькой крепостью оказалась неудачной и пробудила энергию и мужество в осажденных.
В семействе майора неожиданное нападение произвело страшное беспокойство и волнение. Пока майор, деятельно участвовавший в защите города, не вернулся домой, женщины не находили себе места, опасаясь за его жизнь и забыв все прочие свои горести и несчастья.
Когда он пришел к обеду, они бросились к нему со слезами радости и благодарили Бога за то, что удалось отразить первое нападение неприятеля, а потом с любопытством принялись расспрашивать обо всех подробностях. Старый Камара, принявший на себя командование несколькими батареями и распоряжавшийся чрезвычайно удачно, с удовольствием рассказывал о блестящих действиях артиллерии.
Инес, хотя и чувствовала себя несколько слабой и утомленной после ночного припадка, находилась все же в удовлетворительном состоянии. Неясно сознавая, что с ней случилось и узнав наконец от тетки о своих похождениях, она заплакала с горя, что причиняет столько беспокойств своим старым родственникам. Но сеньора Камара отнеслась к ней с такой нежностью и любовью, проявила к ней такое материнское участие, что девушка успокоилась.
Майор был уверен, что важные события в городе разгонят мало-помалу мрачные мысли бедной племянницы и она забудет о своем несчастье.
После обеда он снова отправился в крепость, чтобы проследить за исправлением некоторых повреждений, произведенных неприятельскими снарядами. Когда же все было исправлено, комендант крепости пригласил его на военное совещание вместе с прочими офицерами, так как предстояло принять серьезные меры для защиты города от предпринятых карлистами осадных работ. Майор советовал сейчас же начать палить из пушек, чтобы помешать им. Совет этот был принят, и крепостные пушки к вечеру загрохотали.
Жители города, сидя в своих домах, горячо молили Бога спасти их от нашествия врага, зная, что тот не только может разрушить весь город огнем и мечом, но не пощадит ни детей, ни женщин, ни стариков.
Все понимали, что если неприятель ворвется в город, он принесет разрушения, отчаяние и смерть. Матери прижимали к груди своих младенцев, старики вдохновляли своих взрослых сыновей на защиту города, дети плакали от грома пушечной пальбы, а в окнах домов дрожали и звенели стекла. И когда среди всеобщего уныния загудели колокола, призывая к вечерней молитве, храмы немедленно наполнились народом.
Такое напряженное состояние продолжалось несколько дней, ни одной ночи жители не спали спокойно, ожидая, что вот начнется обстрел, что ворвутся неприятели и зажгут их дома, будут грабить и убивать.
Действительно, через три-четыре дня после первой неожиданной атаки разнесся слух, что в предместье города уже упало несколько неприятельских снарядов. Отчаяние и страх сменили беспокойное ожидание опасности. Вскоре в крепости от снарядов, попавших в склады, вспыхнул пожар. Большинство мужчин находились на городских валах или в казармах, и пожар принялись тушить женщины.
Пушки, не умолкая, грохотали с обеих сторон.
Осаждающие близко подступили к городу. Никто не осмеливался отправиться из города к крепостным стенам, как никто и оттуда не ходил больше в город. Между тем ничего не было слышно о приближении каких-нибудь дополнительных войск и не было никакой надежды на подкрепление, поскольку правительственные войска были заняты в нескольких местах, тоже осажденных, и к тому же путь из Пуисерды был перекрыт со всех сторон и не было никакой возможности послать уведомление об опасности, грозящей крепости. У бедного города не было надежды на спасение. Карлисты не только сделали окопы и траншеи, но поставили даже башни, из которых могли наблюдать за последствиями своих выстрелов.
Однажды, с наступлением вечера, один отряд неприятельских войск двинулся с фашинами и штурмовыми лестницами к западной стене города, между тем как главные силы под прикрытием непрерывно паливших пушек отправились к востоку. Но осажденные встретили их таким убийственным огнем, что после нескольких отчаянных попыток прорваться карлисты вынуждены были отступить назад.
Впрочем, на этот раз их снаряды причинили большой ущерб, в нескольких местах начались пожары, которые отважно тушили женщины, а если не успевали тушить, то, по крайней мере, удерживали разрушительное действие огня. Когда карлисты отступили от городских стен, мужчины, измученные и уставшие, все же успели потушить огонь.
После горячего сражения в городе наступила мертвая тишина. Опасность миновала, но надолго ли?
Часть осажденных отправилась на отдых, другая — осталась в карауле.
Разбитые ядрами обгорелые дома приводили жителей в уныние! «Если осадное положение продлится долго, — толковали они между собой, — и если правительственные войска не явятся к нам на помощь, скоро весь город превратится в развалины. Сможем ли мы тогда устоять против неприятеля, силы которого увеличиваются с каждым днем?».
Сеньора Камара была в постоянном страхе и волнении, никакие увещевания мужа на нее не действовали.
Инес была совсем подавлена своим горем, хотя перед теткой она старалась скрывать его, чтобы еще больше не огорчать бедную старушку. Но Амаранту она не могла обмануть, та прекрасно видела, как страдает ее подруга! Да и могло ли быть иначе? Ей на долю выпало двойное горе: обвинение отца в страшном, ужасном деле и его исчезновение.
Что могло успокоить, облегчить ее страдания? Только известие о пропавшем! Но как было ожидать его в Пуисерде, в этом местечке, отрезанном войсками карлистов от остального мира! Беспокойство ее росло с каждым днем, и неизвестность мучила ее все больше и больше! Она бы с радостью уехала в Мадрид, чтобы попытаться отыскать отца, узнать что-нибудь о нем, а может быть, и увидеть его, если не живым, то хоть мертвым; поклониться его праху, помолиться за его душу! Но и это было невозможно, у нее, как и у всех других жителей Пуисерды, не было возможности выбраться из осажденного города!
После непродолжительного перерыва карлисты снова начали обстреливать город.
Очевидно, они решили взять его во что бы то ни стало и были уверены, что сопротивление не может продолжаться долго. Дон Карлос не ошибся, поручив Изидору Тристани руководить осадой! Можно было не сомневаться — он не отступит, не достигнув своей цели, да и бороться ему было легко, под командой его было войско в шесть тысяч человек. Могла ли плохо укрепленная крепость устоять против войска, которым командовал такой упорный человек, как Тристани, тем более что у осаждающих с каждым днем все увеличивалось число орудий?
Изидор снова послал в крепость парламентеров, угрожая превратить город в развалины, если крепость не сдадут добровольно. В случае же капитуляции он обещал пощадить пленных, но осажденные, зная, что этим обещаниям верить нельзя, что их всех от малого до старого ждет смерть, наотрез отказались от сдачи, заявив парламентерам, что они лучше умрут под развалинами Пуисерды, чем сдадутся в руки разбойникам, навлекшим на себя проклятие всей Испании!
Такого ответа Тристани не ожидал и пришел в страшную ярость.
— Ну так мы дадим им себя знать, за этот ответ они жестоко поплатятся! — воскликнул Изидор. — Клянусь вам, — прибавил он, обращаясь к своим подчиненным, — не оставить камня на камне в городе, как только он будет в наших руках. Не оставить в живых ни одного человека из осажденных! Нынешней же ночью обложим их со всех сторон и откроем огонь!
Солдатам же по взятии Пуисерды он обещал в течение двух дней предоставить полную свободу грабить город, прибавив, что они будут вполне удовлетворены, так как там много богатств.
Тристани лгал, говоря о богатствах Пуисерды, но, хорошо зная своих солдат, он верно рассчитал, что надежда на богатую добычу удвоит их мужество и энергию.
С наступлением вечера началась страшная пальба, пули и ядра со свистом понеслись к стенам несчастного города! Земля и небо дрожали всю ночь от непрерывного огня.
На следующий день этот адский грохот несколько утих, а к вечеру опять засвистели снаряды, опять застонала земля от взрывов; осаждающие увидели, что в городе запылало вдруг несколько домов. Пламя быстро распространялось, и Тристани, рассчитывая, что пожар должен вызвать смятение в городе, распорядился, чтобы один из отрядов для вида бросился на приступ крепости с одной стороны, а сам с главными силами устремился к валам с другой стороны.
С помощью фашин и штурмовых лестниц большая часть карлистов успела влезть на стены, но защитники бросились в атаку. Завязалось ожесточенное сражение, на помощь гарнизону кинулись жители города, так что на валах возле пушек осталось совсем немного людей. Тогда к орудиям бросились пуисердские женщины и девушки, они помогали мужчинам заряжать пушки, таскали снаряды и не теряли отваги, хотя ядра проносились порой прямо над ними. Дикие крики неприятелей, доносившиеся до них, не лишали их мужества, напротив, придавали им энергию отчаяния.
Сражение становилось все ожесточеннее, ядра градом сыпались на город, неся смерть и разрушения. Осажденные сознавали, что эта ночь все решит, что они должны сражаться или умереть, что спасти их может только победа над неприятелем. И они дрались с отчаянием, с ожесточением!
Как в сражении перед городскими стенами, так и на валах счастье улыбалось попеременно то карлистам, то осажденным. В некоторых местах осажденным удавалось отбросить нападавших, в других местах теснили их.
Но силы неприятеля были неизмеримо больше, и только ожесточение и отчаяние защитников крепости поддерживало их в этой неравной борьбе и даже иногда склоняло чашу весов на их сторону.
Заунывный звон набатного колокола, плач детей, стоны раненых и крики сражающихся, оглашая воздух, еще больше усиливали отчаяние осажденных. Но отчаяние это не было пассивным, оно толкало их на упорное сопротивление, даже женщины не стонали и не плакали, а повсюду отважно помогали мужчинам!
Улицы были ярко освещены заревом пожаров, и женщины, вытаскивая из домов детей и стариков и отводя их в храмы, бросались тушить огонь. Мало-помалу все храмы заполнились беспомощными жителями Пуисерды, а также ранеными и убитыми, которых относили туда героини-женщины. Между тем как старики и старухи, стоя на коленях, усердно молились, дети, узнавая среди умирающих или умерших своих отцов или братьев, бросались к ним с криком и плачем. А сражение все продолжалось. Пушки грохотали, смертоносные орды дона Карлоса под предводительством кровожадного Изидора, встречая везде энергичный отпор, рвались к городским стенам, но пока нигде не смогли прорваться в город, который, по-видимому, ждала неминуемая гибель!
XV. Падение Гардунии
Расскажем теперь о том, каким образом правительству удалось раскрыть тайное общество, распространившееся по всей Испании.
Деятельность братства Гардунии так усилилась в последние годы, грабежи стали повторяться так часто, и грабили не только частных лиц, но и учреждения, располагавшие огромными суммами, причем делалось это так ловко и искусно, что правительство начало подозревать, что все эти грабежи связаны между собой и совершаются не отдельными лицами, а хорошо организованным обществом; подозревая это, правительство старалось обнаружить следы такого общества и разыскивало его самым усердным образом, но, не найдя ни малейших признаков его существования, пришло к заключению, что его действительно нет. Случаи грабежей и воровства, повторяющиеся все чаще и чаще, стали расценивать как следствие усиливающейся испорченности общества, и мало-помалу как само правительство, так и население смирились с этим плачевным положением дел. Прежде чем в грабежах, совершаемых в разных провинциях, снова заметили систему и одну руководящую руку, прошли годы. Навели на эту мысль только убийство старого Моисея и разорение маркиза де лас Исагас, которого обокрал его управляющий Балмонко, продавший все его имения и скрывшийся с деньгами так, что и следов его не нашли.
По показаниям менялы Захарии суд пришел к заключению, что Моисея убил не кто иной, как чиновник Бартоло Арко, некогда служивший в банке города Толедо. Сразу вспомнили о громадных суммах, украденных в этом банке. Стало ясно, что и это воровство — дело его рук. Но поскольку он тоже скрылся, как и Балмонко и, несмотря ни на какие розыски, его не могли найти, то пришли к заключению, что оба они принадлежат к могущественному обществу, которое помогло им скрыться. Тогда-то со всех сторон и заговорили, что Гардуния не умерла, что братство это живет и что это его злодеяния.
После этого пришли известия из Картахены — города, разоренного сражениями против коммунаров, — что и там существовала какая-то тайная партия, которая, присоединившись к недовольным, участвует в войне, преследуя свои цели. Тогда исчезли последние сомнения в существовании Гардунии. и правительство разослало по всем главным провинциальным городам чиновников, поставив перед ними цель — во что бы то ни стало обнаружить следы этого общества.
Что затрудняло все эти расследования, так именно то обстоятельство, что как Бартоло Арко, так и другие преступники, подозреваемые в принадлежности к Гардунии, легко укрывались на севере, вступая в войска карлистов, а там правительственная власть не имела никакой силы и производить розыски не представлялось возможным.
Но вдруг неожиданный случай помог обнаружить эти ускользавшие столько лет следы Гардунии.
В мадридский суд было прислано из Толедо анонимное письмо, сообщавшее, что давно разыскиваемый правительством Бартоло Арко будет в такой-то день в доме алькальда, который на днях должен быть назначен начальником Толедо вместо недавно убитого кабальеро Альфанти. Письмо было написано, очевидно, одним из членов общества, считавшего себя обиженным или по какой-то причине пожелавшего порвать с ним.
Получив это уведомление, правительство сразу же тайно поручило одному ловкому следователю по уголовным делам осторожно арестовать Бартоло Арко, если полученное письмо не мистификация, и вместе с тем постараться раскрыть участие алькальда в тайном обществе.
Перед приездом этого чиновника в Толедо там только что был убит один из богатейших граждан города. Его нашли с разбитым черепом на безлюдной площади, около старого развалившегося храма.
Он возвращался домой поздно вечером, и, как видно, нападение было совершено неожиданно, он был убит ударом по голове.
Известие об ужасном происшествии разнеслось утром по всему городу, было организовано следствие, которое показало, что убийство совершено не с целью грабежа, так как ни деньги, ни часы не были взяты.
В тот самый день, когда это известие разнеслось в Толедо, туда прибыл следователь, присланный из Мадрида, и принял участие в следствии по этому делу.
По сведениям, собранным следственной комиссией, оказывалось, что убитый был богатым человеком, что незадолго до убийства он купил имения маркиза де лас Исагас, проданные ему поверенным маркиза, Балмонко. Чиновник, приехавший из Мадрида, на основании этого последнего обстоятельства сейчас же опечатал весь дом и бумаги покойного. Эта благоразумная мера привела к самым неожиданным результатам!
При просмотре бумаг были найдены письма, написанные рукой покойного, почерк при сравнении оказался тем же, что и в анонимном письме. Это заставляло думать, что он был убит по распоряжению начальников общества, узнавших о его предательском письме или имевших основание опасаться такого поступка с его стороны.
Затем были найдены еще некоторые бумаги, по большей части написанные шифром, доказывающие, что убитый сам принадлежал к Гардунии и, по-видимому, надеялся стать одним из высших членов общества.
Когда же, против ожиданий, на вакантное место толедского начальника был назначен не он, а человек, занимавший пост алькальда в Толедо, он оскорбился и написал анонимное письмо, решив отомстить обществу, и тогда оно наказало его смертью за предательство.
Вдова покойного на допросах показала, что ни о делах своего мужа, ни о его связях она ничего не знает, так как он никогда с ней не говорил о них.
Но ей не поверили на слово и, прежде чем объяснить, в чем именно заключались эти дела, продолжали допрашивать.
Все следствие велось так осторожно и так тайно, что результаты его не были никому известны, кроме самих следователей.
Однако, несмотря на все старания, следственная комиссия не могла напасть на след убийц, не могла дознаться, кем было совершено убийство. Алькальд, от которого были скрыты как обыск, сделанный в доме убитого, так и сведения, добытые этим путем, проявлял большое усердие в розыске убийц, и хотя за каждым его шагом следили, он вел себя чрезвычайно осторожно и не давал ни малейшего повода подозревать его в принадлежности к тайному обществу.
Мадридский чиновник, принявший на себя ведение этого дела, не хотел принимать никаких мер против алькальда до указанного в анонимном письме дня, когда у него должен был появиться Бартоло Арко.
Между тем он получил из Мадрида новые полномочия, которые давали ему право беспрепятственно арестовать этого сановника, пользовавшегося в Толедо всеобщим уважением.
Никто в городе не подозревал, что он мог иметь какие-то отношения с Гардунией или с каким бы то ни было тайным обществом. Если бы не письмо, написанное покойным, правительству никак бы не удалось напасть на след этой разбойничьей шайки, так долго остававшейся неуловимой, действующей при этом все более и более дерзко.
Но вот наконец наступил день, указанный в письме. Алькальд продолжал, по-видимому, усердно искать убийц, но, разумеется, все эти поиски и старания оставались безуспешными.
Дождавшись вечера, мадридский следователь окружил незаметно дом алькальда полицейскими чиновниками, на которых мог вполне положиться, и около полуночи один из них явился к нему с донесением, что в дом вошел человек, плотно запутанный в плащ.
Следователь с несколькими солдатами отправился к дому и, расставив часть из них у всех входов, сам в сопровождении остальных прошел во внутренние почкой.
Подойдя к дверям комнаты, где находился алькальд со своим гостем, и найдя их запертыми, он громко постучал. Никто не отвечал, в комнате царило глубокое молчание.
— Именем закона, — произнес он, — приказываю немедленно открыть!
Ответа опять не последовало. Тогда он велел солдатам выломать дверь, что сейчас же и было исполнено, но в комнате никого не оказалось; впрочем, не более чем через минуту на пороге показался алькальд, вышедший из соседней комнаты.
— Что это значит? — воскликнул он с грозным видом и, узнав стоящего перед ним следователя, прибавил надменным тоном:
— Как вы осмелились ворваться ко мне?
— Я получил приказание, сеньор, арестовать вас и советую покориться этой необходимости и не вынуждать меня к принятию насильственных мер!
— Где этот приказ? — воскликнул алькальд, бледнея от гнева.
Чиновник подал ему приказ, полученный из мадридского суда.
— Кроме того, я должен просить вас, сеньор, — продолжал следователь, — выдать человека, пришедшего к вам около часа тому назад.
— Это возмутительное насилие! Тут кроется какое-то недоразумение! Но клянусь вам, что виновник этого не заслуженного мною унижения будет строго наказан!
— Повторяю вам, сеньор, что вы должны подчиниться этому приказу, от исполнения которого я не отступлю, и еще раз прошу выдать вашего гостя!
— Но вы видите, что у меня нет никакого гостя, то есть, если кто-либо и входил в мой дом, то теперь его уже нет!
— Извините, сеньор, — ответил следователь, — выйти из дома никто-де мог, потому что дом окружен полицией уже несколько часов, у всех входов расставлена стража!
— Как! Мой дом оцеплен полицией!? — воскликнул в бешенстве алькальд. — Вы поплатитесь за эту дерзость!
— Прошу вас не забывать, сеньор, что я только исполняю свои обязанности! А чтобы доказать вам, что ваше запирательство ни к чему не ведет и ложь ваша напрасна, я скажу вам даже имя человека, вошедшего в ваш дом, — это Бартоло Арко, преступник, которого давно разыскивает полиция, чтобы передать в руки правосудия!
Алькальд сильно побледнел.
Он хотел было что-то сказать, но на первом же слове остановился, увидев, что альгвазилы вводят в комнату человека со связанными сзади руками.
— Он сопротивлялся, у него был кинжал, — сказал один из стражников, указывая на арестованного, стиснувшего зубы от злости, — и мы вынуждены были связать его!
— Итак, это действительно Бартоло Арко! — сказал следователь, узнав преступника, которого так давно разыскивало правительство. Обращаясь затем к алькальду, он прибавил: — Теперь, надеюсь, вы не будете отпираться, что укрывали человека, осужденного законом?
— Я совсем не знаю этого человека! Не знаю, преступник он или нет! — воскликнул в бешенстве алькальд. — Я требую справедливости, я требую, чтобы мне наконец объяснили, в чем меня обвиняют, что дает право на такое обращение со мной?
— Вот объяснение, которого вы требуете, — сказал следователь, вынимая из кармана и подавая ему анонимное письмо, написанное покойником, в котором говорилось о прибытии в его дом Бартоло Арко и о назначении его толедским начальником от тайного общества. — Теперь мне остается опечатать ваши бумаги и отвезти вас в Мадрид! Ваш товарищ, обвиняемый в убийстве и хищениях, тоже отправится в Мадрид, но в цепях и колодках!
При этих словах алькальд, очевидно, потерял присутствие духа, его самоуверенный и надменный вид исчез. Увидев неопровержимые улики, находящиеся в руках следователя, он понял, что запираться бесполезно и что он погиб безвозвратно.
Забыв всякую осторожность и благоразумие, он бросился было к арестанту, желая что-то шепнуть или передать ему, но следователь тотчас пресек эту попытку, получив в ответ злобный взгляд, ясно выражавший, что обличенный сановник готов был растерзать его на части, как дикий зверь.
Затем следователь велел отвести алькальда в соседнюю комнату, а Бартоло Арко — в тюрьму, и обоих держать под строжайшим караулом. Алькальд подчинился требованию чиновника, не возразив больше ни слова: Бартоло Арко немедленно был препровожден в надежную тюрьму, после чего следователь принялся обыскивать дом и рыться в бумагах, среди которых нашел множество неопровержимых доказательств того, что алькальд действительно был членом Гардунии. К несчастью, во всех этих бумагах не значилось имен остальных членов общества, но зато они обличали организацию столь тонкую, что, несмотря на ее многочисленность, несмотря на ее преступную деятельность, распространившуюся по всей стране, она оставалась незамеченной десятки лет, организацию, совершенство которой приводило в изумление самых опытных криминалистов, перед которой прежняя Гардуния казалась грубой и бессильной.
Теперь оставалось только узнать имена начальников общества, находившихся в разных провинциях и городах, и имя его главы, так называемого принципе.
Бартоло Арко и алькальд были на другой же день тайно переправлены в Мадрид, где суд немедленно принялся за рассмотрение этого интересного дела, но по-прежнему без всякой огласки, принимая все меры для сохранения его в тайне. Из бумаг алькальда, привезенных следователем, было видно, что генерал карлистских войск Доррегарай тоже принадлежит к Гардунии, это явствовало из его писем, в которых он уведомлял, что не желает больше принадлежать к обществу и оставляет его.
Суд не торопился выносить приговор Бартоло Арко, обвиняемому как в убийстве старого Моисея, так и во многих других преступлениях, обещая смягчить наказание, если он назовет главных членов общества. Мера эта оказалась действенной, и скоро он дал все требуемые от него показания. Правительство, узнав наконец имена всех начальников, распорядилось в тот же день немедленно арестовать их.
Все они, почти без исключения, попались, только принципе удалось избежать общей участи и ускользнуть от рук правосудия. Когда полиция окружила его дворец, с тем чтобы взять его, там его не оказалось, он был в отъезде, но где именно, никто из прислуги, разумеется, сообщить не мог. Правительственные власти дали предписание полиции стеречь его возвращение и никого не выпускать из дворца. И все же один преданный слуга сумел уйти и предупредить своего господина о случившемся, и таким образом граф Кортецилла спасся от преследования, пропав без вести.
В это самое время в Мадриде было получено известие от Доррегарая, в котором он объяснял, что хотя он и служит другому правительству, но готов передать преступника Балмонко в руки правосудия, что это будет лучшим доказательством того, что он сам не принадлежит к обществу Гардунии. Несомненно, этот хитрый лис, проведав каким-то образом о положении дел, поспешил открыто заявить, что не имеет ничего общего с этим ужасным братством, дававшим ему некогда огромные выгоды. Через несколько дней от него было получено еще письмо, в котором он объяснял, что во избежание всяких затруднений он приказал застрелить Балмонко и некоторых других членов общества.
Все попытки отыскать графа Эстебана де Кортециллу оставались тщетными. Вскоре разнеслись слухи, что он лишил себя жизни. Но и это ничем не подтверждалось, так как тело его не было найдено.
Мы оставили его, как читатель, вероятно, помнит, в то время, когда он пришел искать убежища в салоне герцогини, своей матери, где встретился с Антонио и нашел в нем утешителя и исполнителя своей последней воли.
Эстебан де Кортецилла, этот серьезный, строгий человек, этот миллионер, богатству которого многие завидовали, а теперь — преступник, искавший убежища у герцогини, чтобы только спокойно умереть, возбудил в душе Антонио такое глубокое сострадание и участие, что, как ни тяжело ему было помогать скрываться от правосудия главе общества грабителей и разбойников, он решил, однако, сделать это, не оставлять графа до последней минуты и приложить все силы, чтобы, спасти его, если возможно.
Патер отвел его в комнату, которую занимал перед тем сам, и позаботился обеспечить ему то спокойствие, в котором так нуждался умирающий преступник, сам ухаживал за ним, стараясь облегчить страдания, вызванные ядом, который все не приносил смерти.
И Сара, и Антонио вполне сознавали опасность, которой подвергали себя, укрывая графа, но ни тот, ни другой не колебались ни минуты, чтобы помочь несчастному. Они приняли все меры предосторожности, чтобы не выдать присутствия в доме опасного гостя.
Прошла ночь, и Кортецилла, проспав несколько часов, утром почувствовал себя лучше. Вероятно, он принял недостаточное количество яда, или яд утратил свою силу за долгие годы хранения. Антонио, заметив при пробуждении графа, что опасность миновала и попытка отравиться не удалась, начал уговаривать его отказаться от мысли о самоубийстве! Сара Кондоро тоже советовала ему искать спасения не в смерти, а в бегстве; она уговаривала его отправиться по другую сторону океана и там начать новую жизнь.
Эстебан де Кортецилла долго оставался в нерешительности, долго обдумывал свое положение и наконец, обратившись к Антонио с просьбой передать Инес его прощальный поклон и отцовское благословение и поблагодарив его и Сару за предоставленное ему убежище и помощь, простился с ними и ушел, никем не замеченный и не преследуемый.
Сара Кондоро наконец вздохнула свободнее, благополучно отделавшись от опасного жильца. Ей казалось, что у нее гора свалилась с плеч. После его ухода она зашла в комнату, где несчастный нашел убежище, и, застав там Антонио, сказала ему, что, вероятно, он ушел с намерением отправиться за границу под чужим именем. Сам же Кортецилла не сказал ни слова ни ей, ни Антонио о своих планах, и что стало с ним — так и осталось неизвестным.
Таким образом, граф Кортецилла ушел от ответственности за свои преступления, между тем как все прочие начальники, все высшие члены Гардунии были арестованы и препровождены в Мадрид.
Начался наконец процесс. Следствие, допросы тянулись очень долго, и мало-помалу все злодеяния этого многочисленного общества, распространенного по всей Испании, вышли наружу, и виновники их понесли заслуженное наказание.
Некоторые начальники были приговорены к тюремному заключению на разные сроки, в зависимости от степени их вины. Одни из них попали в тюрьмы Испании, другие были отправлены в колонии. Убийца же Моисея и те, кто тоже был замешан в убийствах, приговорены к смертной казни.
Бартоло Арко выслушал хладнокровно свой приговор, идаже когда под конвоем отправился с прочими осужденными во двор городской тюрьмы, где должна была состояться казнь и где прегонеро, новый палач, ожидал его, стоя у эшафота, на лице его не выразилось ни страха, ни тревоги.
В тюремном дворе посторонних было немного, так как туда пропускали только лиц, приглашенных судебными властями в качестве свидетелей.
Все осужденные были поставлены в ряд. Бартоло Арко сохранял спокойствие и хладнокровие все то время, пока шла казнь его товарищей. Но когда наконец очередь дошла до него, он сильно побледнел и упал без чувств; помощники палача вынуждены были на руках отнести его на эшафот.
Смерть старого Моисея была наконец отомщена, голова его убийцы, отрубленная топором нового палача, покатилась на песок. Казнь злодеев свершилась. Преступления их не остались безнаказанными!