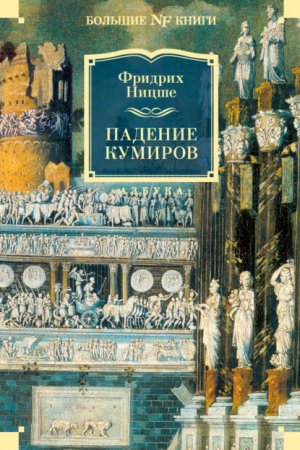
© М. Ю. Коренева, перевод, 1993
© С. А. Степанов, перевод стихотворений, 1993
© В. Л. Топоров (наследник), перевод стихотворений, 1993
© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023
Издательство Азбука®
Веселая наука
(«La Gaya Scienza»)
Из книги «Ecce Homo»
«Утренняя заря» – книга утверждающая, в ней есть глубина, но вместе с тем – свет и добро. То же самое, но с еще большим основанием можно сказать и о «Gaya scienza»: почти в каждой ее фразе глубина мысли сочетается с шаловливой легкостью – мудрость и резвость идут рука об руку как нежные друзья. Стихи, исполненные чувства благодарности к самому прекрасному месяцу – январю (вся книга его подарок), открывают те самые глубины, в которых рождается та искрящаяся радость, что делает «науку» веселой:
Сбудутся ли те чаяния, о которых говорится здесь, – в этом может сомневаться лишь тот, кто не заметил, как засверкала в конце четвертой книги алмазная красота слов, сказанных Заратустрой в самом ее начале! Кто пропустил гранитные строки в конце третьей книги, из которых впервые сложились формулы, способные вместить в себя судьбу всех времен? Песни принца Фогельфрая, большая часть которых была написана на Сицилии, призваны напомнить о понятии, родившемся в Провансе, – о «gaya scienza», о том единстве певца, рыцаря и вольнодумца, которое отличало чудесную раннюю культуру провансальцев от всех прочих двусмысленных культур; взять хотя бы стихотворение «К Мистралю», представляющее собой настоящую плясовую, необузданная стихия которой увлекает прочь от морали, заставляя – уж извините – просто забыть о ней, – вот совершенный образец провансальского духа.
Эта книга требует, вероятно, нескольких предисловий, но и тогда нельзя быть уверенным в том, что все эти предисловия могут хоть как-то облегчить понимание тех мыслей, чувств, которые вложены в нее, если человек сам не пережил нечто похожее. Она словно написана языком весеннего ветра: в ней есть высокомерие, беспокойство, противоречия, апрельская тревожность, когда все еще напоминает о близости зимы, но в то же время уже чудятся предвестники победы над зимой, победы, которая уже не за горами, она придет, непременно придет, а может быть, уже пришла… Нескончаемы благодарственные излияния, как будто только что произошло нечто совершенно неожиданное, благодарность выздоравливающего – ибо именно выздоровление и было той ошеломляющей неожиданностью. «Веселая наука»: это сатурналии духа, который терпеливо переносил невыносимо долгий гнет, – терпеливо, строго, хладнокровно, не сдаваясь, но и не лелея больших надежд, – и вот теперь в мгновенье ока преобразился, почувствовав прилив надежды, надежды на окончательное выздоровление, почувствовав пьянящий вкус выздоровления. И нет ничего удивительного в том, что тут встречаются какие-нибудь сумасбродные проделки и милые дурачества, ибо много здесь и шаловливой нежности, которая достается даже тем проблемам, которые не любят близко подпускать к себе и ощетинившись встречают любую попытку приласкать и приручить их. Вся эта книга и есть не что иное, как веселое развлечение после долгого воздержания, бессилия, ликование возвращающейся силы, очнувшейся ото сна веры в завтра и послезавтра, острого чувства будущего, предчувствия его, предчувствия грядущих приключений, и распахивающихся морских просторов, и новых целей, которые теперь дозволены, в которые теперь снова можно верить. А сколько всего у меня позади – эта жизнь как в пустыне, изнеможение, неверие, оцепенение в расцвете юношеских сил, эта противоестественная преждевременная дряхлость, эта тирания боли и еще более жестокая тирания гордости, которая восстала против непременных спутников боли – против утешений, – это радикальное одиночество как средство самозащиты от мизантропии, превратившейся в нечто болезненно-пророческое, эта исключительная сконцентрированность на всем том, что есть в познании горького, терпкого, причиняющего боль, как того требует настоящее отвращение, берущее свое начало в той неосмотрительной духовной диете и изнеженности, именуемой обыкновенно романтикой, – о, кто мог бы еще вынести такое! Но если бы нашелся такой человек, он сумел бы увидеть в этой книге не только озорные глупости, проказы шутника, «веселую науку», он оценил бы по достоинству, к примеру, ту горстку песен, что на сей раз предпосланы этой книге, – песен, в которых поэт безбожно потешается над поэтами. Ах, не только на поэтов и их прекрасные «лирические чувства» этот воскресший из праха вития должен излить свою злость: кто знает, какие жертвы ищет он себе, какая чудовищная пародия созреет в скором времени в его воображении? «Incipit tragaedia»[2], – говорится в конце этой озабоченно-беззаботной книги: но надо держать ухо востро! Намечается нечто из ряда вон скверное и злое: incipit parodia[3], в этом нет никакого сомнения…
Но оставим в покое господина Ницше, какое нам дело до того, что господин Ницше снова стал здоровым?.. Для психолога нет более интересного вопроса, чем вопрос о соотношении здоровья и философии, и если случается так, что он сам заболевает, то весь свой научный пыл он обращает на свою болезнь. Ведь всякая личность, при условии, конечно, что она действительно является таковой, нуждается в философии личности, – правда, при этом имеется одно весьма существенное различие. Один философствует от нищеты и немощи, другой – от богатства и переизбытка силы. Для первого такая философия – насущная необходимость, не важно, какую роль она играет – поддержки, успокоительного средства, лекарства, избавления, возвеличивания, самоотчуждения; для второго – это всего-навсего приятная роскошь, в лучшем случае наслаждение торжествующей благодарности, которая в довершение ко всему непременно хочет увековечить себя космическими прописными буквами на небосклоне понятий. Обычно же, однако, движущей силой философии становится беда, несчастье, как это имеет место у всех больных философов – а в истории философии больные мыслители, наверное, составляют подавляющее большинство, – но во что превращается мысль, рожденная под гнетом болезни? Это вопрос, который касается психологов: и здесь возможен эксперимент. Подобно тому как человек, который утром собирается отправиться в путешествие, настраивает себя на определенный час, когда ему нужно встать, и после этого преспокойно отдается сну, мы, философы, должны на некоторое время – конечно, только если мы действительно больны – отдаться душой и телом болезни, – мы должны как бы закрывать глаза на самих себя. И точно так же, как тот путешественник знает, что есть в нем некая сила, которая не дремлет, которая отсчитывает часы, чтобы вовремя разбудить его, так и мы знаем, что в нужный момент мы очнемся – что неведомая сила сумеет вовремя поймать с поличным дух, я бы сказал точнее – уличить его в слабости, измене, или покорности, или закоснелости, или помрачении, – словом, как ни называй, но все это болезненные состояния духа, которым обыкновенно, когда речь не идет о болезни, противостоит гордость духа (как говорится в старинном стишке, «гордый дух, павлин и конь, три гордых зверя, их не тронь»). Такой пристрастный самоанализ, такое самоискушение воспитывают большую проницательность, позволяющую смотреть на все то, что было нафилософствовано до сих пор, совсем другими глазами; уже без всякого труда ты можешь уловить тот момент, когда мысль стремится непроизвольно ускользнуть, пойти в обход, спокойно отдохнуть, понежиться на солнышке – только страждущих философов прельщает такой путь, о котором они с вожделением мечтают именно в силу своего бессилия; теперь понятно, куда больное тело и его немощь толкают, гонят и влекут дух – к солнцу, тишине, покою, терпению, лекарствам, бальзамам, не важно, в каком смысле. Любая философия, которая выше ставит мир, а не войну, любая этика, которая толкует понятие счастья как отрицательное явление, любая метафизика и физика, которые признают только один финал, только один вид конечного состояния, любое стремление, как правило эстетическое или религиозное в своих основах, к чему-то постороннему, потустороннему, запредельному, беспредельному – позволяют задать вопрос: а не является ли именно болезнь тем началом, которое вдохновляло философов? Бессознательное желание скрыть свои психологические потребности под покровом объективного, идеального, чисто духовного пугает своими далеко идущими последствиями, – я сам уже не один раз задавал себе вопрос, а не была ли вся философия, по большому счету, простым лишь толкованием тела, причем неверным толкованием тела. За самыми высокими ценностями, которые до сих пор имели определяющее значение для всей истории человеческой мысли, скрывается некая физическая ущербность – не важно, идет ли речь об отдельном человеке, о целом сословии или расе. Вполне возможно, все те отчаянные глупости метафизики, в особенности вопрос о ценности бытия, следовало бы рассматривать прежде всего как симптомы определенного физического состояния; и даже если ни в одной из этих жизнеутверждающих или жизнеотрицающих концепций с научной точки зрения не будет и крупицы здравого смысла, для историка и философа они будут представлять несомненную ценность прежде всего как симптомы определенного физического состояния тела, о которых уже говорилось выше, как показатели его совершенства и несовершенства, его полноценности, мощи, самообладания в исторической перспективе или же, наоборот, как признаки его скованности, усталости, бессилия, предчувствия близкой смерти, его воли к смерти. Я все еще не потерял надежды, что явится когда-нибудь философ-врач, в исключительном смысле этого слова, – тот, кто сможет заняться изучением проблемы общего здоровья народа, эпохи, расы, человечества, – и у него достанет мужества найти доказательства того, о чем я только смутно догадывался, и сформулировать это как окончательный вывод: не «истина» была до сих пор предметом философствования, а нечто совсем другое – скажем, здоровье, будущее, рост, власть, жизнь…
Можно догадаться, что я не без благодарности хочу распрощаться с тем временем, когда меня мучил тяжелый недуг, хотя и по сей день я еще не исчерпал все преимущества этого состояния: я твердо убежден, что мое шаткое здоровье дает мне несомненные преимущества перед всеми теми, кто так пышет здоровым духом. Философ, который проходит, не думая останавливаться, через множество видов здоровья, проходит через такое же множество философий: ему не остается ничего другого, как всякий раз переводить свое состояние в самую одухотворенную форму, увлекая его в самые одухотворенные дали, – это искусство трансфигурации и есть философия. Мы, философы, не можем по своему усмотрению провести границу между душой и телом, как это делает простой народ, и еще труднее нам провести границу между душой и духом. Мы ведь не какие-нибудь думающие лягушки, не объективирующие-регистрирующие аппараты, у которых внутри холодная бездушная пустота, мы вынуждены постоянно рожать наши мысли из боли и вкладывать в них всю нашу кровь, душу, огонь, радость, страсть, муку, совесть, судьбу и рок, как делают все матери, – для нас это означает постоянно превращать все то, что составляет нашу сущность, в свет и пламя; а также все то, с чем мы соприкасаемся, – мы ведь не можем иначе. А что касается болезни, то мы едва ли сумели удержаться от того, чтобы не задать вопрос: можем ли мы вообще обойтись без нее? Только великое страдание является последним освободителем духа, учителем, который ловко сам умеет втирать очки, доказывая, будто то, что нам кажется белым, – на самом деле черное, а то, что кажется понятным, – на самом деле непонятно. Та самая долгая, медленная боль, которая никуда не спешит, которая сжигает нас, как будто на медленном огне, и заставляет нас, философов, погрузиться в наши глубочайшие глубины, отринув все то доверчивое, добродушное, неявное, кроткое, невыразительное, что было до сих пор, наверное, воплощением нашей человечности. Я сомневаюсь в том, что такая боль «улучшает», – но я твердо знаю, что она углубляет. И не важно, учимся ли мы противопоставлять ей нашу гордость, нашу язвительность, нашу силу воли и поступаем так же, как индеец, которому нипочем самые жестокие мучения, ибо он с лихвой расплачивается со своим мучителем смертоубийственною силой своего злого языка; или мы бежим от боли в то восточное «ничто» – его называют нирваной, – в ту немую, неподвижную, глухую самопогруженность, в самозабвение, самоугасание: после таких упорных, опасных упражнений, приучающих владеть собою, мы выходим совсем другими, у нас уже несколько больше вопросов, но главное – неукротимое желание спрашивать прежде всего больше, глубже, строже, жестче, злее, тише, чем мы это делали до сих пор. Исчезло доверие к жизни: сама жизнь превратилась в проблему. Только не надо думать, что от этого всякий непременно рискует стать угрюмым букой! Даже любовь к жизни еще вполне возможна – только любовь будет иная. Это любовь к женщине, которая пробуждает в нас сомнения…Радость от соприкосновения со всем проблематичным и ликование по поводу любого неизвестного «X» у таких высокодуховных, высокоодухотворенных людей столь велики, что их яркое пламя затмевает все трудности, которые сулят проблемы, все те опасности, которые таятся в неизвестном, и даже ревность любящего. Мы знаем, что такое новое счастье…
И наконец, чтобы не забыть сказать о самом существенном: из таких глубоких пропастей, из таких тяжелых недугов, из недуга тяжелого подозрения, например, выбираешься как заново рожденный – без старой кожи, более чувствительный ко всяким раздражениям, более злой, с более тонким вкусом к наслаждениям, с более мягкими суждениями о разных предметах, которые того заслуживают, с более веселыми чувствами, с вновь обретенной привычкой еще более невинно, еще более отчаянно предаваться радости, еще более ребячливей и в то же время во сто крат опытней, чем когда бы то ни было. О, какое отвращение должен теперь испытывать ты при виде старого наслаждения, этого грубого, угрюмого, коричневого наслаждения, как его обыкновенно понимают сами наслаждающиеся, наши «образованные», наши богачи, власть имущие! Как злит нас весь этот несусветный базарный гвалт, который подняли «образованные» люди и обитатели больших городов, позволяющие себя насиловать искусством, книгами, музыкой во имя «духовных наслаждений», при помощи духовных напитков! Как режут нам теперь слух эти театральные вопли страсти, сколь противно нашему вкусу все это романтическое смятение и волнение чувств, которое так любит образованная чернь, со всем ее честолюбивым стремлением к возвышенному, приподнятому, вычурному! Нет, если нам, выздоравливающим, и нужно искусство, то совсем другое – насмешливое, легкое, изящное, божественно безнаказанное, божественно искусное искусство, которое ярким пламенем взвивается к безоблачным небесам! И главное: искусство для художников и только для художников! Мы тогда лучше понимаем то, что для этого нужно прежде всего, – веселость, разнообразная веселость, любезные друзья! Теперь нам нужно это понять уже как художникам! – я хотел бы это доказать. Есть вещи, которые мы сейчас знаем слишком хорошо, мы, знающие: художники, отныне мы должны так же хорошо все забыть, так же хорошо не знать! И что касается нашего будущего, то мы едва ли будем следовать примеру тех египетских юношей, которые ночами пробираются в храм, обнимают изваяния, сгорая от желания сорвать покров, открыть, явить миру все то, что не без основания сокрыто от посторонних глаз. Нет, этот дурной вкус, эта воля к истине, к «истине любой ценой», эта юношеская неистовость в любви к истине – вызывают у нас отвращение: для этого мы слишком уж опытные, слишком серьезные, слишком веселые, слишком прожженные… Мы уже больше не верим в то, что истина остается истиной, если с нее снят покров неизвестности; мы достаточно пожили на свете, чтобы верить в это. Теперь это для нас только вопрос приличия, и мы отнюдь не стремимся видеть все в обнаженном виде, везде присутствовать, все понимать, все знать. «А правда, что Господь Бог везде-везде? – спросила одна маленькая девочка свою маму. – Но ведь это же неприлично!» Намек философам! Следовало бы с большим почтением относиться к стыдливости природы, которая спряталась в загадках, укрывшись пестрым покровом неизведанного. Быть может, истина – всего лишь женщина, у которой есть все основания не выставлять себя напоказ до самого основания? Быть может, ее имя Баубо, если говорить по-гречески?.. О, эти греки! Вот кто умел жить: для этого нужно мужественно держаться на поверхности, за любую складку, за кожу, боготворить иллюзию, верить в формы, звуки, слова, в Олимп иллюзий! Эти греки были слишком неглубокими – от глубины! И не возвращаемся ли мы снова к тому же, мы, отчаянные смельчаки духа, мы, которые взошли на самые высокие, на самые опасные вершины современной мысли и уже оттуда по-новому взглянули на себя, мы, которые с вершины посмотрели вниз? Не являемся ли мы именно в этом – греками? Поклонниками форм, звуков, слов? И потому – художниками?
Рута под Генуей.Осень 1886
Смех, месть и хитрость, пролог в немецких виршах
Книга первая
Учительствующие о цели бытия. Когда бы я ни обращал свой взор к людям – независимо от того, смотрю ли я на них по-доброму или с неприязнью, – я неизменно застаю их за одним и тем же занятием, они занимаются им все вместе и каждый в отдельности: все их усилия направлены на то, чтобы сохранить род человеческий. И делают они это отнюдь не из чувства любви, ими движет скорее инстинкт – тот самый древний, мощный, неумолимый, неодолимый инстинкт, который составляет сущность нашего биологического вида, нашего стада, именуемого человечеством. Обыкновенно мы со свойственной человеку недальновидностью не задумываясь разделяем ближних своих на полезных и бесполезных, добрых и злых, но если вдумчиво проанализировать все в целом, то начинаешь сомневаться, целесообразно ли подобное разделение и не лучше ли оставить все как есть, ведь и самый бесполезный человек может оказаться как раз самым полезным с точки зрения сохранения вида – ибо он сохраняет в себе или пробуждает в других те инстинкты, без которых человечество уже давно бы захирело и сгнило. Ненависть, злорадство, хищность, властолюбие и все прочее, что мы считаем злым, – все это удивительным образом и составляет основу той экономии, которая обеспечивает сохранение вида, и какой бы неразумной, расточительной и, в сущности, нелепой ни была эта экономия, несомненно, что именно она поддерживала и сохраняла до сих пор наш род человеческий. И я не знаю теперь, в состоянии ли ты, любезный мой собрат, мой ближний, жить не во благо своего рода, то есть быть «неразумным» и «плохим»; ведь то, что могло бы причинить вред всему виду, уже давным-давно вымерло и вряд ли вернется, даже будь на то воля Божья. Следуй своим страстным желаниям – будь они самые хорошие или самые плохие, а главное: погибни! И в том, и в другом случае ты, наверное, так или иначе все еще действуешь во благо и на пользу человечеству и потому вполне можешь рассчитывать впредь на то, что тебя будут превозносить до небес – и насмехаться над тобой. Но ты никогда не найдешь того, кто сумел бы высмеять твои лучшие побуждения, присущие только тебе как отдельной особи, высмеять так, чтобы от них не осталось камня на камне; не найдешь того, кто сумел бы в строгом соответствии с истиной показать тебе твое убожество, убожество мухи или лягушки, затронув самое сокровенное в твоем сердце! Посмеяться над самим собой – как смеются лишь те, кто обладает истинным знанием, – на это не способны лучшие из лучших и одареннейшие из одаренных, ибо у первых нет этого знания, а вторым не хватает гениальности! Возможно, и у смеха есть свое будущее! Это случится тогда, когда человечество прочно усвоит лозунг: «Вид – это все, индивидуум – ничто», и всякий в любой момент сможет подойти к этому последнему освобождению и скинуть с себя бремя ответственности. И может быть, тогда смех соединится с мудростью и тогда останется только «веселая наука». Но пока еще все по-другому, пока еще комедия бытия «не осознала» самое себя – пока еще царит время трагедии, время разной морали и разных религий. Появляются все новые основоположники разных систем морали, разных религий, появляются те, кто ведет борьбу за нравственные ценности, появляются учителя, что пробуждают в нас угрызения совести и толкают к религиозным войнам, – что значит все это? Что значат все эти герои на этой сцене? Ведь они были не более чем герои этой сцены, и все остальное – то единственное, что доступно восприятию и у всех на виду, – всего лишь подспорье для них – механизмы, приводящие в движение сцену, кулисы, за которыми можно укрыться, второстепенные персонажи – какие-нибудь наперсники или камердинеры (поэты, к примеру, всегда были камердинерами какой-нибудь морали). Само собой разумеется, и эти трагики трудятся в интересах вида, хотя и думают, что делают это в интересах Бога и как посланцы Божьи. И они содействуют жизни рода человеческого, ибо укрепляют веру в жизнь. «Жизнь стоит того, чтобы жить! – провозглашают они. – Есть что-то в этой жизни, что-то скрывается за ней, под ней, берегитесь!» Тот самый инстинкт, который равно властвует в человеке высшего порядка и в человеке низком, – инстинкт сохранения рода прорывается порой в виде разума или страсти духа; он предстает тогда в сопровождении блестящей свиты всевозможных аргументов и силою стремится предать забвению то, что он, в сущности, всего-навсего инстинкт, внутренний позыв, лишенный разума и не поддающийся какому бы то ни было обоснованию. Жизнь должно любить, ибо!.. Человек должен заботиться о себе сам и помогать ближнему, ибо!.. И сколько еще таких разных «нужно» и «должно», сколько разных «ибо» и сколько их будет в будущем! И для того чтобы все то, что неизбежно и всегда происходило само по себе, без всякой определенной цели, обрело некую видимость целесообразности и предстало перед человеком как проявление разума, как последняя заповедь, – появляется учитель, знаток этики, обосновывающий «цель бытия»; для этого он измышляет второе бытие, отличное от нашего старого, и это старое бытие он переворачивает с ног на голову при помощи своих новых уловок и ухищрений. О да! Он вовсе не хочет, чтобы мы смеялись над бытием или – еще хуже – над собой – или над ним! Для него индивидуум всегда остается индивидуумом, началом и концом всего, чем-то необъятным и огромным, для него не существует ни вида, ни совокупности единиц, ни нулей. И все же, как бы глупы и беспочвенны ни были его измышления и оценки, сколь глубоко бы он ни ошибался в истолковании хода вещей и связей природы – ведь этические учения испокон веков были до такой степени глупы и противоестественны, что человечество погибло бы! – и тем не менее всякий раз, когда «герой» выходил на сцену, рождалось нечто новое, жуткое, то, что прямо противоположно смеху, то глубочайшее потрясение, которое испытывал каждый индивидуум в отдельности при мысли: «Да, жизнь – стоит того, чтобы жить!» и «Я, пожалуй, стою того, чтобы жить!» – жизнь, и я, и ты, и мы все вместе стали вдруг на некоторое время интересными для нас самих. Но совершенно очевидно, что, в сущности, именно смех, разум и природа властвовали над всеми великими учителями, определяющими цель бытия: короткая трагедия в конце концов всегда переходила в вечную комедию бытия, и даже величайшему из этих трагических героев не дано устоять перед «шквалом нескончаемого смеха», говоря словами Эсхила. И все же, несмотря на смех, способный как-то поправить положение, это постоянное явление учителей, определяющих цель бытия, в целом изменило природу человека – у него родилась еще одна потребность, а именно: потребность в явлении таких учителей и учений о «цели». Человек постепенно превратился в некое фантастическое животное, которому, в отличие от всех прочих животных, необходимо еще одно непременное условие существования: он должен время от времени твердо верить в то, что знает, для чего существует, его род не может развиваться и процветать, не испытывая такого периодического доверия к жизни! Не может обойтись без веры в разумное устройство жизни! И неизменно род человеческий будет возвращаться к утверждению: «Есть нечто, над чем не должно смеяться никогда!» А самый осторожный из всех осторожных друзей человечества добавит: не только смех и веселая мудрость, но и трагическое с его возвышенной неразумностью относится к средствам и необходимым условиям, которые направлены на сохранение рода! А следовательно! Следовательно! Следовательно! Понимаете ли вы меня, братья мои? Понимаете ли вы этот новый закон приливов и отливов? Настанет и наш черед!
Интеллектуальная совесть. Я сделал одно наблюдение, в истинности которого я убеждаюсь снова и снова, как бы я ни противился этому, – я просто не желаю этому верить, – хотя это столь очевидно, что становится чуть ли не осязаемым: у большинства людей отсутствует интеллектуальная совесть. Нередко мне казалось, что всякий, кто жаждет найти ее, просто бродит по многолюдному огромному городу в полном одиночестве, будто вокруг простирается пустыня. Всяк смотрит на тебя отчужденно и продолжает заниматься своими весами, при помощи которых он определяет, что хорошо, что плохо; и не зальется краской стыда тот, кому ты укажешь – ваши весы неисправны, и никто не возмутится: быть может, над тобой только посмеются. Я хочу сказать: для большинства нет ничего унизительного в том, чтобы просто верить во что-нибудь и жить сообразно этому, не задумываясь особо об исходных причинах, не взвешивая все за и против, не утруждая себя поиском каких бы то ни было аргументов, – и даже самые одаренные мужчины и самые благородные женщины относятся к этому «большинству». Что дает добросердечие, изысканность, гениальность, коли человек, наделенный этими добродетелями, смиряется с тем, что все чувства его притуплены, и в этой душевной дряхлости растворяются и вера, и разум его, если стремление к истине не становится внутренней, глубочайшей потребностью, насущной необходимостью – тем, что как раз и отличает человека высшего порядка от человека низкого! Нередко мне случалось видеть, как набожные, благочестивые люди ненавидят разум, и я радовался, видя эти проблески злой интеллектуальной совести! Но находиться среди этой rerum concordia discors[4], всего этого чудесного неведения и многозначности бытия и не вопрошать, не трепетать от нестерпимого желания засыпать все и вся вопросами, даже не испытывать ненависть к тому, кто спрашивает, и, чего доброго, еще и слегка подтрунивать над ним – вот это мне кажется поистине унизительным и достойным презрения, и я пытаюсь найти хоть в ком-нибудь сходное чувство – и, быть может, это сумасбродная затея, но я убежден – что-то подсказывает мне, – в каждом человеке живет подобное чувство, если он человек. Быть может, я несправедлив, но таково мое твердое убеждение!
Благородство и низость. Всякое проявление высоких, благородных чувств кажется натурам низким чем-то нецелесообразным и оттого странным и диким: случится им услышать о таком – они хитро подмигивают, будто хотят сказать: «Наверное, здесь есть какая-нибудь выгода, кто его разберет»; с подозрением, недоверчиво глядят они на человека благородного, будто тот скрывает что-то, будто ищет выгоду свою где-то по темным углам. Убедившись, однако, что нет здесь никакого корыстного умысла и скрытой выгоды, они потешаются над благородством, считая все это глупостью и придурью: они презирают человека благородного, видя, как он радуется, как блестят его глаза: «Как же можно радоваться тому, что оказался в убытке, как можно самому себе желать дурного?! Наверное, это такая особая болезнь разума, которая проявляется в подобных приступах благородства!» – полагают они и при этом снисходительно посматривают на этих безумцев: носятся все время со своими маниакальными идеями, да еще и радуются им – разве можно на них смотреть иначе? Натуры низкие отличаются тем, что никогда не упускают своей выгоды, именно выгода составляет суть всех их помыслов и чаяний, которые в них сильнее самых сильных инстинктов: главная их задача – не поддаться силе этих инстинктов и уберечься от безрассудств, – вот вся их мудрость, вот что лежит в основе их чувства собственного достоинства. По сравнению с ними натуры благородные менее разумны: ведь человек благородный, великодушный, готовый к самопожертвованию, в действительности подчиняется лишь своим инстинктам, и в те лучшие мгновения жизни его разум умолкает. Зверь, защищающий свое потомство с риском для жизни, или, например, зверь, неотрывно следующий в период течки за своей самкой, не покидающий ее даже в минуту смертельной опасности, не думает ни об опасности, ни о смерти, его разум также умолкает, ибо он весь во власти своего инстинкта сохранения рода, им движет влечение к самке и страх лишиться этого удовольствия; он как будто становится глупее, чем обычно, и то же происходит с людьми благородными и великодушными. Они руководствуются лишь чувством, в основе которого – желание или нежелание, и сила этих чувств такова, что интеллект умолкает или полностью подчиняется им: его сердце в таком случае как бы заменяет разум, и это принято называть «страстью». (Правда, иногда встречается и полная противоположность «страсти», так сказать «страсть наизнанку», – вспомним, к примеру, Фонтенеля, которому когда-то кто-то сказал, положив ему руку на сердце: «Вы думаете, у вас здесь сердце, любезный друг? Нет, ошибаетесь – это мозг».) Именно это безрассудство или, точнее, сумасбродство страсти и презирает человек низкий в человеке благородном. Особенно в тех случаях, когда чувства эти направлены на объекты, ценность которых представляется ему совершенно мифической и весьма условной. Его раздражают те, кем движет лишь одна страсть – набить себе брюхо, хотя он вполне понимает всю деспотическую прелесть этой страсти; но он не понимает зато, как можно во имя страсти к познанию поставить на карту свое здоровье и свою честь. Вкус человека возвышенного ориентируется на исключения, на вещи, которые оставляют обыкновенно равнодушными, ибо кажутся какими-то пресными, без изюминки; его критерий ценности весьма своеобычен. Но он-то, как правило, твердо верует в то, что избирательность его вкуса никак не связана с неординарностью его критерия ценности; и более того – пытается свои собственные представления о том, что ценно, а что нет, выставить как общеизвестные и оттого уже и вовсе теряет всякое понимание действительности и связь с практической реальностью. Крайне редко у человека благородного хватает разума на то, чтобы просто понять, что перед ним самый обыкновенный обыватель, и найти с ним общий язык; чаще всего он уверен, что страсть, которая присуща ему лично, в скрытом виде присутствует во всяком и каждом, он твердо верит в это и изо всех сил старается убедить в этом других. Если даже такие исключительные люди не чувствуют своей собственной исключительности, то где уж им понять человека заурядного и по справедливости оценить какое бы то ни было правило! И вот они принимаются рассуждать о глупости, неразумности и нелепости человечества, изумляясь, отчего это мир погряз в безумствах и почему не хочет осознать и открыто заявить о том, что «ему нужно». Вот она вечная неблагодарность благородных.
Забота о сохранении вида. Своим развитием человечество обязано прежде всего умам сильным и злым: именно они, самые сильные и самые злые, всегда пробуждали дремлющие страсти – ведь всякий порядок в обществе действует на страсть усыпляюще, – они вызывают к жизни дух сомнения и противоречия, пробуждают жажду чего-то нового, неведомого, неизведанного, они принуждают людей сталкивать разные мнения, разные представления об абсолютных ценностях. Достигается это разными средствами: в основном оружием, нарушением границ, дерзостным оскорблением признанных авторитетов – но и новыми религиями и новой моралью! Каждому учителю, каждому проповеднику нового присуща та же самая «злость», которая любому завоевателю принесла бы дурную славу, но здесь эта «злость» находит такие неприметные формы выражения, что внешне она ничем себя не проявляет – ни один мускул не дрогнет, – и потому дурная слава тут не страшна. Ведь добрыми во все века считаются именно те люди, которые старые мысли закапывают как можно глубже и ждут появления плодов, они – пахари духа. Но придет время, и эту землю начнут осваивать, и тогда не спастись ей уже от острого лемеха зла. Ныне существует совершенно ошибочное учение о морали, которое особо приветствуется в Англии. Согласно этому учению, оценки «хорошо» – «плохо» по существу представляют собой лишь отражение накопленного опыта, оперирующего понятиями «целесообразно» – «нецелесообразно»; по этому же учению хорошо лишь то, что направлено на сохранение рода, плохо – то, что причиняет вред роду. В действительности же дурные инстинкты столь же целесообразны, столь же полезны для сохранения вида, что и хорошие: разница лишь в функциях.
Непреложные обязанности. Все люди, которые не могут обойтись без речей, составленных из самых сильных слов и выражений, к тому же подкрепленных самыми убедительными жестами, все эти революционеры, политики, проповедники во Христе и без него, призывающие к покаянию, которые хотят добиться своего, не останавливаясь на полпути, – все они говорят об «обязанностях», причем о таких обязанностях, которые требуют неукоснительного исполнения, то есть о некоем высоком долге, ведь иначе весь их пафос был бы ничем не оправдан: и это они твердо знают! Именно поэтому они ищут спасения в разных философиях морали, которые проповедуют очередной категорический императив, или, нимало не смущаясь, возьмут за основу ту или иную религию и строят на ней свои рассуждения, как это сделал, к примеру, Мадзини. И оттого что они страстно желают, чтобы им непременно доверяли, им прежде всего необходимо доверие к самим себе, вот они и обретают его, найдя ту последнюю, неоспоримую, возвышающую душу заповедь, которой они ревностно служат, подчиняя ей все свои действия и помыслы. В данном случае мы имеем дело с самыми ярыми противниками морального просвещения и скепсиса, пользующимися, как правило, весьма сильным влиянием, однако встречаются они достаточно редко. Более многочислен этот класс противников там, где корысть проповедует идея подчинения, тогда как представление о чести и достоинстве как будто бы эту идею исключают. Тому, кто чувствует себя униженным при мысли о том, что он всего-навсего орудие в руках монарха или какой-нибудь партии, секты или денежных тузов, будучи, например, потомком древнего благородного рода, и вместе с тем изо всех сил стремится стать именно таким орудием или вынужден им стать перед самим собой и в глазах общественности, – тому жизненно необходимы патетические принципы, которыми он может в любой момент прикрыться: принципы долженствования с оттенком неукоснительного исполнения – им можно подчиняться без тени смущения, не стесняясь демонстрировать свою готовность подчиниться. Они предпочитают более утонченные формы раболепства, твердо придерживаются категорического императива и объявляют смертельную войну всякому, кто посягнул на понятие долга, всякому, кто пытается лишить «обязанность» ее высокого смысла, заключенного в том самом оттенке «неукоснительного исполнения»: этого требуют от них приличия, и не только приличия.
Потеря достоинства. Умение размышлять уже давно перестало считаться достоинством; вся та неторопливость и некоторая церемонность, которые свойственны человеку, погруженному в размышления, все его торжественные жесты сделались ныне предметом насмешек, и вряд ли найдется кто-нибудь, кто способен вынести такого мудреца старого фасона. Мы думаем слишком уж торопливо, походя, везде – идем ли мы по улице, занимаемся ли делами, даже когда мы обдумываем весьма серьезные проблемы, мы все же делаем это как-то поспешно; мы не слишком уж готовимся к решению этих проблем, нам даже не нужна тишина – порою кажется, будто в нашей голове мы носим некий механизм, который работает, не останавливаясь ни на секунду, работает даже в самых неблагоприятных условиях. В прежние времена, посмотрев на человека, всегда можно было определить тот момент, когда он решил задуматься (такое случалось редко и было скорее исключением!). По нему было видно, что вот сейчас он захотел стать чуточку мудрее и потому сосредоточился на какой-то одной мысли: для этого он придавал своему лицу такое выражение, какое бывает во время молитвы, и замедлял шаг; подумать только, человек, к которому «пришла мысль» – на одной или двух ногах, – мог часами стоять на улице, не сходя с места. Вот с каким почтением относились раньше к этому «занятию»!
Несколько слов трудолюбивым. Перед тем, кто намерен посвятить себя изучению морали, открывается необозримое поле деятельности. Необходимо проанализировать все виды страстей и увлечений, все по отдельности, в разное время, у разных народов, большие и малые, выявить меру их разумности, систему оценок и отношение к вещам – все это нужно вытащить на свет Божий! Ведь до сих пор все то, что придавало бытию цвет и краски, не имело своей истории: ибо где история любви, алчности, зависти, совести, пиетета, жестокости? Так же как не написана до сих пор сравнительная история права или хотя бы только наказания. Исследовал ли хоть кто-нибудь то, как членится день, каковы последствия регулярного чередования работы, отдыха и праздников? Изучено ли влияние на мораль продуктов питания? Существует ли философия питания? (То, что до сих пор не утихают споры о достоинствах и недостатках вегетарианства, свидетельствует лишь о том, что такой философии еще нет!) Обобщен ли опыт совместной жизни разных людей, что могло бы быть сделано, к примеру, на материале монастырской жизни? Кто разработал диалектику супружества и дружбы? А нравы и обычаи ученых, торговцев, художников, артистов, ремесленников – разве они нашли уже своего исследователя? Здесь есть о чем подумать! Все то, что до сих пор считалось «условиями существования», и все, что есть в этом мнении разумного, эмоционального, предвзятого, – разве все это уже изучено в полной мере? Только наблюдения за теми изменениями, которые затрагивали человеческие инстинкты и внутренние порывы в зависимости от различного морального климата, а также анализ гипотетически возможных изменений в этой области дадут неисчерпаемый материал человеку трудолюбивому; понадобятся целые поколения ученых, работающих в тесном взаимодействии, методично и планомерно, чтобы разработать все возможные версии и исчерпать весь материал. То же самое относится к попыткам установить причины отличий того или иного морального климата («Отчего здесь светит одно солнце – один критерий моральной оценки, одна мера вещей, – а там другой?») – и здесь снова открывается новое поле деятельности: определить ошибочность всех этих аргументов и вскрыть сущность критерия моральной оценки, действующего до сих пор. Предположим, все это будет сделано, но тогда возникает еще один вопрос – самый щекотливый из всех, – а в состоянии ли наука дать целеустановку действию, после того как она докажет, что может не только выявить ее, но и уничтожить, и тогда настанет час экспериментирования, которое принесет удовлетворение всякому проявлению героизма, эксперимент длиною в тысячелетия, эксперимент, который смог бы затмить все великие свершения, все жертвы нынешней истории. До сих пор еще наука не сумела возвести такие циклоповы сооружения, но и этому еще придет свой черед!
Неосознанные добродетели. Все свойства человека, которые известны ему самому, то есть те, которые в равной мере, как он предполагает, явственны и очевидны его окружению, – развиваются совершенно иначе, чем те его свойства, которые ему неизвестны или малоизвестны; эти свойства настолько сложны и трудноуловимы, что ускользают даже от взгляда внимательного наблюдателя, они так умело скрываются, что кажется, будто их просто нет. Это напоминает тончайшие узоры на коже рептилий: было бы ошибкой считать, что они служат просто для украшения или призваны выполнять отпугивающую функцию. Ведь они видны только под микроскопом, то есть при помощи искусственных средств, как бы обостряющих до предела зрение, – но таким острым зрением, однако, не обладают те животные, которых эти узоры призваны привлекать или отпугивать! Наши очевидные моральные качества, то есть те, которые мы считаем явными, развиваются по своему пути – а скрытые качества, имеющие, впрочем, те же самые названия, те качества, которые служат отнюдь не для украшения или устрашения, если мы их сопоставим с прочими свойствами человека, они тоже развиваются по-своему, и путь этот будет совершенно иным, и будут тут свои линии, и фигуры, и узоры, которые вполне могли бы усладить взор какого-нибудь бога, созерцающего их в свой божественный микроскоп. У нас есть, к примеру, трудолюбие, тщеславие, проницательность: это известно всему свету, – но, вероятно, мы все имеем еще и другое трудолюбие – свое собственное, и свое тщеславие, и свою проницательность: но для этих наших змеиных узоров еще не изобретен тот микроскоп! Вот здесь, наверное, друзья инстинктивной морали радостно воскликнут: «Браво! Браво! По крайней мере, он допускает существование неосознанных добродетелей! Вот и хорошо, нам этого вполне достаточно!» Как мало же вам надо!
Наши извержения. Бесчисленное множество свойств, каковые человечество обрело еще на ранней ступени своего развития, – правда, это были лишь некие зачатки этих свойств, и проявлялись они настолько слабо, что едва ли кто-нибудь мог подозревать об их существовании, – теперь, много лет спустя, быть может даже много веков спустя, начинают постепенно пробиваться к свету: они уже окрепли и созрели. Есть эпохи, которым явно недостает того или иного таланта, той или иной добродетели, как недостает их и некоторым людям: но надо только дождаться появления внуков и правнуков, если только есть время ждать, – они-то и выявят то, что было скрыто в их дедушках, ту внутреннюю сущность, о которой дедушки сами ничего не знали. Нередко уже сын предает своего отца: он понимает себя самого лучше, с тех пор как у него появился свой сын. Мы все носим в себе сокрытые сады и растения, и мы все, если употребить здесь другое сравнение, подобны дремлющим вулканам, для которых еще настанет час своего извержения. Но когда это произойдет – скоро ли или нет, – этого никто не знает, даже сам «Господь Бог».
Об одном виде атавизма. Глядя на самобытных людей самых разных времен, я склоняюсь к тому, что они – пришедшие к нам нежданно-негаданно потомки прошлых культур, несущие в себе энергию тех культур, то есть своеобразный атавизм определенного народа и его цивилизации, – только так их еще хоть как-то можно понять! Ныне такие люди кажутся чужими, непонятными, необычными; но тот, кто чувствует в себе энергию прошлой культуры, тот будет оберегать ее от враждебного, чужого мира, защищать, лелеять и холить, и тогда он станет либо великим человеком, либо безумцем и чудаком, если только до этого он не погибнет. Некогда эти редкие качества не были чем-то исключительным и потому считались весьма обычными: обладающий ими человек ничем не выделялся. Быть может, такие свойства воспитывались в каждом, они были обязательными для всех, и потому наличие данных свойств не создавало предпосылок к возвеличиванию отдельного человека и можно было не бояться того, что они приведут к безумию или одиночеству. Лишь те родовые гнезда и касты отдельного народа сохраняют себя от поколения к поколению, в которых еще проявляются отзвуки этих древних свойств; в тех же случаях, когда расы, привычки, оценки меняются слишком быстро, вероятность появления такого атавизма весьма незначительна. Ибо для сил, лежащих в основе развития отдельных народов, темп столь же значим, как и для музыки; в нашем случае нам необходим темп «анданте» – это темп страстного и неторопливого духа: а ведь именно таков дух консервативных поколений.
Сознание. Способность осознавать себя появилась лишь на последней стадии развития органического мира; по времени возникновения она самая поздняя и оттого самая несовершенная и слабая. Именно эта способность является причиной иных ошибок и промахов, которые приводят к тому, что животные и люди гибнут раньше отмеренного срока вопреки судьбе, как говорил Гомер. Но велика мощь инстинктов, объединившихся в единый охранительный союз, который выполняет роль своеобразного регулятора; не будь его, все эти перевернутые представления, наивное фантазирование, легкомысленность и доверчивость, то есть в конечном счете именно само сознание, – все это привело бы человечество к погибели, вернее – без этого союза инстинктов уже давно бы не было никакого человечества! Пока в организме идет формирование и созревание той или иной функции, она представляет для него большую опасность: хорошо, если найдутся силы, способные все это время держать ее в крепкой узде. Так сковывается и всякая свобода самого сознания – не без содействия безмерной гордости, которая как раз самосознание и сделала предметом своей страсти! Ведь люди думают: вот ядро человека, то, что дано ему раз и навсегда, вечное, последнее, исконное начало! Они полагают, что самосознание – величина неизменная! Отрицают его развитие, его переменчивость! Считают его «единицей организма». В таком нелепом преувеличенном восхвалении самосознания, сочетающемся, вместе с тем, с его недооценкой, есть и весьма важный положительный момент: все это препятствует слишком быстрому его развитию. Поскольку люди полагают, что вполне осознают себя, они не слишком-то стараются добиться этого – так дело обстоит и поныне! Перед человеком начинает брезжить новая, еле различимая задача – обрести знания, которые вошли бы в плоть и кровь, стали почти что инстинктом, – эта задача открывается лишь тем, кто понял, что до сих пор мы впитывали только наши заблуждения и заблуждения становились нашей плотью и кровью, и все наше самосознание сформировано тоже заблуждениями!
О целях науки. Как же так? Нам говорят, что высшая цель науки – доставить человеку как можно больше удовольствий и как можно меньше неприятностей. Неужели удовольствие и неприятности связаны так прочно, что если кому-то очень хочется одного, то он обязательно получит и другое, и неужели тот, кто пребывает в «небесном восхищении», должен непременно думать и о «смертной скорби»? Наверное, так оно и есть! Во всяком случае, стоики верили в это и были последовательны, когда требовали от жизни малого, дабы не пришлось много терять. (Известная сентенция: «Добродетельный человек – самый счастливый на земле» – была не только прописной истиной для масс, в ней был сокрыт тончайший казуистический смысл, понятный только умам утонченным.) Но и сегодня вы еще можете выбирать: либо вы хотите иметь как можно меньше неприятностей, то есть чтобы все протекало безболезненно – честно говоря, социалистам и политикам любых направлений следовало бы обещать своим сторонникам нечто большее, – либо вы хотите иметь как можно больше неприятностей как плату за возможность испытать во всей полноте все самые утонченные, доселе неизведанные удовольствия и радости! Если вы решитесь избрать первый путь, то есть захотите свести к минимуму болезненную восприимчивость людей, то вам придется одновременно изжить и подавить в себе способность наслаждаться. В действительности же при помощи науки можно добиться достижения обеих целей! Быть может, ныне эта наука более известна благодаря своей способности лишить человека наслаждений, сделать его более холодным, уравновешенным, спокойным, но, кроме того, в ней могут быть открыты и иные возможности – например, способность причинять страшную боль, – но именно это, быть может, позволит обнаружить ее противоположность – ее невероятную способность открывать новые звездные миры неземной радости!
К учению о чувстве власти. Всякое благодеяние, равно как и всякое действие, влекущее за собой чужие страдания, есть проявление нашей власти – и только! Страдания мы причиняем для того, чтобы человек, никак от нас доселе не зависимый, непременно почувствовал нашу власть, и боль в этом смысле гораздо более действенное средство, чем удовольствие, ибо боль всегда пытается найти причину, ответить на вопросы «за что?» и «почему?», в то время как наслаждение, как правило, довольно тем, что есть, и, не желая докапываться до причин, предпочитает безоглядность. Наши благодеяния и доброжелательность направлены большей частью на тех, кто от нас уже так или иначе зависит (то есть на тех, кто привык считать нас некоей первопричиной); мы стремимся к тому, чтобы приумножить их силу и власть, ибо тем самым мы приумножаем собственную силу и власть, или мы стараемся доказать, как выгодно им быть в нашей власти, – осознав это, они будут еще более довольны своим положением и с еще большей силой возненавидят врагов, посягающих на нашу власть, и потому всегда будут готовы дать им решительный отпор. И не важно, приносим ли мы жертвы, совершая благодеяния или причиняя страдания, – высший смысл наших действий от этого не меняется; даже если мы приносим в жертву свою собственную жизнь, подобно мученикам, во имя веры – это либо жертва, принесенная на алтарь нашего властолюбия, либо жертва, смысл которой в сохранении нашего стремления к власти. Ибо тот, кто про себя может сказать: «Я владею истиной», готов пожертвовать всем, чем владеет, лишь бы сохранить это ощущение! Чего только не выкинет он за борт, лишь бы остаться «наверху» – это значит «над» всеми, у кого нет этой «истины»! Конечно, когда мы причиняем кому-то боль, наше состояние редко бывает таким приятным, ничем не омраченным, как то, в котором мы творим добро, – это знак того, что у нас еще не достаточно власти, и этот недостаток вызывает у нас досаду, он несет с собой угрозу и ощущение ненадежности той власти, которой мы уже владеем, и вот уже сгущаются на горизонте мрачные тучи мести, насмешек, наказания, неудач. Только самым раздражительным и нетерпеливым властолюбцам доставляет удовольствие показать свою власть всякому, кто сопротивляется; таким людям тягостен и скучен вид побежденного (каковым сразу же становится объект благодеяний). Речь идет только о том, кто к какой жизни привык – пресной или пряной, кому по вкусу медленный, но надежный рост власти, а кому – стремительный и рискованный, – в зависимости от темперамента выбирают себе ту или иную приправу. В легкой добыче натуры гордые видят нечто недостойное; они испытывают удовлетворение лишь при виде человека несломленного, который может быть достойным врагом, такое же удовлетворение они испытывают при виде недосягаемых сокровищ; по отношению к человеку страждущему они часто бывают жестокими, потому что он недостоин их устремлений, их гордости. Но тем любезнее они по отношению к тем, кого считают равными: борьба с ними в любом случае принесла бы честь и славу, если бы судьбе было угодно предоставить им такой случай. Испытывая внутреннее удовлетворение от возможности подобной перспективы, люди рыцарского сословия выработали по отношению друг к другу самую изысканную вежливость. Сострадание же приятно лишь тем, кто недостаточно горд, кто не надеется на большие свершения, – они находят прелесть в легкой добыче, и всякий страждущий служит для них добычей. Превозносить до небес сострадание – все равно что славить добродетель публичных женщин.
Что принято называть любовью? Алчность и любовь – какие разные чувства пробуждает в нас каждое из этих слов, и тем не менее вполне возможно, что мы имеем дело с одним и тем же влечением, получившим лишь два разных названия; первое никуда не годится с точки зрения тех, кто уже владеет некоей собственностью, – в таких людях само влечение уже утратило свою остроту, единственное, что их беспокоит, – страх за эту самую «собственность»; второе – придумано людьми неудовлетворенными, жаждущими и потому прославляющими его как нечто «хорошее». Наша любовь к ближнему – не есть ли это стремление к собственности? Равно как и наша любовь к знанию, к истине? да и вообще всякое стремление к новому? Мы рано или поздно пресыщаемся всем старым, тем, чем владели давно, и жадно тянемся к новому; даже самый прекрасный пейзаж, которым мы любуемся три месяца кряду, не может рассчитывать на наше постоянство, ибо наступает момент, когда какой-нибудь неведомый берег начинает манить нас, возбуждая нашу алчность: потребность обладания, как правило, уменьшается по мере ее удовлетворения. Наш интерес к самим себе поддерживается только благодаря тому, что он постоянно отыскивает что-то новое и представляет нас в этом новом свете – это и значит владеть собственностью. Пресытиться обладанием – значит пресытиться самим собою. (Можно страдать и от избытка собственности, а стремление поскорее избавиться от этого и все раздать может присвоить себе почтенное имя «любви».) Если мы видим, как кто-нибудь страдает, то мы непременно пользуемся предоставившейся возможностью обратить его в свою собственность; так поступает, например, какой-нибудь благодетель, движимый состраданием, ведь и он называет пробудившуюся в нем жажду обладания «любовью», испытывая при этом то же наслаждение, что и при мысли о легкой победе. Отчетливее всего эта жажда обладания проявляется в любви полов: влюбленный стремится к единоличному обладанию тем, кто стал предметом его вожделений, он хочет безраздельно властвовать не только над душой, но и над телом, он хочет, чтобы любили только его одного, хочет войти в чужую душу и занять там главенствующее место и царствовать, как владыка. Но если вдуматься – ведь это значит, что драгоценнейшее сокровище, счастье, наслаждение оказываются недосягаемыми для всего остального мира; это значит, что влюбленный стремится лишить этих удовольствий всех прочих претендентов, он берет на себя роль дракона, охраняющего клад, превращаясь в самого оголтелого, беспощадного, себялюбивого из всех «завоевателей», попирающих чужие права; и наконец, это значит, что для влюбленного весь мир утратил какой бы то ни было интерес, он кажется ему блеклым, бледным, не представляющим ни малейшей ценности, и он готов пойти на любые жертвы, разрушить любой порядок, поступиться любыми интересами: если вдуматься в это, воистину изумишься, что столь дикие чувства, как необузданная жажда собственности и неравноправие в половой любви, во все века воспевались и обожествлялись без меры, и даже дошло до того, что эта самая любовь превратилась в понятие, противопоставляемое эгоизму, тогда как по существу нет ничего более эгоистичного, чем такая «любовь». Здесь явно поработали те, кто не имеет собственности, но страстно мечтает об этом, – таких всегда было немало на свете – они-то и придумали такое значение этого слова. Те же, кто в этом смысле не был обделен судьбою, чья жажда собственности вполне нашла свое удовлетворение, – были не прочь как бы невзначай слегка лягнуть «бешеного демона», как это делал, например, Софокл, тот самый достопочтенный афинянин, снискавший всеобщую любовь и уважение; но Эрос всегда только потешался над этими хулителями, они-то как раз и были его любимцами. Но на земле еще встречается своеобразное продолжение любви, когда та жадная потребность двух людей друг в друге уступает место новому, более высокому стремлению, обоюдному страстному желанию – обладать высоким идеалом. Но кому известна такая любовь? Кто испытал ее? Ее настоящее имя – дружба.
Издалека. Высокая гора, как бы подчиняющая себе все вокруг, придает окружающей местности особую прелесть и значительность: после того как мы скажем себе это тысячу раз, мы проникаемся к этой горе такой неразумной благодарностью, что начинаем верить, будто она, источник всей прелести и красоты, сама по себе является здесь самым привлекательным и красивым, – и вот мы поднимаемся на вершину, и нас постигает разочарование. Неожиданно и гора, и все вокруг нас, и простирающиеся внизу красоты природы – все будто в один миг теряет свое волшебное очарование. Мы забываем, что порой величие, равно как и красота, требует некоторой дистанции, причем смотреть следует только снизу, а не сверху, – только тогда можно ощутить их воздействие. Наверное, ты знаешь в своем кругу таких людей, которым для того, чтобы поверить, что они не хуже других, поверить в свою собственную привлекательность, в свои собственные силы, обязательно нужна некоторая дистанция; самопознание ему противопоказано.
Тропинка. В общении с людьми, которые стыдятся своих чувств, нужно уметь притворяться; они могут неожиданно возненавидеть того, кто застигнет их в тот момент, когда они испытывают нежные, возвышенные чувства, как будто в этом есть что-то тайное и постыдное. Чтобы вывести их из этого состояния, нужно попытаться рассмешить их или сказать холодным и бесстрастным тоном какую-нибудь колкость: они охладят свой пыл и снова будут в состоянии владеть собой. Впрочем, мои рассуждения напоминают мораль, которая предшествует самой басне. Когда-то наша жизнь была устроена так, что мы были все очень близки друг другу, казалось, будто ничто не препятствует истинной дружбе и братству, нас разделяла лишь узенькая тропинка. И в тот момент, когда ты решил перейти через нее, я спросил тебя: «Ты хочешь перейти через тропинку ко мне?» – но у тебя уже пропало желание, и когда я спросил тебя снова, ты промолчал в ответ. С тех пор между нами встали горы; пролегли ревущие потоки, и много еще всяческих препятствий разделяют нас, делая нас чужими друг другу, и даже если бы потом мы захотели соединиться, мы не смогли бы этого сделать! И если вспомнишь теперь ты эту тропинку, то не найдешь больше слов – тебе останется только рыдать и удивляться.
Обоснование собственной бедности. Никакими ухищрениями и уловками нам не добиться того, чтобы какая-нибудь жалкая, худосочная добродетель превратилась в богатую и полнокровную, но нам ничего не стоит доказать необходимость существования именно такой жалкой добродетели, так что вид ее уже не будет причинять нам страдания и мы не будем более проклинать жестокую судьбу. Так поступает, к примеру, мудрый садовник, которому не под силу соорудить у себя в саду роскошный фонтан, и он устанавливает скромную фигуру лесной нимфы, у ног которой вполне естественно плещется какой-нибудь чахлый ручеек, – так его стараниями эта чахлость выглядит вполне убедительной: в таком положении никому бы не помешало иметь свою нимфу!
Античная гордость. Нам не хватает античного оттенка аристократизма, ибо наши чувства не знают, что такое античное рабство. Какой-нибудь греческий аристократ, стоящий на вершине общественной лестницы, обнаруживал между собой и тем, кто находился в самом ее низу, столько промежуточных ступеней, такую пропасть, что он, из своего далека, едва ли мог различить раба: даже Платон не вполне различал раба. Иное дело мы, с пеленок усвоившие идею равенства людей, но не само равенство. В том, что кто-то не имеет права распоряжаться самим собой, не имеет своего досуга, – вовсе нет, с нашей точки зрения, ничего зазорного; в каждом из нас еще слишком много рабской покорности, если судить по условиям нашего общественного порядка и деятельности, каковые в корне отличаются от порядка и деятельности древних. Греческий философ всю свою жизнь в глубине души был уверен в том, что рабов на самом деле гораздо больше, чем это принято считать, – вернее, он считал, что всякий, кто не философ, – раб; гордость переполняла его при мысли о том, что и сильные мира сего – в числе его рабов. И эта гордость нам совершенно чужда и неприменима для наших условий; даже как украшение речи, как сравнение слово «раб» утратило для нас свой изначальный смысл.
Зло. Присмотритесь внимательно к лучшим людям, чья жизнь кажется самой плодотворной и продуманной, обратите внимание на лучшие народы и подумайте: может ли дерево, которое должно гордо тянуться ввысь, избежать бурь и непогоды? Не являются ли внешние неблагоприятные обстоятельства и всевозможные препятствия или, скажем, всякого рода ненависть, ревность, своенравие, недоверчивость, жестокость, жадность теми благоприятствующими обстоятельствами, без которых невозможен никакой рост, никакое развитие, даже если речь идет о добродетели? Яд, который губителен для натур слабых, живительно действует на сильных – и они даже не считают его ядом.
Достоинство глупости. Еще несколько тысячелетий на пути последнего столетия! – и во всем, что делает человек, обнаружится его недюжинный ум: но именно в этот момент этот ум утратит всякое достоинство. И хотя необходимость проявлять ум не отпадет, все же это превратится в дело обыденное и настолько распространенное, что человек взыскательного вкуса воспримет эту необходимость как плебейство. И подобно тому как тирания истины и науки сумела бы поднять цену лжи, так и тирания ума могла бы породить новый вид благородства. Быть благородным в этом случае означало бы: думать о глупостях.
Учителям самоотверженности. Добродетели человека считаются положительными качествами не с точки зрения их положительного воздействия на него самого, а с точки зрения того, насколько положительными нам представляется их воздействие на нас самих и на все общество, – именно поэтому во все времена, восхваляя добродетели, мы так редко бывали «самоотверженны» и «неэгоистичны»! В противном случае мы могли бы увидеть, что добродетели (такие как трудолюбие, послушание, целомудрие, уважение к другим, справедливость) причиняют лишь вред их обладателям, ибо, по существу, представляют собой инстинкты настолько властные и требовательные, что не подчиняются даже увещеваниям разума, пытающегося привести их в равновесие с прочими инстинктами. Если у тебя есть добродетель, настоящая, полнокровная добродетель (а не какой-нибудь чахленький позыв к добродетели!), то ты – ее жертва! Но именно поэтому сосед хвалит твою добродетель! Принято хвалить трудолюбивого, пусть даже из-за трудолюбия он утратит былую зоркость, свежесть восприятия, природную чистоту духа; когда о каком-нибудь молодом человеке говорят: «он сгорел на работе», то произносится это с чувством сожаления и уважения, ибо, как правило, рассуждают так: «Значение общества в целом столь велико, что потеря одного человека, пусть даже лучшего из лучших, всего лишь небольшая жертва! Плохо, что требуются такие жертвы! Но хуже будет, наверное, если каждый отдельный человек будет думать иначе и считать свою собственную безопасность и свое собственное развитие гораздо более важным, нежели служение обществу!» И потому жалеют этого юношу не столько из-за него самого, сколько оттого, что эта смерть отняла у общества преданного, самоотверженного слугу, его орудие – так называемого честного человека. Правда, быть может, кто-нибудь еще задумается над тем, а не было бы обществу гораздо больше пользы, если бы он работал менее самоотверженно и тогда продержался бы несколько дольше; конечно, так было бы лучше, с этим нельзя не согласиться, но вместе с тем тут же находится возражение, обосновывающее несомненную пользу того, что жертва принесена и тем самым наглядно подтвердился особый образ мыслей – жертвенности жертвенного животного, – это ведь гораздо более высокая и масштабная цель. Таким образом, прославляя добродетели, превозносят именно готовность к самопожертвованию, готовность быть орудием в чужих руках, и, следовательно, тот самый слепой инстинкт, властвующий над каждой добродетелью, инстинкт, который неподвластен даже идее личного блага индивидуума, иными словами: безрассудство добродетели, вследствие которого отдельное существо позволяет превратить себя в функцию целого. Восхвалять добродетель – значит восхвалять то, что приносит вред индивидууму, восхвалять те инстинкты, которые лишают человека благороднейшего чувства – любви к себе, уничтожают всякую способность владеть собой. Конечно же, в целях воспитания и ради того, чтобы привить человеку добродетельные привычки, притягиваются за уши такие свойства добродетели, которые роднят ее с личной выгодой, – и действительно, такая родственная близость есть! Например, слепое неистовое трудолюбие, эта типичная добродетель всякого орудия, представляется как путь к богатству и славе и верное средство избавления от скуки и страстей, но при этом ни слова не говорится о той опасности, о той угрозе, которую таит в себе подобная добродетель, – о ее рискованности! Воспитание обычно протекает так: различными привлекательными доводами о благе и выгоде у индивидуума формируется определенный образ мыслей и действия, и когда этот образ мыслей и действия становится привычкой, инстинктом, страстью, он затмевает в нем все и властвует над ним, вопреки его личному благу, но во имя «блага всеобщего». Как часто мне приходится наблюдать, что слепое неистовое трудолюбие хотя и добивается богатства и почестей, но вместе с тем притупляет тонкую чувствительность тех органов, при помощи которых он мог бы насладиться этими богатствами и почестями; то же самое можно видеть, когда трудолюбие используется как средство от скуки и страстей, – оно, конечно, может спасти от скуки и страстей, но одновременно притупляет все эмоции и делает дух невосприимчивым ко всякого рода новым соблазнам. (Самый трудолюбивый век – наш век, но для чего ему все это трудолюбие, все эти деньги, если единственное, что он умеет делать, – трудиться еще больше и зарабатывать еще больше денег – и так до бесконечности. Право же, искусство тратить деньги требует большего таланта, чем умение зарабатывать их. Ну что же, надо подумать и о «внуках»!) Если такое воспитание достигает своей цели, то каждая добродетель отдельного человека приносит, несомненно, большую общественную пользу, но оборачивается убытком с точки зрения высшего личного блага, ибо следствием ее становятся апатия чувств, меланхолия духа или преждевременная кончина; давайте посмотрим с этой точки зрения на все добродетели по очереди: послушание, целомудрие, уважение к другим, справедливость. Похвала бескорыстным, самоотверженным, добродетельным – то есть тем, кто все свои силы, весь свой разум употребил не на собственную безопасность, свое развитие, возвышение, продвижение, не на укрепление собственной власти, а напротив – по отношению к самому себе вел жизнь скромную, непритязательную, без лишних размышлений и смотрел на себя скорее равнодушно или даже иронично, – эта похвала раздается из уст тех, кто весьма далек от духа самопожертвования! Ведь наш «ближний» воздает хвалу бескорыстному самопожертвованию лишь потому, что видит в этом выгоду для себя лично! Если бы наш ближний сам мыслил «самоотверженно», то ему бы вряд ли понравилось терять свои собственные силы, причинять себе вред, он отказался бы от этого во имя собственной пользы, он бы непременно воспрепятствовал появлению таких склонностей, а главное, засвидетельствовал бы свою самоотверженность тем, что ни за что бы не назвал ее положительным качеством! В этом и проявляется основное противоречие той морали, которая нынче в особом почете: обоснование этой морали противоречит ее принципу! То, что требуется для обоснования этой морали, опровергается ее же собственным критерием морального! Призыв «Ты должен отречься от себя самого и принести себя в жертву» мог бы провозгласить только тот, кто, дабы не противоречить своей собственной морали, готов отказаться от собственной выгоды и, говоря о необходимости самопожертвования, имеет в виду свою собственную гибель. Но когда наш ближний (или общество) проповедует альтруизм во имя пользы, то это уже совершенно иной призыв: «Ты должен искать выгоду невзирая ни на что», и таким образом из одних и тех же уст, в одно и то же мгновение мы слышим: «Ты должен» и «Ты не должен»!
L’ordre du jour pour le roi[5]. День начинается: пора и нам приниматься за работу – подготовить все важные дела и распорядиться относительно увеселений для нашего высокочтимого повелителя, который еще изволит почивать. У Его Величества сегодня пасмурное состояние духа, но упаси нас Боже назвать его дурным, о таких вещах не говорят – мы только все дела обставим сегодня поторжественнее да пир закатим пышнее, чем обыкновенно. Быть может, выяснится, что Его Высочество захворало, а мы припасем ему к завтраку последнюю новость, оставшуюся еще с вечера: прибыл г-н Монтень, который так мило шутит, говоря о своих болезнях – у него ведь камни. И мы устроили прием для нескольких высокопоставленных персон («Персоны!» – что сказала бы, услышав это, та старая надутая лягушка, которая окажется среди них: «Я не персона, – скажет она, – я особа, самая особая особа!») – и прием будет длиться дольше обычного, так что никому уже не будет доставлять удовольствия, – хороший повод вспомнить о том поэте, который написал у себя на дверях: «Кто ко мне войдет, тот окажет мне честь, кто не сделает этого – доставит мне удовольствие». Вот уж воистину настоящая вежливая невежливость. Вполне возможно, сей поэт имел некоторое право быть невежливым: говорят, что его стихи лучше, чем сам стихоплет. Ну так пускай себе и сочиняет сколько душе угодно и держится по возможности подальше от нас: в этом и будет смысл его учтивой неучтивости! И наоборот, монарх всегда намного выше своих «стихов», даже если – однако, чем это мы занялись? Мы тут болтаем, а весь двор думает, что мы уже погружены в дела, бьемся над решением невероятно сложных вопросов: ведь наше окошко уже давным-давно светится. Но что это? Прислушайтесь! Неужели колокол? К черту! День занимается, бал начинается, а мы еще не выучили всех фигур! Придется импровизировать – весь свет импровизирует свой день. Давайте сегодня будем как все! И вот уже улетел мой затейливый утренний сон, быть может от тяжелого боя башенных часов, которые со свойственной им важностью отбивают уж пятый час. Мне кажется, что сегодня бог сна решил посмеяться над моими привычками – ведь я привык начинать день с того, что раскладываю его по полочкам, приспосабливая к своим собственным нуждам, – вполне возможно, что я частенько делал это слишком уж обстоятельно и церемонно, как будто я принц, а не простой смертный.
Падение нравов. Следует обратить внимание на следующие признаки того состояния, в которое неизбежно повергается время от времени всякое общество, – это состояние обыкновенно обозначают как «повреждение нравов», – как только где-то появляются симптомы падения нравов, в народе повсеместно распространяются самые разные суеверные слухи, они настолько пестры, что существовавшая до этого момента некая единая вера данного народа просто тускнеет и утрачивает свою силу: суеверие, кстати сказать, – своеобразное вольнодумство «для бедных» – кто поддается суеверию, тот отбирает для себя подходящие формы и формулы и оставляет за собой право выбора. В человеке суеверном по сравнению с человеком религиозным всегда больше от «личности», и суеверное общество – это такое, где уже много подобных индивидов и господствует тяга и индивидуальному. Если исходить из этой точки зрения, то суеверие всегда будет явлением прогрессивным по сравнению с верой, оно является знаком того, что интеллект стал более независимым и заявляет о своих правах. Следовательно, на развращенность нравов сетуют приверженцы старой религии и религиозности – ведь именно они до сих пор диктовали нормы словоупотребления и, возводя напраслину на суеверия, настолько извратили смысл слова, что даже умам свободомыслящим уже не под силу разобраться в этом. Запомним же, что суеверие – есть признак просвещения. Во-вторых, общество, в котором все явственнее наблюдается падение нравов, обвиняют в том, что оно теряет последние силы и дошло до полного изнеможения: и действительно, такое общество уже ни во что не ставит войну, утратив к ней всяческий интерес; вместо этого все устремляются в погоню за приятной и удобной жизнью, как некогда стремились к укреплению духа воинства и физической выносливости. Но обыкновенно не замечают того, что эта древняя энергия и страсть народа, которая, разбуженная войнами и состязаниями, явилась во всем великолепии, ныне не существует как нечто целое, она рассыпалась на бесчисленное множество индивидуальных страстей – и оттого стала не такой явной; вполне возможно, что в те времена, когда наступает «падение нравов», мощь и сила народа приобретают невиданный доселе размах и индивидуум начинает расточительно швыряться ими, ведь он никогда раньше не мог позволить себе этого – никогда прежде он не был так богат! У времени «общественного бессилия» свои приметы – это время, когда по городам и весям гуляют горе и беда, время, когда рождаются великая любовь и великая ненависть и яркое пламя познания рвется в небеса! В-третьих, как бы в возмещение понесенных убытков, пытаются как-то смягчить все обвинения и упреки по поводу суеверия и общественного бессилия и уверяют, будто времена «падения нравов» гораздо менее жестоки, нежели древние времена, более религиозные и сильные. Но я не могу присоединиться ни к этим похвалам, ни к этим упрекам: я могу согласиться лишь с тем, что жестокость приняла теперь более утонченные формы, ибо прежние формы не соответствуют современному вкусу; а вот умение мучить и ранить посредством слова и взгляда доводится во времена «падения нравов» до высочайшего совершенства – именно от этого рождается злоба и появляется тяга к злу. Люди времен «падения нравов» большие мастера по части злых шуток и клеветы; им хорошо известно, что человека можно убить не только кинжалом, неожиданно напав на него, – они хорошо знают, что бывает достаточно подобрать нужные слова, чтобы человек поверил в них. В-четвертых, когда «повреждаются нравы», то первыми всплывают на поверхность те личности, которых называют тиранами: это предтечи и вместе с тем преждевременно созревшие первенцы индивидуумов. Еще немножко – и этот плод плодов уже висит созревший, желтея на древе народа – и древо это взросло лишь для того, чтобы принести этот плод! Когда же падение нравов доходит до предела, когда тираны всех мастей устанут от бесконечных войн, тогда на сцене неизбежно должен появиться цезарь, тиран тиранов, который положит конец изнурительной борьбе за единовластие, обращая всеобщую усталость себе на пользу. Во времена цезаря индивидуум достигает, как правило, наивысшей зрелости, и, следовательно, «культура» достигает наивысшего расцвета – но это развитие шло отнюдь не во имя цезаря и независимо от него, хотя нередко выдающиеся таланты любят польстить своему цезарю, приписывая ему все свои заслуги. На самом-то деле им просто нужен был внешний покой, ибо им, занятым своей внутренней работой, вполне хватило своего собственного беспокойства. Именно в эти времена процветают продажность и предательство, так как любовь к только что обнаруженному «ego» заглушает любовь к старому, потрепанному, заболтанному сверх всякой меры «отечеству»; а потребность уберечься от резких поворотов колеса фортуны заставляет и более благородных людей радоваться, коли найдется какой-нибудь богач из власть имущих, готовый щедрою рукою отсыпать горсть-другую золотых монет. Ведь будущее так призрачно, и нет уверенности в завтрашнем дне, и оттого люди живут днем сегодняшним – такое состояние души всегда на руку соблазнителям: ведь так легко поддаться на искушение, пойти на подкуп, если речь идет только о «сегодня», – в запасе остается «завтра» и добродетель! Индивидуалисты, эти независимые одиночки, делающие все «сами по себе», как известно, больше думают о настоящем, нежели их антиподы, люди толпы, подчиняющиеся стадному инстинкту; ведь индивидуалист знает, что он так же непредсказуем, как и будущее; именно поэтому они предпочитают держаться поближе к людям, обладающим силой и властью, ибо знают, что способны на такие поступки и речи, которые вряд ли встретят сочувствие и понимание толпы. Но тиран или цезарь признает права индивидуума, даже если выходки преступают определенные границы, в его интересах отдать предпочтение более сильной личной морали и даже взять ее под свою защиту. Ибо он думает о себе и хочет, чтобы о нем думали другие то, что когда-то хорошо выразил Наполеон в своей обычной манере: «Я имею право на все обвинения ответить: „Да, я таков!“ Я не имею ничего общего с этим миром и не позволю диктовать себе условия. Я хочу, чтобы подчинились даже моим фантазиям и не видели ничего предосудительного в том, что я позволяю себе иногда рассеяться». Так ответил однажды Наполеон своей супруге, когда та, не без основания, осмелилась усомниться в его супружеской верности. Времена «падения нравов» – это пора, когда созревшие яблоки падают с дерева: я имею в виду индивидуумов, несущих в себе семена будущего, пионеров духовной колонизации, способствующих также образованию новых государственных и общественных союзов. «Падение нравов» – это только бранное слово, обозначающее пору созревания народа, его осень.
Различное недовольство. У одних людей недовольство проявляется чисто по-женски; слабые и беспомощные, они не знают, однако, себе равных, когда речь заходит о том, как украсить жизнь, как придать ей глубину и значимость; у других мы видим, так сказать, мужское недовольство; если развивать дальше этот образ – это натуры сильные, пекущиеся об улучшении жизни, старающиеся сделать ее надежной и основательной. Слабость и женственность первых обнаруживается в том, что они нередко легко поддаются обману и им не много надо, чтобы потерять трезвость мысли и погрузиться в мечтания и грезы, но в целом ничто не может принести им полного удовлетворения, и потому они страдают от своего недовольства, как от неизлечимой болезни; кроме того, они всегда весьма охотно споспешествуют тем, кто может помочь найти утешение в опиуме и наркотиках, но зато готовы люто невзлюбить всякого, кто врача ставит выше священника, – так их стараниями поддерживаются всяческие беды! Если бы в Европе со времен Средневековья не было бесчисленного множества недовольных этого рода, то, вероятно, никогда бы не открылась эта знаменитая способность к постоянному преобразованию, свойственная европейскому духу: ведь притязания мужского недовольства слишком уж грубы и, по сути дела, непритязательны, так что их без особого труда можно удовлетворить и тем самым успокоить. Китай может служить ярким примером страны, где всякое недовольство и способность к преобразованиям вымерли уже много веков назад. И наши европейские социалисты, и те, кто преклоняется перед государственной машиной, со всеми своими программами создания хорошей и надежной жизни могли бы, пожалуй, и в Европе насадить китайские порядки и устроить большое китайское счастье; правда, для этого им пришлось бы для начала очистить Европу от того болезненного, женственного и все еще весьма распространенного недовольства и всяческой романтики. А Европа – тяжелая больная, которая должна молиться на свою неизлечимость и вечные страдания, принимающие разные формы: ведь эта переменчивость, возникновение все новых и новых опасностей, появление все новых болезней и новых средств лечения, пусть и не очень действенных, – все это и породило в конце концов ту интеллектуальную чуткость, которую можно считать если не самой гениальностью, то уж во всяком случае матерью гениальности.
Не предназначено для познания. Существует какая-то дурацкая покорность, встречающаяся не так уж редко, которая сковывает человека настолько, что он даже не решается хоть раз стать учеником познания. Как правило, бывает так: едва только человек замечает что-то необычное, он с той же поспешностью, с какой обычно, отгоняя наваждение, плюет три раза через плечо и начинает твердить: «Нет, нет, ты ошибся! Это обман чувств! Этого не может быть! Это неправда!» – и вот, вместо того чтобы еще разочек как следует присмотреться да прислушаться, он, напуганный до смерти, бежит со всех ног подальше от этой необычной вещи, стараясь как можно скорее обо всем забыть. Его заповедь гласит: «Я не желаю видеть ничего, что противоречит общепринятому представлению о вещах! Разве я создан для того, чтобы открывать новые истины? И старых уже более чем достаточно».
Что значит жить? Жить – значит постоянно отталкивать от себя то, что должно умереть; жить – это значит быть жестоким и безжалостным по отношению ко всему слабому и старому, что есть в нас – и не только в нас. Значит, жизнь – это презрение к смерти, нищете и старости? Бесконечное убийство? Но ведь сказано еще пророком Моисеем: «Не убий!»
Аскет. Что делает человек, отрекающийся от всех благ? Он стремится достичь иных высот, он хочет умчаться в новый мир, взлететь выше всех, дальше всех, оторваться от всех тех, кто принимает жизнь целиком и полностью, – от жизнеутверждающих людей, – и он отбрасывает все, что может помешать его полету, – пусть даже что-то и было для него особо значимо, особо важно: он жертвует всем этим во имя страстного желания подняться ввысь. Жертвенность и стремление отринуть все лишнее – вот что, собственно, видят окружающие и в соответствии с этим называют его аскетом, таковым и предстает он перед нами: складки грубой одежды, глубоко надвинутый капюшон скрывают его от наших глаз, подобно тому как скрывает темная власяница душу скорбящего, – он, несомненно, рад, что производит на нас такое впечатление, ведь он не хочет выставлять напоказ свое страстное желание, свою гордость, свое стремление оторваться от нас и взмыть ввысь. Да, он умнее, чем мы думали, и как он предупредителен по отношению к нам – этот жизнелюбивый аскет! Ибо таковым он остается, даже отрекаясь от всего.
Вредные достоинства. Наши сильные стороны оказываются иной раз настолько сильны, что увлекают нас за собою, и мы уже не в состоянии мириться с нашими слабостями, и бремя наших слабостей становится невыносимым для нас, и мы от этого погибаем, и, хотя мы предвидим подобный исход, ничего иного нам и не нужно. Мы беспощадно жестоки по отношению к тому в нас самих, что требует бережной защиты, и наше величие оборачивается жестокосердием. За подобные действия мы в конечном счете расплачиваемся жизнью, но так поступали всегда великие люди во все времена: обладая исключительными качествами, достоинствами, которые присущи только им, они уничтожают вместе с тем все слабое, робкое, все то, что еще только начинает пробиваться к жизни, все то, что еще только нарождается, – именно оттого они необычайно вредны. Конечно, может случиться и так, что в конце концов вся их деятельность сведется лишь к таким вредным действиям, так как их достоинства будут восприниматься лишь теми, кто, отхлебнув этого слишком крепкого напитка, очертя голову, оставив всякое себялюбие, устремится по неведомым тропам, рискуя сломать себе шею.
О выдумщиках. Когда во Франции разгорелся спор вокруг «Аристотелевых единств» – одни пытались опровергнуть их, другие же, естественно, защитить, – то снова можно было наблюдать обычную картину, которую, впрочем, в таких случаях предпочитают как бы не замечать: выдумали причины, как будто бы обосновывающие существование этих законов, лишь бы не признаваться самим себе в том, что все просто привыкли к господству этих законов и вовсе не намерены от них отказываться. Ни одна господствующая мораль и религия не обходятся без этого, и так было всегда: как только кто-то вознамеривается опровергнуть ту или иную привычку, выяснить ее причины и смысл, тотчас же измышляются тысячи «почему» и «для чего», обосновывающие ее существование. В этом-то и проявляется лживость консерваторов всех времен: они большие выдумщики!
Комедия, разыгрываемая знаменитостями. Знаменитые люди, которые не могут обходиться без своей славы – скажем, к примеру, политики, – никогда не выбирают себе союзников и друзей, не лелея при этом в душе какой-нибудь тайной мысли: в одном они хотят видеть блеск – но не слишком яркий, дабы не затмевались собственные добродетели, в другом – порочные наклонности, известные всему свету и вызывающие только чувство омерзения и гадливости, третьего они попросту обворовывают, приписывая себе его леность и праздность, ибо иногда почему-то оказывается выгодным считаться рассеянным и вялым – тем самым они скрывают свою постоянную готовность к нападению; им обязательно нужно, чтобы кто-нибудь был рядом – сегодня в роли такого alter ego выступает мечтатель, завтра – знаток, послезавтра – педант, но вот проходит время, и они уже снова ищут чего-то нового! Отсюда – непрерывная изменчивость окружения и внешних обстоятельств жизни: что-то отмирает, но тут же появляется нечто иное, стремящееся как бы «внедриться» в это окружение, занять в нем главенствующее положение, став своего рода его «характером». В этом они весьма напоминают крупные города. Их репутация столь же неустойчива, как и характер. Такая переменчивость обусловлена использованием разнообразных средств, требующих постоянно подчеркивать то одно, то другое свойство – иногда эти свойства настоящие, иногда – вымышленные: их-то и выводят они на сцену: друзья и союзники воплощают для него в данном случае именно такие сценические свойства. Напротив, то, что составляет смысл их устремлений и чаяний, должно оставаться незыблемым, сохраняя свой немеркнущий блеск, – правда, и здесь тогда уже не обойтись без комедии, которая потребует своей постановки и своей игры.
Торговля и аристократизм. Умение покупать и продавать считается нынче столь же обычным делом, как и умение читать и писать, теперь все поднаторели в этом искусстве и справляются с ним не хуже любого торговца, каждый день они оттачивают свое мастерство, приобретая все большую сноровку: совсем как некогда, на заре человечества, всякий дикарь был охотником и каждодневно совершенствовал свое охотничье искусство. Тогда охотой занимались все; но как только она стала привилегией людей, наделенных властью и богатством, она утратила роль повседневного, обыденного занятия, в силу того что перестала быть насущно необходимой, превратившись в роскошное развлечение и увеселение, доступное лишь знати. Когда-нибудь нечто похожее случится и с умением торговать. Вполне можно представить себе такое состояние общества, когда никто ничего не будет ни продавать, ни покупать и постепенно отпадет всякая надобность в этом занятии: быть может, лишь немногие, те, кто не столь подвержен воздействию законов всеобщего развития, позволят себе роскошь покупать и продавать, и то только для того, чтобы ощутить прелесть сего искусства. Лишь в этом случае торговля обретет некое благородство, и аристократы будут заниматься торговлей столь же охотно, как до сих пор они занимались войнами и политикой. Это неизбежно повлечет за собой переоценку роли всей политики. Уже сейчас знать постепенно утрачивает к ней интерес: вполне возможно, что очень скоро сие занятие будет считаться чем-то недостойным, более уместным в рубрике «проституция духа», где-нибудь рядом с разделом «Из жизни партий» и скандальной хроникой.
Нежелательные ученики. «Что мне делать с этими юношами! – воскликнул однажды в негодовании некий философ, который, подобно Сократу, оказавшему пагубное влияние на юношество, «загубил» немало юных душ. – Мне не нужны такие ученики! Один не в силах вымолвить «нет», другой на все твердит «и да, и нет». Предположим, они примут мое учение, тогда на долю первого выпадет слишком много страданий, ибо мой образ мысли требует воинственной души, готовности причинить боль другому, умения безжалостно говорить «нет», закаленной кожи – иначе он не снесет внешних и внутренних ран и зачахнет. Другой же любое дело, за какое ни возьмется, будет искусно камуфлировать под посредственность и тем самым превращать ее действительно в посредственность – такого ученика можно пожелать только врагу своему!»
За стенами аудитории. «Для того чтобы доказать вам, что человек, в сущности, есть всего лишь доверчивое, кроткое животное, я позволю себе обратить ваше внимание на то, сколь легковерен он был на протяжении всей истории своего существования. И только теперь, сравнительно поздно, он, пройдя путь неслыханного самопреодоления, превратился в недоверчивое животное – да, ныне человек стал более злым, чем когда бы то ни было». Этого я никак не могу понять: отчего человек должен стать теперь более злым и недоверчивым? «Оттого, что теперь у него есть наука – наука, в которой он испытывает потребность».
Historia abscondita[6]. Всякий великий человек наделен силой, действие которой устремлено в прошлое: ради него история снова извлекается на свет Божий и снова подвергается строгому взвешиванию, и тогда тысячи тайн прошлого, сокрытые пеленою времени, выползают из своих укромных уголков на свет его солнца. Разве можно предсказать, что станет когда-нибудь достоянием истории. Ведь даже само прошлое хранит еще немало загадок, и нам известна, быть может, самая незначительная часть! Сколько понадобится еще сил, чтобы изменить направление истории и вызвать к жизни прошлое!
Ересь и колдовство. Инакомыслие уже давно не является следствием высокого уровня развития ума, оно проистекает от сильно развитых дурных наклонностей – желания оттолкнуть, изолировать, настоять на своем, позлорадствовать и позлобствовать. Ересь представляет собою нечто вроде колдовства, и, конечно же, она, подобно колдовству, не столь уж безобидна и уж, во всяком случае, едва ли достойна уважения. Еретики и колдуны – вот две разновидности злых людей: роднит их одно – они ощущают себя злыднями, и независимо от того, идет ли речь о господствующем мнении или о человеке, стоящем у власти, они с непреодолимой страстью предаются злословию. Реформация, своеобразная квинтэссенция средневекового духа, породила неслыханное количество и тех и других, особенно на том этапе, когда совесть ее уже была нечиста.
Последние слова. Все, конечно, помнят, что император Август – тот самый страшный человек, который умел, подобно, скажем, мудрому Сократу, держать себя в руках и не болтать лишнего, – на смертном одре неосторожно произнес слова, открывшие его истинное лицо: впервые он отбросил маску и дал тем самым понять, что всю свою жизнь он скрывался под этой маской, играя комедию, в которой исполнял роль отца отечества, являя собой мудрость на троне, – игра его была столь совершенна, что создавалась полная иллюзия реальности. «Plaudite, amici, comoedia finita est!»[7] Мысль умирающего Нерона: «Qualis artifex pereo!»[8] – заключена в словах умирающего Августа: вот оно, тщеславие гистрионов, вот она, их болтливость! Как далеко это от умирающего Сократа! Зато Тиберий умер молча, он истерзал себя самобичеванием – других таких не знала история, – вот в ком было все истинно, и никакого актерства! Какие только мысли не проносились в его голове в последний час! Быть может, он думал: «Жизнь – это долгая смерть! Как глуп я был – скольким людям я сократил жизнь! А может быть, мне предначертано было стать благодетелем? Тогда бы мне следовало подарить им вечную жизнь: это дало бы мне возможность наблюдать их вечную смерть. Ведь у меня такой острый глаз: „Qualis spectator pereo!“[9]». Но когда он, после долгой борьбы со смертью, казалось, уже вполне пришел в себя, его придушили подушками из соображения целесообразности – так умер он двойной смертью.
Три заблуждения. Всемерное поощрение науки, характерное для последних столетий, объяснялось отчасти тем, что при ее посредстве люди надеялись более всего приблизиться к пониманию доброты и мудрости Божией, – основной мотив, звучавший в душе великих англичан (таких как, например, Ньютон), – отчасти же это обуславливалось верой в абсолютную пользу познания, а точнее – верой в то, что между моралью, знанием и счастьем существует неразрывная связь – основной мотив, звучавший в душе великих французов (таких как, например, Вольтер), – в какой-то мере это объяснялось и тем, что в науке видели воплощение самоотверженности, безобидности, самодостаточности, истинной невинности, – и оттого считали ее достойной любви, наука казалась далекой от дурных инстинктов человека – основной мотив, звучавший в душе Спинозы, который в сфере познания чувствовал себя равным Богу, – вот три причины – три заблуждения!
Взрывчатые вещества. Если задуматься над тем, каким запасом взрывной силы обладают молодые люди, то станет понятно, отчего они столь неразборчивы, когда, не утруждая себя особо долгими размышлениями, берутся за то или иное дело: их прельщает азарт полыхающих вокруг него страстей, так сказать, вид горящего фитиля, а не само дело. Тонкие соблазнители делают ставку именно на это, они умело направляют их эксплозивную энергию туда, где она может разрядиться, и, обещая заманчивое дело, обходятся без каких бы то ни было разумных доводов: доводами такие пороховые бочки не возьмешь.
Изменившийся вкус. Изменение общего вкуса гораздо важнее, чем изменение мнений; мнения со всеми их доказательствами, возражениями и прочим интеллектуальным маскарадом суть лишь симптомы изменившегося вкуса, а вовсе не его причины, как это было принято до сих пор считать. Каким же образом происходит изменение вкуса? Сначала небольшая кучка людей – это особы избранные, наделенные властью и обладающие влиянием, – нимало не смущаясь, высказывают свои суждения – hoc est ridiculum, hoc est absurdum[10] – и тиранически навязывают другим сей приговор, который постепенно становится привычкой многих, а затем – всеобщей потребностью. То обстоятельство, что эти избранные тем не менее имеют свои собственные обонятельные, осязательные, зрительные и вкусовые ощущения, объясняется обычно особенностями образа жизни, питанием, пищеварением, быть может разным количеством неорганических солей в крови и мозгу, короче говоря – в физической природе: они, однако, достаточно мужественны, чтобы принимать ее в том виде, как она есть, и прислушиваться ко всем ее требованиям, даже если они уже едва различимы: их суждения по вопросам эстетики и морали и являются такими «едва различимыми звуками» физики.
О недостатке благородной формы. Отношения между солдатами и вышестоящими чинами еще не утратили былой культуры, как, скажем, отношения между рабочим и работодателем. Пока что, по крайней мере, та культура, которая имеет в своей основе военные устои, значительно выше культуры индустриальной: эту последнюю в ее нынешнем виде можно отнести к самой низкой форме бытия из всех существовавших доныне. Здесь действует просто закон всеобщей нужды: одни хотят жить и вынуждены продаваться, но презирают того, кто пользуется этим бедственным положением и покупает рабочего. Странно, что подчинение сильной личности, вызывающей страх и ужас, то есть личности поистине ужасной – тиранам, полководцам, – воспринимается как нечто гораздо менее неприятное, чем подчинение некоей безвестной и не представляющей никакого интереса личности, каковыми являются по существу все промышленные магнаты: в работодателе рабочий видит обычно только хитрого пройдоху, кровопийцу, спекулирующего на чужих бедах, для рабочего он последний человек – и потому безразлично, как его зовут, как он выглядит, какие у него привычки и что о нем думают другие. Фабрикантам и крупным торговцам, вероятно, не хватало до сих пор именно тех форм и признаков, которые как раз и отличают высшую расу, – благодаря которым пробуждается интерес к человеку как к личности; если бы они усвоили благородные манеры потомственных дворян, их взгляд, их жесты – то, может быть, не было бы социализма масс. Ибо массы, в сущности, всегда готовы принять любое рабство, лишь бы повелитель постоянно демонстрировал свое превосходство, свое законное право повелевать, данное ему от рождения, – и достигается это благородством форм! Самый низкий человек чувствует, что благородство нельзя просто сыграть, и потому он должен чтить этот плод, зревший в течение столь долгого времени, – и наоборот, отсутствие таких благородных форм и пресловутая вульгарность фабрикантов с их жирными красными ручищами наводят его на мысль о том, что всего лишь случай и удача вознесли одного на вершины власти, вынудив другого подчиниться: ну что же, думает он про себя, попробуем-ка и мы удачи, вдруг подвернется случай! Попробуем-ка вытянуть нужную карту! Так начинается социализм.
Против сожаления. Мыслитель расценивает свои действия лишь как попытку разобраться в чем-то, как некий вопрос: всякая удача или неудача являются для него прежде всего ответом. Если же что-то не получается, он не будет сердиться или уж тем более испытывать чувство сожаления – это удовольствие он оставляет тем, кто действует по принуждению и оттого боится получить порядочную трепку от господина, коли тот будет недоволен результатом.
Работа и скука. Искать работу только для того, чтобы заработать денег, – характерно почти для большинства людей цивилизованных стран; для них работа только средство, а не самоцель; поэтому они столь неразборчивы, если работа сулит хорошие барыши. Но есть и другие люди – таких очень мало, – они скорее умрут, чем станут заниматься работой, не доставляющей им удовольствия: это люди взыскательные, им трудно угодить, их не заманишь хорошим жалованьем, сама работа – для них наивысшая награда. К этой редкой породе людей относятся художники, люди искусства, все те, кто склонен к созерцанию, сюда же, однако, можно причислить и тех бездельников, которые жизнь свою тратят на охоту, путешествия, любовные приключения и похождения. Все они готовы взять на себя любую работу и терпеть нужду, но только при одном условии – работа должна доставлять удовольствие, тогда, если надо, они возьмутся и за самую трудную, и за самую тяжелую. В противном же случае они сознательно не выходят из состояния апатии, даже если эта апатия грозит им всяческими бедами – обнищанием, бесчестием, опасными болезнями и смертью. Скука страшит их меньше, нежели работа, не приносящая удовольствия: они даже испытывают некую потребность в скуке, ибо она сулит грядущую удачу. Для мыслителей и всех изобретательных умов скука означает неприятное «затишье» души, которое предвещает удачное плавание и свежий попутный ветер; ему нужно только пережить это «безветрие», терпеливо и спокойно, не выходя из себя, переждать это состояние, – натуры более низкие, конечно же, никогда не смогут заставить себя поступать подобным образом! Гнать от себя скуку любыми способами – недостойно, так же как недостойно работать без удовольствия. Именно этим, по-видимому, отличаются азиаты от европейцев: они способны гораздо дольше сохранять спокойствие, нежели последние; ведь даже их наркотики – длительного действия и требуют терпения, в отличие от омерзительно быстрого действия европейского яда, именуемого алкоголем.
О чем говорят законы. Изучая законы уголовного права того или иного народа, не следует считать их выражением национального характера; законы не дают представления о том, каков тот или иной народ, скорее они показывают все то, что данный народ воспринимает как нечто чуждое, из ряда вон выходящее, чудовищное, инородное. Законы опираются на исключения, относящиеся к нравственной стороне нравов; самые суровые наказания предусмотрены как раз для тех случаев, которые у других народов не выходят за нормы морали. Так, например, для вагабитов существует лишь два смертных греха: вера в другого бога (не в бога вагабитов) и – курение, называемое у них «позорным видом пьянства». «А как же убийства и прелюбодейство?» – спросил изумленный англичанин, узнав об этом. «Что ж, Бог милостив, Он всех простит!» – ответил старый вождь. Или, например, древние римляне считали, что для женщины существует два смертных греха – супружеская неверность и употребление вина. Старик Катон утверждал, что обычай целовать родственников был заведен лишь для того, чтобы держать женщин в этом смысле под неусыпным контролем; всякий поцелуй означал вопрос: пахнет ли от нее вином? И действительно, женщин, уличенных в этом злодеянии, приговаривали к смертной казни, и вовсе не потому, что женщины под воздействием вина вовсе разучатся говорить «нет»: римляне испытывали страх прежде всего перед этой пагубной, оргиастической, дионисической силой, которая порой – особенно в те времена, когда вино в Европе еще считалось новшеством, – как смерч проносилась над югом Европы, одурманивая тамошних женщин; римляне воспринимали это как чудовищное подражание чуждым нравам, подрывающее основу основ римского мировосприятия; им чудилась в этом прямая измена Риму, проникновение чужеродных влияний, равносильное потере суверенной целостности страны.
Вера в обоснованность наших действий. Выявление истинных мотивов, которыми до сих пор руководствовалось в своих деяниях человечество, представляется, несомненно, весьма существенным. Но какое бы значение ни придавалось этому знанию, для человека познающего гораздо более важными являются не столько сами мотивы, сколько вера в обоснованность того или иного поступка, то есть то, что человечество, не слишком утруждая себя долгими размышлениями, испокон веку принимало за истинный движитель своих действий. Объяснение счастья или несчастья, выпавшего на долю того или иного человека, зиждилось на вере в обоснованность того или иного поворота судьбы – при этом никогда не принимались во внимание собственно причины, вызвавшие его! Об этом уже никто и не вспоминал.
Эпикур. Да, я горжусь тем, что воспринимаю характер Эпикура, быть может, иначе, чем кто-либо другой, я знаю о нем много, но это не мешает мне наслаждаться счастьем созерцать древность, вступившую в полосу предвечерних сумерек: я вижу его глаза, они смотрят на белесую воду, взгляд охватывает морские просторы и уносится вдаль, туда, за скалистый берег, освещенный солнцем, в свете его лучей резвятся большие и малые звери, легки и спокойны их движения, так же как легок и спокоен этот свет и этот взор. Такое счастье мог придумать только человек, обреченный на вечные страдания, – счастье иметь такие глаза, перед взглядом которых затихает море бытия, глаза, не устающие наслаждаться видом глади морской, превратившейся в яркую, нежную, трепетную пленку: никогда еще доныне мир не видывал такой скромности в наслаждении.
Наше удивление. В том, что наука занимается выявлением предметов, обладающих постоянными, устойчивыми свойствами, а они, в свою очередь, дают толчок к новым открытиям, заключается глубокое и прочное счастье – ведь все могло быть совершенно иначе! Ибо мы принимаем как нечто вполне естественное зыбкость и причудливость наших суждений, мы настолько привыкли к вечной переменчивости всех человеческих законов и понятий, что не устаем дивиться тому, насколько устойчивыми оказываются научные выводы! В былые времена человеческий дух не знал такого непостоянства: общий порядок, при котором основу нравственности составляла порядочность, поддерживал веру в то, что вся внутренняя жизнь человека навеки прикована вечными скобами к железной необходимости; быть может, и тогда люди испытывали такое же сладостное удивление, слушая чудесные истории и сказки о феях. Все эти чудеса оказывали на людей тех времен такое благостное воздействие, что им хотелось, наверное, на мгновение забыть все правила, не вспоминать о вечности. Хотя бы раз ощутить уходящую из-под ног почву! Воспарить! Ошибаться! Валять дурака! Вот что считалось раем и исключительной роскошью в те незапамятные времена; а наше блаженство сродни блаженству, которое испытывает потерпевший кораблекрушение, после того как удачно выберется на берег, встанет обеими ногами на нашу добрую старую землю и удивляется, отчего это она не качается.
О подавлении страстей. Если постоянно сдерживать свои страсти, считая, что всякая несдержанность в этом смысле более пристала натурам «низким», грубиянам, неотесанным мужланам, то есть пытаться подавить не столько сами страсти, сколько язык и жесты, которыми они выражаются, то результат будет как раз прямо противоположный: именно страсти окажутся подавленными, в лучшем случае – они утратят свою силу, подвергнутся изменениям. Поучительным примером в этом смысле может служить двор Людовика XIV и все, что в силу существовавшей зависимости было связано с ним. Следующее столетие, воспитанное в духе подавления, утратило и сами страсти, каковые были заменены грациозным, легким, игривым поведением, – это был век, не способный на дерзость и невоспитанность, так что даже оскорбление облекалось в формы учтивые и для ответа выбирались не менее любезные слова. Быть может, нынешнее время непостижимым образом являет собой образчик полной противоположности: я повсеместно наблюдаю – в жизни, в театре и даже, надо сказать, в литературе – какое-то упоение малейшим грубым всплеском страсти, любым жестом, выдающим ее: ныне обходятся просто неким условным проявлением страсти – только не самой страстью! И тем не менее этот путь рано или поздно приведет к ней, и наши потомки достигнут тогда истинной дикости, отличной от дикости и необузданности голых форм.
Необходимые знания о лишениях и невзгодах. Быть может, ничто так не разъединяет людей, как то, насколько они познали лишения и невзгоды: нищету духа и страдания тела. Что касается последнего, то мы, нынешнее поколение, наверное все без исключения, хотя и стремимся преодолеть наши хвори и недуги, не обладая достаточным личным опытом, представляем собой никудышных работников и никчемных мечтателей: по сравнению с теми временами, когда господствовал страх – это был самый продолжительный из всех периодов истории, – тогда каждому человеку приходилось защищать себя от насилия, и ради достижения этой цели он был вынужден сам применять насилие. В то время всякий мужчина проходил хорошую школу физических страданий и лишений, и в этом добровольном самоистязании, воспитывающем привычку к боли, пусть в какой-то мере и жестоком по отношению к самому себе, он видел необходимое средство самосохранения; такую же выучку проходили все его родные и близкие, в те времена людям доставляло удовольствие причинять боль, и вид чудовищных страданий не вызывал ничего, кроме чувства собственной безопасности. Что же касается страданий духовных, для меня в каждом отдельном случае важно то, познал ли человек эти страдания на собственном опыте или знает о них лишь понаслышке; считает ли он необходимым прикидываться знатоком в этой области, полагая, будто это признак более утонченного воспитания, или он вообще в глубине души не верит в большие душевные страдания и всякое упоминание о них вызывает у него те же ощущения, что и упоминание о физической боли: тут же начинают ныть зубы и болеть живот. Мне представляется, что ныне такое положение дел является господствующим. У людей не выработана привычка переносить боль в двух ее основных формах, и, кроме того, нынче не так уж часто удается увидеть страдальца – из этих двух обстоятельств проистекает важное следствие: сейчас боль ненавидят в гораздо большей степени, нежели в былые времена, и какая только напраслина на нее не возводится – никогда так скверно не говорили о ней, ведь даже одна мысль о боли воспринимается как нечто едва переносимое, что дает основание считать повинным в этом самое бытие, осыпаемое упреками и укорами. Появление различных философских учений, окрашенных духом пессимизма, ни в коей мере нельзя рассматривать как следствие каких-либо страшных потрясений и катастроф; сомнение в ценности бытия возникает в те времена, когда жизнь становится настолько изнеженной и легкой, что всякий укус какого-нибудь назойливого комара расценивается – идет ли речь о теле или о душе – как некое невероятно кровавое злодейство, а недостаток опыта в области подлинного страдания приводит к тому, что возникает непреодолимое желание выдать воображаемое страдание – то есть расхожее представление о нем как о некоей муке – за страдание высшего рода. Можно было бы, конечно, дать рецепт, спасающий от философии пессимизма и чрезмерной чувствительности, каковые представляются мне поистине бедствием нашего века, но, наверное, сей рецепт покажется слишком жестоким и будет отнесен к тем явлениям, которые и позволили сформировать распространенное сейчас суждение: «Бытие есть зло». Итак, вот мой рецепт: от «невзгод» спасут только – невзгоды.
Великодушие и родственные явления. Такие парадоксальные явления, как неожиданная замкнутость в поведении человека добродушного и открытого, как юмор человека меланхолического склада и в первую очередь великодушие, выражающееся в нежелании удовлетворить чувство мести или зависти, оказываются свойственными тем людям, которые обладают мощной внутренней силой расточительства, людям, которые быстро пресыщаются и подвержены приступам отвращения. Они пресыщаются столь стремительно и с такой силой, что единственным спасением от возникающего затем неизбежного чувства опустошенности, скуки, отвращения может быть лишь полная смена привычек и представлений; эта внезапная, судорожная смена вызывает, как правило, резкие ощущения – у одного это проявляется в неожиданной сдержанности поведения, у другого – в смехе, у третьего – в слезах и в желании принести себя в жертву. Человек великодушный – по крайней мере, тот тип, который производит всегда самое сильное впечатление, – представляется мне тем, кто, терзаемый безудержной жаждой мести, утоление которой вполне достижимо, ограничивается мысленным удовлетворением этой потребности, испивая полную чашу до самого дна, до самой последней капли так, что необузданное желание стремительно сменяется чудовищным отвращением, – теперь он, как говорится, превозмог себя и готов простить своего врага, милостиво терпеть его и даже воздать ему почести. Но, совершая такое насилие над самим собой, надругаясь над своим чувством мести, которое еще недавно было столь мощным, он отдается во власть новому, растущему в нем чувству, которое отныне стало набирать в нем силу, – отвращению, правда, делает он это все с той же нетерпимостью и необузданностью, как совсем недавно, когда силой своего воображения он лишил себя радости подлинной мести тем, что уже мысленно исчерпал ее всю до конца. Великодушие заключает в себе столько же эгоизма, сколько и месть, только качество этого эгоизма иное.
Страх перед одиночеством. Укоры совести, даже у самого совестливого человека, ничто по сравнению с тем чувством, которое постоянно нашептывает: «Вот это и это противоречит правилам хорошего тона в твоем обществе». Холодный взгляд, поджатые губы тех, среди которых и для которых ты воспитан, вызывают чувство страха даже у человека сильного. Но чего же, собственно говоря, тут страшиться? Одиночества – вот тот аргумент, перед которым отступают самые убедительные доводы, высказываемые в пользу того или иного человека, в пользу какого-нибудь начинания! Так говорит в нас стадный инстинкт.
Чувство истины. Мне нравится скепсис, всякое проявление которого я позволю себе приветствовать словами: «Давайте попробуем!» Но я не желаю больше ничего слышать о всех тех предметах, о всех тех вопросах, что препятствуют проведению эксперимента. Здесь проходит граница моего «чувства истины», ибо там храбрость уже утратила свои права.
Что знают о нас другие. То, что мы знаем о самих себе и что хранится в нашей памяти, не определяет счастья нашей жизни в той мере, как это принято считать. В один прекрасный день на нас обрушивается то, что о нас знают другие или думают, что знают, – и тогда мы осознаем: это имеет над нами гораздо большую власть. Ведь легче справиться со своими собственными угрызениями совести, нежели со своей дурной репутацией.
Где начинается добро. Там, где глаза, утратившие былую зоркость, уже не в силах различить злые инстинкты, которые приняли трудноуловимые утонченные формы, человек провозглашает царство добра, и ощущение того, что он очутился в царстве добра, возбуждает все его желания и стремления, которые подавлялись и обуздывались инстинктом зла, – такие как чувство уверенности, удовольствия, доброжелательности. Таким образом: чем слабее зрение, тем дальше простирается добро! Отсюда вечная жизнерадостность, присущая простым людям и детям! Отсюда – мрачность и тоска, близкая угрызениям совести, которые свойственны великим мыслителям!
Сознание видимости. Какое упоение, какое обновление и вместе с тем сколько ужаса и иронии испытываю я, с моим «познанием», перед лицом бытия! Я открыл для себя, что весь прежний мир людей и животных, вся глубочайшая древность и прошлое той жизни, обладавшей всей полнотой восприятия и ощущения, продолжает во мне творить, любить, ненавидеть, размышлять – и я очнулся внезапно от этого сна, но только для того, чтобы осознать, что я пребываю в мире грез и мне следует вернуться обратно, дабы не погибнуть: подобно тому как должен пребывать во сне лунатик, рискующий иначе оступиться и сорваться вниз. Что же такое для меня теперь «видимость»? Вполне очевидно, что ее нельзя противопоставить некоей сущности – ибо, говоря о какой бы то ни было сущности, я могу лишь назвать предикаты ее видимости! Ее нельзя принимать за безжизненную, ничего не выражающую маску, которую можно напялить на любого «X», а потом с таким же успехом стянуть! Видимость для меня уже сама по себе начало действующее, живое, которое беспощадно насмехается над самим собой, и в результате пробуждает во мне чувство нереальности, ощущение, что все здесь кажимость, все наполнено призрачным светом, все лишь фантастическая пляска духов – и не более того, а я, «познающий», оставшийся в мире сна, исполняю свою партию в этом танце, и что «познающий» – всего лишь средство продлить время земного танца, благодаря чему он становится одним из распорядителей на празднике бытия, и благородная последовательность и взаимосвязанность каждого шага познания есть и будет, наверное, величайшим средством, при помощи которого можно сохранить неизменной общность сновидений, средством, которое создает основу взаимопонимания всех обитателей мира сна, средством, которое делает сон бесконечным.
Последнее благородство. Что значит быть «благородным»? Приносить жертвы? Конечно же нет: ибо и сладострастник, одержимый похотью, приносит жертвы. Отдаться какой-нибудь одной страсти? Тоже нет, ибо страсти бывают низменными. Делать что-нибудь для других, бескорыстно и самоотверженно? Конечно же нет: ибо ведь именно благороднейшим душам свойственно самое последовательное своекорыстие. Нет, человека делает благородным то, что страсть, охватывающая его, представляет собой нечто особенное, хотя он сам и не подозревает о ее необычности: выбор подхода редкого и неординарного, состояние на грани умопомрачения; ощущение скрытого жара вещей, кажущихся всем прочим холодными; угадывание ценности предметов, для которых еще не изобрели весов; принесение жертвы на алтарь неведомому богу; храбрость, не требующая награды; полная самоудовлетворенность, избыток которой сообщается людям и вещам. Иными словами, обладание особыми свойствами и неведение относительно собственной необычности – вот что такое благородство. При этом, однако, следует задуматься над тем, что подобные рассуждения приводят к несправедливой и, в сущности, ложной оценке того, что было для человека привычным, понятным, необходимым, то есть того, что как раз более всего способствовало сохранению рода, словом – всех существовавших доныне правил, принятых в обществе. Стать защитником всякого правила как такового – вот, быть может, та последняя форма, то воплощение утонченного вкуса, которое может явить миру благородство.
Жажда страданий. Когда я думаю о той жажде деятельности, которая гложет миллионы юных европейцев, чья лихорадочная предприимчивость возникла лишь от скуки и от незнания, куда себя девать, я прихожу к выводу, что, вероятно, это просто жажда страдания, стремление как-то пострадать, дабы таким образом иметь более или менее правдоподобное объяснение своим поступкам и действиям. Беда превратилась в необходимость! Отсюда – вопли политиков, отсюда – все эти выдумки, басни, страшные сказки о «бедственном положении» всех возможных классов и наша слепая готовность верить в них. Эти юнцы требуют, чтобы откуда-нибудь извне на мир снизошло – или хотя бы показалось на горизонте – вы думаете счастье? – нет, несчастье! – их неуемная фантазия уже хлопочет, суетится, пытаясь заранее сотворить себе чудище, с которым бы она потом могла сразиться. Если бы сии юноши, одержимые манией страдания, чувствовали в себе достаточно внутренних сил, чтобы изнутри приносить самим себе пользу и самим же причинять себе вред, они сумели бы тогда сотворить себе и свою собственную самодостаточную беду. Их открытия в этой области обладали бы тогда большей изощренностью, а удовлетворение выражалось бы в формах, подобных изысканной музыке: ныне же они оглашают весь мир криками о бедственном положении и тем самым лишь сеют смуту, слишком часто пробуждая тревожное предощущение беды! Они не знают, куда себя девать, – и потому желают другим несчастья: ведь им всегда нужны другие! Все новые и новые другие! Простите уж, любезные друзья, – я возьму на себя смелость позаботиться о своем счастье сам.
Книга вторая
Реалистам. Вы, трезвые люди, полагающие, будто хорошо вооружены против страстей и мечтаний, вы, старающиеся изо всех сил выдать свою пустоту за гордость и украшение, вы величаете себя реалистами, прозрачно намекая на то, что мир в действительности сотворен таким, каким он представляется вам: только перед вами действительность предстает в своей первозданной наготе, и вы сами, без сомнения, составляете ее лучшую часть – о, вы, возлюбленные Саисские изваяния! Но даже если вы скинете с себя свои последние покровы, разве исчезнет ваша страстность, рассеется тьма, составляющая вашу сущность, которую можно сравнить разве что с рыбой, пропадет ваше сходство с влюбленным художником – «действительность»! Вы все еще распространяете повсюду оценки, уходящие своими корнями в страсти и влюбленности былых столетий! А ваша трезвость – это все еще трезвость пьяницы, терзаемого тайным неистребимым желанием! Или ваша любовь к «действительности», например, – ведь это все та же древняя, исконная «любовь»! И в каждом ощущении, в каждом впечатлении, улавливаемом нашими чувствами, есть след этой древней любви, вплетающийся в причудливый узор, сотканный из мечтаний, предрассудков, безрассудства, неведения – всего не перечесть! Взгляните на ту гору! Или на то облако! Где в них «действительность»? Снимите-ка с них слой фантазий и очистите от всякой шелухи человеческих выдумок, вы, трезвые! Да, если бы вы только могли это сделать! Если бы вы сумели забыть ваши корни, ваше прошлое, все то, чему вас учили в детстве, – все то, что есть в вас от человека, – всю вашу человеческую человечность, и то, что есть в вас от животного, – вашу звериную животность! Для нас не существует «действительности» – но и для вас ее тоже нет, вы, трезвые, – мы давно не так уж далеки друг от друга, как вам это представляется, и, быть может, наше стремление добровольно выйти из состояния опьянения заслуживает не меньшего внимания, чем ваша вера в то, что вы вообще не способны поддаться опьянению.
Творите! Мне всегда стоило невероятных усилий, да и до сих пор еще стоит таких же усилий, осознать, что несказанно большее значение имеет название вещи, нежели сама вещь. Репутация, имя, облик, значение, общепринятая мера и вес какой-либо вещи – в основе своей чаще всего бездумно и легкомысленно навешенный ярлык, напоминающий небрежно накинутое платье, неуместность которого всякая вещь ощущает всей своей сущностью и даже кожей, – поддерживаются верой в них, из поколения в поколение они питаются одними и теми же соками и постепенно прирастают к вещи, пускают корни, врастают в нее все глубже и глубже, становятся ее плотью и кровью; то, что представляется всего лишь видимостью, в конце концов неизбежно становится сущностью и действует как сущность! Каким надо быть глупцом, чтобы наивно полагать, будто достаточно было бы лишь указать причины, породившие безумное заблуждение, и сорвать покров туманности, чтобы уничтожить этот мир, считающийся реальным, так называемую действительность! Только став творцами, мы сможем его уничтожить! Но не забудем одного: достаточно сотворить новые имена, новые характеристики и новые оценки, чтобы дать жизнь новым «вещам».
Мы художники! Когда мы любим женщину, то очень скоро начинаем ненавидеть природу, лишь только вспоминаем о тех отвратительных ее законах, которым подчиняется естество всякой женщины; обыкновенно мы стараемся и не вспоминать об этом, но наша душа, которой претит малейшее случайное соприкосновение с такими явлениями, непроизвольно вздрагивает от чувства брезгливости, коли случается такое, и смотрит, как уже было сказано, на природу с презрением; мы оскорблены, и нам кажется, будто природа посягнула на нашу собственность, осквернив ее своими нечистыми, неосвященными руками. Мы затыкаем уши, дабы не слушать все эти разговоры о физиологии, и принимаем про себя категорическое решение: «Человек – есть душа и форма, и я не желаю слушать всякие выдумки о том, что в нем есть что-то еще». «Человеческий организм» – для всех любящих это мерзость, нелепица, вздор, богохульство и поношение любви. Теперь представьте себе – точно такие же чувства, каковые испытывает ныне каждый любящий по отношению к природе и естеству, некогда испытывал всякий, кто благоговел перед Богом и Его «святым всемогуществом»: все, что говорилось о природе астрономами, геологами, физиологами, врачами, воспринимал он как посягательство на свою драгоценнейшую собственность и, следовательно, как неприятельский выпад – причем неприятеля наглого и бесстыдного! «Закон природы» – уже в самом этом слове слышалось ему богохуление. В сущности, ему пришлось бы по душе, если бы вся механика была сведена к моральным актам свободного волеизъявления и своеволия; но поскольку ему никто не смог оказать такой услуги, то он запрятал как умел природу и механику в укромный уголок, подальше от самого себя и зажил спокойно в грезах и сновидениях. Ах, эти люди былых времен – они знали толк в снах и сновидениях, им даже не нужно было для этого сначала засыпать – но ведь и мы, современные люди, еще не утратили такой способности, хотя мы более склонны бодрствовать и тянемся к дневному свету! Стоит только начать любить, ненавидеть, страстно желать, словом – начать просто чувствовать, в тот же миг мы почувствуем, как снизойдет на нас дух грез, ощутим, как прильют силы сна, и восстанем мы, спокойные и невозмутимые, бесстрашно глядя вперед, отправимся по лихим и опасным тропам, не пугаясь никакой беды, не страшась ни единой опасности, мы поднимемся высоко-высоко, обойдем все крыши и башни безумного безрассудства, и не закружится у нас голова, будто от рождения привыкли мы к высоте – мы, лунатики дня! Мы, художники! Мы, укрыватели естества! Мы, странствующие сомнамбулисты, исступленно алкающие Бога! Мы, тихие и спокойные, неутомимые странники, чей путь устремлен ввысь, и высоты эти для нас не высоты, а долины, где мы чувствуем себя в безопасности!
О расстоянии и притягательной силе женщин. Не оглох ли я? Я весь обратился в слух – неужели весь? Я стою здесь, и бушующие волны взвиваются ввысь, обрушиваясь на меня с неистовым жаром, их белое пламя лижет мне ноги, все наполнено воем, и стоном, и криком, и визгом, и в глубине глубин подал голос давнишний ниспровергатель земли и запел свою арию, гулко, глухо, как рассерженный бык: отбивает он такт, свой особый такт ниспровергателя, от которого даже у истрепанных ветрами скал, этих каменных чудищ, заходится в страхе сердце. И вот, неизвестно откуда, будто возникнув из пустоты, пред вратами этого адского лабиринта, всего лишь в нескольких саженях, явилось огромное парусное судно, скользящее, подобно призраку, безмолвно вдаль. О эта призрачная красота! В чем сила ее чар, околдовавших меня? Неужели весь покой и безмолвие мира нашли приют на этом корабле? Неужели здесь, на этом корабле, укрылось и мое счастье, мое благоденствующее Я, мое второе вековечное Я? Еще не умершее, но и не живущее? Словно призрачное, тихое, созерцающее, скользящее, парящее, двуликое существо? Подобное кораблю с белыми парусами, подрагивающими на ветру, будто крылья гигантской бабочки, устремившейся вдаль, за темное море! Да, именно так! Устремиться вдаль! Взлететь над бытием! Вот оно! Нет никакого сомнения! Кажется, весь этот шум сделал из меня мечтателя? Счастье не терпит шума и грохота, и мы переносим его мысленно куда-нибудь далеко, туда, где безмолвствует тишина. Когда мужчина стоит, оглушенный своим собственным шумом, средь набегающих стремительных волн своих устремлений, оставляющих на песке лишь размытые очертания замыслов, именно в этот миг предстают перед ним тихие, чудесные видения, скользящие куда-то вдаль, сулящие счастье, влекущие своей отрешенной недоступностью, – это женщины. И он уже готов поверить, будто там, у женщины, поселилось его лучшее Я, там, в тихой гавани, и шторм обратился в штиль, и самая жизнь станет мечтою о жизни. И все же! И все же! Мой благородный мечтатель, ведь на самом чудесном парусном судне не избежать шума и грохота и, к сожалению, не скрыться от тысячи докучливых шорохов. Вся прелесть женщины, ее могущество заключены, если выражаться языком философов, в действии на расстоянии – actio in distans, а это значит, что непременным условием в данном случае является прежде всего – дистанция!
Во славу дружбы. Чувство дружбы в древности считалось самым высоким, более высоким, нежели прославленная гордость стоика и мудреца, с которой только и могла она сравниться, но которую все же превосходила как чувство более святое: прекрасный пример тому – история одного македонского царя, который преподнес в дар некоему афинскому философу, слывшему гордым нелюдимом, целый талант, каковой тот вернул ему обратно. «Как же так? – изумился царь, – неужели у него нет друзей?» Он хотел этим сказать: «Я чту эту гордость мудреца и независимость отшельника, но его человеческая сущность была бы достойна еще большего уважения, если бы чувство дружбы одержало победу над его гордыней. В моих глазах философ многое утратил, ибо показал, что из двух самых высоких чувств он знает только одно, другое же – самое святое – неведомо ему!»
Любовь. Любовь прощает любимому даже его вожделение.
Женщина и музыка. Отчего эти теплые дождливые ветры навевают музыкальное настроение, когда хочется самому сочинять мелодии? Быть может, это те самые ветры, легкие порывы которых проникают в церкви и навевают женщинам мысли о любви?
Скептики. Боюсь, что состарившиеся женщины в глубине души гораздо более скептики, нежели все мужчины: отсутствие какой бы то ни было глубины, скольжение по поверхности считают они сущностью бытия, и потому все разговоры о добродетелях, о глубине для них не более чем хитрая уловка, прикрывающая эту «истину», всего лишь благопристойный фиговый листок, скрывающий pudendum[11] – то есть уступка правилам приличия и человеческой стыдливости, не более того!
Самопожертвование. Есть благородные женщины, в чем-то смиренные и кроткие, которые, не умея выразить глубокую готовность принести себя в жертву, выставляют напоказ свои добродетели и стыдливость – свое самое ценное сокровище. И нередко этот подарок принимается, что, однако, не предполагает каких-либо далеко идущих обязательств по отношению к дарительницам, на которые они так рассчитывали, – какая печальная история!
Сила слабых. Все женщины большие мастерицы преувеличивать свои слабости, они проявляют здесь завидную изобретательность, дабы предстать этакой хрупкой драгоценностью, которой самая мельчайшая соринка причиняет невыносимую боль: самое их существование должно вызывать у мужчин сознание собственной неотесанности и чувство некоей вины. Так защищаются они от грубой силы и всякого проявления «кулачного права».
Сыграть самое себя. Она полюбила его и с этого момента взирает на все с доверчивым спокойствием какой-нибудь коровы. Но горе тебе! ведь не это притягивало его – а твое кажущееся непостоянство и загадочность! Он сам не склонен к погодным переменам – постоянства хватало ему в избытке! Не следовало бы ей остаться в прежней роли? Сыграть бесстрастное равнодушие. Разве не это подсказывает ей страсть? Vivat comoedia!
Воля и подчинение воле. Рассказывают, как однажды к одному мудрецу привели некоего юношу и сказали: «Смотри, вот один из тех, кого испортили женщины!» Мудрец покачал головой и только усмехнулся на это. «Нет, – молвил он, – это мужчины портят женщин: за все грехи и прегрешения женщин отвечает мужчина, в нем совершается искупление, он призван исправлять ее ошибки, ибо мужчиной сотворен образ женщины, и женщина сотворяется по образу и подобию сему». – «Ты слишком снисходителен к женщинам, – сказал кто-то из гостей. – Ты их не знаешь!» В ответ на это мудрец возразил: «Мужчине должно иметь волю, женщине должно подчиняться воле – таков закон существования двух полов, истинно говорю! Суровый закон для женщин! Никто не несет ответственности за свое бытие, и менее всего – женщины: ибо у кого достанет для них милости и снисхождения!» – «Какая милость?! Какое снисхождение?! – раздался чей-то голос из толпы. – Женщин нужно лучше воспитывать!» – «Мужчин нужно лучше воспитывать», – сказал мудрец и знаком пригласил юношу следовать за ним. Но тот не внял его призывам.
Способность к мести. Если кто-нибудь не в силах защитить себя и, следовательно, даже не испытывает подобного желания, он не слишком уж много теряет в наших глазах: гораздо более недостойным нам представляется тот, кто лишен способности и желания мстить, – будь то мужчина или женщина. Разве смогла бы удержать нас подле себя женщина (как говорят, привязать), если бы мы не знали, что она при случае способна пустить в ход кинжал (или нечто подобное кинжалу) и обратить его против нас? – или против себя, что в определенной ситуации было бы еще более чувствительной местью (китайская месть)?
О властительствующих над властителями. Глубокое сильное контральто, которое временами еще можно услышать в театре, приподнимает неожиданно перед нами занавес, за которым открываются возможности, не вызывающие до сих пор у нас особого доверия; но тут мы начинаем верить в то, что где-то могут существовать женщины, наделенные душами высокими, героическими, способные и готовые бесстрашно возражать, принимать грандиозные решения, приносить огромные жертвы, способные и готовые властвовать над мужчинами, ибо то лучшее, что присуще мужчинам, превратилось в них, вопреки всем законам пола, в воплощенный идеал. Правда, подобное представление о женщине противоречило той партии, которая, по замыслу пьесы, была намечена для таких голосов: обыкновенно им отводится роль первого любовника, к примеру Ромео; но, насколько мне позволяет судить мой опыт, и постановщик, и композитор, ожидающие от таких голосов подобного эффекта, как правило, глубоко заблуждаются. Никто не верит таким любовникам: в их голосах по-прежнему проскальзывают нотки материнской нежности и заботливой мягкости, особенно в тех местах, когда самый звук голоса передает любовь.
О женском целомудрии. Есть нечто поразительное и невероятное в воспитании благородных женщин, быть может, даже нет ничего более парадоксального на свете. Никто не сомневается в том, что воспитывать их должно в полном неведении in eroticis, дабы всякий намек на подобные вещи пробуждал в их душе глубочайшее чувство стыда, отвращения, желание бежать малейшего соприкосновения с ними. В сущности, это тот случай, когда вся «честь» женщины ставится на карту, ведь в остальном – что только не прощается женщине. Но в этом вопросе неведением должно быть проникнуто все их существо: глаза и уши, слова и мысли – все должно отторгать это «зло», даже самое знание здесь оборачивается злом. И что же дальше? Ужасающий удар молнии – брак, он выбивает почву из-под ног, швыряет в омут действительности и знания, и все это дело рук того, кого они любят и кем безмерно дорожат: их взору открывается борьба между любовью и стыдом, слияние восторга, податливости, чувства долга, сострадания и ужаса от неожиданного соседства Бога и Зверя – чего тут только не увидишь! – вот уж действительно уму непостижимое хитросплетенье разных пут, сковавших душу! Даже мудрейшему из мудрецов, знатоку человеческих душ, с его сострадальческой пытливостью, не под силу понять, как удается той или иной женщине не потеряться перед разгадкой этой загадки, и какие чудовищные жуткие подозрения разъедают, должно быть, ее несчастную, растерзанную душу, выбитую из привычной колеи, и как последняя философия женщины, ее скепсис бросают именно здесь свой якорь спасения! Далее следует все то же самое глубокое молчание, и часто молчание наедине с собою, когда ни слышать, ни видеть себя не хочется. Молодые женщины стараются выставить себя легкомысленными ветреницами; самым ловким из них удается изобразить даже нечто вроде бесстыдной дерзости. Женщины с легкостью воспринимают своих мужей как некий знак вопроса, ставящий под сомнение их честь, а своих детей как некое оправдание и искупление – их внутренняя потребность и желание иметь детей исполнены совершенно иного смысла, чем желание мужчины иметь потомство. Словом, сострадание к женщине не знает границ!
Матери. Звери думают о самках иначе, чем люди, для зверя она существо, производящее потомство. У животных отсутствует любовь отца, есть лишь некое подобие той любви, какую испытывает человек к детям своей возлюбленной, с которыми он вынужден смириться. Самки получают от своих детей удовлетворение властолюбия, чувство ответственности, своего рода занятие, что-то очень понятное и доступное, располагающее к незатейливой беседе, – все это, вместе взятое, и есть материнская любовь, которую можно сравнить с любовью художника к своему творению. Беременность делает женщин более мягкими, податливыми, снисходительными, боязливыми; так и духовная беременность формирует характер созерцательный, который сродни женскому: это мужчины-матери. У животных прекрасным считается именно мужской пол.
Святая жестокость. К одному святому подошел человек с новорожденным младенцем на руках. «Что делать мне с этим ребенком? – спросил он. – Смотри, какой он жалкий, уродливый, жизнь едва теплится в нем, и нет у него сил, чтобы умереть». – «Убей его, – воскликнул святой жутким голосом. – Убей, а потом три дня и три ночи держи его в руках, дабы запечатлелся неизгладимый след в твоей памяти, – тогда отпадет у тебя всякая охота приживать детей, коли не настали для тебя времена и сроки». Услышал это человек и пошел, удрученный, прочь; и многие осудили святого, ибо жестоким был его совет – ведь он велел убить дитя. «Разве не более жестоким было бы сохранить ему жизнь?» – спросил святой.
Неудачницы. Никогда не будут пользоваться успехом те несчастные женщины, которые в присутствии любимого человека становятся суетливыми, беспокойными и слишком болтливыми, ибо самый верный способ соблазнить мужчину – поманить его несколько загадочной и холодной нежностью.
Третий пол. «Низкорослый мужчина – это парадокс, но все же при этом он остается мужчиной, иное дело низкорослые девицы – сравнительно с женщиной обычного роста они выглядят как существа какого-то другого, особого пола», – сказал один старый танцмейстер. «Маленькая женщина никогда не бывает красивой», – сказал старик Аристотель.
Величайшая опасность. Если бы во все времена не было несметного числа людей, содержащих свои мысли в строгости, лелеющих свою «разумность», каковую они почитают своею гордостью, долгом и добродетелью, этих друзей «здравого смысла», для которых всякие выдумки и фантазии, всякие завихрения мысли равносильны глубокому личному оскорблению и позору, то человечество уже давно бы погибло! Испокон веку нависает над ним величайшая опасность, не оставляющая и поныне их в покое, – опасность всеобщего умопомрачения, что означает для них разгул произвола, когда всякий начнет чувствовать, видеть и слышать на свой лад, наслаждаться невоздержанностью ума, упиваться безрассудством разума. Но не истина и истинность противопоставляются миру умалишенных, а всеобщность и общеобязанность веры, короче говоря, никакого своеволия в суждениях. Потребовалось немало нечеловеческих усилий для того, чтобы договориться друг с другом относительно множества вещей и навязать самим себе закон, предписывающий единообразие в толковании этих вещей, независимо от того, являются ли они истинными или ложными. Вот это и есть та строгость ума, благодаря которой сохранилось человечество, – но противоборствующие силы все еще не утратили своей мощи, так что будущее человечества, в сущности, по-прежнему внушает некоторые опасения. Вещи все еще продолжают меняться, в их образе постоянно что-то смещается, что-то сдвигается, и, пожалуй, теперь это происходит в гораздо большем объеме и гораздо быстрее, и все еще находятся противники всеобязательности, и первыми здесь выступают лучшие умы – исследователи истины! И по-прежнему вера, призванная быть единой для всех, вызывает у натур тонких отвращение и новые непотребные желания; даже самый ее медленный темп, неукоснительное соблюдение которого она предписывает всем духовным процессам, это уподобление черепахе, признанное здесь нормой, вынуждает художников и поэтов переметнуться в другой лагерь: горячие головы! Их так и тянет отдаться безумию только потому, что у безумства такой лихой темп! Итак, нужен добродетельный ум – или нет, лучше уж употребить здесь менее двусмысленное слово, совершенно однозначное, – нужна добродетельная глупость, нужен хороший метроном, исправно и невозмутимо отмеряющий неповоротливые движения медленного ума, дабы благочестивые верующие, исповедующие великую всеобщую веру, не разбрелись бы кто куда и не прерывали бы своего танца: удовлетворение этой потребности не терпит отлагательства, ибо именно она здесь правит бал, распоряжаясь всем и вся. Мы же – сторонники другого лагеря, мы – исключение, мы – опасность, – нас нужно вечно защищать! Что ж, и в пользу исключения можно кое-что сказать, при условии что оно никогда не станет правилом.
Животное с чистой совестью. Пошлость всех развлечений, в которых находят удовольствие жители юга Европы, – будь то, скажем, итальянская опера (к примеру, Россини или Беллини) или испанский плутовской роман (известный нам более всего в его французском обличье вроде «Жиль Блаза»), – конечно же, не ускользает от моего внимания, однако это ничуть не оскорбляет меня, равно как и пошлость, с которой сталкиваешься, прогуливаясь по Помпее и даже, честно говоря, при чтении античных авторов: отчего это происходит? Оттого ли, что здесь отсутствует стыд и любая пошлость чувствует себя здесь уверенно и проявляет себя без всякого смущения, заменяя собою в упомянутой выше музыке и романах благородство, обаятельность и страстность? «Животное имеет такие же права, что и человек: так пусть же бегает оно свободно, безо всякого стеснения, а ты, любезный мой собрат, как ни старайся, все ж остаешься животным!» – вот та мораль, какую, думается мне, можно извлечь, глядя на своеобразное проявление любви к ближнему у южан. Дурной вкус уравнен в правах с хорошим и даже обладает некоторыми преимуществами, особенно в тех случаях, когда он становится насущной потребностью, неизменно приносит удовлетворение, когда он, так сказать, превращается в язык, понятный всем, и сводит свое богатство мимики и жеста к избитому шаблону; изысканному же вкусу, напротив, всегда свойственно какое-то активное беспокойство и некоторая неуверенность в себе, сомнение в способности уразуметь все должным образом – он никогда не был народным и никогда таковым не будет! Народною была и остается маска! Так пусть же эти маски и все, что им под стать, идут к себе на маскарад и там резвятся вволю под музыку из тех самых опер, упиваясь всеми этими задорными, бодрящими мелодиями и виртуозными каденциями! Да и сама античность! Разве можно разобраться в ней толком, не поняв до конца радость наслаждения маской, сокровенную суть всякого маскарада! Именно в такие минуты очищается и отдыхает античный дух; и, быть может, такое очистительное омовение в том древнем мире было более необходимо натурам избранным, возвышенным, нежели простым и низким. Совершенно иначе я воспринимаю всякое проявление низкого вкуса в творчестве северян, например в немецкой музыке: меня невероятно оскорбляет любая пошлость и банальность. К этому примешивается еще и стыд оттого, что художник потерял высоту и даже не потрудился избавить нас от необходимости лицезреть, как он краснеет: мы стыдимся вместе с ним и чувствуем себя глубоко оскорбленными, ибо догадываемся, что он-то полагал, будто спуститься с высот ему пришлось только ради нас.
За что мы должны быть благодарны. Только художники, и в особенности художники сцены, приучили людей пользоваться своим зрением и слухом, дабы с некоторым удовольствием они прислушивались к самим себе, к своим ощущениям, своим желаниям; именно они научили нас ценить героя, скрытого в каждом из этих самых обыкновенных людей, научили искусству перевоплощаться по отношению к самому себе в непритязательного зрителя, взирающего с благоговением на героя, – искусству быть актером, разыгрывающим перед самим собой пьесу, где он и герой, и зритель в одном лице. Только так мы сумеем преодолеть в себе некоторые низкие свойства человеческой натуры! Не ведая всех этих тайн актерского искусства, не зная правил поведения на сцене, мы вечно представляли бы себя крупным планом, испытывая на себе действие тех оптических законов, по которым все то, что близко, – кажется чудовищно большим, все самое обыкновенное и простое обретает невиданные формы, и создается иллюзия, будто это и есть самая действительность. В какой-то мере похожих результатов добилась та религия, которая велела досконально изучить греховную сущность человека, хорошенько рассмотрев ее через увеличительное стекло, и объявила затем грешника страшным бессмертным преступником: расписывая перспективы вечной жизни, она приучала человека смотреть на себя отстраненно, как на нечто уже отжившее, как на некое целое.
Прелесть несовершенства. Я вижу перед собой поэта, несовершенные творения которого оказываются, как это нередко случается в жизни, гораздо более привлекательными, нежели все гладкие, округлые шедевры, вышедшие из-под его пера, – действительно, это проявление крайнего бессилия приносит ему гораздо больше пользы и славы, чем блеск его неисчерпаемых сил. Ни одно его произведение никогда не раскрывает до конца то, что он, собственно, стремился им выразить, что он хотел бы видеть в нем; кажется, будто он только предощущал видение, но в его душе осталась непреодолимая тяга к этому вожделенному видению, оно-то и питает его столь же непреодолимое красноречие вожделения, утоляет его ненасытную алчность! Оно-то и дает ему силы! Оно помогает поэту возвысить своего слушателя над своим творением и всеми прочими «шедеврами» и помогает найти для него крылья, чтобы тот мог воспарить, вознестись так высоко, как никогда еще не удавалось ни одному слушателю: возвысившись, они чувствуют себя поэтами и пророками и потом отдают виновнику их счастья дань восхищения, как будто он дозволил им лицезреть свою святыню, свою сокровеннейшую тайну, как будто он достиг своей цели и действительно увидел вожделенное видение и приобщил к нему других. Его слава только выиграет от того, что он не доберется до самой цели.
Искусство и природа. Греки (или, по крайней мере, афиняне) любили послушать искусную речь: можно сказать, они испытывали к этому какое-то поразительное пристрастие, которое более, чем что-либо другое, отличает их от не-греков. И потому даже от театральной страсти они требовали красноречия, и даже неестественность драматического стиха не мешала им упиваться ею: ведь в жизни страсть не столь уж велеречива! Она застенчива и молчалива! И даже если она находит слова, то произносит их, к стыду своему, так сбивчиво, так бестолково! И вот теперь мы все, благодаря грекам, привыкли к этой театральной неестественности, так же как мы терпеливо сносим неестественность другого рода – поющую страсть, и терпим ее, надо сказать, с радостью – благодаря итальянцам! Для нас это уже стало потребностью, каковую мы не можем удовлетворить в жизни. Нам хочется слышать, как люди, оказавшиеся в самых трудных ситуациях, продолжают неспешно изъясняться языком внятным и отчетливым; мы теперь приходим в неописуемый восторг, если трагический герой находит еще нужные слова, веские доводы, убедительные жесты там, где жизнь уже висит на волоске, когда на самом деле всякий нормальный человек, как правило, теряет голову и, уж конечно, забывает все красоты речи. Ничто так не услаждает гордыню человека, как этот вид отклонения от природы; оттого-то он так любит искусство – ибо оно является воплощением высокой, героической неестественности и условности. Драматурга справедливо упрекают в том, что форма его стиха порой лишена достаточной ясности и вразумительности, и всегда остается что-то недосказанное, о чем он предпочитает молчать; так же не вызывает восторга сочинитель оперной музыки, который, не умея выразить душевного волнения подходящей мелодией, наполняет музыку какими-то аффектированными криками и писками, призванными, по его разумению, передавать, так сказать, естественное возбуждение. Вот где как раз и не нужна естественность, вот здесь-то и не следует подражать природе! Вот где следует отбросить сладкую привычку обольщаться иллюзией, ибо есть нечто достойное большего восхищения! Греки добились на этом пути очень многого, они зашли так далеко, что даже оторопь берет! Посмотрите, как они, стараясь сузить сценическое пространство, не допускали использования глубокого заднего плана, боясь какого-нибудь лишнего эффекта, как сковывали строгими правилами движения, мимику и жесты актера, превращая его в напыщенное, неповоротливое, застывшее пугало, наряженное маскарадной маской; и точно так же они лишили права страсть не выставлять себя напоказ, остаться где-нибудь на заднем плане и предписали ей изъясняться языком высоким и изящным, то есть они сделали все, чтобы воспрепятствовать всякому непосредственному воздействию образов, возбуждающих страх и сострадание: этого-то они как раз и не хотели – страха и сострадания, – хвала и слава Аристотелю! Он думал, что его рассуждения о высшей сущности и назначении греческой трагедии бьют не в бровь, а в глаз, – да уж куда ему, он явно промахнулся! Греческих трагиков следует рассматривать совершенно с иной точки зрения: что же заставляет их в большинстве своем проявлять усердие, изобретательность и рвение – уж конечно же, менее всего они думают о том, чтобы потрясти зрителя небывалым бурлением страстей! Афинянин шел в театр для того, чтобы услышать искусную речь! Красоты речи – вот что, собственно, занимало более всего Софокла! – да простится мне сия ересь! Совершенно иначе обстоит дело с серьезной оперой: всякий композитор изо всех сил старается сделать все, чтобы действующие лица его оперы были как можно менее понятными. «Пусть невнимательный слушатель цепляется за каждое случайно брошенное слово; но в целом все должно быть понятно из ситуации – вся эта болтовня ровным счетом ничего не значит!» – так думают они все и, не заботясь о словах, рассовывают их как ни попадя. Наверное, им просто не хватало смелости высказать свое полное небрежение к словам со всею ясностью и определенностью; пожалуй, только Россини несколько отличался от них в этом смысле – ему б достало дерзости оставить вместо слов сплошное ля-ля-ля – и это было бы вполне разумно! Ведь действующим лицам в опере, как говорится, нельзя верить на слово – только «на звук»! Вот в этом-то и заключается различие, это и есть та прекрасная неестественность, ради которой идут в оперу! Даже recitativo secco сочиняется вовсе не для того, чтобы его слушали как некий текст, вникая в каждое слово: назначение этой своеобразной полумузыки иное – музыкальному уху она дает возможность расслабиться и отдохнуть (отдохнуть от мелодии, от самого утонченного и потому самого изнурительного наслаждения, даруемого этим искусством), – но очень скоро все меняется и вместо расслабления появляется растущее нетерпение, растущее раздражение, и снова возникает страстное желание услышать гладкую, ровную, связную музыку – мелодию. Что можно сказать в этом смысле об искусстве Рихарда Вагнера? Может быть, и у него все так же? Или иначе? Я помню, мне часто раньше казалось, что слова и музыку его сочинений следовало бы заучивать наизусть, до всякого исполнения: ибо иначе – думалось мне – нельзя будет услышать ни слов, ни музыки.
Греческий вкус. «Что же в этом прекрасного? – воскликнул некий землемер после представления «Ифигении». – Здесь все бездоказательно». Представления греков не слишком отличаются от представлений того землемера, не правда ли? Во всяком случае, уж у Софокла «все доказано».
Esprit не-греков. Грекам свойственна необычная логичность и гладкость строя мысли; эта особенность нимало не тяготила их, и даже в былые, добрые времена, отмеченные всеобщим благоденствием, они старались сохранить такую строгость мысли, не пытаясь заменить ее чем-то новым, как это частенько делают французы: они-то как раз большие охотники до всяческих перемен и очень любят сворачивать с прямого пути логики на какую-нибудь тропинку, ведущую в прямо противоположную сторону: дух логики они способны переносить лишь в том случае, если он кротко и любезно терпит все эти шатания, болтания по тропинкам, уводящим от пути логики, и выказывают тем самым не менее любезную готовность к самоотрицанию. Логика представляется им несомненно необходимой, чем-то вроде воды и хлеба. Но чистая логика, так же как и обед, состоящий только из воды и корки хлеба, скорее напоминает скудную пищу арестанта, который вынужден довольствоваться малым, не особо рассчитывая на какие-нибудь разносолы. В хорошем обществе никогда не следует стремиться быть абсолютно правым, кого-то убеждать, доказывать, будто прав ты и только ты, как это предписывают все законы чистой логики, – вот чем объясняется некоторое безрассудство, присущее, правда в малых дозах, французскому esprit. Греки были гораздо менее учтивы и обходительны, нежели французы, славившиеся этим всегда, оттого-то так мало esprit у их самых умных мудрецов, оттого такими пресными кажутся остроты их записных остряков, оттого… пожалуй, достаточно, ведь даже тому, что я уже сказал, никто не верит, а сколько еще таких мыслей осталось невысказанными в моей душе! «Est res magna tacere»[12], – говорит Марциал, присоединяясь ко всем болтунам.
Переводы. Насколько у той или иной эпохи развито чувство истории, можно судить по тому, как в ту или иную эпоху делались переводы, каким образом усваиваются былые времена и книги. Французы времен Корнеля, и даже позже – времен революции, осваивая римскую древность, избрали такой путь, на который никто бы из нас не отважился ступить, – благодаря более развитому чувству истории. А сама римская древность – с какой наивной и беззастенчивой откровенностью она прибирала к рукам все то хорошее и возвышенное, что было в греческой древности, гораздо более древней, чем она сама! Как переиначивала все на свой древнеримский лад, перенося все в свое время! Как беспечно, в одну секунду сдувала пыльцу с крыльев бабочки! Так Гораций переводил то из Алкея, то из Архилоха, Проперций – Каллимаха и Филета (поэтов, не уступающих Феокриту, насколько мы вправе судить): какое им было дело до того, что в жизни автора могли быть какие-то обстоятельства, на которые он намекает в своем стихотворении! Поэты – они не желали знать, что такое чутье ценителей древности, которое скорее выведет на нужный путь, нежели чувство истории, поэты – они не придавали ни малейшего значения всяким мелочам личной жизни писателя, совершенно игнорируя все то, что создает неповторимость облика того или иного города, того или иного побережья, того или иного века, и вместо этого недолго думая заменили все детали местного и исторического колорита на современные римские реалии. Они как будто спрашивают нас: «Почему бы нам не обновить всю эту древность и не приспособить ее как-нибудь к нам? Кто может нам запретить вдохнуть нашу живую душу в это мертвое тело? Ведь оно уже умерло, его не воскресишь: как отвратительно все мертвое!» Они не знали, какое наслаждение может дать чувство истории; все прошлое, чужое вызывало у них отвращение и пробуждало, как у истинных римлян, воинственный дух завоевателей. И действительно, в те времена перевод всегда был чем-то вроде захватнической войны – и не только потому, что при переводе опускались все исторические детали и добавлялись какие-нибудь намеки на современность, – просто зачеркивали имя поэта, писали вместо него свое – и не считали, что это воровство, напротив, все совершалось с полным сознанием чистой совести, присущей imperium Romanum.