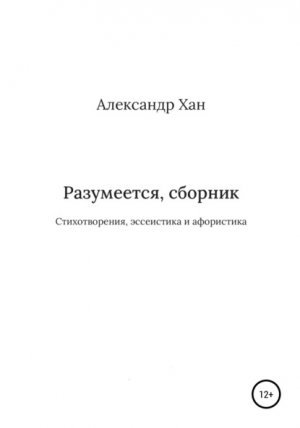
Трудящийся поэт – больной Сизиф. Народ смущён: он не узнал либретто. Послушаем же, милые, поэта! Послушаем, как умирает миф.
#34
О, Время,
Поверни своё движение вспять,
Чтоб хромой и поседевший Хронос,
Услышав режущий пространство голос,
Не смог Вселенную, как дочь, обнять.
И до сих пор печальное дитя от горя
Плакало бы у безжизненного с виду,
Бьющего волнами в infinitum,
Пугающего своей силой моря.
#33
Нечто особое – жить в поездах:
Сутки размеренно сводят с ума,
Время рисует зигзаги по зимам,
Лес проносится с воплями мимо,
И полки сжимают пространство и тело
До жидкого чая в стекле запотелом.
Но рельсы пинают и гонят прочь
Буквы, стремящиеся нам помочь.
И рифмы никак не сложить поверх
Ритмичных прыжков под плацкартный смех.
Бутылки стоят в темноте до утра;
Пейзаж убегает из клетки окна.
Но я крепко заперт. Мне некуда деться.
Раздеться и спать в отведённой нише.
Если когда-то я видел романтику в рельсах,
то, спрыгнув с подножки, больше не вижу.
#52
Растрёпанные волосы и небо,
и гладь души в обличье моря.
Столкнувшись с вечностью, не ожидаешь от неё ответов, но обретаешь состояние покоя.
Заставленная, но широкая квартира,
окурки, шторы, скатерть у окна,
пустой бокал, бутылки и остатки пира
в лице кусочка хлеба, апельсина и вина.
Простые сны в чужой кровати,
чужие мысли на чужой бумаге,
чужая мать в чужом наряде,
чужая церковь на чужом закате,
но это всё моё, моё как будто.
Обои. Запах. Лезвие ножа.
Я тихо захожу на кухню утром,
где за столом сидит моя душа
и плачет. Она плачет по себе.
Ведь для неё нет места не земле.
#51 (Поэзия)
Хоть я прерывисто дышу осколками тебя,
твоё изменчивое зеркало не воссоздать вовне.
Я с болью выдыхаю мелкие куски стекла,
но отражения меня, однако, всё равно там нет.
Но там есть море. Крики чаек. Волны в тишине.
И я касаюсь медленной рукой того, что называется морская гладь.
Ты отражаешь то, что не могу увидеть сам в себе,
но не даёшь мне сил об этом рассказать.
Ведь жизнь – короткий Стикс, что упрощает труд Харона.
Но с грустью наблюдает за мучениями людей.
И мысль не опускает трубку телефона,
чтобы слабый голос чувства, вопреки всему,
стучал в груди среди десятков тысяч мысленных смертей.
#58
Мгновение – это вечность,
что сжалась от боли в постели.
А жизнь – как шаги по рельсам, ведущим домой, на берег.
И смысл не просто в том, чтоб
писать или не писать:
он просто не вышел ростом
в ногах у людей играть.
Но вся пустота исчезла —
душа вышла в долгий путь.
Теперь не осталось места
дорогу в себе замкнуть.
И вместо прощальных слов
печаль под замком у мысли.
Мы больше не видим снов
и пишем друг другу письма.
#59
топчусь на месте у порога
и вижу всё
что происходит там
рукопожатием меня затягивают внутрь
но остаюсь у входа
как промокший путник
в страхе намочить ковёр
остатками дождя
как бумажный пёс
которому всю жизнь
не разрешали заходить домой
#60
Я вижу дерево на фоне кирпича:
как будто элемент декора!
Наверх – скорей! – подошвы волоча
по лестнице из трещин и бетона.
Фигуры слов – как натюрморт акрилом,
а перекрёсток рифмы как распутье жизни,
четыре строчки как структура мира,
ну а мелодия как чувство – вытащи и выжми.
Вытащи и выжми.
Вот так я и живу последние полгода.
Мне говорят: ты напиши и станет легче,
но не становится. Ведь я не нахожу ответов,
а только чётче намечаю очертания вопросов.
И если прерывается процесс – я рад.
Не получается? – нестрашно.
Похоже, в этом нет меня. Однако
прощание даётся сложно.
Куда тогда идти и что же делать,
когда опустошается холодная земля,
когда единственное утешение тает
под тяжёлым взглядом,
а боль страдает от существования себя?
Да, мир убог и крайне очевидно создан.
Все мыслимые сложности льют через край из нас.
Забудем всё. Откажемся от слов
и будем молча плыть, куда подскажут волны.
Зачем писать, зачем страдать
когда всё сделано за нас
а миф прописан наперёд
на илистом листе бумаги
Назад – домой. Домой – обратно.
Песок темнеет под ногами.
Огни родного города вдали,
И море тяжело вздыхает.
#53
Писать, пока не опустеешь.
Дышать, пока язык зашит.
Искать любые панацеи,
которые научат жить.
Бежать, пока не сделал глупость.
Желать, пока желает сердце.
Смешить, пока не улыбнулась,
и ехать, если шепчут рельсы.
Идти, пока в руках есть хворост.
Стоять, пока не впустят в дом.
Молчать, пока не стихнет голос,
и слушать полночь за окном.
Грустить, пока имеешь право.
Дрожать, пока сидишь на месте.
Вздыхать, когда глядишь устало,
как в небе счастливы созвездия.
#…
и если где-то
вдруг – назад,
туда, где лета
светлый сад
тускнеет, то
останься там,
оставив всё
чужим стихам.
Заглядывая внутрь, я обнаруживаю не ужас, а спокойную, органичную (хоть и плохо сформулированную) трагедию.
Познание должно быть бесконечно выстрадано.
Человек есть определенная мера тепла, которое он способен отдавать другим.
Я не повидал полмира, но мне и не нужно это. Меня тянет в забытые богом уголки планеты, попадая в которые парадоксальным образом понимаешь, что о них-то бог как раз помнит больше всего.
Нонконформизм основывается на зависимости от мнения других.
И вот я стою один посреди широкого поля с кучей разбросанных игральных карт у ног, смутно осознавая, что то, что наполняло, ни много ни мало, всё моё существование, погибло. Это даёт ощущение судорожного отчаяния, подобного агонии тонущего человека, который в один момент лишился спасательного круга, – человека, охваченного паническим страхом, неумолимо захлебывающегося, невыносимо медленно идущего ко дну.
С другой стороны, человек может плавать и без круга – ничто не мешает ему несколькими уверенными движениями вынырнуть на поверхность, с волнующим облегчением вдохнуть спасительный кислород и уверенно поплыть дальше, к берегу. Ведь столько людей живут именно так, даже не подозревая, что существует пугающая толща воды и глубокое морское дно. Вопрос только в том, умею ли я плавать, или же стоит заняться поиском уже не круга, а акваланга, пока я не утонул окончательно?
Иногда мне кажется, чем больше я понимаю в абстракции, тем более беспомощным становлюсь в обыденной жизни.
Кто-то пишет потому, что не может иначе. Я же пишу, чтобы увидеть, как в моих пальцах заканчивается очередная паста чёрного цвета.
Как писать четырёхстопным? Пытка какая-то. Из него невозможно выжать более-менее точную мысль – только размытое настроение и некий дух восприятия. Настоящая мысль, на мой взгляд, начинается только после шестой стопы, поскольку она не может возникнуть в тесном пространстве. Однако вложить её туда можно, что требует высочайшего мастерства.
Я понятия не имею, сколько прошло времени. Такое чувство, что если я взгляну на часы, то всё пропало.
Когда волшебная красота, потрясающая моё сердце, предстаёт передо мной, я вместо того, чтобы вдыхать в себя и любить эту красоту, испытываю только смущение и бессильное отчаяние оттого, что не могу никак вобрать её в себя и почувствовать, пережить. То есть я как будто стою около неё, но никогда – в ней. И если мне в редкий момент удаётся варварски присвоить себе кусочек чуда, ещё большее отчаяние не даёт мне покоя; у меня никогда не хватает сил соотнести испытываемое с самим собой.
Искусство – единственный оазис в пустыне воли и желания, образующих не диалектику, но палимпсест.
Вся печаль состоит в том, что кусочки нашего «я», которые мы с болью вытёсываем из себя, всего лишь бьются о другие каменные «я», оставляя после себя только мгновения тихого звука удара камня о камень.
Общество закрывает нам глаза на самих себя.
Мысль имеет особую природу она теряет свой смысл когда делишься ею с другим так как в этом случае она останавливается в своём развитии или вовсе умирает ведь мысль это глубоко личная материя в то же время ей невыносимо жить взаперти именно поэтому она постоянно хочет вырваться наружу и глотнуть воздуха однако в отличие от новорождённого который с первым вздохом начинает жить мысль гибнет в нашем мире её первый вздох оказывается печальным (счастливым?) и в этом её сущность и трагедия она не может жить будучи невысказанной но погибает как только выходит наружу.
#67 (Московские зарисовки)
Я открываю взгляд осенним ранним утром.
Смотрю в окно – там плачет снег, и темнота.
Москва не хочет мне смотреть в глаза, как будто
в них спит начерченный карандашом, безжизненный левиафан.
Как будто в ней живого больше, чем во мне.
Как будто ей сильнее нужно жить, чем мне.
Я громкими глотками выпиваю воду в тишине
и, встав с кровати, одеваюсь в полусне.
#66 (Московские зарисовки)
Бесшумный люд, грохочущий вагон —
московский вечер катится домой.
Он курит сигарету перед сном
и опечален собственной судьбой
по течению москвы исчезну
сниму пальто и разложусь на стуле
дождусь окончанья бутылки
распущу все свои маргиналии
вскачу на стол и во все горлоп
рекрасны девушки вокруг
не дам убрать себя из красного угла рхонтам
лучшие стихи
спрыгну со допью стака
распишусь себе на сам салфетке
сбегу вокно всвинцовы возду
задыхаться полной прудью
расскажусудьбе какнужножить
являяне живопример
поймаюфо куслазомпереулка
ирухну наегоплечо безсил
мнеприснитсялесдорогакморю
ихолодгорподсинимнебом
приснятсятанатосиэрос
приснятсятемнотаистрах
приснитсясмертьприснитсяболь
итёплоеприкосновениенот
приснитсякровьичёткий голос
итяжестьмедленныхшагов
ижёлтыйсветотголойлампы
картиныпопустымуглам
ибледныйконтуртехвещей
чтоспятпохоже
проснулся в вагоне – один, без света. Тяжело встал, застегнул молнию на куртке. Потом вышел на улицу, достал сигарету, зажёг её и посмотрел по сторонам. Затем быстро потянулся и пошёл домой.
#63 (Стихотворение)
Комары налетают сразу
с хладнокровием насекомых.
Я пою очень звонким басом
под гитары своих знакомых.
Контрапункты не терпят глаз:
только гость по большим берегам.
Ведь печаль не преследует нас —
мы кладём её в свой чемодан.
Опрятный вид столичных кухонь – перемена мест,
а плёнка молока в кастрюле – механизм старения;
и глядя между створок, не ты видишь целое, но – срез пейзажа, где отрывок неба пахнет солнцем и спасением.
Но тише.
Шаг по широте проспектов,
по истории и вдохновению поэтов!
И город вдруг сужается до букв и взгляда,
и каждая простая улица мне почему-то рада.
Но мне не нужно вдохновение – только чёткий импульс.
Я трачу целлюлозу по общагам и скамейкам,
пока мой механизм не щёлкнет, и я не раскинусь
на асфальте у метро, под надписью «аптека».
Ведь лучший текст родится только накануне смерти
под простором контуров витрин и капителей,
когда раздастся крик и убегут с площадки дети,
когда звонок разбудит ночью, вырвав из растоптанной постели, ведь
Поэзия – это чужая жизнь в скучающих глазах,
где каждый образ растекается по зеркалу.
По зеркалу, в котором пишут и так верят в чудеса.
По зеркалу, в которое смотреть, по сути, кроме нас, и некому.
#69 (Московские зарисовки)
А зимнее пальто вдруг стало для меня осенним.
Я вытяну подальше пару красных кед,
и лёгкий шарф висит, как стетоскоп, на шее:
жизнь здесь слышно хуже, чем в зелёном городке.
Да и в целом, здесь существовать – гораздо суше,
а секундное отсутствие звука – будто благодать с небес,
ведь шум в московских лёгких складывает пополам и душит,
и бросает, как окурок, на брусчатку, потеряв весь интерес.
И когда весна и лето, осень и зима отыграны без швов,
когда научишься шагать быстрее, куда бы ты ни шёл,
то будешь до скончания века под деревьями у дома считать с теплом внезапно вылупившиеся лица бабушек из окон.
Есть такие истины, которые не представляется возможным пережить.
#65
Когда они вдруг начинают скорбеть,
насколько они одиноки и как им плохо,
я молча встаю со стула и иду к себе,
ощущая в спину тяжесть вздохов.
Там запрусь на замок, расставлю книги
и буду читать им вслух кусочки любимых текстов. Прочитаю свои. И мой голос вдруг станет тихим,
потому что в такие моменты я говорю исключительно честно.
Можете, конечно, мне не верить, но я никогда не вру.
Поэзия – единственное честное занятие из всех возможных.
Но жизнь dell’arte превращает истину в игру,
в которой капокомико забыл придумать отдых.
А общество – пустой квадрат, в который заключили жизнь.
Искусство потребления – этика поставангарда.
И бог здесь – лишь красивый афоризм,
в котором каждый звук мне видится стигматой.
Однако
мы счастливы при соприкосновении с миром,
когда он доверяет нам, снимая покрывало Майи,
когда мы узнаём себя при виде перспективы,
себя – свободных от биений воли и страданий.
Где мир-в-самом-себе пересекается с абстрактным миром,
там мы действительно свободны.
Там мы живём. Там хорошо и тихо.
Там мы поём и смотрим в небосводы.
#62
Искусство есть ничто иное, как созерцание мира в состоя- нии милостивого просветления. Показывать Бога за каждой вещью – вот что такое искусство.
(Герман Гессе)
Мы все живём в ослиной шкуре – падения вверх, падения вниз.
Но если бог и существует,
то он
уж точно атеист.
– -
Мы все живём в ослиной шкуре – падения вверх, падения вниз.
Но если бог и существует,
то он
великий символист.
Главный креативный процесс происходит не за столом с бумагой и чернилами, а вне его – когда переходишь с серой ветки на красную, пьёшь дешёвое вино на Арбате, стоишь под струёй холодной воды, слушаешь лекции о философии науки, стоишь под щекочущим снегом на улице и идёшь вдоль реки. Поэзию пишет её отсутствие.
Полжизни мы собираем себя по кусочкам и ещё полжизни пытаемся понять, что же у нас в итоге получилось.
После долгих размышлений я пришёл к промежуточному выводу, что сущность поэта, в целом, определяется одним словом, одним лейтмотивом – поиском. И важной, как я полагаю, задачей пишущего представляется осуществление двух вещей: поиск новых решений в поэзии и источников. Новые решения – это тропы, образы, ритмы, структуры, тематики. Для жизни поэзии ей, как и всему живому, необходимо мутировать – мутировать посредством тех, кто наиболее плотно и глубоко общается и обращается с языком, и к языку. И для её эволюции пишущему следует сворачивать с приятного асфальта тротуарных дорожек и идти прямо по двойной сплошной автомагистрали или по грязным, размытым осадками тропинкам, а лучше – по нетронутой траве в сторону оглушительно тихого леса. Но для того, чтобы набраться смелости и свернуть, необходимо понимать масштабы риска – так пишущему следует изучить то, что было сделано до него. Полагаю, не стоит тщательно вычитывать весь пласт мировой поэзии прошлого и настоящего, но отдельные вещи и авторы обязательны. Те, которых он сам и выберет.
Недавно я столкнулся с термином «мировой поэт», который стал производным от революционного в своё время термина «мировая литература», придуманного ещё Гёте, но получившего развитие только в конце 19 века. «Мировой поэт» – звучит очень свежо. И суть его – в существовании на стыке национальных культур и языков, отражение и выражение духа не одного народа, а всего мира.
Волнующий меня вопрос – стоит ли обложиться книгами и глубоко погрузиться в изучение всей литературы многовековой истории? Кажется, что стоит, но только жизненно необходимо не потерять фарватер и в конце долгого погружения иметь в себе силы оттолкнуться от дна и вынырнуть на поверхность, где воздух будет казаться ещё более свежим, так как ты вернулся выжившим человеком. В какой-то степени даже больше самим собой, чем был до этого.
#71
Погасший город затонул
у перекошенной плотины,
которую воздвиг на месте прежней
новый всеизвестный голос.
Но если всё, что нужно – это закричать погромче,
тогда я погружусь в бесплодное молчание.
Мы забыли, что такое созидание
мучительный истошный труд.
И хотим запрыгнуть поскорее на подмостки,
где поют жонглёры, менестрели и ваганты,
где их приезд и песни для народа – это праздник,
где нам даётся всё, чего мы так давно хотели.
Но здесь нет сколоченных помостов,
однодневных лиц и радостного города,
нет солнца, площади, рукоплесканий, праздника —
нет ничего, о чём мы так давно мечтали.
Но здесь на расстоянии вытянутых рук
лежит огромный неподвижный камень
а под ногами намечает строгий шариат
размытая тропа вдоль чёрных линий
в беззвучной пустоте холодной белизны
и больше абсолютно ничего
– -
По мне так голос никогда
не строит городу плотины,
а тихо отмеряет шаг
по ледникам вглубь Антарктиды.
Он не заговорит с трибун,
а еле слышно прозвучит
тяжёлой поступью по льду
тысячелетних шатких плит.
#72
Кот запрыгивает на колени, ощущая запах сигарет. Глубоко вздыхает и проводит языком по пальцам.
Не то чтобы он коротает время и не знает, чем заняться – он просто тоже ищет радость там, где точно её нет.
Новый год прошёл, и очертания дерева внутри окна напоминают человека. Дождь. И город снова затопило.
И лужи плюсового цвета наполняют высохшие тиртхи пилигрима,
подобно южному карминовому небу, принимающему форму строгого
зрачка.
Но красота – бессильно плачущая в нас тоска по дому, что удлиняет путь от зрячего к слепому.
И через созерцание её мы прикасаемся к своей природе; так чувство делает покорный шаг по лестничному маршу из слоновой кости.