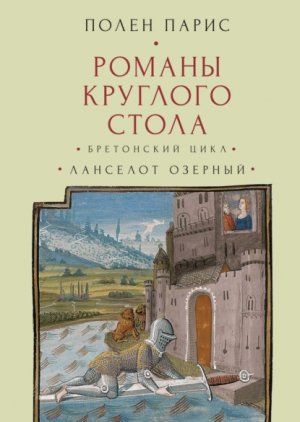
© Т. К. Горышина, Е. Н. Мальская, перевод на русский язык, 2023
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2023
Том I
I
В краю, сопредельном с Галлией и Малой Бретанью, правили некогда два брата, женатые на двух сестрах. Старший, Бан, был королем Беноика, Богор – королем Ганна. При начале этой повести Бан уже был в преклонных летах; а от королевы Элейны, ведшей свой род от Иосифа Аримафейского, имел он единственного сына, окрещенного под именем Галахад, но прозываемого всегда Ланселотом, в память о его предке[1].
Королевства Беноик и Ганн были под присягой у Малой Бретани, чей государь, известный под именем Арамон, но чаще Хоэль, простирал свое владычество в одну сторону до пределов Оверни и Гаскони, в другую – до земель, покорных Римлянам и их вассалу, королю Галлии. Также и Берри был подвластен Малой Бретани; но во времена Арамона король Клодас Буржский отозвал свою присягу и объявил себя вассалом короля Галлии, а тот был данником римского императора. Королей же галльских тогда выбирали. Когда Клодасу при помощи Галлов и Римлян удалось овладеть Беноиком, Арамон прибегнул к покровительству короля Великой Бретани, коего признавал сюзереном. Тогда-то Утер-Пендрагон и приплыл на материк, изгнал Клодаса мало того что из Бе-ноика, но и из Буржа, а землю Берри Бретонцы опустошили так немилосердно, что она утратила свое имя и стала называться Пустынной землей. Пощаду дали единственно только Буржу, ее столице, из благодарности за приют, полученный в ней Утер-Пендрагоном, когда Вортигерн вынудил его вдвоем с братом бежать из Великой Бретани[2].
Но после кончины Утер-Пендрагона Артуру довелось противостоять такому сонмищу врагов[3], что он не смог уберечь наилучших своих вассалов на материке. Два королевства, Ганн и Беноик, оба бывшие вначале под скипетром короля Ланселота, оказались поделены между двумя его сыновьями. Пользуясь уходом островитян-Бретонцев, Клодас повторно затребовал помощи у Галлов и Римлян. Он вступил в Пустынную землю, занял сплошь земли Беноика и мало-помалу забрал все добрые города[4] короля Бана. Он изъявил готовность отдать их при условии, что получит взамен вассальную присягу; но король Бан ни за что на свете не поступился бы верностью королю Артуру.
У короля Беноикского оставался теперь единственный замок Треб, который, будучи удачно расположен между рекой и прочными стенами, выстоял во всех набегах; однако он был беззащитен против голода или измены. Туда Бан увез королеву Элейну и их сына, младенца Ланселота. Скоро Клодас подступился под самые стены; осажденным не осталось никаких путей выхода и сношения с миром. Бан решил было, что скорее умрет, чем уступит притязаниям Клодаса;
но он не мог без жалости взирать на мучения королевы и своих рыцарей. Клодас неустанно убеждал его, что от голода ему не укрыться; что Артур не придет ему на помощь; что брат его, король Богор, слишком болен, чтобы ему посодействовать. Однажды он подал такую мысль: что якобы выпустит Бана, дабы тот отправился в Великую Бретань, при условии, что замок будет сдан, если он не вернется через сорок дней или же вернется, не раздобыв себе помощи. Бан колебался, и Клодасу, который не прочь был прибегнуть к услугам предателей, хотя и не любил их, удалось завлечь Алеома, сенешаля[5] Беноикского, обещанием пожаловать ему это королевство, с тем чтобы взять от него вассальную присягу. В один из дней Бан призвал на совет верного рыцаря по имени Банен, своего крестника, и того самого сенешаля: он высказал им предложения Клодаса. Сенешаль всеми силами старался подать их в выгодном свете.
– Артур не откажет вам в помощи, – говорил он, – хотя и сильно занят Сенами[6] и своими вельможными баронами. Гарнизон Треба выдержит до вашего возвращения, а при подходе Бретонцев Клодас снимет осаду и будет только рад убраться в Пустынную землю.
Бан уступил этим доводам. Он предупредил королеву, и, взяв с собою двух оруженосцев – одного, чтобы нести дитя, а другого – вести вьючных лошадей, нагруженных сокровищами Беноика, – они вышли за ворота, перешли опущенный мост и не встретили никого, кто пытался бы их остановить.
II
Но едва они скрылись в лесу, тянувшемся вдоль реки, как изменник-сенешаль помчался уведомить Клодаса, чтобы он высылал своих людей к воротам, которые они найдут открытыми. На его беду, Банен, бывший всегда начеку, видел, как он вернулся.
– Как! Сенешаль, – воскликнул он, – спозаранку уже на ногах! Откуда это вы?
– Я хотел убедиться, что Клодас ничего не затеет против нас, пока нет короля.
– Странный час вы выбрали для переговоров с врагом.
– Ну, так что же! Или вы сомневаетесь в моей верности?
– Нет, ведь если бы я такое заподозрил, я бы тут же бросил вам вызов.
Сенешаль взошел в башню, а вскоре послышался шумный людской и конский топот. Люди Клодаса были уже в замке и принялись его грабить. Чтобы отвести от себя подозрения, сенешаль поднял крик:
– К оружию! Измена, измена!
– Ах, предатель! Ах, мерзавец! – воскликнул Банен ему в ответ, – чтоб тебя постигла Иудина кара за твое двуличие!
Между тем в предместьях и в городе занималось пламя; дома, мельницы – все рушилось, и вот от Треба осталась одна лишь главная башня[7]. Банен заперся в ней с тремя верными стражами. Овладев испепеленным городом, Клодас начал ее осаду; но напрасно он утруждал свои камнеметы и катапульты, в башню войти он не смог и провел у ее стен времени никак не менее, чем до того перед целым городом.
Тогда-то Банену довелось сойтись с врагом страшнее Клодаса; это был голод. Река, что омывала башню с одной стороны, утоляла их жажду, но лишь иногда одаривала мелкой рыбешкой, которую они алчно делили меж собою. На третий день они отыскали между двух камней лесную сову, чье мясо показалось им восхитительным. Но как можно выстоять целый месяц? Однажды утром Клодас вызвал его на разговор:
– Банен, я признаю, что ты верный и доблестный рыцарь. Но к чему приведет твоя неподкупность? Ты хочешь, чтобы твои соратники умерли здесь голодной смертью? Сделай лучше вот что: из моих добрых коней возьми четырех, и выходите вместе из башни при всех доспехах и оружии. Ступайте, куда вам будет угодно; или, когда бы ты надумал со мною остаться, то Бог мне свидетель (он протянул правую руку к соседней часовне) [8], я бы возлюбил тебя превыше всех моих прежних друзей.
Несколько раз Банен отвергал эти предложения, но, наконец, нашел способ спасти свою честь, уступая мольбам трех своих товарищей, умиравших от голода.
– Я соглашусь, – сказал он им, – сдать башню на условиях, которые не будут для нас позорны.
Затем он вернулся к Клодасу:
– Сир, я внял совету своих друзей; мы выйдем из башни, и поскольку я почитаю вас за человека чести, я останусь с вами, но при одном условии: вы будете судить и рядить, во благо ли нам или во вред, не усматривая иных основ, кроме справедливости.
Клодас согласился; принесли святые мощи, договор скрепили клятвой, и двери башни распахнулись.
Банен много дней оставался при короле, у которого нашел любезнейший прием; однако предателю, сенешалю короля Бана, не терпелось получить воздаяние за свою измену. Король Клодас пытался выиграть время; он не то чтобы желал нарушить клятву, но надеялся найти способ от нее избавиться. Однажды Алеом в присутствии баронов Клодаса припомнил данное ему обещание, а поскольку король медлил с ответом, Банен поднялся с места и попросил слова.
– Король Клодас, – сказал он, – вы обещали мне правый суд и супротив меня, за обвинителей моих, и за меня, против тех, на кого я возложу вину. Я прошу у вас ответа за бывшего сенешаля Беноикского, коего обвиняю в клятвопреступлении и измене. Если он будет отпираться передо мною, я готов отстаивать это с оружием в руках, в тот день и в том месте, которые вам угодно будет указать.
Клодас испытывал тайную радость, слушая Банена.
– Алеом, – сказал он, – вы слышите, в чем вас обвиняют. Неужели я доверился предателю?
– Сир, – возразил Алеом, – я готов доказать сильнейшему рыцарю на свете, что никогда не держал против вас подлых умыслов.
Банен в ответ:
– Вот мой заклад[9]. Я докажу, что своими глазами видел измену, в которой он повинен перед своим законным сеньором.
– Так что же, сенешаль, – продолжил Клодас, – что вы намерены делать?
– Но, сир, это дело скорее ваше, чем мое. Единственное мое преступление в том, что я хорошо вам служил.
– Если вы невиновны, защищайтесь. Вы боец не менее сильный и отважный, чем Банен; правда на вашей стороне; чего же вам бояться?
И столько всего наговорил король Клодас, что пришлось сенешалю подвергнуться испытанию. Заклады были вручены королю, и, принимая их, он сказал:
– Сенешаль, я вас почитаю за рыцаря, столь же верного мне, сколь вы были верны вашему первому сеньору. Я жалую вам королевство Беноик со всеми рентами и доходами, от него зависимыми. И как только вы уличите вашего обвинителя во лжи, я приму у вас присягу. Но если вам придется уступить поле боя, королевство Беноик достанется не вам, а Банену.
Поединок состоялся через четыре дня на лугах Беноика, между Луарой и Арси. Банен утвердил свою правоту в деле об измене сенешаля, чья голова скатилась на траву, окропленную кровью. Когда он явился забирать свой заклад, Клодас принял его с почетом; ибо он, хотя и водился нередко с изменниками, никогда не питал к ним доверия. И с тем он предложил победителю честь владения королевством Беноик.
– Сир, – ответил Банен, – я оставался у вас до нынешнего дня в надежде утвердить справедливость и покарать изменника, сдавшего вам замок Треб. Слава Богу, я исполнил этот долг; ничто более не держит меня при вас. Я по-прежнему принадлежу королю Бану и в вас могу видеть только врага; присягнуть вам значит вырвать сердце из собственной груди.
– Ваше решение для меня прискорбно, – сказал Клодас, – но я вас отпущу, раз вы того желаете.
Услышав такой ответ, Банен велел подать своего коня и уехал из Треба, не дожидаясь исхода дня.
В другой ветви романа мы встречаем его при дворе короля Артура, где он берет призы на конных турнирах и на кентенах[10], удостаивается чести быть принятым в среде рыцарей Королевы, Круглого Стола и Стражей, или королевской охраны. В своих войнах с королем Клодасом, говорит романист, он добыл довольно трофеев, чтобы стать приметным лицом среди бретонских рыцарей. Но Артур, узнав, что свое имя Банен получил от короля
Беноикского, впал в глубокое и горестное раздумье; ибо это имя напоминало ему, что смерть короля Бана не отомщена. Банен, добавляет наша книга[11], «был у всех на устах и связал свое имя со множеством дивных приключений[12]; но они рассказаны в «Повести об Обычном» [13], где вернее будет о них прочесть» [14].
III
Вернемся к королю Бану, которого мы покинули, когда он с королевой, младенцем и верным слугой выезжал из малых ворот замка Треб. Они ехали целый час, пока не стало смеркаться, и так добрались до леса, по которому им предстояло дойти до рубежа королевства Ганн.
Там высилась гора, откуда взорам открывалась вся страна.
Заря угасала; Бан не мог устоять перед соблазном бросить последний взгляд на свой любимый замок. Он оставил королеву у подножия холма и верхом не без труда поднялся до вершины. Но как же больно было узреть стены в зловещих отблесках огней, разрушенные храмы, пожары, бушующие тут и там, воздух, до того раскаленный, что пламя, поднимаясь до небес, словно бы стремилось сплавить их с землей! Треб – его последняя надежда; что же ему оставалось? Молодая жена, взращенная в роскоши, а ныне доведенная до крайней нужды; та, чьи предки восходили к царю Давиду[15], будет униженно взывать к людской жалости и питать свое дитя горьким хлебом изгнания. А он, несчастный старик, некогда богатый друзьями и угодьями, почетный гость на любом пиру, как сможет он вынести столь несходную участь? И от всех этих дум сердце его преисполнилось такой горечи, что рыдания стеснили ему горло, и он без памяти упал на землю, простертый недвижимо. Когда же он пришел в себя, то промолвил:
– Ах, Господи Боже мой! Благодарю Тебя за кончину, ниспосланную мне по милости Твоей. Ты и сам претерпевал нужду и муки. Я не умел прожить в миру без великих грехов; молю, отпусти мне их. Ты, снизошедший, дабы искупить нас своею кровью, не погуби мою душу. За мои прегрешения покарай меня на этом свете, а ежели душе моей уготованы муки на том, дозволь мне все же соединиться с Тобою в день, сколь угодно близкий или далекий. Ах! Отче небесный, пожалей жену мою Элейну, из царственного рода, Твоею рукой приведенного в сие смятенное королевство; вспоминай о моем сыне, бедном слабом сиротке; ибо Ты покровитель бедных, и Тебе пристало их брать под защиту прежде всех прочих.
Вымолвив эти слова, славный король принялся бить себя в грудь, проливая слезы раскаяния; он сорвал три травинки и вложил их в рот во имя Святой Троицы; потом сердце его сжалось в последний раз, в глазах помутилось, он упал навзничь, жилы сердечные лопнули, и он испустил дух со скрещенными руками, устремленным к небу взором и головой, обращенной к Востоку.
Между тем конь, перепуганный шумом от падения короля, пустился вскачь до самого подножия горы. Королева, увидев, что он вернулся один, приказала оруженосцу, которому велено было держать в седле младенца Ланселота, принести ей дитя и пойти посмотреть, что могло задержать короля. Внезапно она услышала пронзительные вопли слуги, когда он дошел до места, где его господин был простерт бездыханный. Объятая ужасом, королева положила дитя на траву и стала взбираться на холм. Скоро она встретила оруженосца, приведшего ее к телу ее драгоценного супруга. Какое горе! Она припала к нему, разодрала на себе одежды, стала бить свое прекрасное тело и царапать лицо; и гора, и долина, и ближнее озеро – все вторило ее стонам и причитаниям.
Потом ей пришла мысль о дитяти, оставленном рядом с лошадьми: «Ах! Мой сын!» – и она, вся истерзанная, спустилась обратно к подножью горы; вот она ищет лошадей; а они отошли к озеру напиться. На берегу она видит своего сына на руках у некой девы, которая нежно жмет его к груди, целуя ему ротик и глазки.
– Милая моя, – говорит ей королева, – ради Бога, верните мне мое дитя. Довольно с него несчастий, он уже потерял отца и наследство.
На все эти речи дева не отвечала ни слова; но когда она увидела, что королева подходит ближе, она поднялась с младенцем, обернулась к озеру, сомкнула стопы и скрылась под водой.
При этой новой напасти королева устремилась в озеро следом за девой; но вовремя подоспевший слуга удержал ее силой; она упала на траву, сотрясаясь от рыданий. В этот час случилось проходить неподалеку аббатисе со свитой из двух монашек, капеллана, послушника[16] и двух стражей. Когда вопли достигли ее слуха, она повернула туда, откуда они доносились. Увидев королеву, она сказала:
– Да пошлет вам Бог радость, госпожа!
– Увы, не в Его силах утешить самую несчастную женщину в мире. Нет у меня более ни радостей, ни почестей.
– Но кто же вы, госпожа?
– Страдалица, которая зажилась на этом свете.
Тут капеллан сказал, тронув аббатису за покров:
– Поверьте мне, матушка, эта дама – королева.
Аббатиса не могла удержаться от слез.
– Ради Бога, госпожа! – сказала она, – прошу вас ничего не таить от меня, я знаю, что вы королева.
– Да, да, королева в великой печали[17], – отвечала Элей-на. – Кем бы я ни была, возьмите меня в монахини, ничего другого я не желаю.
– Со всею охотой, госпожа, но поведайте же нам причину ваших горестей.
Собравшись с духом, королева рассказала, как они вышли из Треба, как король не мог пережить зрелища пожара в своем замке; как его нашли бездыханным и, наконец, как некий демон в облике девы похитил ее дорогое дитя.
– Теперь вы видите, – добавила она, – есть ли у меня причина возненавидеть свет. Велите забрать весь драгоценный груз золота, серебра и посуды, навьюченный на эту лошадь, и пустите на постройку монастыря, где будут непрестанно молиться за душу монсеньора короля.
– Ах, госпожа! – сказала аббатиса, – вы не знаете, сколь тяжела монастырская жизнь. Это труд телесный и невзгоды душевные. Оставайтесь с нами, не принимая пострига; будьте всегда госпожой королевой; наш дом – это ваш дом, ведь основали его предки монсеньора короля.
– Нет, нет; отныне мир для меня ничто: я прошу вас принять меня в монахини, а если вы откажетесь, я убегу в эти дикие леса и там загублю вскоре и тело свое, и душу.
– Если так, благодарение Богу, что он дарует нам общество столь доброй и столь родовитой дамы.
И, не медля более, аббатиса отрезала ей косы; нетрудно было увидеть, что, несмотря на глубокую печаль, Элейна была прекраснейшей в мире женщиной. Из поклажи вьючных лошадей, ведомых стражами аббатства, достали черное сукно и покровы, которые ей отныне уже не придется снять. И когда оруженосец из Треба увидел королеву так преображенной, он сказал, что не оставит ее; его облачили в рясу послушника. Прежде чем последовать за ними, капеллан, два послушника и два оруженосца взялись перевезти короля в аббатство, не столь далеко расположенное. Его отпели по-королевски достойно; тело его с почестями предали земле до того времени, пока на горе, где он скончался, не достроили монастырь, о коем просила королева. Туда и перенесли тело, а королева пожелала жить в келье при монастыре вместе с двумя другими монахинями, двумя капелланами и тремя послушниками. Каждое утро после мессы она приходила на берег озера, где у нее похитили сына, и читала там псалтырь, орошая его обильными слезами. Когда стало известно, что королева постриглась в монахини, местные жители прозвали монастырь Королевским, и туда подались благороднейшие дамы той страны, из любви к Богу и к королеве.
IV
Между тем Клодас покорял страну Ганн, как прежде покорил королевство Беноик. Богор пережил брата всего на несколько дней и оставил двоих детей, Лионеля и Богора, еще в колыбели. Местные бароны защищались, пока могли; королева укрывалась в Монтеклере, своем последнем замке, и тут узнала, что Клодас идет брать его приступом. Боясь попасть к нему в руки, она покинула замок, переправилась через реку, омывавшую его стены, и с двумя детьми и несколькими верными слугами добралась до леса неподалеку от того аббатства, где приняла постриг ее сестра, королева Элейна.
Когда она проезжала по этому лесу, ей повстречался рыцарь, который долго и верно служил королю Богору, но был лишен наследства и изгнан за человекоубийство; ибо сей государь был великим поборником справедливости, как и брат его, король Бан. Этот рыцарь, по имени Фарьен[18], некогда взял под начало наемников короля Буржского и от него владел добрыми землями. В тот самый час, когда через лес ехала королева Ганнская, король Клодас охотился в нем на кабана, и рыцарь, его сопровождавший, стоял на краю большой рощи, как вдруг увидел, что едет королева с детьми. Он бросился к поводьям лошадей и велел спустить колыбель, в которой спали дети. Не спрашивайте, пронзил ли ужас королеву; она припала к своему коню, и ее с трудом удержали. А рыцарь, охваченный глубокой жалостью, сказал ей:
– Госпожа, король Богор Ганнский причинил мне немало зла; но я не так жесток, чтобы выдать вас вашему врагу, моему нынешнему сеньору. Я не забыл, что мое изгнание вас огорчило и что вы тогда избавили меня от смерти. Позвольте мне проводить вас до края этого леса и доверьте мне опеку ваших детей. Я буду заботиться о них, пока они не войдут в возраст, когда им дозволено будет носить оружие; и если они вернут себе наследство, то я не сумею им помочь, но от души порадуюсь этому.
Дама, поколебавшись немного, ответила рыцарю, что она верит в его преданность и оставляет на его попечение самое дорогое, что у нее осталось на свете. Он велел своему слуге доставить обоих детей к нему в дом. Сам же он, проводив королеву до лесной окраины, где было аббатство и где ей дали приют, простился с нею и вернулся к Клодасу в тот самый миг, когда гонец принес весть, что замок Монтеклер не может долее держаться. Клодас тотчас направился к замку, и ворота перед ним распахнулись.
С того времени он стал неоспоримым владетелем старинных уделов королей Бана и Богора.
Монастырь, куда препроводили королеву Ганнскую, был невдалеке от избранного королевой Беноикской. Обе сестры скоро встретились, и нетрудно понять радость и печаль их свидания, когда они услышали рассказы о недавних своих злоключениях. Аббатиса, подойдя к королеве Ганнской, остригла ее длинные волосы и дала ей покров, который та испросила, чтобы вполне укрыться от докуки и посягательств Клодаса. Мы оставим обеих сестер в их благочестивом уединении, чтобы узнать, что стало с младенцем Ланселотом.
V
Дама[19], увлекшая Ланселота на дно озера, была фея.
В те времена феями именовали всех женщин, которые занимались колдовством и ворожбой. «Им была ведома, – говорит сказание бриттов, – сила слов, камней и трав; они постигли тайну, как сберечь себя юными, прелестными, дивно всевластными. Особо водились они в обеих Бретанях[20] во времена Мерлина, обладавшего всею мудростью, коей дьявол может наделить человека». В самом деле, Мерлин у бретонцев считался то святым пророком, то божеством. А от него-то Владычица Озера и получила премудрость, вознесшую ее над всеми женщинами ее времени.
Несомненно то, что Мерлин был зачат женщиной от одного из злокозненных духов, кои часто посещают наш мир и настолько одержимы нечистым пылом, что стоит им бросить взгляд на женщину, как они теряют силы для воплощения своих дурных умыслов. Тем же умозрительным пылом обладали они еще прежде своего ослушания и прежде сотворения Евы. Пьянясь обоюдным восхищением, они довольствовались одним взором, чтобы вознестись на вершину взаимного счастья. Однако же одному из них Мерлин был обязан своим рождением[21]. На границе Шотландии жил некий вавассер весьма скромного достатка; у него была дочь, которая, войдя в брачный возраст, заявила, что никогда не разделит ложе с мужчиной, увиденным ею собственными глазами. Родители делали все возможное, чтобы истребить в ней это странное отвращение; она же всегда отвечала, что, если ее выдадут замуж против воли, она сойдет с ума или наложит на себя руки. Не то чтобы ей недоставало любопытства узнать, в чем состоит тайна супружеского союза; но только ей претило видеть того, кто придет открыть ей эту тайну. Отец, не имея других детей, не хотел перечить ее решимости; но после его кончины демон, обо всем осведомленный, явился к девице ночью и стал нашептывать ей на уши слова нежные и льстивые.
– Я молодой чужеземец, – добавил он, – здесь я никого не знаю; мне говорили, что вы не желаете видеть того, кого могли бы полюбить; я пришел сказать вам, что и я некогда принял то же решение.
Девица позволила ему подойти и обнаружила, что он превосходно сложен из плоти и кости; ибо, хотя демоны – это просто духи и телесных форм не имеют, они могут создавать из воздуха подобие той материи, которой им недостает. Так была обманута эта девица: она с превеликой страстью приняла незнакомца, не видя его, и не отказала ему ни в малейшей его прихоти.
Пять месяцев спустя она почувствовала себя в тяжести, а когда настал срок, тайно произвела на свет дитя, нареченное Мерлином по указке того, кто его породил. Его не крестили; и было ему двенадцать лет, когда его доставили ко двору Утер-Пендрагона, как о том свидетельствует его жизнеописание.
После смерти герцога Тинтагельского, надоумив Утер-Пендрагона, как обмануть герцогиню[22], Мерлин удалился, чтобы жить в дремучих лесах. У него были вероломные и лживые склонности его отца, и он обладал, ничуть не менее того, всеми тайнами человеческого познания. А на окраине Малой Бретани жила девица превеликой красоты по имени Вивиана; Мерлин воспылал к ней страстной любовью; он явился в места, где она обитала, и бывал у нее и днем, и ночью. Она была умна и примерно воспитана; устояв перед его посягательствами, она сумела выведать у него все его премудрости.
– Я готова, – сказала она ему, – сделать все, что вы от меня хотите, если вы меня обучите малой толике ваших тайн.
Ослепленный любовью, Мерлин согласился передать ей из уст в уста все, что она пожелает узнать.
– Научите меня вначале, – сказала она, – как мне силою слов замкнуть такую ограду, никем не зримую, из которой было бы невозможно выйти. А потом, как мне удерживать человека спящим так долго, как я захочу.
– Но для чего, – спросил Мерлин, – нужны вам подобные тайны?
– Чтобы употребить их против моего отца; ведь если он узнает однажды, что вы или кто другой разделил со мною ложе, он меня убьет. Видите, как важно мне знать способ усыпить его.
Мерлин поведал ей и одну тайну, и другую, а она поспешила записать их на пергаменте; ибо она была обучена грамоте. После она как будто бы уступала желаниям Мерлина; но всякий раз, когда он к ней приходил, она чертила ему на коленях два волшебных слова; он погружался в сон и упускал любую возможность похитить у нее сладкое имя девственницы. А когда рассветало и она будила его, ему мнилось, что он обрел все желаемое; ибо в силу того, что оставалось в его природе человеческого, он был подвержен тем же заблуждениям, что и прочие из нас; и дама не могла бы его обмануть, если бы он был демоном всецело. Демоны, как известно, всегда бодрствуют; они не знают сна, и для них это одна из величайших пыток.
Наконец, дама вызнала у Мерлина столько всего, что заперла его в гроте в погибельном Дарнантском лесу, что подступает к Корнуэльскому морю и к королевству Сорелуа. С тех пор Мерлина более не видели ни разу, и никто не мог указать то место, где он заключен.
Дама же, обманувшая Мерлина, была та самая, что унесла в озеро Ланселота; и никогда еще, смеем уверить, не было матери нежнее и заботливее к своему чаду. В избранном ею месте она жила не одна: ей составляли общество рыцари, дамы и девицы. Вначале она отыскала хорошую кормилицу; а когда дитя возросло до того, чтобы без нее обойтись, то выбрала наставника, дабы научить его всему тому, что ему положено было знать, чтобы держать себя в миру как подобает. Его называли то Прекрасным найденышем, то Сироткой-богачом; но дама звала его не иначе как Королевичем. В восемь лет он обладал силой и умом отрока и уже выказывал немалую страсть к бранным утехам. Однако он никогда не выезжал из леса, простертого от того места, где король Бан испустил последний вздох, до самого взморья. Что же до озера, в которое якобы увлекла его дама, это была одна лишь видимость и колдовской морок. В лесу возвышались красивые дома, струились ручьи, полные лакомой рыбы; но от чужих глаз все было скрыто обманчивой зыбью озера, разлитого над всем.
Здесь история покидает Владычицу Озера и юного Ланселота, чтобы поговорить о двух его кузенах, Лионеле и Богоре, сыновьях короля Богора Ганнского.
VI
Фарьен не забыл наставлений доброй королевы Ганнской; обоим детям он обеспечил пропитание, особо стал заботиться о старшем, а младшего отдал на попечение своему племяннику Ламбегу. Однако он не открыл тайну рождения этих детей никому, кроме того племянника и своей жены, молодой и прекрасной дамы, которая позднее обманула его доверие и уступила любовным притязаниям короля Пустынной земли. Словно бы искупая свою вину, Клодас облек Фарьена чином сенешаля страны Ганн[23]. Но случилось так, что Ламбег узнал о дурном поведении дамы, и с того дня он воспылал непримиримой ненавистью к королю, навлекшему позор на его род. Фарьен, извещенный Ламбегом, едва мог поверить в свое несчастье, ибо он полагал, что любим своею супругой не менее, чем сам ее любил. Однажды, когда Клодас отослал его с неким наказом, он повиновался для виду, но с наступлением ночи вернулся к себе домой, где и застал короля. В первом порыве ярости он ринулся, чтобы сразить его; но Клодас его упредил, выпрыгнув из дома через окно. Коль скоро виновник ускользнул, Фарьен счел за благо притвориться; назавтра он пришел во дворец и сказал, отведя Клодаса в сторону:
– Сир, я ваш верноподданный, и мне нужен ваш совет. Прошлой ночью я застал со своей супругой одного из ваших рыцарей.
– Кого же? – живо спросил Клодас.
– Не знаю; жена моя отказалась назвать его; но он из вашего дома. Что мне делать? И если бы такое приключилось с вами, что бы делали вы?
– По правде говоря, Фарьен, – ответил Клодас, – если бы я застал его на месте, как оно, видно, и было у вас, я бы убил его.
– Стократ вам благодарен, сеньор!
Но король так говорил лишь для того, чтобы вернее избежать подозрений Фарьена.
Придя домой, сенешаль не проронил ни слова упрека или жалобы, но взял жену за руку и отвел ее в домовую башню. Одной старой матроне велено было заботиться о ее пропитании и обо всем, что ей понадобится. Дело это долго держалось в тайне; наконец, дама нашла способ уведомить Клодаса, который, выехав за несколько дней до того поохотиться в Ганнском лесу, послал к Фарьену оруженосца, чтобы передать ему, что приедет к нему отобедать. Сенешаль принял известие с притворной радостью; страждущую пленницу он вывел из башни и холодно предупредил, чтобы она хорошо приняла короля. Затем он выехал королю навстречу, поблагодарил его за оказанную честь и отдал дом в его распоряжение. Когда встали из-за столов, он вышел, а Клодас уселся возле дамы на прекрасном и богатом ложе[24]. От нее он услышал, что Фарьен его узнал и что с той поры она заперта в башне, где влачит жизнь, плачевнее которой на свете не бывает.
– Вам нетрудно будет вызволить меня и отомстить Фарьену. Он уже три года держит при себе двоих детей короля Богора, как видно, для того, чтобы помочь им вернуть свое наследство, когда они возмужают.
– Благодарю вас за совет, – сказал Клодас, – и уж я сумею им распорядиться.
Он попрощался с Фарьеном, ничем не обнаружив злого умысла. Среди его баронов был один близкий родич того рыцаря, которого Фарьен убил во времена короля Богора, за что и был лишен своих наделов. Клодас призвал его к себе.
– Я не прочь, – сказал он, – дать вам способ отомстить Фарьену. Он тайно растит сыновей Богора; обвините его в измене, а если он будет отпираться, потребуйте доказать это в поединке с вами. Я вам обещаю чин сенешаля после боя.
Большего и не понадобилось, чтобы уговорить рыцаря. Когда Фарьен вновь явился ко двору вместе с Ламбегом, они нашли у короля добрый прием. Но на другой день рыцарь, выйдя от мессы, подошел к Клодасу и сказал ему во всеуслышание:
– Сир, я требую призвать к ответу Фарьена, вашего сенешаля. Я обвиняю его в измене. Если он это отрицает, я докажу, что он тайно приютил двоих детей короля Богора Ганнского.
Тогда Клодас обернулся к Фарьену:
– Сенешаль, вы слышите, что говорит этот рыцарь в укор вашей чести. Я не могу поверить, чтобы вы так отплатили за мое доверие.
– Прошу дать мне время, – ответил Фарьен, – чтобы посоветоваться.
– Кто запятнан изменой, – возразил рыцарь, – тому нет нужды просить совета. Или уж взять веревку да надеть себе на шею, или оспорить обвинение. Если вы невиновны, чего вам бояться? Верность придает мужество тем, у кого его нет; но и самый лучший рыцарь окажется худшим, если дело его неправое.
Тут Ламбег ринулся вперед:
– Выставляю себя гарантом и шампионом[25] в защиту чести моего сеньора и дяди.
– Нет, Ламбег, – холодно ответил Фарьен, – я никому не позволю взяться за щит, чтобы отстаивать мое право вместо меня. Вот мой заклад: я готов доказать, что никогда в жизни не совершал измены.
– Вы, стало быть, не растили втайне сыновей Богора?
– Э! – сказал Ламбег, – что за важность, приютил он их или нет? Воспитывать двух детей – разве это измена?
– Однако в этом и состоит обвинение, – возразил Клодас. – Пусть он опровергнет это или признает.
– Ну, вот что! – снова начал Ламбег, – если скажут, что в этом есть измена, я готов это оспорить. Посмотрим, найдется ли кто-нибудь, кто будет настаивать, что дать приют сыновьям своего бывшего сеньора – это вероломство!
Рыцарь не отвечал, видя, что все собрание рукоплещет речам Ламбега.
– Как! – воскликнул Клодас, – вы вздумали пойти на попятный?
Тогда рыцарь выложил свой заклад, Фарьен вручил свой, и они пошли облачаться в доспехи. Но прежде чем выйти на ристалище, сенешаль велел Ламбегу не мешкая вернуться домой и увезти обоих детей в аббатство, где пребывала в монашестве их мать Элейна[26]. Ламбег повиновался и уже был с обоими детьми на пути в Королевский монастырь, когда Фарьен сразил рыцаря-обвинителя и заколол его.
Когда он с победой выезжал с ристалища, Клодасу доложили, что детей уже нет в доме Фарьена. Он подозвал сенешаля.
– Отдайте мне сыновей короля Богора, – сказал он, – я позабочусь о них и готов поклясться на святых, что, как только они возмужают до рыцарского звания, я им отдам во владение все их наследство. И королевство Беноик в придачу: ведь мне донесли, что сын короля Бана уже умер, и я о том весьма сожалею; в мои годы пора подумать о спасении души. Я лишил престолов их отцов, поскольку те не желали быть моими вассалами; дети же, приняв от меня наследство, не откажутся мне присягнуть.
Принесли святых, и Клодас при всех баронах поклялся на мощах печься и радеть о сыновьях короля Богора и вернуть им вотчины во владение, когда они войдут в рыцарский возраст. Выслушав клятву Клодаса, Фарьен сей же миг поскакал за своим племянником. Он нагнал его, когда тот уже был в виду Королевского аббатства, и вместе с ним вернулся в Беноик, где Клодас оказал детям наилучший прием.
Однако он предпочел запереть их в одной из башен своего дворца, не разлучая их с обоими наставниками, Фарьеном и Ламбегом. «Ибо на их жизнь могут покуситься, – говорил он, – уместнее держать их под надежной охраной до того дня, когда мы посвятим их в рыцари и дадим им в надел их старинное наследие».
VII
Так оно и вышло, что Клодас, гроза всех соседей, долгое время держал в мире три королевства – Бурж, Ганн и Беноик. У него был сын пятнадцати лет отроду, на лицо миловидный, но грубый, надменный и столь дурных наклонностей, что король не спешил возвести его в рыцари, дабы не давать ему свободу, коей бы тот злоупотребил.
Клодас был более всех земных владык необуздан и мятежен, но менее всех великодушен. Он никогда не отдавал того, что мог удержать. С виду он был осанист и высок; лицом широк и темен; брови густые, глаза глубоко сидящие и широко расставленные; нос короткий и вздернутый, борода рыжая, волосы темные с рыжиной, рот широкий, зубы неровные, шея толстая. Плечами и станом он был сложен безупречно. Это было смешение дурных и добрых свойств. По причине тревожного нрава он питал недоверие к любому, кто мог сравниться с ним в могуществе; среди своих рыцарей он выискивал тех, кто победнее, чтобы у них первых спросить совета. В церковь он ходил охотно, но оттого не умножал благодеяний людям нуждающимся. Он вставал и завтракал рано поутру, в шахматы и прочие настольные игры играл довольно редко. Но он любил лесную охоту, а у реки скорее пускал сокола в полет, чем сети в намет[27]. Будучи нетороплив в исполнении обетов, он всегда надеялся, что сумеет от них избавиться, не нарушив слова. Единственный раз в жизни он любил истинной любовью; а когда его спрашивали, почему он отрекся от нее, он говорил: «Потому что я хочу жить долго. Влюбленному сердцу вечно неймется жить, всех превосходя в доблести и каждодневно бросая вызов смерти. Но если бы тело могло угодить всему, чего взыскует сердце, я не прекратил бы любить ни на единый день моей жизни и превзошел бы все, что сказывают о лучших рыцарях».
Так говорил Клодас прилюдно, и он говорил правду: в пору своей любви он творил чудеса храбрости; его превозносили вплоть до самых отдаленных окраин. Вот уже два года он мирно правил в двух королевствах, Ганне и Беноике, когда ему вздумалось приплыть в Великую Бретань, чтобы увидеть, верно ли все то, что говорят о щедрости, доблести и учтивости короля Артура. Если бы слава эта представилась ему ложной, если бы короля Артура не окружали те неустрашимые рыцари, о коих толковал весь свет, он решился бы объявить ему войну и потребовать присяги от Великой Бретани. Он взошел на корабль, прибыл в Лондон и там прожил несколько месяцев, переодетый чужеземным наемником. Это было в пору войны Артура против короля Риона, против Агизеля Шотландского, против короля земель, лежащих за Галоном[28]. Клодас видел, как Артур одолел вражескую силу благодаря Всевышнему и тем витязям, что стекались к нему отовсюду, прослышав о его щедрости и доблести. Язычники, Сарацины, что ни день приходили испросить крещения из любви к Артуру и на глазах у него творили чудеса храбрости. У Клодаса было довольно времени, чтобы узреть его благородную стать, его блистательный двор, всю меру его могущества. Он возвратился в Галлию вполне уверенный, что сын Утер-Пендрагона – государь, не имеющий себе равных, и что было бы столь же безумно, сколь и бесчестно пытаться обратить его в короля-вассала.
Однако вернемся теперь к Ланселоту.
VIII
Дама, принявшая на себя заботу о первых годах сына королевы Беноикской, отдала его вначале, как мы видели, под особое попечение одной из своих девиц. Он был не по летам высок и крепко сложен, а потому на четвертом году вышел из-под женского присмотра и был передан наставнику, чтобы обучиться всему, что должен знать сын короля. Поначалу ему дали в руки маленький лук и легкие стрелы[29], которые он пускал в ближние цели. Когда рука его стала вернее, он целился в зайцев и птиц. Потом он стал ездить на низкорослой лошадке, не выходя за зримое пространство озера и всегда в обществе приятных спутников.
Он обучился настольным играм и шахматам и скоро многих превзошел в этом искусстве. Приведем теперь описание его наружности для тех, кто любит слушать рассказы о красивых детях.
В плоти его лица счастливо сочетались краски белая, смуглая и алая. Оттенок румянца разливался и угасал, не исчезая, на фоне млечной белизны, которая умеряла чересчур живое его горение и избыточный жар. У него был изящный, хорошо очерченный рот, губы свежие и полные, зубы мелкие, белые и сомкнутые, нос с малой горбинкой, глаза голубые, веселые, когда он не имел повода сердиться; ибо тогда они уподоблялись горящим углям, а кровь, казалось, вот-вот брызнет из щек; он хмурился, сопел, словно лошадь, стискивал зубы и ломал все, что было у него в руках. У него был высокий лоб прекрасной формы, брови темные и густые, волосы тонкие, светлые, от природы блестящие. С возрастом они изменили оттенок и стали рыжеватыми, сохранив блеск и курчавость. Руки его были длинны и жилисты, кисти белы, как у дамы, хотя пальцы не столь истончены и более мясисты. Не бывало еще стана, лучше сложенного, ног, крепче и лучше слепленных. А что сказать о его шее, грациозно несомой на широких плечах? Быть может, только грудь была чуть шире и объемнее, чем можно бы желать для совершенства целого. Что ж, это было единственное, в чем нашли бы его упрекнуть, справедливо или нет. Многие люди, отдавая должное его несравненной красоте, говорили, что она была бы полнее, когда бы верх его тела был не столь обилен. Но достопочтенная королева Гвиневра, чье мнение об этом спрашивали впоследствии, говорила, что Бог, должно быть, указал госпоже Природе снять мерку груди по широте его сердца; ибо при обычной соразмерности оное сердце неизбежно погибло бы. Она добавляла: «Будь я самим Всевышним, я бы не могла ничего ни прибавить, ни убавить в Ланселоте».
Он славно пел, когда ему хотелось, но такая охота приходила ему редко, поскольку он был по натуре серьезен и спокоен. Однако если находился верный повод для веселья, никто не мог сравниться с ним в живых, игривых, забавных речениях. Не думая вовсе о том, чтобы набить себе цену и хвалиться своими доблестями, он говорил без тени сомнения, что тело его, наверное, сможет дать ему все, что востребует сильный дух. И вера эта позволила ему совершить те великие деяния, о которых у нас речь впереди. Правда, некоторые люди, слыша от него такие слова, склонны были обвинять его в гордыне и дерзости. Но нет: все дело в том, что он лучше кого бы то ни было знал силу своих рук и мощь своей воли.
Не только за телесную красоту он был достоин награды; обычно вы не нашли бы в целом свете дитя милее и добросердечнее, хотя подлецы полагали, что он обойдет в подлости любого. Щедрость его не знала границ: он отдавал гораздо охотнее, чем получал. Обходительный и ласковый с добрыми людьми, он выказывал природную склонность ко всем, кого не имел особых причин презирать. Он умел разбираться в людях и вещах; у него был верный глаз, и это здравомыслие заставляло его держаться однажды предпринятого, что бы ему ни говорили, пытаясь отвратить его от этого.
Как-то раз на охоте он погнался за косулей; вскоре он опередил своих спутников. Наставник хотел его догнать, но конь его, терзаемый шпорами, внезапно скинул его на землю. Ланселот между тем рыскал по лесу, настиг косулю и пронзил ее стрелой у въезда на мощеную дорогу. Затем он спешился, уложил добычу в тюк и снова сел верхом, держа у передней луки седла гончую, наведшую его на след. Когда он возвращался к своим спутникам, ему повстречался пеший ратник, ведший в поводу коня[30], полумертвого от усталости. Это был юнец с едва пробившейся бородой: блио перетянуто поясом, капюшон откинут на плечи, шпоры покраснели от конской крови. Смутясь оттого, что его застали в столь плачевном виде, юноша опустил голову, проходя мимо отрока.
– Кто вы, – спросил Ланселот, – и куда направляетесь?
– Любезный господин, – ответил незнакомец, – да приумножит Бог вашу честь и славу! Я несчастный человек, а буду и того несчастнее, если Богу не наскучит испытывать меня. Однако по отцу и матери я родовит; но от этого мне только горше: ведь простолюдин терпит, не будучи несчастным, по своей привычке терпеть.
Ланселот проникся состраданием.
– Как! – воскликнул он, – вы человек благородный, и вы сетуете на злую долю! Если это не потеря друга или несмываемый позор, пристало ли сердцу мужчины так сокрушаться?
По таким речам юнец уразумел, что дитя это знатного рода.
– Сир, – ответил он, – я не плачу об утраченном добре или нанесенном бесчестии; но меня призвали ко двору короля Клодаса, где я должен сразиться с изменником, который из-за женской интриги застиг у себя в постели и убил без вызова доблестного рыцаря из моей родни. Вчера вечером я выехал из дома вместе со многими друзьями; изменник этот выследил меня в лесу, где мне предстояло проезжать; вооруженные люди вышли из засады, напали на нас врасплох и ранили моего коня, которому все же достало сил вынести меня из этой западни. Один встречный, добрый человек, отдал мне этого; но я его так усердно пришпоривал, чтобы вовремя успеть, что теперь он отказывается идти. Вот и выходит: я видел, как умирали мои товарищи, и не отомстил за них, а завтра меня не будет при дворе короля.
– Но если бы у вас был добрый конь, – спросил Ланселот, – вы могли бы прибыть вовремя?
– Разумеется, даже если последнюю треть пути я пройду пешком.
– Тогда не будет вам позора из-за какой-то лошади.
Он спешился и отдал юноше своего прекрасного скакуна. Утешенный и счастливый, юноша вскочил в седло и уехал, едва успев поблагодарить. А Ланселот переложил убитую косулю на круп своего нового коня и побрел за ним пешком, ведя гончую на поводке.
Он прошел совсем немного, когда встретил вавассера на рысистом коне, с хлыстом в руке и двумя борзыми на смычке. Это был человек уже на склоне лет, и Ланселот поспешил его приветствовать.
– Бог вам в помощь и возмужание, любезный господин! – ответил вавассер. – Чей вы?
– Из местных.
– Дитя мое, вы столь же прекрасны, сколь и хорошо воспитаны. Не скажете ли, откуда вы идете?
– С охоты, как видите; если пожелаете, я поделюсь с вами добычей; думаю, ей не нашлось бы лучшего применения.
– Милое, славное дитя, благодарю от души! Подарок, сделанный столь добросердечно, отвергать не следует. К тому же этот дар придется очень кстати: сегодня я выдал замуж свою дочь и вышел на охоту в надежде принести угощение собравшимся на свадьбу; но возвращаюсь, ничего не добыв.
Тут вавассер спешился, отвязал косулю и спросил у отрока, которую часть он намерен ему дать.
– Сир, – сказал Ланселот, – разве вы не рыцарь? Забирайте косулю целиком, ей не найти места лучше, чем на девичьей свадьбе.
Вавассер был очарован столь великодушными словами.
– Ах, милое дитя, не поехать ли вам со мной? Неужели вы не дадите мне случая отблагодарить вас за такую любезность?
– Мои спутники, – отвечал Ланселот, – уже беспокоятся теперь, что со мною стало. Оставайтесь с Богом!
И он отъехал от вавассера, который, провожая его взором, все пытался угадать, кого напоминают ему черты юного охотника.
– О! Да, – вдруг сказал он себе, – на короля Бана, вот на кого он похож!
И, повернув обратно, он вскоре нагнал Ланселота, которого едва тянул его бедный рысак.
– Милое дитя, – обратился он к нему, – извольте сказать мне, кто вы такой: вы мне напомнили одного благородного человека, прежнего моего сеньора.
– Кто был этот человек?
– Это был король Бан Беноикский, и край этот зависел от его земель. У него их отняли, а его юного сына лишили наследства.
– И кто же его лишил?
– Соседний король по имени Клодас из Пустынной земли. О! Если вы сын короля Бана, ради Бога, не скрывайте этого от меня. Во мне вы найдете вернейшего слугу, рыцаря, всей душою жаждущего вас охранять.
– Сир, – сказал Ланселот, – я вовсе не сын короля; однако бывает нередко, что меня так зовут, и мне приятно, что вы мне это напомнили.
Вавассер продолжал:
– Дитя, кем бы вы ни были, вы, несомненно, из знатного рода. Взгляните на этих двух борзых, лучше них нет в целом свете. Возьмите одну, я вас прошу.
Ланселот сказал, глядя на борзых:
– Буду только рад и благодарю вас за это; но дайте мне самую лучшую.
Вавассер улыбнулся и вложил ему в руку цепочку от борзой.
Немного погодя отрок догнал своего наставника и троих спутников; они удивились, увидев его на тощей кляче, с двумя собаками на поводках, с луком на шее и колчаном у пояса.
– Это не ваша лошадь, – воскликнул наставник, – а куда делась ваша?
– Я ее отдал.
– А эта, где вы ее взяли?
– Мне ее отдали.
– Ничему этому я не верю; ради вашего долга перед госпожой, скажите, что вы наделали?
Ни за что на свете не желая преступить долг, Ланселот поведал об обмене лошадьми, о встрече с рыцарем и о подаренной косуле.
– Как же вы могли, – сурово промолвил наставник, – отдать доброго скакуна, когда он не ваш, и добычу из лесов моей госпожи?
– Не сердитесь, учитель; эта борзая стоит двух добрых скакунов.
– Вот вам святой крест! Вы поступили глупо, и чтобы отбить у вас охоту еще раз…
Он не докончил, но замахнулся рукой и тяжко обрушил ее на дитя, сбив его с коня. Ланселот поднялся, не издав ни крика, не проронив ни жалобы.
– И все-таки эта борзая, – повторил он, – мне дороже двух таких скакунов.
Наставник, еще пуще разозлясь, схватил один из тех гибких прутьев, что называют еще розгами, и стал им хлестать по бокам бедную борзую, а та отвечала протяжным воем. Ланселот стерпел от своего учителя пощечину, но когда увидел, что бьют его собаку, он пришел в дикую ярость и, ринувшись на наставника, так ударил его древком лука, что оголился череп, и оттуда брызнула кровь. Лук переломился; он подобрал его обломки, вернулся к наставнику и вдобавок отходил его по рукам и плечам. Напрасно трое спутников пытались его удержать: он обернулся к ним, вынул из колчана три стрелы и угрожал пронзить их насквозь, если они посмеют подойти. Они сочли за благо отступить; тогда, сев на одну из их лошадей, он поднял борзую, усадил ее впереди себя, а свою гончую позади, и так они доехали до края пустоши, где паслось стадо ланей. Первым его движением было поднять руку и взяться за лук; но, не найдя его, он воскликнул:
– А! Будь проклят этот мэтр! Не дал мне подстрелить одну из этих ланей!
И, все еще жалея, что упустил столь прекрасный случай, он добрался до озера, въехал в ворота, сошел с коня, приветствовал свою госпожу и с гордостью показал ей прекрасную борзую, которую он привел. Но наставник, истекающий кровью, уже донес ей свою жалобу.
– Королевич, – сказала дама, пытаясь казаться разгневанной, – как вы посмели так оскорбить наставника, заботам которого я вверила вас?
– Госпожа, – ответил Ланселот, – он пренебрег своей службой, ведь он вздумал упрекать меня за доброе дело. Я стерпел, когда он ударил меня, но я не мог видеть, как он бьет мою чудную борзую. Наставник этот учинил и еще кое-что: он не дал мне убить прекрасную лань, которую я бы с превеликой радостью вам принес.
Дама слушала все это с тайным удовольствием; но тут она увидела, что он выходит, метнув на наставника угрожающий взгляд, и призвала его обратно:
– Как вы могли отдать коня и дичь, когда они не ваши? Как у вас не дрогнула рука избить наставника, которому вы должны во всем повиноваться?
– Госпожа, я сознаю: пока я у вас под опекой, мне придется многое брать на себя. Но если Богу будет угодно, то, может быть, я однажды вновь обрету свободу. Чую я, что сердцу мужчины тяжело долго пребывать под чужой опекой: иногда он должен поступаться тем, что сделало бы ему честь. Я не желаю больше иметь наставника; наставника, я говорю, а не сеньора или госпожу. Но горе тому королевичу, который, по доброй воле отдавая свое, не может отдать чужое!
– Как! – воскликнула дама, – вы думаете, я говорила правду, называя вас королевичем?
– Да, госпожа, я сын короля и хочу, чтобы меня таковым почитали.
– Дитя мое, кто вам сказал, что вы сын короля, тот явно заблуждался.
– Весьма сожалею, ибо в душе я чувствую, что вполне достоин быть им.
Он ушел опечаленный; дама снова призвала его и, отведя в сторонку, поцеловала его в глаза и рот с материнской нежностью.
– Успокойтесь, сынок, – сказала она, – я разрешаю вам впредь раздаривать коней, добычу, все, что вам вздумается. Будь вам сорок лет, а не двенадцать, вы и тогда были бы достойны похвал за то, что щедро отдавали все, что имели. Отныне будьте самому себе сеньором и наставником: вы умеете выбирать между добром и злом. Если вы и не сын короля, то, по меньшей мере, у вас королевское сердце.
Здесь рассказ ненадолго покидает Ланселота, чтобы вернуться к его матери-королеве и к королеве Ганнской, его тете, пребывающим в печали и смирении в Королевском монастыре.
IX
Каждый день после мессы королева Элейна Беноикская ходила молиться на ту гору, где король Богор отдал Богу душу; потом она спускалась и печально сидела у озера, где у нее похитили дитя. Однажды, когда глаза ее, полные слез, были обращены к этой обширной водной равнине, ее приметил некий священник, ехавший верхом с единственным провожатым. Он был одет в длинную узкую сутану и закутан в черную мантию. Уйдя в свое горе, дама не видела и не слышала его приближения. Но он сказал ей, откинув капюшон на плечи:
– Госпожа, дай вам Бог радости, вами утраченной!
Элейна, вначале немного обеспокоенная, ответила на приветствие, ибо все в этом монахе выдавало человека добропорядочного: высокий рост, черные волосы, тронутые сединой, большие черные глаза, широкие плечи, крупные, угловатые кисти рук со вздутыми венами, голова и лицо, изборожденные шрамами.
– Извольте-ка разъяснить мне, госпожа, – продолжал он, – как это, служа Господу, вы можете предаваться такой скорби. Кто принял постриг, тому не пристало более сокрушаться ни о чем, разве только о грехах, совершенных еще в бытность вашу в миру.
– Сир, – ответила королева, – не утрата земных благ печалит меня, пусть я и звалась долгое время королевой Беноикской; но утрата моего сеньора короля и моего юного сына, которого на моих глазах унесла прямо отсюда в пучину озера некая дама или, быть может, дьяволица. Я прихожу сюда каждый день молиться за плоть от плоти моей, как говорит Святая Церковь, и надеюсь, что слезы мои вернее склонят ко мне милость Божию. Стоит мне подумать, что Богу было угодно в один и тот же час лишить меня и супруга, и сына, и я трепещу от мысли, что, сама того не желая, дала ему повод меня ненавидеть.
Добрый человек отвечал:
– Вижу, госпожа, что у вас немалая причина для слез; но вы не должны горевать сверх меры. Раз уж вы облачились в монашеские одежды, вам лучше предаваться вашей скорби в аббатстве, укрывая слезы в своей келье. Да простит Господь короля, которого вы потеряли! Но не беспокойтесь о судьбе вашего сына: он жив и здоров.
– Сир, да что вы говорите? – воскликнула королева, вскочив на ноги.
– Клянусь своей сутаной, ваш сын Ланселот в таком добром здравии, какое только возможно.
– А откуда вы знаете?
– От тех, кто с ним заодно. Он был бы с вами, а вы еще были бы госпожой Беноикской, если бы в том доме ему не было лучше.
– Но, сир, где он, этот дом? Если я уже не могу надеяться обрести своего сына, нельзя ли мне хотя бы взглянуть на те места, которые его пленили?
– Нет, госпожа, я обещал хранить тайну, доверенную мне, а вы же не хотите, чтобы я нарушил клятву.
Королева не стала настаивать, но пригласила доброго человека проводить ее до аббатства. Там он, возможно, встретит дам, чьи имена ему окажутся знакомы. Добрый человек на это согласился.
Когда они пришли в Королевский монастырь, многие дамы его узнали и устроили торжество в его честь. Оказалось, что, подвизаясь долгое время среди бравых рыцарей в миру, он, наконец, отринул земную славу, чтобы посвятить себя служению Богу в одной обители, преображенной в монастырь устава Святого Августина. Дамы умоляли его разделить с ними трапезу; но он ответил, что еще рано; ибо, согласно уставу своего ордена, он вкушал пищу лишь единожды в день.
– Эта высокородная дама, – сказал он, – внушила мне сострадание, и я благодарю Бога, что он дал мне случай отплатить ей за прежние милости. Однажды в день Богоявления король Бан, упокой Господь его душу, собрал большой двор. Рыцарей щедро одаривали одеждами; но когда я прибыл туда, в самый канун праздника, раздавать было уже нечего. Заметив меня, королева сказала, что такого благородного мужа, каким я выглядел, не годится принимать хуже других. У нее было заказано сюрко[31] из драгоценного шелка; она велела подогнать его по моей мерке и подарила его мне, так что во всем собрании я был одет богаче всех. Разве это не была великая любезность с ее стороны? Потому и я желал бы услужить ей своими трудами и речами. Ко мне не раз склоняли слух великие государи, и я намерен вновь обратиться к тем, кто может помочь делу ее сына и племянников. Прискорбно видеть земли Ганна и Беноика в руках Клодаса; наследственным правам от этого ущерб, а сюзерену позор. Завтра же я поеду за море и принесу жалобу королю Артуру.
Прежде чем проститься, достопочтенный муж повидался с королевой Ганнской и уведомил ее, что не стоит опасаться за жизнь обоих детей; что они хотя и пребывают вкупе с наставниками у короля Клодаса, но Клодас боится посягать на их жизнь, опасаясь множества друзей, по-прежнему верных им. Несколько дней спустя он уже был в городе Лондоне, где нашел короля Артура после битвы с Агизелем, королем Шотландии, который принужден был просить мира. Артур заключил и перемирие с королем Чужедальних земель вплоть до самой Пасхи. Когда он сидел за трапезой в окружении своих баронов и рыцарей, достопочтенный муж вошел в залу и, подойдя к подножию обширного стола[32], заговорил громко и уверенно:
– Король Артур! Да хранит тебя Бог как храбрейшего и лучшего из королей, за упущением одной малости.
– Святой отец, – ответствовал король, – заслужил я или нет ваших упреков и похвал, но благослови вас Бог! Но скажите, по крайней мере, что мешает мне быть добрым королем.
– Со всею охотой, сир. Да, ты благородная опора рыцарства; ты снискал великую честь перед Богом и людским светом; но уж больно ты медлишь с местью за свои обиды; и позор, учиненный твоим вассалам, падает на тебя. Ты забываешь тех, кто служил тебе верой и правдой и кто утратил свои земли, не желая признать над собою иного сюзерена.
Король зарделся от смущения, слушая эти слова. Рыцари вокруг него прервали трапезу, ожидая, что еще добавит достопочтенный муж; но коннетабль Бедивер сказал, подойдя к незнакомцу:
– Святой отец, дождитесь хотя бы, когда король выйдет из застолья. Разве вы не видите, что ваши речи омрачают пир и что благородным рыцарям никак невозможно его продолжать?
– То есть, – возразил святой отец, – вы решили не дать мне высказать то, в чем может быть великая польза для короля, чтобы иметь довольно времени набить и насытить бурдюк, в коем и лучшие яства станут нечисты и смрадны! Упаси меня Боже промедлить с оглашением того, что ему будет во благо услышать! Кто вы такой, чтобы закрыть мне рот? Или вы более храбры и уважаемы, чем Хервис Ринельский и Каэй Каорский, сенешали короля Утера, упокой Господь его душу[33]? Уж они бы не стали прерывать того, кто пришел просить о помощи!
При этих словах Хервис Ринельский сошел вниз от стола, где он прислуживал, ибо у короля Артура старые рыцари несли службу, как и молодые. Он подошел к достопочтенному мужу, распахнув объятия, и долго прижимал его к груди; затем он обратился к королю:
– Сир, верьте тому, что вам скажет этот достойный муж; ибо сердце его всегда озаряла доблесть. Это Адраген Смуглый, брат славного рыцаря Мадора с Черного острова, давний соратник нашего доброго короля Уриена.
Бедивер смутился; а когда король Артур позволил Адрагену Смуглому продолжать, старый рыцарь сказал.
– Сир, я говорю, что упрекнуть вас можно лишь в одном. Вы не взяли на себя дело короля Бана Беноикского, который умер в пути, идя к вам за подмогой. Любезная королева Элейна лишилась удела; ее сына, милейшее на свете дитя, у нее отобрали. И небрежение ваше столь преступно, что я не знаю, как вы можете смотреть добрым людям в глаза, не краснея. Что может быть постыднее, чем бросить верного вассала на милость его врагов? Я приношу вам жалобу по делу благородной королевы Беноикской, ушедшей в монастырь, дабы спасти свою честь. Ибо трепет, внушаемый королем Клодасом Пустынным, столь велик, что никому другому в той стране не достало смелости явиться сюда и напомнить о правах тех, кого он ограбил.
Артур ответил:
– Адраген, ваша жалоба верна: я знал, что король Бан умер, но по сию пору не нашел времени помочь его сыну. Мне пришлось воевать со многими могучими врагами, посягавшими на мою собственную корону. Но поверьте, я знаю, к чему обязывает звание сюзерена; и помяните мое слово, как только я смогу, я пойду за море и приду на помощь сыновьям королей Бана Беноикского и Богора Ганнского.
Засим Адраген простился и вернулся за море, спеша передать королевам то, что обещал король Артур. Но пройдет еще немало времени, прежде чем король Клодас вернет детям их наследство. На этом мы оставим Адрагена Смуглого и вновь обратимся к двум сыновьям короля Богора, заточенным в башне Ганна.
X
Владычица Озера не забыла, что говорил ей Адраген о двух сыновьях короля Богора: что они сидят в Ганнской башне взаперти. Она искала и нашла тайный способ их оттуда вызволить; и когда она узнала, что на день Магдалины Клодас собирает большой двор, празднуя годовщину воцарения, она отвела в сторонку одну девицу из своей челяди, ту, которой она доверяла.
– Сарейда, – сказала она, – поезжайте в Ганн; а оттуда вернитесь с обоими сыновьями короля Богора.
И после она научила ее проделкам[34], которые помогли бы ей исполнить наказ.
Сарейда отправилась в путь с двумя оруженосцами, ведшими на поводках двух борзых. К Третьему часу[35] она выехала из леса, и один из оруженосцев, посланный разведать, доложил ей, что король Клодас недавно уселся за стол. Верхом на породистом коне девица подъехала к воротам дворца; она велела обоим слугам ожидать ее и прошла вперед, держа борзых на серебряной смычке. Клодас восседал среди своих баронов, а напротив – его сын Дорен, наконец-то возведенный им в рыцари. По сему случаю, вопреки своему обыкновению, он рассыпал щедроты; ибо путешествие ко двору Артура дало ему ощутить все выгоды щедрости.
Внезапно в залу вошла Озерная девица. Она миновала ряды, отделявшие ее от престола Клодаса.
– Король, – промолвила она, – храни тебя Бог! Меня прислала к тебе сиятельнейшая в мире госпожа; до сего дня она ценила тебя наравне с самыми великими государями; но придется мне сказать ей, что ты даешь более поводов для порицаний, чем для похвал, и что ты и наполовину не так умен, отважен и любезен, как она мнила.
– Милости прошу, сударыня! – ответил Клодас. – Даме, пославшей вас, верно, наговорили обо мне лестного более, чем во мне есть; но если бы я знал, в чем она обманулась, я приложил бы все старания, чтобы исправиться. Скажите же мне ради того, что вам дороже всего на свете, чем я заслужил ее немилость.
– Вы меня так заклинаете, что придется мне сказать. Да, моей госпоже говорили, что никому не превзойти вас умом, добротой, учтивостью; она послала меня, дабы убедиться в истинности этих донесений; я же вижу, что этих-то трех великих добродетелей благородного мужа вам и недостает: ума, доброты и учтивости.
– Если у меня их нет, то вы совершенно верно полагаете, сударыня, что остаток будет скуден. Возможно, мне и случалось вести себя как глупцу, злодею, невеже; но я что-то этого не припомню.
П. Париса).
– Значит, надобно вам напомнить. Разве не правда, что вы держите в плену двух детей короля Богора; притом всем известно, что они никогда не чинили вам зла? Это ли не явное злодейство? Дети особо нуждаются в опеке, ласке, снисхождении; как может быть добросердечен тот, кто обходится с ними жестоко и несправедливо? И ума у вас не более, чем доброты: ибо, когда заходит речь о сыновьях короля Богора, вы наводите на мысли, что склонны сократить их дни; и за это их жалеют, а вас ненавидят. Разумно ли это – давать всем честных людям повод обвинять вас в преступном деянии? А будь у вас хоть капля учтивости, эти двое детей, превзошедшие вас родовитостью, сидели бы здесь, на первых местах, и с ними обходились бы по-королевски. Тогда бы все превозносили благородство, подвигнувшее вас растить этих сирот в чести, пока они не возмужают до обретения законного наследства.
– Боже сохрани! – воскликнул Клодас, – признаю, что до сей поры я следовал дурному совету, но отныне все изменится к лучшему. Ступайте-ка, мой коннетабль, к обоим сыновьям короля Богора и приведите их сюда вместе с наставниками, да придайте им свиту из рыцарей, пажей и слуг. Я хочу, чтобы с ними обошлись, как с королевичами.
Коннетабль повиновался; он появился в каморке у обоих детей, когда они еще пребывали в волнении от превеликой смуты, учиненной Лионелем. Лионель был сущее дитя, самое неуемное, каких только видывал свет; недаром ведь и Галеот, доблестный правитель Дальних островов, назвал его Необузданное сердце в тот день, когда его посвятили в рыцари[36].
Накануне оба брата, сидя за ужином, ели с отменным аппетитом и, по обыкновению, из одной миски, как вдруг Лионель метнул взгляд на Фарьена, своего наставника, и увидел, как тот отвернулся, скрывая слезы.
– Что с вами, дорогой учитель, почему вы плачете? – спросил он.
– Не волнуйтесь, – ответил Фарьен, – ни к чему об этом говорить.
– А я все же хочу знать и прошу вас как верноподданного сказать мне.
– Ради Бога, – сказал Фарьен, – не вынуждайте меня говорить о том, что вас только огорчит.
– Ах, так! Я не буду есть, пока не узнаю.
– Что ж, я вам скажу: я думал о былом величии вашего рода; о тюрьме, в которую вы заточены; о большом сборе двора, созываемом сегодня там, где вам пристало бы созывать свой.
– Кто это посмел созывать свой двор там, где положено быть моему?
– Это король Клодас Пустынный; он ныне правит в этом городе, главнейшем из вашего наследия. Сегодня он посвятил в рыцари своего сына, и для меня великое горе – видеть, как унижен именитый род, к коему Господь до сего времени так благоволил.
Слушая Фарьена, юнец почувствовал, как сердце его возбухает; он ударил ногой по столу, опрокинул его и поднялся с багровыми глазами, с пылающим лицом, как будто щеки его насквозь прожигала кровь. Чтобы унять свою боль, он вышел из каморки, поднялся наверх и, облокотясь, приник к оконцу с видом на луга. Вскоре к нему подошел Фарьен:
– Сир, ради Бога, скажите, что с вами; зачем так покидать нас? Вернитесь за стол, вам нужно поесть; хотя бы сделайте вид ради вашего брата, ведь он один не прикоснется к миске.
– Нет, оставьте меня, я не голоден.
– Ладно же, тогда и мы не станем есть.
– Вот еще! Разве вы не мои люди – мой брат, его наставник и вы? Я хочу, чтобы вы вернулись за стол, а сам я есть не буду, пока не исполню то, что задумал.
– Скажите мне, что вы задумали; вы должны довериться тем, кто может подать вам совет.
– Не скажу.
– Ну, так я ухожу с вашей службы; с того дня, как вы перестали просить у нас совета, от нас проку нет.
Фарьен отступил на шаг назад, и Лионель, нежно его любивший, воскликнул:
– Э! Учитель, не покидайте меня: я без вас умру; я вам все скажу. Я не хочу садиться за стол, пока не отомщу этому королю Клодасу.
– И как вы надеетесь это исполнить?
– Я вызову его поговорить со мной, а когда он придет, я его убью.
– А когда вы его убьете, что потом?
– Разве люди этой страны не мои подданные? Они придут мне на помощь, а если не придут, со мною будет милость Божья, ведь Он заступник правого дела. И смерть окажется во благо, если я приму ее, отстаивая мое право! Не лучше ли с честью умереть, чем уступить кому-то свое наследство? Разве это не облегчит мою душу; а тот, кто лишает наследства королевского сына, не отнимает ли у него нечто большее, чем жизнь?
– Нет уж, дорогой сир, – отвечал Фарьен, – не делайте этого: так вы потеряете жизнь прежде того, кого вознамерились убить. Подождите, пока вы возмужаете; тогда у вас будут друзья, защитники вашего права.
И столько уговаривал его Фарьен, что Лионель согласился отложить свои мстительные замыслы до лучших времен.
– Только сделайте так, – сказал он, – чтобы я не видел ни Клодаса, ни его сына; при них я не сумею сдержаться.
Он лег в постель, а Фарьен не мог уснуть, зная, что ничто не может отвратить Лионеля от его намерения. Назавтра наставнику вновь пришлось прибегнуть к уговорам, чтобы убедить обоих братьев не изнурять себя постом. Они сидели за столом, когда прибыл коннетабль короля Клодаса. Как благородный и учтивый рыцарь, он преклонил колени перед Лионелем и промолвил:
– Сир, вас приветствует монсеньор король. Он призывает и просит вас с братом и с вашими наставниками прибыть ко двору; он намерен принять вас, как подобает королевским сыновьям.
– Иду! – тотчас воскликнул Лионель, встав и просияв от радости. – Дорогой учитель, уделите время этим благородным сеньорам, пока я отлучусь ненадолго в соседнюю комнату.
Он выбежал, позвал камергера и потребовал у него богато отделанный нож, подаренный ему для забавы. Пока он прятал его под платье, Фарьен, обеспокоенный тем, что он затеял, вошел, увидел клинок и выхватил у него из рук.
– Если так, – сказал Лионель, – я отсюда не выйду; я вижу, вы ненавидите меня, раз отбираете мое имущество, мою грядущую радость.
– Но, сир, – возразил Фарьен, – вы хорошо подумали? Зачем вы хотите взять с собою это оружие? Дайте его мне, я сумею его спрятать лучше вас.
– А вы отдадите мне его, когда я потребую?
– Да, если вы употребите его только по моему совету.
– Я не намерен делать ничего зазорного и ничего, что обернулось бы вам во вред.
– Вы обещаете?
– Послушайте-ка, дорогой учитель: нож у вас, вот и храните его; может быть, вам он пригодится больше, чем мне.
XI
Они вернулись в залу и вскоре пустились в путь; дети верхом на двух рысистых лошадях, их наставники позади на крупах. При их приближении все придворные вышли поглядеть на них. На них взирали с любопытством, плакали, молили Бога вернуть им когда-нибудь их владения; оруженосцы старались наперебой, помогая им сойти на землю. Они взошли по ступеням, держась за руки. Среди рыцарей короля Клодаса немало было тех, кто прежде служил королям Ганна и Беноика и теперь не без опаски провожал глазами прекрасных отроков, подвластных королю Пустынной земли. Лионель выступал, подняв голову, гордо оглядывая залу, как юный отпрыск высокого и знатного рода.
Клодас же восседал под балдахином на богато украшенном троне. На нем было то самое платье, в котором его венчали на Буржский престол. Перед ним на серебряном поставце сияла королевская корона, а на другом, подобном канделябру[37],– ясный и разящий меч и золотой скипетр, усеянный драгоценными камнями.
Он любезно принял сыновей короля Богора и, казалось, был особо поражен благородным видом Лионеля. Он сделал ему знак подойти; отрок стал рядом с мечом и короной. Дабы оказать ему честь, король протянул ему свой кубок, предлагая испить из него. Но Лионель будто не слышал: он не отводил глаз от дивно сияющего меча. «Вот будет удача тому, – думал он, – кто сможет ударить этим мечом!». Клодасу подумалось, что одна лишь робость не дает ему принять кубок; и в этот самый миг к детям подошла Озерная девица и сжала руками щеки Лионеля:
– Пейте, милый королевич, и положитесь на меня!
С этим словами она надела на головы обоим детям венки из душистых цветов, а на шеи пристегнула золотые пряжки, украшенные самоцветами.
– А теперь, – сказала она Лионелю, – пейте, милый королевич.
– Да, но за это вино заплатит другой.
И вот они оба во власти буйного упоения; ибо чары цветов, сила камней пронзают их неутолимым пылом. Лионель хватает кубок.
– Разбей его о землю, брат, – говорит Богор.
Лионель поднимает кубок обеими руками и ударяет Клодаса в лицо со всею силой, и бьет, и бьет его по глазам, по носу, по губам. Осколком кубка он рассекает ему лоб, а после, притянув к себе оба канделябра, опрокидывает скипетр и меч, бросает на пол корону и топчет ее ногами, так что камни брызжут из нее. И тотчас дворец наполняется криками, все бегут из-за стола, одни – чтобы схватить детей, другие – чтобы их защитить.
Король обмяк и сполз со своего престола, залитый кровью и вином. Дорен ринулся отомстить за него; Лионель ухватился за меч, а Богор с большим скипетром в руке подоспел ему на помощь. Когда бы не сочувствие, питаемое к детям многими из собравшихся рыцарей, от их отваги было бы мало толку; вот уже их можно брать без боя, обессиленных и усталых, а Клодас, придя в себя, поклялся, что они от него не уйдут. Тогда Сарейда, благоразумная девица, повлекла их к дверям; Дорен погнался за ними. Лионель обернулся, собрал весь остаток сил и обеими руками ударил его своим разящим мечом. Дорен хотел было отразить удар левой рукой, но клинок отсек ему руку, прошелся по щеке и раскроил горло; а Богор, подняв добытый скипетр, проломил ему зияющую рану во лбу. Дорен упал, издал последний вопль и умер. Тут уж и грома Господнего было бы не услыхать. Клодас напустился на детей; Сарейда вовремя припомнила наставления Владычицы Озера, произнесла некое слово, и силою заклятия дети приняли облик двух борзых, а борзые – двух детей. Ослепленный яростью, Клодас замахнулся мечом; Сарейда метнулась вперед и прикрыла детей, отчего стальное острие задело ее и рассекло лицо над правым глазом. Бровь ее навеки сохранила этот шрам. При виде крови, заливающей лицо, она испугалась и воскликнула:
– Ах! Король Клодас, я уже сильно жалею, что явилась к вашему двору; что вам сделали эти красавцы борзые, которые со мною?
Клодас смотрит и не видит перед собой никого, кроме борзых. Мнится ему, что от него убегают дети; он гонится за ними, настигает, заносит острый меч, но тот ударяет о дверной брус и разлетается в куски. «Слава Богу! – сказал он тут сам себе, – оружие мое разбилось прежде, чем коснулось детей короля Богора Ганнского. У меня при дворе ни одна душа не оправдала бы меня, если бы я убил их. Они умрут, но после приговора суда, чтобы никто не мог меня упрекнуть». Потом, отбросив обломок меча, он схватил обоих детей и отдал их под стражу самым верным своим слугам.
И если король Клодас скорбел о своем сыне, то и два наставника, Фарьен и Ламбег, горевали ничуть не менее. Они были уверены, что оба их юных сеньора попали во вражьи руки, и не сомневались, что их обрекут на смерть. Но тут пора вернуться к Озерной девице.
XII
Сарейду не особо занимала ее рана, как бы глубока она ни была. Она обернула себе лицо широкой перевязью и вернулась к оруженосцам, стоявшим у ворот Ганна. Двое детей, все еще в облике борзых собак, шли за нею. Но перед тем как вступить в лес, где ее ждали оруженосцы, она сняла чары, и Лионель с Богором вновь предстали такими, какими и были на самом деле.
Сарейда удостоилась похвалы Владычицы Озера, к которой она привела обоих детей. В час ее прибытия Ланселот был на охоте, а когда вернулся, Владычица Озера его осведомила, что нашла для него двух славных друзей. Он взглянул на них, протянул им руку и почувствовал к ним живейшую приязнь. С первого же дня все трое стали есть из одной миски и спать на одном ложе.
XIII
Клодас между тем отдавал последние почести праху своего сына. Он причитал над ним долго и горестно, не подозревая о новой грозе, которая собиралась над ним.
Весь город Ганн был не на шутку растревожен, узнав, что оба сына их законного сеньора схвачены и предстанут перед судом баронов Пустынной земли. Рыцари Ганна и городские жители взялись за оружие, а Фарьен, лишь только вернулся в башню со своим племянником Ламбегом, непримиримым врагом Клодаса, созвал всех своих друзей, чтобы держать с ними совет. Все они поклялись умереть, но не дать Клодасу погубить детей. Башня была в их руках; они заперли выходы из нее и запаслись провизией. Когда они узнали, что Клодас созывает воинство Пустынной земли, боясь грядущего бунта Ганнских горожан, они его упредили и взяли в осаду в собственном дворце.
– У нас, – говорил Фарьен, – народу больше, чем может собрать король Клодас. Право на нашей стороне, ведь дело идет о жизни наших сеньоров; защищая их, мы обретем и честь земную, и награду небесную; ибо долг велит идти на верную смерть, спасая жизнь законного властелина. Погибнуть за него – все равно что погибнуть в бою с Сарацинами.
Рыцари, слуги, горожане и дети горожан собрались вокруг дворца числом более тридцати тысяч. Завидев их, король Клодас невозмутимо потребовал доспехи. Он надел кольчугу, подвязал шлем, повесил на шею щит и укрепил с левого боку отточенный меч. Затем он показался в окне, держа в руке большую боевую секиру.
– Фарьен, – спросил он у сенешаля, заметив его в толпе, – что такое, чего хотят все эти люди?
– Они требуют вернуть своих законных сеньоров, сыновей короля Богора.
– Как, Фарьен! Разве они не мои люди, как и вы?
– Сир король, мы пришли сюда не для того, чтобы пререкаться. У меня были на попечении двое сыновей короля Богора; вы должны вернуть их нам. После этого требуйте, что вам угодно, вы увидите, что мы готовы уважить ваше право; но если вы откажетесь выдать нам детей, мы сумеем их отнять; среди тех, кого вы тут видите, все как один готовы умереть, только бы защитить их от вас.
– Что ж, пусть каждый поступает, как может. Если бы не ваши угрозы, возможно, я согласился бы по доброй воле на то, в чем теперь вам отказываю.
Приступ начался: напряглись луки и арбалеты, закружились пращи. Тысячами взвились камни, стрелы, арбалетные болты. Затем запалили огонь и начали метать его из пращей. Вот Клодас велит открыть главные ворота и выезжает с тяжелой секирой в руке. Дротики сыплются на него дождем, пронзают кольчугу; он держится стойко, и горе тому, кто отважится подойти слишком близко! Но, наконец, Ламбег раздвигает толпу, пробирается к нему и пронзает верх его плеча острием своей глефы[38]. Король не удержался на коне; чтобы не упасть плашмя, он приник к стене и с превеликим усилием извлек окровавленное железо. Ламбег вновь принялся за дело; и вот, продержав оборону изрядное время, Клодас пошатнулся и упал без памяти. Тот придавил его коленом, отвязал шлем и уже поднял руку, чтобы отсечь ему голову, когда подъехал Фарьен, весьма кстати, чтобы вырвать жертву у него из рук.
– Ты что собрался делать, племянничек? Ты хочешь убить короля, которому дал присягу? Даже если бы он лишил тебя наследства, ты был бы обязан защитить его от смерти.
– Как! сын непотребной матери, – воскликнул Лам-бег, – вы хотите уберечь бесстыжего изменника, который опозорил вас, а нынче угрожает жизни наших законных сеньоров?
– Племянник, выслушай меня: никому не дозволено домогаться смерти своего сеньора, не отозвав у него прежде свою присягу. Что бы ни делал Клодас, и что бы ему ни вздумалось делать еще, мы его люди и обязаны беречь его жизнь. Мы восстали против него единственно ради спасения детей нашего первого сеньора, отданных нам на попечение.
Говоря все это, Фарьен ухватил шлем Клодаса за наносник и приоткрыл ему лицо. А король, который прекрасно слышал его слова, промолвил:
– Ах! Фарьен, да воздастся вам за это! Возьмите мой меч, я отдаю его самому верному из рыцарей. Я верну вам обоих детей; но им нечего было опасаться, даже если бы я запер их в башне Буржа.
Фарьен немедленно отдал приказ прекратить осаду. Он возвестил жителям Ганна, что король Клодас согласен вернуть детей и что близок час, когда они их увидят. Затем он вошел во дворец вместе с Клодасом; двух борзых собак, всеми признаваемых за сыновей короля Богора, привели и отдали в руки наставникам. Показав их народу, собравшемуся под стенами замка, Фарьен увел их обратно в башню. Многие бранили его за то, что он уберег короля Клодаса от смерти, а пуще всех кипел от ярости Ламбег, памятуя, какой случай он упустил. Но в башне царило веселье по случаю вызволения и возвращения детей.
Когда настала ночь, в тот самый час, когда девица Сарейда развеяла чары, на месте Лионеля и Богора вновь очутились борзые. Вообразите же себе изумление, горе, возмущение рыцарей Ганна!
– Клодас нас обманул! – вскричали они. – Давайте же вернемся к нему, растерзаем его на тысячу клочьев, все предадим огню и крови!
Из них более всех горевал Фарьен. Он заламывал руки, раздирал свои одежды, царапал себе лицо, рыдал и испускал вопли, слышные издалека. Поднялся такой вселенский шум, что и Клодас, наконец, уловил его отголоски. Он спросил, откуда доносятся эти возгласы.
– Из большой башни.
Он послал туда стражника, и скоро тот вернулся, объятый ужасом.
– Ох, сир! – воскликнул он, – садитесь на коня, бегите. Весь народ собирается, чтобы разнести дворец, а вас зарубить до смерти. Они говорят, что вы убили обоих сыновей их старого короля, а взамен дали всего-то двух борзых.
Клодас никак не мог уразуметь, чего от него добиваются; однако он потребовал доспехи, хоть и был изнурен ранами, полученными в прошлом бою.
– Ах! – воскликнул он горестно, – королевства Ганн и Беноик, сколько же мук вы мне приносите! И как тяжко грешит тот, кто отнимает чужое наследство! Нет для него более ни мира, ни сна. Есть ли на свете дело труднее, чем править народом, чье сердце к тебе не лежит? Увы! госпожа природа всегда берет верх, подданные всегда возвращаются к своему истинному сеньору. Притом нет горше пытки, чем видеть, как другой упивается почестями, твоими по праву, царит там, где царить пристало бы тебе самому; никакая боль не сравнится с болью изгнания и утраты надела.
Так говорил и думал Клодас в кругу своих вооруженных рыцарей, стоя у дворцовых ворот. Уже спустилась ночь, а соседние улицы были так озарены факелами и фонарями, что впору было принять ее за ясный полдень. В первом ряду Фарьен, прежде чем подать знак, во весь голос произносил поминальную речь о детях, и тут король Клодас обратился к нему:
– Фарьен, скажите мне, чего хотят все эти люди? Собрались ли они на благо мне или на погибель?
– Сир, – ответил Фарьен, – вы должны были вернуть нам двух сыновей короля Богора, а вместо них подкинули двух собак. Вы будете это отрицать? Вот они перед вами.
Клодас посмотрел с видом удивленным и озадаченным. Поразмыслив немного, он сказал:
– А ведь это те борзые, которых нынче утром привела девица. Это она, должно быть, подменила детей. Но, милейший мой Фарьен, не вините меня: я готов поклясться перед всеми вашими друзьями, что свое слово сдержал, а за то, что случилось, бранить надо не меня. Я согласен даже стать вашим пленником до тех пор, пока не разузнают, что стало с детьми.
Фарьен поверил словам короля; ибо он видел, как девица вела борзых на поводках и надевала детям венки. Но намерение короля побыть у него в плену вызвало у него другое опасение. Он знал лютую ненависть своего племянника Ламбега и предвидел, что жизнь Клодаса окажется в немалой опасности, если тот возьмет его под стражу. Ламбег бросит королю вызов или убьет без вызова; ему же самому придется дважды мстить: Клодасу – за оскорбление, которое тот нанес ему, похитив любовь его жены; Ламбегу – за убийство того, кто вверился его попечению. И потому он ответил королю, что, при всем доверии к его словам, он не может обещать, что так же легко будет убедить людей Ганна.
– Позвольте мне переговорить с ними, прежде чем решиться на что-либо.
Он вернулся к баронам и горожанам Ганна, которые ждали его с нетерпением, в подвязанных шлемах и со щитами, перевешенными на шею[39].
– Король Клодас, – сказал он, – не признает за собой измены; он верил, что отдал королевских детей, и готов пребывать у вас в плену, пока не раскроется тайна сего злоключения. Он хочет довериться мне; но я не согласен взять его под стражу, если вы мне не обещаете не посягать на него никоим образом, пока не узнаете, что стало с детьми.
– Как! Дядюшка, – заговорил тут Ламбег, – вы взаправду можете предлагать себя в охранители убийцы наших законных сеньоров? О! если бы люди знали, сколько сраму вы от него натерпелись, вас бы уже не слушали и не принимали ни в одном придворном суде[40].
– Милый племянник, твои речи не удивляют меня; нельзя требовать большого ума от того, кто сердцем дитя. Ты не раз доказывал свою храбрость, но тебе нельзя еще не сверяться с зерцалом безупречной честности. Позволь мне передать тебе толику разума, которого тебе недостает. Пока ты значишься среди юнцов, будь скромнее в советах; не говори, пока не выскажутся старшие. В битве тебе не должно дожидаться ни молодых, ни старых: бросайся вперед среди первых, руби лучше всех, коль умеешь. Но на совете отрокам пристало подождать зрелых мужей; и если прекрасно умереть на поле боя, то постыдно заговорить не в свой черед, чтобы изречь неразумное слово. Все, кто мне внимает, лучше тебя умеют отличить, где ум, а где глупость. Кое-кто, быть может, все же потребует голову Клодаса; но как мы тогда избежим поношения за то, что убили без суда своего законного сеньора? По доброй ли воле или против, но разве мы ему не присягали и не клялись в верности, смыкая руки? А единожды приняв обязательство, разве не должны мы охранять его особу от всех и вся? Величайшая измена – поднять руку на своего сеньора, и мы знаем это. Если он дурно обошелся со своим вассалом, тот должен представить жалобу в суд, который вызовет его по истечении двух недель, дабы он доказал свое право. Если же сеньор откажется возместить причиненное зло или признать таковое, пусть вассал отзовет свою присягу, но не втайне, а при всем собрании баронов.
Но и отвергнув присягу, вассал еще не возымеет права убить своего прежнего сеньора, по меньшей мере, если тот не нападет первым. Вот теперь, сеньоры и горожане, если вы заверите меня в том, что королю Клодасу нет причины вас опасаться, пока он под моей охраной, я согласен держать его у себя в плену; если же вы откажетесь, пусть тогда каждый поступает, как ему угодно! Но я хотя бы не погублю свою душу, а на этом свете свою честь, потворствуя казни без суда того, кто был моим законным сеньором.
Фарьен удалился, чтобы дать им вволю посовещаться. Верх взяли юнцы с первым пушком на щеках, подстрекаемые Ламбегом, настояв на том, что не станут разоружаться, если Клодас не сдастся без условий и без ходатайства к другим судьям. Они изъявили это Фарьену, и он немедленно пошел к королю Клодасу.
– Сир, защищайтесь, как только можете: они не желают внимать рассудку, они требуют, чтобы вы сдались им без всяких условий.
– А вы, Фарьен, что вы мне посоветуете?
– Стоять насмерть; правда от них отвернулась и обратилась к вам, и каждый из ваших людей, поверьте, будет стоить двоих с их стороны. Как ваш вассал, я отмежевался от тех, кто желает вашей погибели; но, сир, поклянитесь мне на святых, что вы ничего более не замышляете против сыновей короля, моего прежнего сеньора, что они оба живы и что вы не намерены их казнить. Не то чтобы я сомневался в вашей честности; но лишь ради того, чтобы ваша клятва облегчила мне душу и позволила мне утверждать перед любым судом, что я вернулся к вам единственно из чувства долга.
Клодас подал ему левую руку и, вытянув правую к монастырю, видному невдалеке, произнес:
– Клянусь святыми сего монастыря, что дети короля Богора Ганнского не убиты и не ранены моею рукой; я не ведаю, что с ними стало, и будь они в Бурже, у них бы не было причин опасаться меня, хоть они и доставили мне величайшее горе.
Осада дворца началась повторно. Клодас защищался, как лев; Фарьен не желал наставлять свою глефу ни на одного рыцаря земли Ганнской; но довольствовался тем, что защищал особу короля, разоружая тех, кто подступался слишком близко. Ночь вынудила осаждавших отойти, не успев проделать в стенах ни малейшей бреши. Один малопочтенный рыцарь, шателен Отмюра, предложил обратиться к совету Фарьена и дать слово не посягать на жизнь Клодаса, пока тот пребывает у Фарьена под стражей.
– Мы с Ламбегом, – сказал он, – не дадим от себя такого слова: нас не будет среди тех, с кого возьмет клятву Клодас. Тем самым мы останемся вольны отомстить злодею-королю за все.
Если рыцари и горожане Ганна и не желали преступить клятву, им вовсе не претило увидеть, как от нее уклоняются другие. Они послали к Фарьену сказать, что сговорились дать слово не посягать на жизнь Клодаса, если Клодас согласится остаться в плену. Фарьен передал сказанное королю, предвидя все же, что Ламбег и шателен Отмюра едва ли смогут обуздать свою злую волю.
– Сир, – сказал он ему, – я довожу до вас то, что предлагают жители города; но в любом случае надобно оградиться от измены; коль скоро вы под моей охраной, то на меня и падет вечный позор, если вас постигнет несчастье. Я вовсе не люблю вас, вы это знаете; напротив, я вас ненавижу и только жду законного случая, чтобы отомстить за мое личное оскорбление; но я никому не дам права усомниться в моей честности. Мой вам совет: облачите в ваши доспехи одного из двух рыцарей, готовых разделить с вами плен.
– Фарьен, – ответил Клодас, – я вам доверяю, я сделаю все, что вам угодно будет мне посоветовать.
Вместе с королем Фарьен вышел к жителям города:
– Господа, я переговорил с нашим сеньором королем. Он согласен пребывать у меня в плену, полагаясь на слово, даваемое мне вами, не пытаться вырвать его из-под моей охраны. Подойдите, сир король Клодас: обещайте стать моим пленником с того часа, какой я укажу.
Король поднял руку и дал требуемую клятву.
– Я хочу также, чтобы при вас были два самых высокородных барона из ваших земель, к примеру, владетели Ша-тодона и Сен-Сира. Венценосному королю не пристало быть в неволе в обществе бродяг или нищей челяди.
Клодас вернулся назад и без труда уговорил пойти за собою двух баронов, названных Фарьеном; он пришел с ними вместе, но прежде обменялся доспехами с сеньором Сен-Сиром. Фарьен взял с них слово не выходить из темницы, пока он им не позволит; затем обратился к людям Ганна:
– Почтенные сограждане, теперь клянитесь никоим образом не посягать на жизнь и безопасность трех моих пленников.
Все, кто его слышал, произнесли клятву, и толпа разошлась, явно довольная. Фарьен и двенадцать рыцарей, в числе которых были Ламбег и шателен Отмюра, повели Клодаса и двух его сообщников в большую Ганнскую башню. Когда они преодолевали последнюю ступеньку, Ламбег подошел вплотную к рыцарю, одетому в доспехи Клодаса, и вонзил ему в грудь свою пику. Рыцарь, сраженный смертельным ударом, упал к ногам Фарьена, а тот, кипя от возмущения, схватил секиру, висящую на стене залы, и набросился на племянника.
– Как! – вскричал Ламбег, – вы хотите меня убить, чтобы я не мог покарать этого мерзавца Клодаса? Хотя бы дайте мне время покончить с этим.
Не отвечая, Фарьен обрушил на него секиру; Ламбег хоть и укрылся щитом, но лезвие рассекло кожу под умбоном[41], угодило в левую руку и вошло в ее плоть по самую плечевую кость. Ламбег упал, обливаясь кровью, а Фарьен указал на копье и меч, стоящие в станине[42]:
– Защищайтесь, сир король; я с вами против этих негодяев; пока мне хватит жизни хоть на единый вздох, они не прикоснутся к вам.
Из десяти рыцарей, пришедших с Ламбегом и Отмюром, ни один не шевельнулся, чтобы им помочь; Фарьен вторым ударом секиры расправился с сеньором Отмюром; он обернулся к своему племяннику, намереваясь прикончить его, когда вдруг та, кому воистину было за что ненавидеть Клодаса, венчанная супруга Фарьена, выбежала вся простоволосая из камеры, где так долго сидела взаперти, и кинулась между дядей и племянником.
– Ах! Милый Фарьен, – вскричала она, – не убивайте лучшего в мире рыцаря, сына вашего брата! Вы всю жизнь будете стыдиться и жалеть об этом. Если он так ненавидит короля Клодаса, то вы ведь знаете, это из любви к вам, желая отомстить за ваш позор. Меня одну вам следует убить; я этого заслужила больше, чем он.
Фарьен замер при виде этой женщины, которая порывалась заступиться за своего беспощадного обвинителя; потом, не отвечая, набросился на сеньора Отмюра, едва вставшего на ноги. Прочие десять рыцарей подоспели на защиту своего сподвижника, напали на сенешаля и вскоре иссекли его кровоточащими ранами. Он бы погиб, если бы Ламбег не поднялся на ноги и не принял немедленно сторону дяди. Обе стороны опустили мечи и глефы; десять рыцарей сошли вниз по ступеням башни, а дама, не теряя времени, уняла кровь и перевязала раны Фарьена. Слезы Ламбега смешались с кровью, струившейся из его ран; мало-помалу злоба Фарьена утихла, он переводил взор с жены на племянника; прослезившись, он протянул к ним обе руки. Ламбег узнал от него, что убил вовсе не Клодаса, и искренне раскаялся в своем вероломном нападении. Здесь повествование оставляет Фарьена и его пленников, чтобы вернуться к детям, которых приняла к себе Владычица Озера.
XIV
Добрый прием, оказанный детям короля Богора Владычицей Озера и Ланселотом, не заставил их забыть Фарьена и Ламбега. Они плакали, бледнели и словно таяли на глазах. Дама заметила это и хотела бы узнать, чего им недостает; но на все расспросы они отвечали упорным молчанием. Ланселот был более удачлив: он выведал, кто они такие, и что они делали, и как они были заперты в башне Ганна, и как явились перед Клодасом, и об опасности, избегнутой благодаря девице с двумя борзыми; и о смертельном ударе мечом, доставшемся Дорену; и, наконец, об их тревоге за судьбу обоих наставников. Слушая их, Ланселот чувствовал, что любит их еще сильнее; а поскольку он имел над ними немалую власть, сам того не желая, то вот что он сказал им:
– Будьте всегда такими, какими вы были у Клодаса: не пристало королевичу жалеть тех, кто его обобрал; королевич должен доблестью превосходить всех прочих.
Что же до Владычицы Озера, она рассудила, что пора соединить наставников с детьми. Но Фарьену пришлось обороняться от горожан Ганна, которые на сей раз взяли в осаду его самого за то, что он якобы переметнулся от них на сторону Клодаса и погубил сыновей Богора. Владычица Озера отрядила одну из своих девиц, чтобы та направилась в Ганн и забрала оттуда Фарьена. Когда она выезжала, Лионель передал ей два пояса: свой и брата.
– Как только они их узнают, – сказал он ей, – они последуют за вами немедленно.
– Но не привозите никого, – добавила Владычица Озера, – кроме двух наставников. Нельзя, чтобы другие разгадали тайну моего укрытия.
Приехав в Ганн, девица стала расспрашивать, кто среди горожан самый уважаемый. Ей указали на Леонса Паэрнского, близкого родича Бана, который не владел от Клодаса ничем и оставался верен наследникам обоих королей, Ганн-ского и Беноикского. Не возбуждая подозрений у жителей, Леонс вошел в башню, где сидели в осаде Фарьен и Ламбег. Вообразите радость обоих наставников, когда они узнали в руках девицы пояса своих учеников, которые, мол, ничего так не жаждут, как только увидеть их вновь!
– Госпожа моя, – сказал Фарьен, – вы знаете, как озлоблены люди в городе: они обвиняют нас в измене и не поверят мне на слово, ежели я буду говорить, что оба юных наследника в полной безопасности; они пожелают их увидеть.
– В этом я не сумею им помочь, – сказала девица. – Я могу лишь проводить вас к ним, и безо всяких попутчиков.
Фарьен обратился к воинам и горожанам Ганна:
– Почтенные сограждане, послушайте добрые вести о наших сеньорах, сыновьях короля Богора. Они не у Клодаса. Если вы не верите мне, выберите самого надежного из вас; его проводят с Ламбегом в дом, где укрывают детей. Когда эти двое скажут вам, что видели наших сеньоров Лионеля и Богора и что оставили их в добрых руках, вы признаете, сколь мало обоснованы ваши подозрения, и позволите нам уйти.
Хоть и сомневаясь, радоваться им этой вести или опасаться некоей каверзы, жители Ганна приняли предложение Фарьена и выбрали в спутники Ламбегу Леонса Паэрнского.
Они вышли и пересекли долину Нокорранж у начала Бриокского леса[43]. Казалось, что к лесу этому примыкает озеро, шириною равное протяженности поместья Владычицы Озера. Но прежде чем продолжить путь, девица предупредила Леонса Паэрнского, что не может позволить ему сопровождать их далее.
– Повремените немного, и я обещаю вернуться за вами или привести ваших воспитанников, смотря по тому, что мне прикажут; видите вон там замок Тараск, по соседству с замком Брион; пожалуйста, располагайтесь там, пока я не вернусь.
Леонс последовал этим наставлениям и повернул к Тараску, а Ламбега девица повела туда, где виднелось озеро. По мере их продвижения вода словно бы отступала, и вот они очутились у больших ворот, которые раскрылись перед ними, и Ламбегу так и невдомек было, что же стало с озером.
Богорден[44] бурно радовался встрече со своим дорогим учителем; но Лионель, не видя Фарьена, был сильно раздосадован и ушел в другую комнату, не говоря ни слова. Там он увидел девицу, которая вывела их из Ганна. Сарейде перевязывали рану, полученную ею, когда она кинулась между Клодасом и Лионелем. Он явно удивился при виде ее изъяна; ведь когда они выходили из королевского дворца, была ночь, и он ничего не заметил.
– Э, сударыня, – сказал он, – эта рана изрядно вас обезобразила!
– Правда, Лионель? А вы не думаете, что тому, из-за кого я ее получила, стоило бы поблагодарить меня?
– Он должен ценить вас превыше себя самого. Он должен отдать вам все, что вам угодно будет потребовать.
– А если бы меня так изуродовали из-за вас?
– Тогда бы я любил и слушался вас больше всех на свете.
– Ну что же, я очень рада, ведь это был удар от меча Клодаса, когда я бросилась между ним и вами, выходя из его дворца.
– О! сударыня, можете положиться на меня: вы куда более заслуживаете быть моей наставницей, чем Фарьен; ведь я его так любил, а он ко мне не пришел, хотя и мог догадаться, как грустно мне без него. Да, стань я владыкой целого мира, пусть бы он правил им наравне со мною. Но теперь я вас одну хочу любить и слушаться, ведь вы подвергли опасности свою жизнь, чтобы уберечь мою.
Растроганная девица не могла сдержать слез. Она обняла дитя и расцеловала его в лоб, в глаза, в губы. В этот миг Ламбег открыл дверь и преклонил колени перед Лионелем:
– Дорогой сир, как вы тут жили с тех пор, как мы потеряли вас из виду?
– Плохо, – ответил юнец, – но теперь мне хорошо; я забыл все свои печали.
Девица все еще держала его в объятиях.
– Любезный сир, – продолжал Ламбег, – поклон вам от моего дяди, вашего наставника.
– Он мне больше не наставник. Вот вы к нам вернулись, вы и впрямь наставник моего брата Богордена; а я теперь повинуюсь этой госпоже. Но расскажите все-таки, как живется Фарьену.
– Слава Богу, сир, он в добром здравии; но ему пришлось нелегко.
И тут он поведал обо всем, что с ними случилось со дня их разлуки: об осаде башни, о бунте баронов и горожан Ганна, о пленении Клодаса.
– А Дорен, – спросил Лионель, – он отошел от удара, нанесенного моим братом?
– Отошел, – засмеялся Ламбег, – туда, откуда на него уже не пожалуется.
– Он умер, вы говорите?
– Да, я видел его тело в гробу, окоченелое и безжизненное.
– О! если так, я уверен, что верну свое законное наследство. Дай Бог Клодасу прожить подольше, чтобы он успел уразуметь, какова расплата за похищение чужих земель!
Всех изумили эти гордые слова. Затем Ламбег разъяснил юноше, что Фарьен не может выйти из башни, пока не убедит жителей Ганна, что их юные сеньоры укрыты от преследований Клодаса. А Владычица Озера, подойдя, спросила Лионеля, не хочет ли он съездить повидаться с ним.
– Госпожа, я сделаю то, что посоветует мне моя наставница.
– И как это она взяла такую власть над вами?
– Посмотрите, – ответил он, приоткрыв рану на лице девицы, – посмотрите, разве мало она заплатила за право приказывать мне?
– Воистину, – промолвила Владычица Озера, – ее труды не пропали зря; если вы доживете до возраста мужчины, она еще услышит о вашем благородстве.
Владычица Озера пожелала сама проводить обоих детей и Ламбега до Тараска. В это самое время появился Ланселот, только что ото сна, ибо он поднялся чуть свет и все утро охотился. Все принялись ужинать; Ланселот, по своему обыкновению, отрезал для госпожи от первого кушанья и сел напротив нее, прочие же домочадцы ждали и не садились по местам, пока он не занял свое. На голове его был венок из алых роз, оттенявший красоту его волос. Хотя был уже месяц август, когда розы перестали цвести, но, говорит предание, пока он жил у Владычицы Озера, не проходило и дня, летом ли, зимой ли, когда бы отрок, просыпаясь, не находил у изголовья своего ложа убор из свежих алых роз; не бывало этого лишь по пятницам, в канун больших праздников и во время поста[45]. Он никак не мог увидеть, кто его приносит, хотя часто караулил, чтобы его изобличить. С тех пор как оба сына короля Богора стали его приятелями, он делал из этого убора три венка и делился с ними.
Он выехал в Тараск. При нем был один рыцарь, к которому он был особенно привязан, и один подручный, везший его лук и стрелы. То и дело он метал в диких зверей и птиц копье, которое держал в руке, ибо никто не умел прицелиться и бросить так верно, как он. Они прибыли к замку, где их ожидал Леонс Паэрнский; он узнал обоих детей и преклонил перед ними колени, плача от радости.
– Ах, госпожа! – сказал он, – вы приютили сыновей короля и самого доблестного из людей, если не считать короля Бана, его брата; тот, несомненно, снискал еще бульшую славу среди рыцарей. Вы, наверное, наслышаны не хуже нас обо всем величии их рода; а еще благороднее они по матери, ибо они от той крови, которую удостоил воплощением Своим Царь небесный[46]. И если правду говорят пророчества, один из сыновей королей Бана и Богора будет тем, кто завершит времена превратностей в Великой Бретани.
Слушая эти слова, Лионель краснел, бледнел и заливался слезами.
– Что с вами, Лионель? – спросила его новая наставница, взяв за подбородок, – вы уже решили меня покинуть? Вам уже наскучила моя опека?
– О, нет! милая сударыня, я оплакиваю землю моего отца, которая доныне остается в чужих руках. Не имея подданных, как я смогу отвоевать свою честь?
Ланселот сказал, глядя на него с презрением:
– Фу, дорогой кузен, фу! Плакать из-за потери земли! Если вам хватает смелости, хватит и земель. Станьте мужчиной, так добьетесь их мужеством, мужеством же и удержите.
Все, кто слышал эти слова Ланселота, подивились столь возвышенной мудрости в столь нежном возрасте; а Владычицу Озера, казалось, поразило лишь это прозвание «дорогой кузен», данное им Лионелю. Слезы подступили к ее глазам от самого сердца; но, обратясь к Леонсу Паэрнскому, она пояснила ему, что дети нигде не могут быть в большей сохранности, чем у нее.
– А вы, Ламбег, – добавила она, – возвращайтесь к вашему дяде Фарьену и приведите его к нам. Не спрашивайте, кто я; довольно вам знать, что моим замкам не страшны никакие посягательства Клодаса. Я пошлю кого-нибудь проводить вас по закоулкам этих укреплений; и вы возьмете сюда только Фарьена и Леонса Паэрнского.
Все то время, пока Леонс гостил у Владычицы Озера, он непрестанно вглядывался в нежное и миловидное лицо Ланселота. По пути, когда они подъезжали к Тараску, он сказал Ламбегу:
– Вы заметили, какие речи вел друг наших сеньоров? Никогда еще столь гордые слова не звучали из детских уст. Он был в высшей степени прав, назвав Лионеля своим кузеном.
– Как, – возразил Ламбег, – разве они могут быть в родстве? Мы знаем, что у короля Бана был всего один сын, и сын этот умер в тот же день, что и он сам.
– Поверьте мне, это Ланселот; это сын короля Бана. Я хорошо присмотрелся к нему и узнал черты, взгляд, походку короля Беноикского. Сердце мне так подсказало; и ничто не помешает мне видеть в нем монсеньора Ланселота.
Но Владычица Озера после отъезда Леонса и Ламбега привела детей к себе во дворец. Она тут же отозвала Ланселота в сторону и спросила, пытаясь придать голосу суровость:
– Как вы посмели назвать Лионеля своим кузеном? Разве вы не знаете, что он сын короля?
– Госпожа, – ответил юнец, покраснев, – это слово пришло мне на язык, и я не удержал его.
– Так скажите, ради вашего передо мною долга, кого вы считаете благороднее, себя или Лионеля?
– Госпожа, я не знаю, такого ли я знатного рода, как он; но зато уж никогда я не стану плакать о том, что у него исторгает слезы. Мне часто говорили, что прародители всех людей – один мужчина и одна женщина; тогда я не пойму, как может быть в людях больше или меньше благородства, помимо того, что происходит от чести. Ежели человека делает благородным сила духа, то мне верится, что я из числа благороднейших.
– Это еще будет видно, – возразила Владычица Озера, – но, по крайней мере, я уже могу сказать, что если вы всегда будете столь же великодушны, вам не стоит бояться, что слава вашего рода оскудеет.
– Вы тоже в это верите, госпожа?
– Разумеется.
– Благослови вас Господь за то, что вы оставили мне надежду достичь наивысшего благородства. Я не корю себя за то, что до сих пор мне прислуживали два королевских сына, ведь когда-нибудь я могу сравняться с ними и даже превзойти их.
Владычицу Озера все более и более восхищал здравый ум Ланселота: ее нежность к нему не знала предела; но к трепету ее души примешивалось сожаление. Скоро дитя достигнет возраста посвящения в рыцари; тогда она не сможет его удерживать долее. Ей останется Лионель, но и Лионель покинет ее в свой черед, а за ним и Богорден. Тогда, по крайней мере, думалось ей, она будет следить за ними издалека; она приложит все усилия, чтобы предвидеть и отвращать от них опасности, передавать им предостережения и советы. Чувства переполняли ее; все ее счастье состояло в любви, питаемой ею к трем этим чадам, а более всего к Ланселоту.
XV
Возвращаясь к жителям Ганна, дабы успокоить их по поводу судьбы сыновей Богора, Ламбег и Леонс Паэрнский полагали, что Фарьена отпустят на волю; Фарьен и сам в это верил и уже вознамерился передать королю Буржскому трех взятых у него заложников. Но горожане не желали выдавать этих заложников, боясь, что Клодас скоро нападет на город; и чтобы не бросать их, Фарьен вынужден был покориться и остаться с ними взаперти.
Клодас и вправду не мог забыть, что смерть его сына взывает к отмщению. Вскоре он подошел к стенам Ганна с огромным войском. Тогда горожане пришли на поклон к Фарьену и умоляли его употребить свое влияние на короля Буржского, дабы унять его гнев.
– Я готов к нему пойти, – сказал Фарьен, – и от души надеюсь его смягчить. Но поскольку предвидеть нужно всякое, и поскольку в людях никогда не бывает ровно столько добра или зла, сколько ожидаешь, поклянитесь мне, что если я не вернусь, вы отомстите за мою смерть смертью трех заложников.
Бароны поклялись на святых, Фарьен облачился в доспехи и сел на коня. Завидев его издали, Клодас кинулся к нему с распростертыми объятиями и хотел расцеловать в уста.
– Сир, – сказал Фарьен, отстраняясь, – прежде всего я хочу знать, что вы намерены делать. Вы пришли осаждать город, где находятся мои близкие и друзья; я поручился перед ними, что вы их пощадите. Если вы не оправдаете моих слов, позор падет на меня.
– Как! – ответил Клодас, – разве Ганн не мой город, а вы все не мои подданные? По какому праву вы закрываете передо мною ворота?
– Сир, когда люди видят, что надвигается войско, благоразумнее будет готовиться к обороне. Успокойте горожан; скажите, что намерения у вас добрые, что вы не помышляете о мести, и наши ворота для вас откроются.
– Не надейтесь на это! – возразил Клодас, – я намерен совершить правый суд, и притом немедленно, как только войду.
– Повторяю вам, сир, люди Ганна сейчас под моим поручительством; я вас прошу как ваш вассал, не посягайте на мою честь. Если они поступили с вами дурно, выслушайте их; они готовы возместить урон.
– Я ничего не желаю слушать. Убийство моего драгоценного сына Дорена взывает к мести; если я не исполню ее, то буду посрамлен в глазах баронов Пустынной земли.
Тогда Фарьен промолвил:
– Сир Клодас, пока вы нуждались в моих услугах, я вам в них не отказывал; ныне, когда вы уже не внемлете моим советам, я объявляю, что возвращаю вам ваш надел; в ином положении я, пожалуй, буду лучше услышан. А вы, господа бароны Пустынной земли, готовые возомнить, что король ваш осрамится, если удостоит прощения своих подданных из Ганна, посмотрим, велика ли ему от вас будет помощь. Не так вы разговаривали, когда у самых ворот его дворца я остановил меч, едва не сразивший его насмерть. Слава Богу, у нас в городе довольно рыцарей, чтобы принять вас как подобает. А пока, если кто-то здесь утверждает, что бароны Ганна недостойны прощения, я его вызываю и готов заставить его сознаться в обратном.
Никто не ответил на вызов.
– Король Буржский, – продолжил он, – я вам больше не вассал, я свободен от любого долга перед вами. Да услышат меня ваши бароны: отныне у вас не будет злейшего врага, чем я. Но прежде чем вернуться к моим друзьям, я должен вас кое о чем уведомить: вы дали мне королевское слово, что станете моим пленником, как только я этого потребую; я этого требую сегодня; вы пойдете за мной, дабы не оказаться клятвопреступником.
О! – ответил Клодас, – я это понимал не так. Я давал слово одному из моих верноподданных, а не тому, кто из подданства вышел.
– Если вы не держите свою клятву, пусть этот позор падет на вас! Вы не достойны более носить корону. Я вправе забыть, что вы некогда были моим сеньором; если представится случай, я сражусь с вами, я убью вас, не боясь никакого приговора суда. А если я умру раньше вас, то пропади моя душа, если я не приду с того света, чтобы погубить вас[47]. А пока молитесь за души троих ваших заложников, но не за тела их; ибо, прежде чем я вернусь, наши катапульты метнут их головы прямо ко входу в ваш шатер.
С этими словами он пришпорил коня и ускакал во весь опор; более двадцати рыцарей бросились за ним в погоню с глефами наперевес. Его едва не нагнали, когда он был у самых городских ворот; но тут он услышал голос Ламбега:
– Дядюшка, неужели вы вернетесь, не проучив этих наглецов?
Тогда Фарьен обернулся к ближайшему преследователю; нацелив глефу, он вонзил ему в тело железо по самое древко и низверг его замертво под ноги своему коню. Затем он взялся за рукоять меча и ринулся на тех, кто догонял его. Ворота города отворились; сотня рыцарей во главе с Ламбе-гом пришла ему на помощь, тогда как на противной стороне Клодас, вооружась жезлом, взывал к своим людям:
– Негодники! Вы что, поклялись меня опозорить? Кто вам позволил нападать на посланника?
При нем был только меч у пояса да легкий кольчужный наголовник. Ламбег узнал его и ринулся, наставив глефу, но тот внезапно повернул назад, уводя своих людей.
– Клодас! Клодас! – кричал ему Ламбег, – вы бежите: вы не хотите отведать, какова закалка моего меча.
Заслышав эти угрозы от врага в полных доспехах, когда сам он без кольчуги, глефы и шлема, Клодас ощутил, как его пронзает дрожь; он до крови вонзил шпоры в конские бока.
– Предатель! Клятвопреступник! Подлец! – вопил Лам-бег без устали, – наберись-ка духу меня дождаться! Не сбегай, как последний трус!
Таких оскорблений король стерпеть не мог; и, предпочтя смерть позору бегства, он поднял правую руку, перекрестил себе лицо и тело, а потом с мечом в руке развернул коня.
– Ламбег, не спеши, – ответил он, – все знают, что я не предатель; а теперь ты увидишь, можно ли меня назвать трусом.
Никогда еще так не радовался Ламбег. Он первый поразил Клодаса своею длинной пикой в самый верх груди. Чуть бы пониже, и тот бы погиб. От тяжкой раны король покачнулся в седле, потом распрямился, и когда Ламбег поравнялся с ним, не успев еще вынуть меч взамен поломанной глефы, Клодас угодил ему мечом прямо в лицо; острие проникло сквозь петли забрала и откинуло его на заднюю луку. В глазах его все померкло; но и Клодас, изведя в этом выпаде последние силы, замер и поник на передке седла. Ламбег очнулся первым; и когда он увидел, что Клодас недвижим и впился обеими руками в конскую гриву, то нанес удар мечом, норовя отсечь ему голову; но в ту самую минуту конь его вздыбился так, что удар пришелся на маковку наголовника. Король грузно упал на землю; его едва не настиг последний удар, но тут подоспели его люди и, заслонив своего сеньора, вынудили Ламбега снова заградить щитом грудь. Однако он и не помышлял о бегстве; в слепой ярости он чуть было не ринулся в самую их гущу; как вдруг появился Фарьен, взял его коня за поводья и развернул обратно к городу. Они вошли, заперли ворота, опустили решетки и спешно поднялись в башню, где совлекли с себя разбитые щиты, порванные кольчуги, помятые шлемы. По тому, как струилась и запекалась кровь на их ранах, видно было, что пришли они не с увеселительной прогулки.
Три заложника Клодаса, запертые в камере, ключ от которой хранился у Фарьена, слышали, как они вернулись, и их приход не возвещал им ничего доброго.
– Сир дядя, – сказал Ламбег, немного отдышавшись, – ради Бога! позвольте мне наказать их за вероломство Клодаса.
– Нет, милый племянник, злодеяние их сеньора – не их злодеяние; король Клодас в жизни своей лишь однажды навлек на меня позор, о коем мне следует умалчивать; а эти добрые люди за него не в ответе.
Пока он в который раз усмирял гнев Ламбега, внезапно явился оруженосец с известием, что Клодас желает говорить с ним под стенами города. Он сел на коня, подъехал к воротам и увидел перед собою короля, простертого на носилках. Один из рыцарей сделал ему знак подойти.
– Фарьен, – сказал ему Клодас, – дайте мне знать о моих заложниках: они еще живы?
– Да, сир.
Лицо короля просияло при этом ответе.
– Послушайте, Фарьен[48], вы отозвали у меня свою присягу, не имея на то особых причин. Я вам предлагаю дать ее снова, а если вы отказываетесь, то я вправе, по меньшей мере, доверить вам моих заложников. Но согласитесь вернуться ко мне, и я готов соблюсти данное вам обещание.
– Сир, как вы себе это мыслите?
– Я давал слово своему вассалу и должен держать ответ перед ним, а не перед человеком, мне чуждым. Если вы не хотите оставаться при мне и вернетесь в Ганн, мне от вас не понадобится более ни добрых советов, ни дурных. Укажите только десяти первейшим людям города, пусть придут поговорить со мной.
Фарьен вернулся в город и тотчас передал Леонсу Паэрнскому и девяти знатнейшим баронам, чтобы те подошли к носилкам Клодаса. Увидев их, король заговорил:
– Вы мои люди; когда бы я судил по справедливости, я бы не простил городу нанесенную мне обиду. Но я не намерен обойтись с ним со всею жестокостью, хотя вы знаете, равно как и я, что вся ваша оборона бесполезна. Фарьен пришел говорить со мною о мире; но он мне больше не вассал, и я не мог поладить с ним. Итак, вот мои условия, к которым я надеюсь вас склонить; ручаюсь святыми вашего города, если вы их отвергнете, вам не будет от меня пощады! Поклянитесь, что вы никоим образом не причастны к убийству моего сына Дорена, и выдайте мне одного из вас, дабы я поступил с ним по своей воле.
Эти слова Клодаса внушили баронам и радость, и печаль: радость надежды на близкое примирение, печаль от мысли, что ценою его будет жертва одного из них.
– Сир, – сказал Леонс Паэрнский, – мы выслушали ваши слова и, возможно, согласимся с ними, когда узнаем имя рыцаря, которого должны вам выдать.
– Скажу вам: это Ламбег.
– Ах! Сир, этого быть не может; мы не выдадим лучшего рыцаря королевства. Не дай Господь, чтобы мир был выкуплен столь дорогой ценой! Даже если все пойдут на это, я все же буду против.
– А вы, остальные, – спросил Клодас, – вы позволите опрокинуть кверху дном свой город и погубить всех его обитателей, и рыцарей, и горожан, чтобы не выдать одного-единственного человека?
– Мы все, – отвечали они, – поступим по совету Леонса Паэрнского.
– Что ж, уходите, откуда пришли, и не ждите от меня ни мира, ни перемирия.
Они вернулись в Ганн, преисполненные самой глубокой печали.
– Какие новости? – спросил у них Фарьен.
– Скверные. Не будет нам мира, если мы не согласимся выдать Ламбега.
– И что вы ответили?
– Что не в моих обычаях, – сказал Леонс, – приносить в жертву рыцаря, лучше всех оборонявшего нас.
Тогда Фарьен собрал жителей города, и все не колеблясь одобрили отказ Леонса Паэрнского.
– Нам никогда не поставят в укор, что мы купили себе спасение такой ценой. Надо выйти и напасть на войско Клодаса; уж если так, да поможет нам Бог, мы дорого отдадим свои жизни!
Тронутый таким изъявлением верности, Фарьен поблагодарил их и вновь поднялся на башню. Там, уныло прислонясь к зубцам, глядя на луг, усеянный шатрами Клодаса, он осознал еще яснее, что оборона будет тщетной, что силы людские в городе чересчур малы, но и чересчур велики для тех скудных запасов провизии, что у них остались. Слезы текли у него ручьем, вздохи распирали грудь. В это самое время Ламбег заметил, как он причитает, опершись о стену; он побоялся его тревожить и подошел осторожно, чтобы слышать его, оставаясь невидимым.
– Ах! – говорил Фарьен, – славный город, издавна чтимый, приют для стольких честных людей, столица и дом короля, прибежище радости, обитель справедливости, столь богатый доблестными рыцарями, добрыми и храбрыми горожанами! Как не печалиться, видя твое падение! Ах! почему Клодас не потребовал мою жизнь, а не Ламбега: я уже столько прожил, что мог без сожаления отдать остаток моих дней; ибо можно ли старику желать лучшей смерти, чем та, что обернется спасением для его сородичей, его собратьев?
Рыдания помешали ему продолжить. Поспешно подойдя, Ламбег сказал:
– Сир дядюшка, не горюйте так. Клянусь моим долгом перед вами, для спасения города за мною дело не станет, и мне от того будет великая честь. Я пойду и предамся Клодасу в руки без страха, без сожаления.
– Ламбег, – сказал Фарьен, – я вижу, ты меня слушал; но ты меня не понял. Ты молод, еще не совершил своих деяний, и я не хочу, чтобы ты умирал. Бог нам поможет, будь уверен; предпримем набег и, возможно, обманем все надежды Клодаса.
– Нет, милый дядюшка, об этом теперь и речи нет; в обмен на меня город сможет обрести мир; нельзя допустить, чтобы за него погиб кто-то другой.
– Как! Ламбег, неужели ты бы решился отдаться в руки Клодасу?
– Конечно, дядюшка; я ведь слышал от вас: будь вы на моем месте, вы бы сдались по своей воле. А разве я могу убояться позора за то, на что вы бы сами охотно пошли?
– Увы! Ламбег, я вижу, что ты идешь на смерть, и ничто не может тебя уберечь; но, по меньшей мере, ни один рыцарь не найдет кончины более почетной, ибо твоя погибель будет спасением целому народу.
Теперь надо было преодолеть упорство всех баронов и горожан, которые ни за что не желали выменивать свои жизни на храбрейшего своего рыцаря. Наконец, Ламбег убедил их отпустить его, и Фарьен, обняв его, сказал:
– Милый племянник, вы идете на самую славную смерть, какую только может пожелать рыцарь; но вы должны готовиться к ней перед Богом так же усердно, как и перед людьми. Исповедуйтесь, прежде чем отдать Господу свою прекрасную душу.
– Ах! дядюшка, – ответил Ламбег. – Умереть я не боюсь; мне ли не знать, что если Бог даст вам выжить, то смерть моя будет отомщена. Но ведомо ли вам, что меня гнетет и гложет? Это, признаюсь, надобность простить моего злейшего врага. Вот оно, мое мучение, горше любой пытки.
– Так надо, милый племянник.
– Если вам так угодно, придется мне пойти на это, ибо я хочу, дядюшка, оставляя вас с Богом, сохранить благоволение и Его, и ваше.
Тогда призвали епископа, и Ламбег ясным голосом поведал обо всем, что могло тяготить его совесть. Потом он потребовал свои доспехи.
– Зачем они вам? – спросил Фарьен. – Не лучше ли будет просить пощады?
– Да Боже упаси, чтобы я просил пощады у того, кто от меня бы ее не дождался! Я иду к нему не как челядин к своему барону, а как рыцарь, в закрытом шлеме, со щитом на шее и с мечом в руке; этот меч я ему отдам. Не бойтесь за меня, милый дядюшка: я не собираюсь ни убить его, ни препятствовать тому, чтобы он убил меня.
Как только его облачили в доспехи, он сел на коня и, препоручив их Богу, удалился с лицом ясным и безмятежным. Вскоре он прибыл к шатру Клодаса. Король Буржский, зная свой неукротимый нрав, был во всеоружии и поджидал его среди своих баронов. Ламбег подошел, взглянул на Клодаса и не сказал ни слова; он медленно извлек свой меч из ножен, тяжело вздохнул и бросил его к ногам Клодаса. Потом он снял с себя шлем, измятый щит и тоже уронил на землю. Король поднял меч, осмотрел его и замахнулся, будто собираясь обрушить его на голову Ламбега. Все, кто видел это, содрогнулись; один Ламбег остался бесстрастным; он не шевельнулся, не выдал ни малейшего движения чувств.
– Снимите с него кольчугу и железные шоссы[49]! – приказал Клодас.
Оруженосцы тотчас окружили его и сняли последние доспехи. И вот он уже в простой котте[50] серого сукна, без бороды и усов, но превосходно сложенный телом и прекрасный лицом. Он стоял перед королем, но не удостаивал его взглядом. Пришлось Клодасу нарушить молчание:
– Ламбег, как это тебе достало духу сюда явиться? Ты ведь знаешь, что я ненавижу тебя больше, чем кого бы то ни было.
– А ты, Клодас, разве не знаешь, что я вовсе не боюсь тебя?
– Ты мне еще угрожаешь, теперь, когда твоя жизнь в моих руках!
– Я нисколько не боюсь смерти; сдаваясь тебе, я прекрасно знал, что она мне уготована.
– Признайся: ты думал, что будешь иметь дело с сердобольным врагом.
– Нет, с самым жестоким, какого видывал свет.
– А с какой стати я бы питал к тебе хоть малейшую жалость? Разве ты пощадил бы меня, имей я несчастье попасть в твои руки?
– Богу не угодно было оказать мне такую милость; но за то, чтобы видеть твою смерть от моей руки, я отдал бы все на этом свете и свой жребий на том.
Клодас усмехнулся и, протянув левую руку, взял Ламбега за подбородок:
– Ламбег, – сказал он, помолчав немного, – кто с вами заодно, тот может похвалиться, что с ним рядом самый стойкий, самый бесстрашный потомок Евы из тех, что проснулись нынче поутру. Да, если бы ты дожил свой век, ты бы, верно, стал храбрейшим из рыцарей. Чтоб мне не видать Божьей помощи, если я хоть за все царство земное соглашусь предать тебя смерти! Правда, нынче утром ничто другое так не согревало мне душу, как моя месть; но она во мне остыла; прежняя моя решимость иссякла при виде того, как ты, еще такой юный, отдаешь собственную жизнь ради спасения твоих друзей и сородичей. И хоть я был бы рад избавиться от столь лютого врага, мне все же следует воздержаться от этого ради приязни к Фарьену, твоему дяде, который спас мне жизнь, когда ты едва не отнял ее у меня.
Тут он велел принести один из самых богатых своих нарядов в дар Ламбегу, но тот отказался его взять.
– Будем друзьями, – сказал ему король, – согласись остаться при мне и прими от меня наделы.
– Нет, Клодас; я уж подожду идти к тебе в вассалы, пока мой дядя к тебе не вернется.
Тогда король послал рыцаря за Фарьеном, который стоял у ворот Ганна в подвязанном шлеме, с глефой в руке и мечом на поясе, полный решимости дождаться Клодаса и убить его, как только узнает, что его племянник погиб.
Когда посланный привел его, Клодас сказал:
– Фарьен, я расквитался с вами: я простил Ламбега. Спору нет, ваша дружба была бы мне дороже всего на свете. Не откажите мне в этом; возобновите вашу присягу и возьмите обратно земли, которыми владели от меня; знайте, что я готов прирастить их любыми, какие вам и Ламбегу будет угодно просить.
– Сир король, – отвечал Фарьен, – я благодарен вам как одному из лучших королей за все, что вы совершили и еще совершите впредь. Я не отвергаю ни службы вашей, ни даров; но я поклялся на святых мощах, что не приму земель ни от кого, пока не получу добрых вестей о детях моего сеньора, короля Богора.
– Ну что ж! – промолвил Клодас, – берите ваши земли, не присягая мне; бродите сколько вам угодно в поисках детей; если вы их найдете, привозите сюда, и я вам отдам во владение их наследство, пока им не подойдет время носить оружие. Они дадут мне присягу, признают меня своим сюзереном, а вы последуете их примеру.
– На это мне идти не подобает, – сказал Фарьен, – может такое случиться, что я вынужден буду вторгнуться в ваши земли, и даже если отложить мою присягу, это будет супротив моего долга ленника. Я предлагаю вам другое: будут ли дети найдены или нет, но я обещаю не присягать никому иному, не известив вас.
– О! – воскликнул Клодас, – теперь я вижу, почему вы не хотите остаться при мне: и верно, вы же говорили мне, что не любите меня и никогда полюбить не сможете.
– Сир, сир, – ответил Фарьен, – я говорил вам чистую правду. Однако вы сделали для меня более, чем я могу сделать для вас; а потому, где бы вы ни были, вам нет нужды остерегаться ни меня, ни моего племянника. Позвольте же проститься с вами и начать наши поиски.
Клодас, видя, что настояниями ничего не добьется, отпустил их, как они того и просили. Ламбегу вернули его доспехи; когда он сел на коня, король сам преподнес ему глефу с острым железом и крепким древком; ибо он пришел без копья. Так дядя с племянником вернулись в город, обретший благодаря им желанный мир; но они не остались там даже на одну ночь и, препоручив Богу рыцарей и горожан, принялись искать своих юных сеньоров.
Владычица Озера еще прежде отдала одного из своих подручных в услужение Ламбегу. И потому они без труда попали в то отрадное убежище, где уже пребывали сын короля Бана и его кузены, сыновья короля Богора.
Здесь повествование довольно бегло описывает добрый прием, оказанный новым гостям.
Фарьен скончался спустя недолгое время, а жена его провела свои последние дни в покаянии о прежних блуднях с королем Клодасом. Оба их сына, Эгис и Тарен, выросли доблестными и верными рыцарями, а обе почтенные королевы, Ганнская и Беноикская, окончили свою смиренную жизнь в тех двух монастырях, в которые они удалились. Из снов и откровений они узнали о славной участи своих детей; и потому лишь об одном они жалели, возносясь в Рай небесный: что так и не повидали Ланселота, Лионеля и Богора, прежде чем смежились их веки.
XVI
Ланселот оставался под опекой Владычицы Озера до восемнадцати лет. Видя, что он так хорош собою, так ладно сложен телом, так щедр и благороден душой, дама с каждым днем убеждалась все более, что грешно ей откладывать срок, когда пора будет отпустить его. Вскоре после Пасхи он ездил охотиться в лес, и ему удалось убить оленя, столь упитанного, хотя до августа месяца было еще далеко, что ему захотелось тут же отослать его Владычице Озера. Двое подручных принесли оленя и сложили к ее ногам, а сам он устроился под лесным дубом, чтобы отдохнуть от полуденного зноя. К вечеру он снова сел на гончего коня[51], а когда вернулся домой, то нашел привычных сотрапезников владелицы этих угодий в полном сборе вокруг роскошной добычи. Ланселот был одет в короткую лесную котту, на голове убор из листьев, а к поясу приторочен колчан. Увидев его въезжающим во двор, дама ощутила, как слезы подступают к глазам от самого сердца; и, не дожидаясь его, она поскорее ушла в большую залу и села там, укрыв лицо руками.
Ланселот подошел к ней; она убежала в соседнюю опочивальню. «Что с моей госпожой?» – подумал юноша. Он стал искать ее, нашел и увидел распростертой на широком ложе, утопающей в слезах. На его приветствие она не ответила – она, которая обыкновенно первая подбегала к нему обнять и расцеловать.
– Госпожа, – спросил он, – что с вами? Если вас кто-то огорчил, не таитесь, ведь пока я жив, я не потерплю, чтобы вас посмели обидеть.
Поначалу она в ответ удвоила рыдания и слезы; но потом, видя его во все большем недоумении, сказала:
– Ах! Королевич, уходите, если не хотите, чтобы мое сердце разбилось.
– Что ж, госпожа, я уйду, раз мое присутствие только досаждает вам.
Он вышел, забрал свой лук, повесил его на шею, приладил к поясу колчан, оседлал и взнуздал своего рысака и вывел во двор. Между тем дама, которая любила его без памяти, спохватилась, что обидела его; она встала, вытерла свои опухшие глаза и вышла во двор в тот самый миг, когда он ставил ногу в стремя. Она ухватила коня за узду:
– Куда вы собрались, отрок?
– В лес, госпожа.
– Слезайте, вы не поедете.
Он промолчал, спешился, и коня увели обратно в стойло.
Тогда она взяла его за руку, повела в свои покои и усадила возле себя на кушетку, или лежанку.
– Во имя вашего передо мною долга, скажите, куда вы хотели уехать?
– Госпожа, вы как будто на меня сердиты; вы не желаете со мною говорить; я подумал, что мне тут больше нечего делать.
– Но куда вы хотели уехать, милый королевич?
– В то место, где я бы нашел, чем утешиться.
– И что это за место?
– Дом короля Артура, который мне называли средоточием всех благ. Я пошел бы в услужение к одному из его благородных рыцарей, а он бы потом посвятил в рыцари меня.
– Как! королевич, так вы хотите стать рыцарем?
– Этого я желаю более всего на свете.
– Ах! вы заговорили бы иначе, если бы знали обо всем, чего требует рыцарское звание.
– Но почему же? Разве рыцари – люди другой породы, чем все прочие?
– Нет, королевич; но если бы вы узнали, какие на них возложены обязанности, ваше сердце не сдержало бы трепета, при всей своей отваге.
– Но ведь, госпожа, все обязанности рыцаря не превыше человеческого мужества?
– Нет; но Господь Бог отнюдь не поровну разделил отвагу, доблесть и учтивость.
– Как же дурно надо судить о себе, чтобы трепетать от мысли обрести рыцарское звание; ведь все мы должны стремиться стать наилучшими; одна лишь лень сдерживает в нас душевные добродетели; они зависят от нашей воли, а вовсе не от добродетелей телесных.
– А в чем же разница между добродетелями душевными и телесными?
– Госпожа, мне сдается, что все мы можем быть мудрыми, учтивыми и щедрыми; это свойства души; но мы не можем придать себе высокий рост, силу, красоту, приятный цвет лица; это свойства тела. Их человек выносит с собою из чрева матери; а дары душевные достаются тому, кто сильно желает их иметь: любой может стать добрым и отважным, но не станет, если послушает советов небрежения и лени. Вы часто мне говорили, что благородного мужа созидает сердце; скажите же мне, будьте добры, каковы эти рыцарские обязанности, которые вы назвали столь устрашающими.
– С удовольствием, – ответила дама, – не обо всех, но о тех, о которых мне дано было узнать.
При начале своем рыцарство было не более чем забавой: тогда не смотрели на сановитость или знатность рода, ибо все мы уродились от одного отца и одной матери; и до того времени, когда зависть и вожделение стали проникать в мир, потеснив справедливость, между всеми царило полное равенство кровей. Когда же слабейшие стали во всем опасаться сильнейших, то пришлось учредить стражей и защитников, чтобы дать опору одним и воспрепятствовать насилию других.
Для этого избрали тех, кто выказывал себя самым сильным, самым рослым, самым ловким, самым красивым, если притом они сочетали с этими дарами дары душевные – верность, доброту, отвагу. Их назвали рыцарями оттого, что они первыми садились на коней[52]. Им надлежало быть учтивыми без низости, благосклонными без оглядки, отзывчивыми к несчастным, щедрыми к неимущим, всегда беспощадными к убийцам и ворам; всегда готовыми судить без ненависти и приязни, выбирать скорее смерть, чем малейшее пятно на чести. Им надлежало неотступно защищать Святую Церковь, коей не пристало утверждать свое право оружием и подобает подставить левую щеку тому, кто ударит ее по правой.
Все вооружение, носимое рыцарем, имеет особое назначение. Щит, висящий у него на шее, напоминает, что он должен стать между матерью Святой Церковью и теми, кто вознамерится нанести ей удар. Кольчуга, всецело покрывающая его тело, указует ему воздвигать неусыпную преграду против врагов Веры. Шлем блистает на его голове, ибо ему следует неизменно быть в первых рядах защитников правого дела, и подобен сторожевой башне на стенах, укрытию недремлющего часового. Глефа, длины достаточной, чтобы нанести первый удар, дает ему понять, что он должен внушать ужас злодеям, всегда готовым растоптать невинных. Меч – из всех родов оружия самое благородное. Он обоюдоострый; он колет и рубит святотатцев, разбойников, врагов справедливости.
Что же касается коня, он воплощает собою народ, коему следует поддерживать и нести на себе рыцаря, снабжать его всем, в чем у него может быть нужда. Рыцарь, в свой черед, должен направлять его и заботиться, как о себе самом.
Рыцарю надобно иметь два сердца: одно твердое, подобно магнитному железу, и обращенное к предателям и отступникам; другое – мягкое и гибкое, как воск, открытое добрым людям, бедным и страждущим.
Таковы обязанности, возложенные на рыцарство. Пренебречь ими нельзя, не погубив свое доброе имя на этом свете и свою душу на том. Ибо, становясь рыцарем, воин клянется защищать Святую Церковь и хранить ей верность; а в миру честные люди не потерпят меж собою того, кто окажется клятвопреступником перед своим Создателем. И потому любой, кто пожелает стать рыцарем, должен прямодушием и чистой совестью превосходить тех, кого не вдохновляет столь высокий сан. Лучше провести жизнь оруженосцем без рыцарского звания, чем потерять честь земную и царствие небесное, предав забвению свой долг.
Вдумчиво все это выслушав, Ланселот спросил:
– Госпожа, с самых первых дней рыцарства нашелся ли хоть один рыцарь, который бы сочетал в себе все названные вами добродетели?
– Разумеется; и Святое Писание тому порукой. Прежде сошествия Иисуса Христа были Иоанн Гиркан[53] и Иуда Маккавей[54], ни разу не обратившие спину к безбожникам; а еще были Симон, брат Иуды, царь Давид и многие другие. А после страстей Господних назову Иосифа Аримафейского, благородного рыцаря, который снял с креста Иисуса Христа и упокоил в гробнице. Назову и сына его Галахада, короля страны Офелизы, названной в память о нем страной Галлией. Таковы же и король Пель Листенойский, и брат его Ален Толстый, неустанно соблюдавшие себя в чести и славе в делах мирских и перед Богом[55].
– Ну что же, – сказал Ланселот, – если столько мужей были преисполнены всевозможных добродетелей, разве не будет подлым малодушием, если кто-то не осмелится притязать на рыцарское звание, сочтя, что все эти добродетели для него слишком высоки? Я не упрекаю тех, у кого нет душевных сил, чтобы на это решиться; но что до меня самого, то если найдется кто-нибудь, согласный посвятить меня в рыцари, я не откажусь из опасения, что рыцарство мне не по плечу. Быть может, Бог вложил в меня больше добродетелей, чем я осознаю; или в будущем одарит меня тем разумом и мужеством, коих мне недостает сегодня.
– Милый королевич, если уж ваше сердце по-прежнему жаждет этого рыцарства, ваша воля вскоре исполнится, и вы будете довольны. О! я догадывалась об этом; вот отчего я недавно проливала слезы. Дорогой мой королевич, я вложила в вас всю любовь, какую только может питать мать к своему чаду; и я с великой горечью предвижу, что вы меня скоро покинете; но уж лучше мне страдать от разлуки с вами, чем лишить вас чести быть рыцарем: честь эта будет как нельзя более уместна. Скоро вы примете посвящение от руки лучшего и вернейшего государя наших дней, я говорю о короле Артуре. Мы выедем уже на этой неделе и прибудем самое позднее в пятницу перед воскресным днем Святого Иоанна.
Ланселот выслушал эти слова с безмерной радостью. Тотчас же дама собрала все потребное в дорогу: белую кольчугу, крепкую и легкую; шлем, украшенный пластинами серебра; белоснежный щит с серебряным умбоном; большой меч, острый и легкий; острую железную пику с толстым и прочным древком сверкающей белизны; могучего коня, быстрого и неутомимого. А сверх того, для рыцарского облачения, котту из белого атласа, платье из белого шелка и плащ, подбитый горностаем.
Они пустились в путь во вторник той недели, что была накануне недели Святого Иоанна. В свите были пять рыцарей и три девицы, Лионель, Богор и Ламбег, множество оруженосцев и слуг, одетые в белое и на белых конях.
Они прибыли на взморье, взошли на корабль и высадились в Великой Бретани, в гавани Флодеэг[56], в воскресенье вечером: их известили, что король Артур желает праздновать день Святого Иоанна в Камалоте. Прибыв в четверг вечером к замку Лавенор, отстоящему от Камалота на восемьдесят миль, или английских лье, они наутро пересекли лес, выходивший к городскому лугу. В пути Владычица Озера была задумчива и молчалива, всецело во власти печали от близкой разлуки.
XVII
Как о том и доложили Владычице Озера, Артур стоял в Камалоте, где собрался праздновать Святого Иоанна. В пятницу накануне праздника он выехал из города через Уэльские ворота, чтобы поохотиться в лесу со своим племянником, монсеньором Гавейном, с Ивейном, Уриеновым сыном, с Кэем-сенешалем и многими другими.
В трех полетах стрелы от леса они увидели, как к ним приближаются носилки, бережно несомые двумя лошадьми. На носилках лежал рыцарь в полных доспехах, но без шлема и щита. Тело его было пронзено остриями двух копий с еще уцелевшими древками; в голову вклинился меч, обагренный кровью; и притом не похоже было, что он при смерти.
Носилки остановились перед королем; раненый рыцарь приподнялся немного и промолвил:
– Храни тебя Бог, сир король, лучший из государей, прибежище отвергнутых!
– А вам дай Бог здоровья, которого у вас, я вижу, маловато! – ответил Артур.
– Сир, я ехал к вам, чтобы просить вас извлечь у меня этот меч и эти копейные жала, терзающие меня.
– Буду только рад, – сказал король, протянув руку к древкам.
– О! – вскричал рыцарь, – не спешите: не так вам придется меня от них избавить. Вначале надо дать слово отомстить за меня каждому, кто провозгласит, что более меня любит того, кто меня ранил.
– Сир рыцарь, – ответил Артур, – вы требуете чересчур опасную услугу: у того, кто ранил вас, может быть столько друзей, что нельзя и надеяться когда-нибудь с ними покончить. А еще раньше явится родня: и как с нею быть? Но я соглашусь отомстить вашему противнику, насколько это зависит от меня: а если он из моих людей, то при дворе у меня найдется немало других рыцарей, кто протянет вам свою руку взамен моей[57].
– Сир, вовсе не этого я прошу у них и у вас: я сам убил врага, ранившего меня.
– Этой мести с вас будет довольно, и я не намерен склонять никого из моих рыцарей, чтобы они обещали вам сверх того.
– Сир, я-то думал найти в вашем доме помощь и поддержку; я обманулся в своих ожиданиях. Однако я не теряю последней надежды: быть может, какому-нибудь рыцарю, взыскующему похвал, достанет смелости согласиться исцелить меня.
– Сомневаюсь, – возразил король, – но впрочем, ступайте по дороге, ведущей ко дворцу, и располагайтесь там в ожидании рыцаря, который вам сгодится.
Рыцарь сделал знак своим оруженосцам, чтобы они проводили его в Камалот; когда его внесли во дворец, он выбрал самую людную залу; ибо никто при дворе Артура не посмел бы закрыть двери перед рыцарем; никто не упрекнул бы его за то, что он выбрал лучшую из незанятых постелей.
Король между тем углубился в лес, обсуждая недавнюю диковинную встречу.
– Возможно, – сказал Гавейн, – раненый рыцарь найдет в Камалоте смелого бойца, которого он ищет.
– Не знаю, – ответил король, – но я не похвалил бы того, кто возьмется за столь безрассудное дело.
Проведя на охоте весь день до вечерней зари, Артур вернулся на торную дорогу и вдруг увидел, как впереди показался красивый и длинный кортеж. Впереди шли два юнца, погоняя двух белых вьючных лошадей: одна везла полог или легкий шатер, другая – две смены платья для рыцаря-новобранца. На каждой лошади было по сундуку, где лежали белая кольчуга и железные шоссы. За этими слугами ехали на белых рысаках два оруженосца, тоже одетые в белое. Один вез серебряный щит, другой – шлем, сверкающий белизной. Затем еще двое: один держал глефу с белым наконечником и древком и меч в белых ножнах, висящих на белом ремне; другой вел по правую руку красивого рослого жеребца. Следом шли во множестве оруженосцы и слуги, все в белых коттах; три девицы в белом, два сына короля Богора и, наконец, Владычица Озера и ее драгоценный Королевич, с которым она, казалось, вела приятную беседу. Она была одета в дивную белую парчу, в котту и мантию, подбитую горностаем. На ее белом коне, резвом и доброй выучки, была узда из чистого серебра, а нагрудник, шпоры и седло изукрашены узорами тонкой работы с фигурами дам и рыцарей; приступок седла свисал до земли[58]