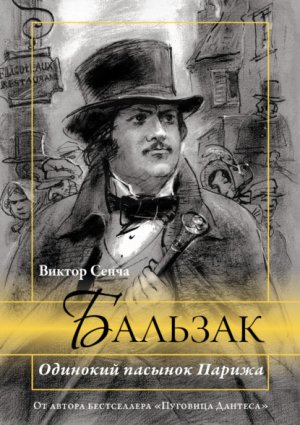
© Сенча В. Н., 2023
© Иллюстрации. Граблевская О. В., 2023
© ООО "Издательство Родина", 2023
Художник Ольга Граблевская
Моей жене, Марине Викторовне,
посвящаю…
Введение
Вonjour, Paris!
A priori[1].
Это не Рабле, не Вольтер, не Гофман.
Это Бальзак.
Из журнала «Revue des Deux Mondes»
Трясущийся «боинг» вынырнул из чернильного облака и плавно пошёл на посадку. Ещё минута – и лайнер, мягко коснувшись земли, мчится по накатанному асфальту, напоминая со стороны огромного гуся, с шумом пытающегося сбить скорость мощными каучуковыми лапами. Развернулся в направлении аэровокзала, проехал чуть-чуть, притормозил и, недовольно заурчав, встал как вкопанный. Кажется, приехали…
В салоне снуют, отдавая последние распоряжения, стюардессы. Белозубые улыбки в пол-лица. Даже если бы во время полёта в иллюминатор не заглядывало любопытное солнце, всё равно было бы светло уже от этих улыбок.
Два с половиной часа – и ты на месте. Полёт промелькнул, как взмах крыла бабочки. И всё они – вездесущие трудяги заоблачных высот.
– Сок, вино? – поинтересовалась у меня сразу после взлёта одна из стюардесс-француженок.
– А вино Наполеона есть?
– Наполеона? – удивилась та и, смутившись, спрятала на миг белозубое светило.
– Шардоне или кло-де-вужо?..
– Да-да, шардоне… – обрадовалась девушка, ловко достав откуда-то маленькую бутылочку виноградной слезы.
Где-то за час до приземления подошла ещё:
– Чай? Чёрный, зелёный, эрл грей?..
– А как насчёт напитка Бальзака? – решил пошутить я, но опять получилось, что издеваюсь.
– Бальзака? – нахмурила лоб красавица. – А, понимаю: зелёный чай сенча с улуном?
– Кофе, сударыня. Блек кава. Желательно мокко, двойной.
– Мокко нет, – окончательно смутилась стюардесса. – Могу предложить… просто кофе. С круассаном.
– Ну что ж, отлично, благодарю, – киваю я, стараясь быть как можно вежливей. – Тогда просто кофе… с двумя круассанами.
Вот и сейчас, перед выходом в терминал, на вопрос стюардессы, понравилось ли в полёте, благодарю от души. Всё было замечательно, рассыпаюсь в комплиментах, особенно – белозубые улыбки и… кофе. С двумя круассанами. Между прочим, напиток Бальзака. При упоминании имени писателя-земляка девушка слегка зарделась, не преминув заметить, что уж это-то она запомнит…
К иллюминаторам не протиснуться, каждый норовит выхватить за окном первое, самое запоминающееся, впечатление. Хотя, смотри не смотри, ничего нового не выглядишь, везде – как под копирку, будь то Новосибирск, Москва или Париж. И лишь по едва уловимым штрихам можно отличить парижский Орли от подмосковного Шереметьева. Вот промелькнула развесистая пальма; а на взлётку въезжают сразу два безразмерных лайнера, виляя огромными хвостами с полосатыми флагами: прибыли частые гости Парижа – американцы. Кругом самолёты самых разных расцветок – от небесно-голубого до ядовито-зелёного и ярко-оранжевого. По периметру аэродрома чинно выстроились аккуратненькие домики под черепичными крышами, какие у нас увидишь разве что на старинных гравюрах или коврах послевоенной поры.
Ещё одна примета: отсутствие родной кириллицы. Куда ни посмотришь – не за что глазу зацепиться: одни «самсунги» и «люфтганзы» на западный лад. А что вы хотели, «ваше высочество»? В чужой монастырь, как известно, со своим уставом не ходят. Приехал в гости – будь добр, смотри и удивляйся…
И только очутившись в чреве огромного аэровокзала, по-настоящему ощущаешь, что где-то рядом, всего в каких-нибудь полчаса езды, гудит, бурлит и тяжело дышит другое «чрево» – гигантского города, имя которому – Париж.
Париж многолик, загадочен и таинственен, если не сказать больше – мистически своеобразен и неповторим. Для Хемингуэя это был «праздник, который всегда с тобой»; для Золя – город, имевший безразмерное «чрево». А вот Бальзак называл Париж пустыней. В середине своей жизни, когда уже были вкушены первые плоды славы и признания, он вдруг почувствует себя в многолюдной и равнодушной столице одиноким, беззащитным и бесприютным. Писателю вдруг покажется, будто никто ему не рад и нет никакой возможности «жить во Франции и среди отчаянных битв», пожирающих не только здоровье, но и жизнь. И Париж едва не отвергнет гениального «Прометея» человеческих душ.
Итак, «пустыня». Впрочем, даже Сахара бывает интересна – особенно своими оазисами. Кто-то едет в Париж, чтоб очутиться в хемингуэевском «празднике»; кто-то – с головой окунуться в его неуемное «чрево». Пустыня – всегда загадка. Но в Париже есть то, что неведомо песчаным дюнам: оазисы времени. И заглянуть туда для нас было бы большой удачей…
Часть первая
Разбег
Глава первая
A posteriori[2].
Время – единственное достояние тех, у кого весь капитал – это их ум.
Оноре де Бальзак
Мир – это бочка, усаженная изнутри перочинными ножами.
Оноре де Бальзак
…Гильотину придумал отнюдь не благонравный парижанин Жозеф Гильотен. Её изобрел совсем другой человек. Имя «мыслителя», додумавшегося «быстро и легко» отправлять слабого человечишку в мир иной, Антуан Луи, парижский хирург и костоправ. А вот то, что «машинка» заработала в полную мощь в кровавые годы Великой французской революции, следует винить совсем не костоправа, а законодателей. Хотя и тут не обошлось без эскулапа (кто возразит, что благими намерениями вымощена дорога в ад?). Среди авторитетных и уважаемых депутатов Учредительного собрания Франции оказался прославленный профессор анатомии в Сорбонне Гильотен. Именно сей учёный муж, заинтересовавшись циничной продуманностью «адской машинки», дававшей возможность испустить дух без страданий и боли, и предложил народным избранникам хитроумное приспособление для умерщвления себе подобных, а точнее – «для оздоровления прогнившего общества».
– Этой машинкой я в одно мгновение отрублю вам голову так, что вы ничего не почувствуете! – цинично пообещал Гильотен на одном из заседаний депутатам.
Возможно, именно красноречие доктора Гильотена и перевесило чашу весов, от которой зависело быть или не быть гильотине. Предложение коллеги депутатам понравилась. И не только им. Как известно, в проекте, представленном на утверждение королю за полгода до его свержения, лезвие ножа гильотины имело полукруглую форму.
– К чему такая форма лезвия? – сделал замечание Людовик. – Разве шеи у всех одинаковы?
И собственноручно заменил на чертеже полукруглое лезвие на косое (позже Гильотен дополнительно внесёт усовершенствование: «идеальным» окажется угол среза в сорок пять градусов).
Очень скоро «госпожа Гильотина» заработает в полную силу. И будет действовать быстро, чуть ли не молниеносно. Депутаты не могли нарадоваться: такая казнь вполне в духе революционного времени, да и для толпы зрелищна и назидательна. Жертва и пикнуть не успевает, как тут же «чихает в мешок». Словом, гуманизм в действии.
Когда одумались – было поздно. Доктору Гильотену, в отличие от большинства депутатов, удалось-таки отвертеться от ненасытного ложа «госпожи», а вот Людовику не повезло (как, впрочем, и королеве): под гогот толпы династия Бурбонов была обезглавлена. Одно отрадно, вздыхал Гильотен, умерли без боли: «машинка» с лезвием под углом в сорок пять градусов сбоев не знала.
Вообще, вся история Франции – от Карла Великого до наших дней – соткана из тончайшей вязи проб и ошибок, а порой и откровенных нелепостей. Орлеанская дева, Жанна д’Арк, спасшая страну от иноземного владычества, в муках погибнет на инквизиторском костре. Отец французской трагедии Пьер Корнель перевернулся бы в гробу, узнав, что его правнучка, Шарлотта Корде, ударом кухонного тесака расправится с флагманом Великой революции Маратом. Кто бы подумал, что государство, растерзавшее собственного короля, вдруг мимикрирует в Империю?
Впрочем, не весь ли этот хаос исторической путаницы сделал Францию такой, какой мы её знаем сегодня?..
1799 год, казалось, не обещал обагрённой революционным террором стране ничего, кроме новых потрясений. В России правил «бедный Павел», готовясь к войне с якобинской Республикой; в самой же Франции назревали серьёзные события. Тот год стал определяющим как для революционного государства, так и для набиравшего влияние доселе известного лишь в узких кругах генерала Бонапарта.
С точки зрения логики и хода политических событий, 1799 год должен был покончить с корсиканцем раз и навсегда. В египетских песках под усмешки тысячелетних пирамид находили бесчестие и позор и не такие коротышки. Бросив изнурённую боями и чумой французскую армию на генерала Клебера, Бонапарт, рискуя попасть в плен к Нельсону, умчался на фрегате через Средиземное море обратно во Францию. Позор, который иному полководцу стоил бы карьеры. Но только не для ушлого корсиканца, знавшего толк в политических интригах.
Генерала Бонапарта помнили в Париже ещё с 1795 года, когда 13 вандемьера IV года Республики он отличился при подавлении в столице роялистского мятежа, искромсав повстанцев артиллерийским огнём близ парижской церкви Св. Роха. Бонапарт стал дивизионным генералом и командующим войсками тыла, а Париж обрёл своего героя.
Сейчас страну раздирали внутренние противоречия; государство нуждалось в сильной руке. Потому-то многие при появлении в столице боевого генерала склонили пред ним головы. Дело оставалось за малым: с горсткой преданных соратников разогнать не способную к решительным действиям Директорию и прибрать оказавшуюся не у дел власть к надёжным рукам. Что и было сделано 18 брюмера VIII года Республики (9 ноября 1799 года). Позорное бегство из Африки превратилось в триумфальное шествие.
1799 год выдался особенным. Он породил двух гениальных романтиков – от власти и от пера. Явившись прологом становления великой Империи, этот год стал судьбоносным для Франции, впервые услышавшей доселе незнакомое ей имя – Наполеон. Именно ему, Наполеону (а не безродному генералу Бонапарту), суждено будет стать первым императором Франции. Пройдёт ещё немного времени, и взойдёт звезда другого великого француза – Бальзака, родившегося тогда же, за год до нового столетия…
При рождении младенец, появившийся в семье Бернара-Франсуа и Анны-Шарлотты Бальзак, был худосочным и слабым, чем очень встревожил молодых родителей. И тревожиться было отчего. За год до этого судьба уже одарила супругов первенцем. Несмотря на то что юная мать кормила новорожденного Луи-Даниэля грудью, через месяц и три дня малыш умер. Появившийся на свет после него Оноре мог повторить судьбу своего несчастного брата, но на этот раз родители были начеку и отдали младенца кормилице – жене жандарма из соседнего села.
Так уж, видно, было угодно судьбе, чтобы этот человек остался жить. Империя подарила Франции двух великих людей – Императора Войны (Наполеона) и Императора Пера (Бальзака). По крайней мере, именно под таким именем сегодня знают гениального Оноре де Бальзака.
Промчавшиеся на небосклоне Франции яркими кометами, эти двое изменят её до неузнаваемости, заставив восхищаться собой и своими делами весь мир…
Не скрою, писать о Бальзаке – значит, взять на себя не просто ответственность, но нечто большее: Бальзак необъятен. И это следует понимать. Понимая же, отдавать себе отчёт в том, что, во-первых, необъятное не объять; а во-вторых (и это – следствие первого), описывая столь масштабную личность, можно рассказать лишь малую толику того огромного, загадочного и незаурядного, что связано с великим французским романистом.
Хотя в наши дни Бальзак – даже уже не человек. Он – некая литературная Вселенная, впитавшая в себя не только девятнадцатый век, но и все человеческие страсти. Бальзаковский мир настолько глубок и безграничен, что даже вездесущие критики его творчества, как бы ни старались, постоянно буксуют, раз за разом выставляя себя невидимыми карликами, снующими вокруг гигантской планеты. Подчеркну – планеты. Ибо всё творчество писателя, как уже было сказано, это Вселенная. Ну а планета, вокруг которой сломано столько копий, конечно же, бессмертная «Человеческая комедия», написанная автором в противовес дантовой – такой же бессмертной «Божественной комедии».
Но и здесь, если сравнивать с Данте, Бальзак намного шире, глубже и, конечно же, реалистичнее. Планета по имени «Человеческая комедия» вместила в себя более сотни таинственных миров и континентов – романов, повестей, этюдов, набросков и неоконченных работ. Примечательно, что всё это густо заселено яркими, запоминающимися персонажами, коих на страницах плодовитого писателя почти три тысячи! Многие из этих персонажей (скажем, Гобсек или Растиньяк) стали нарицательными образами на все времена. Удивительно, но «Человеческая комедия» тоже часть огромного целого. Часть бальзаковской Вселенной.
«Помимо неё, – пишет Грэм Робб, – в его творчество входят ранние “коммерческие” романы, от которых он отрекся и позже переиздал под другими названиями; несколько еще более ранних попыток нащупать почву почти во всех мыслимых жанрах; свыше тридцати эротических рассказов, изящно стилизованных Бальзаком в форме средневековых французских фаблио; несколько пьес – комедий и драм. Кроме того, Бальзак два десятилетия трудился в жанре литературной критики и написал немало политических статей. Интересны его свидетельства очевидца о Франции эпохи Луи-Филиппа. Нельзя забывать и о пяти томах писем – длинных, дополненных еще пятью сотнями рассказов о финансовых и душевных катастрофах и триумфах, которые читаются как романы с продолжением. Письма Бальзака к будущей жене, вышедшие отдельным изданием, составили необыкновенно подробный писательский дневник – точнее, гигантский роман с реальными прототипами, объем которого равен примерно четверти “Человеческой комедии”. Есть также записки, наброски, отрывки, книги, подписанные другими, самореклама, предисловия, манифесты, памфлеты, проекты законов, анекдоты, афоризмы и несколько интереснейших дорожных записок XIX в., или, говоря современным языком, травелогов».{1}
Надеюсь, теперь читателю понятно, с какой осторожностью автору этих строк пришлось буквально подкрадываться, чтобы ступить-таки на тернистую тропу, ведущую хотя бы к одной из этих таинственных планет. Стоит заметить, подготовка к столь решительным действиям проходила в достаточно суровом режиме.
Для начала пришлось, конечно же, перечитать почти всего г-на де Бальзака («почти» – не случайное наречие: на русский переведены далеко не все произведения этого романиста). Далее понадобилось внимательно изучить тяжеловесную «Историю Консульства и Империи» Луи Адольфа Тьера, а также пройтись по страницам многотомных «Записок герцогини д’Абрантес». И это – не считая больших и малых мемуаров современников нашего героя. Для чего, спросите? Да всё для того же: чтобы понять не только мир героев Бальзака, но и его самого; главное же – эпоху, породившую Императора Пера.
Считаю свои долгом напомнить читателю, что поистине неоценимый вклад в исследование биографии Оноре де Бальзака внесли многие литературные классики – такие как Стефан Цвейг, Андре Моруа, Анри Труайя; нельзя не отметить и фундаментальные работы на эту тему Пьера Сиприо, Грэма Робба и Франсуа Тайяндье, выдержки из которых часто цитируются на страницах данной книги. И в знак благодарности мне остаётся лишь снять перед «классиками» шляпу…
Большим подстпорьем и истинным кладезем бесценной информации для автора явился отечественный сборник «Бальзак в воспоминаниях современников» (под ред. И. Лилеевой; М.: Художественная литература, 1986). Огромную работу составителей указанной книги невозможно переоценить.
Мы привыкли ощущать (видеть, слышать, осязать) лишь подвластные этим ощущениям реалии, совсем не задумываясь, что не всё ощущаемое есть существующий мир. И совсем особый мир – то, что было: далёкое, влекущее прошлое, скрытое от глаз, ушей и рук потёмками Времени. Иногда эти потёмки способны предстать некими сгустками исторического пространства.
Нам с тобой, уважаемый читатель, предстоит пройти нелёгкий, но интересный путь по следам великого французского романиста – человека необычного и противоречивого. Кто-то называл его счастливчиком, кто-то – баловнем судьбы, а другие – его же словами: «невольником пера и чернил».
«Был ли он счастлив? Да, ибо жил своей собственной жизнью, работал по своему усмотрению и желанию, – замечает Пьер Сиприо. – Но, в сущности, он не был создан для той жизни, какую вел. Будучи гурманом, вынужденно ограничивал себя в еде; он любил бродить по городу, но был прикован к креслу; обожал сюрпризы, но из месяца в месяц жизнь его текла, словно река по плоской равнине; зная толк в приятной беседе, он ни с кем не встречался».{2}
Таков Бальзак на первый взгляд. Но только на первый. Изобразить писателя несколькими мазками ещё не удавалось никому – слишком уж противоречивой была его деятельная натура. А для того, чтобы «прочувствовать» дух бальзаковского времени и ощутить его мнимое присутствие, мы иногда будем внимательно приглядываться к обстановке и времени великого романиста. Но, как говорится, чтобы что-то сделать – нужно начать…
Рассказ о знаменитости обычно принято начинать с его рождения в каком-нибудь захолустном уголке, описывая родословную знаменитости чуть ли не до седьмого колена. И зачастую повествование превращается в этакое грустное чтиво про отца-тирана главного героя и его многострадальную мать, с трудом вырастившую «любимое дитя». Однако в случае с Бальзаком всё было как раз наоборот: он имел хорошего отца и мать, «отравившую» ребёнку детство.
Бернар-Франсуа, отец Оноре, к моменту рождения сына трудился на довольно «сытной» должности поставщика провианта для французской армии в провинциальном Туре.
Вообще, этот человек заслуживает того, чтобы о нём было рассказано подробнее.
Бернар-Франсуа Бальса, старший из одиннадцати детей в семье, сделал себя сам. Всё началось с того, что отличавшийся с самого рождения некоторой природной леностью, малый сей достаток компенсировал другим отличительным свойством – чрезвычайной сметливостью. Поэтому быстро усвоил один из уроков жизни: для того чтобы вырваться из путины деревенской глуши, нужно как минимум хорошо владеть грамотой и не ловить ртом мух. А так как ловить мух этот парень явно не любил, то пошёл к местному приходскому священнику и попросил научить его азам грамоты. Поняв в скором времени что к чему и освоив аз, буки и веди, Бернар-Франсуа устроился клерком в конторе стряпчего.
Так потихоньку к тридцати годам отец нашего героя, поработав какое-то время в банкирском доме Думерга, благодаря умению держать нос по ветру пробрался сначала в контору государственного обвинителя, а затем и в секретариат Королевского совета, помогая составлять отчёты докладчику Жозефу д’Альберу. Невероятная карьера для крестьянского сына из провинции! Тем не менее и там, наверху, секретарь Королевского совета продолжал карабкаться туда, где ещё не бывал – скажем, в кресло личного секретаря морского министра г-на де Мольвиля.
Правда, вместе с должностями следовало менять и имидж. Для начала – избавиться от простяцкой, как ему казалось, фамилии «Бальса», сделав её более благозвучной – например, «Бальзак» (не забыв добавить к ней аристократическую «де»). Последнее было сделано для того, чтобы указать на своё (довольно сомнительное) родство со старинным дворянским родом. Тогда же Бернар-Франсуа де Бальзак шагнул ещё выше на одну ступеньку: он стал масоном. Ну а потом… Потом была Великая французская революция, обезглавливавшая всех и каждого, кто был оттуда, сверху. Но только не секретаря Королевского совета! Ведь все знали, что гражданин Бальзак (забудьте про «де»!) – самый ярый республиканец, каких ещё поискать. А если верить полицейским донесениям, то в ночь с 6 на 7 августа 1792 года именно его видели размахивающим ржавой саблей и призывающим «обезглавить короля и королеву». Обезглавили. И Людовика, и его вдову; разъярённая толпа растерзала даже бывшую подругу королевы – несчастную г-жу де Ламбаль.
Когда же маховик террора добрался до самих террористов, Бернар-Франсуа, рискуя собственной жизнью, сумел спасти от гильотины нескольких своих бывших покровителей. Правда, для него самого это едва не обернулось угодить в объятия «госпожи Гильотины». После того как тучи над головой бывшего секретаря Королевского совета сгустились до лиловых сумерек, спас несчастного… Дантон. «Он – свой!» – гаркнул громовым голосом «рупор революции», добившись отправки соратника на север страны для организации продовольственных поставок, в коих так нуждалась республиканская армия.
Так семья Бальзаков оказалась в Туре.
«Город Тур на Луаре представляет самую типичную Францию, – пишет Франсуа Тайяндье[3]. – Собор, мост через реку, старые дома из белого камня – мягкого известняка, который легко обтёсывается и быстро выветривается, старые улочки, где до сих пор сохранились средневековые фахверковые дома с голубятнями. Среди знаменитостей можно упомянуть третьего епископа Тура – известного святого Мартина, того самого, который разорвал свой плащ надвое, чтобы помочь страждущему от холода бедняку, а также нашего первого историка Григория Турского, автора “Истории франков” (“Historia francorum”)».{3}
К тому времени, когда туда переселились родители Бальзака, никого из бывших влиятельных друзей и покровителей отца почти не осталось, в том числе и Дантона, успевшего «чихнуть в мешок» задолго до того, как у его партийного товарища родился гениальный сын. В Турени, куда перебрался вчерашний секретарь, ему сильно помогли масонские связи. Все, кто чего-либо добивался в Туре и его окрестностях, являлись масонами – генералы, городской прокурор, судьи и даже уважаемый всеми местный лекарь. А потому Бернар-Франсуа, умевший ладить с людьми, почувствовал себя в этом «оазисе Рабле» карасём в болотистом омуте. Достаточно сказать, что он вполне мог стать и мэром, если бы… не отказался сам, предпочтя возглавить местный госпиталь, где было тише и спокойнее.
Впрочем, было бы наивно полагать, что Бальзак-старший добился всего благодаря принадлежности к масонской ложе. Нельзя достичь многого, не обладая на то достоинствами сильного человека. Сила Бернара-Франсуа заключалась в его умении не отступать от намеченной цели. (Вообще, это называется целеустремлённостью.) Этого человека правильнее было бы назвать целеустремлённым циником. Именно такие люди, как известно, в жизни добиваются многого.
В доказательство приведём один случай, произошедший с отцом Бальзака по приезде того в Париж. Для этого придётся послушать самого писателя, обожавшего рассказывать о данном эпизоде отцовской юности, в передаче устами Теофиля Готье.
«Г-н Бальзак-отец получил место у прокурора и, по обычаю того времени, обедал вместе с другими клерками за столом патрона. Подали куропатку. Прокурорша, украдкой поглядывавшая на новичка, спросила его: – Господин Бальзак, умеете вы резать мясо? – Да, сударыня, – отвечал молодой человек, покраснев до ушей, и храбро схватил нож и вилку. Совершенно не зная кухонной анатомии, он разделил куропатку на четыре части, но с такою силой, что расколол тарелку, разрезал скатерть и поцарапал деревянный стол. Это было неловко, но великолепно. Прокурорша улыбнулась, и начиная с этого дня, – добавил Бальзак, – с юным клерком обращались в доме с необыкновенной мягкостью».{4}
Как видим, чтобы быть целеустремлённым, ни в коем случае нельзя прослыть робким и нерешительным. Назвался груздем – полезай в кузов! Поэтому быть безбоязненным «груздем» с годами для Бернара-Франсуа стало неким жизненным кредо.
И всё-таки Бернар-Франсуа всегда оставался романтиком! «Ничто так не воодушевляет Бернара-Франсуа, как утопические планы, – подмечает А. Труайя. – Он одновременно наивен и напыщен, полон добрых намерений и мелких хитростей. Состояние его никак нельзя назвать скромным: в 1807 году в анкете он сообщает о ренте почти в тридцать тысяч франков. В том же году господина Бальзака можно обнаружить на девятом месте в числе тридцати пяти жителей Тура, облагаемых самыми большими налогами. Но ему нет равных по умению сколотить капитал на одних лишь человеколюбивых теориях».{5}
Должность поставщика провианта для французской армии была способна даже безмозглого недотёпу сделать богатым и успешным. А так как Бернар-Франсуа никогда не считался недотёпой, то к своим пятидесяти годам он сумел сколотить приличное состояние. Но, верный себе, он пошёл ещё дальше, осмелившись… жениться на молоденькой. Смазливая дочь парижского галантерейщика Анна-Шарлотта-Лаура Саламбье выскочила за «старикашку» исключительно по расчёту. И это понятно: ему пятьдесят два, ей – девятнадцать. Разница, исключавшая любовную гармонию уже по определению (разве что предполагавшая привязанность иного порядка – отцовскую). Правда, женитьба на Анне-Шарлотте со стороны «старикана» тоже оказалась не бескорыстна, ибо невеста являлась протеже одного из его начальников (г-на Думерка). Да и батюшка невесты был не из простых коммерсантов: помимо прочего, он ещё занимался снабжением парижских госпиталей (по другим данным – управлял ими), и ко всему прочему, как и Бальзак, являлся членом масонской ложи.
В годы Империи глава большого семейства Саламбье, г-н Гийом, занимавшийся снабжением наполеоновской армии обмундированием, не раз повторял сыновьям: «Видеть, как мимо проходит полк национальной гвардии, одетый в наше сукно, которое мы производим дешевле всех остальных… разбираться во всех пружинах торгового дела и ни разу не свернуть на кривую дорогу! Вот это жизнь!»{6}
Однако невеста не знала самого главного: муж-«старикашка» был себе на уме, рассчитывая не только дожить до ста, но, кто знает, возможно, даже пережить молодую супругу. По крайней мере, умеренный образ жизни, считал Бернар-Франсуа, не оставит избраннице и шанса стать «весёленькой вдовой». Редиску на завтрак, грушу – на ужин. Ведь вся беда – в сковородке, погубившей миллионы человеческих жизней! Да-да, мы совсем позабыли, что старый ворчун оказался ещё и философом.
Юной Анне-Шарлотте отступать было некуда. Поэтому оставалось единственное – рожать здоровеньких детей и заниматься их воспитанием. Ничего удивительного, что родившегося после смерти первенца младенца Оноре мамаша отдаст кормилице. «Мать возненавидела меня еще до того, как я родился…»{7} – напишет Бальзак в одном из своих писем.
Как бы то ни было, в 1800 году у Оноре появляется сестра Лора; через два года – ещё одна, Лоранс-Софи. Впрочем, Оноре об этом ничего не знал, ибо продолжал жить у кормилицы – в деревенской глуши, среди куриц-пеструшек и драчливого петуха, с которым у малыша периодически вспыхивали непримиримые баталии…
«21 мая 1799 г.
Сегодня, второго прериаля седьмого года Французской Республики, ко мне, регистратору Пьеру Жаку Дювивье, явился гражданин Бернар Франсуа Бальзак, проживающий в здешнем городе, по улице Арме д’Итали, в квартале Шардонне, в доме № 25, дабы заявить о рождении у него сына. Упомянутый Бальзак пояснил, что ребенок получит имя Оноре Бальзак и что рожден он вчера, в одиннадцать часов утра, в доме заявителя».{8}
Конечно, если сегодня съездить в городок Тур, вам обязательно покажут старинный уголок, где когда-то стоял родительский дом Бальзаков, и где он сам делал первые шаги. Но даже не побывав там, можно представить, как на родине прославленного романиста бережно чтут его память, а если точнее – тень земляка, – сдувая пылинки с какого-нибудь бюста взрослого писателя или с булыжников мостовой, помнящих мельчайшие подробности, которые неспособна вместить людская память. Уверен, там будет всё, кроме одного – духа Бальзака. Этакая цветастая вывеска. Оноре не слишком чтил родные пенаты. Ветреная красавица мать не любила Оноре. С первых же дней жизни младенца он, как уже говорилось, был «подброшен» кормилице, у которой прожил целых четыре года. Именно там, в доме кормилицы в Сен-Сир-сюр-Луар, формировались первые признаки сознания будущего писателя.
Бедняга, кого только в этой жизни он не видел! Молодую кормилицу и её супруга – вечно полупьяного мужлана; соседских детишек и дворового пса; полдюжины кошек, охранявших хозяйские амбары от грызунов; куриц, гоняемых непоседливым задирой-петухом… Вся эта жизненная суета мелькала перед глазами ежедневно – привычный, милый мир.
Но иногда в этот мир врывался некий призрак, при появлении которого маленькое сердце радостно замирало, а ноги сами несли броситься на шею. В такие мгновения его ласкали, гладили по головке и даже давали полакомиться чем-нибудь необыкновенным – например, монпансье. А потом… всё исчезало. И никому не было дела, что очередного появления матери он потом будет ждать целыми днями, а иногда и ночами. Но та приезжала настолько редко, что вскоре маленький Оноре перестанет её узнавать.
Позже один из его героев в «Лилии долины» («Le Lys dans la Vallée») скажет: «Не успел я родиться, меня отправили в деревню и отдали на воспитание кормилице; семья не вспоминала о моём существовании в течение трех лет; вернувшись же в отчий дом, я был таким несчастным и заброшенным, что вызывал сострадание окружающих».
Став взрослым, Бальзак признавался, что, заслышав в детстве голос матери, он сильно вздрагивал и искал, куда бы спрятаться. Его часто наказывали и совсем не дарили игрушек. Оставалось только мечтать и, мечтая, подолгу смотреть на звёзды…
Обратно домой его заберут уже четырёхлетним – взъерошенным дикарём, почти забывшим холодную, как ледяная глыба, мать и папашу, который в глазах мальчугана выглядел «чьим-то дедушкой». Потом и вовсе всё смешалось: семья переехала из дома № 39 по Итальянской улице (именно там родился Бальзак) на улицу Эндр-и-Луара, где был большой двор с конюшней, пять погребов, парадная и даже гостиная с отдельным входом[4].
В своих «Озорных рассказах» Бальзак даст точное описание этой улицы: «Улица эта… императоров достойна… улица о двух тротуарах… искусно вымощенная, красиво застроенная, отлично прибранная и умытая, гладкая, как зеркало; царица всех улиц… единственная улица в Туре, достойная так называться».
Правда, парадная в новом доме предназначалась не для малышей – то была вотчина матери, где она любила принимать гостей. Ну а Оноре отвели небольшую комнатушку на третьем этаже, куда ещё нужно было дотопать по крутым ступеням лестницы.
Но если бы только эта лестница! Очень быстро бедняжка осознал, как же ему легко и безмятежно жилось среди куриного кудахтанья у кормилицы, которая, хоть и была строга, но не беспощадна, как собственная матушка. Кто знал, что его мать с юности считалась максималисткой. Если ты истинная женщина, была уверена Анна-Шарлотта Бальзак, то обязана быть, по крайней мере, милашкой; если выходить замуж – то за достойного и, конечно, состоятельного. А уж если у тебя есть дети, то они должны быть самыми лучшими: воспитанными и умненькими – словом, образцовыми. Именно поэтому к своим малышам г-жа Бальзак была чрезвычайно строга. Ибо только строгостью, считала она, можно достичь желаемого результата.
Впрочем, возможно, эта женщина просто врала сама себе. «Пристрастие к роскоши, желание нравиться и не ударить лицом в грязь портили её характер»{9}, – метко замечает Андре Моруа.
Всё это, несомненно, отражалось на поведении нянек и гувернанток, которых, как вспоминал Бальзак, не интересовали дети – маленькие и беззащитные существа; для них важнее были они сами на службе у г-жи Бальзак. А потому все свои недостатки, связанные с уходом и воспитанием детей, та же мадемуазель Делайе сваливала на самих малышей. Ненадолго потерялся, уснул где-нибудь под деревом – значит, непослушный сорванец! Вымарался, играя в песочнице, – следовательно, несносный вредина, грязнуля! Так всё и докладывалось madam, которая (и это было страшнее всего!), во-первых, устраивала сцены своему мужу; во-вторых, начинала лично заниматься «воспитанием», проводя так называемые допросы с пристрастием.
Сестра Лора (в замужестве Сюрвиль) писала: «Брат мой долго вспоминал приступы боязни, охватывавшей нас по утрам, когда нас отводили поздороваться с матушкой, и вечером, когда мы вступали в гостиную, чтобы пожелать ей доброй ночи. Для нас это была некая церемония, всегда торжественная, хоть и повторявшаяся изо дня в день! И верно, матушка каким-то чутьем угадывала по нашим лицам допущенные нами провинности, и они стоили нам суровых выговоров, ибо она одна карала нас и вознаграждала»{10}.
Всё прекратилось в апреле 1804 года, когда пятилетнего Оноре отдали «приходящим учеником по классу чтения» в пансион Легэ[5]. Именно там маленький Бальзак освоил азы грамоты, научившись читать, писать и даже немного складывать и вычитать цифири, что ему давалось не очень-то легко. Тем не менее через три года он считался одним из лучших учеников этой школы среди всех тех избалованных сыночков купчиков и зажиточных буржуа, которые, завидуя Оноре, его явно недолюбливали.
Лора Сюрвиль: «Он был прелестным ребенком: всегда веселое настроение, красивый улыбающийся рот, большие темные глаза, блестящие и ласковые, высокий лоб, густые черные волосы – все это обращало на него внимание во время прогулок, на которые водили нас обоих»{11}.
Как оказалось, то было лишь начало, далее – уже всё по-серьёзному. Едва исполнилось восемь, «заботливая» мать, которую больше занимал собственный внешний вид и пышные выезды в сопровождении тучного мужа, определила сына пансионером в Вандомский коллеж, в 35 милях к северо-востоку от родного Тура. Слёзы не помогли.
– Образование – ключ ко всему! – как обрезал папенька и громко хлопнул скрипучей дверью дилижанса, увозившего мальчика навстречу первым серьёзным испытаниям…
«Оноре Бальзак, 8 лет и 5 месяцев, перенес оспу без осложнений, характер сангвинический, вспыльчив, подвержен нервной раздражительности, поступил в пансион 22 июня 1807 года, вышел 22 апреля 1813 года. Обращаться к господину Бальзаку, его отцу, в Туре»{12}.
Из школьной характеристики
В Вандоме он очень скучал. По дому, сестрёнкам и маленьким котятам, которых незадолго до его отъезда принесла серая кошка с огромными, как луна, жёлтыми глазами. Иногда (когда не видела вредная гувернантка) он ласково гладил эту кошку, и взамен та начинала мурлыкать, рассказывая малышу о своих рискованных похождениях в поисках страшных крыс и драках со свирепым хорьком. Здесь было так одиноко, что даже добрая кошка сошла бы за лучшего друга!
Причин для грусти хватало. Во-первых, из Вандома учеников не отпускали домой даже на каникулы. Во-вторых, категорически не поощрялись визиты к детишкам их родителей. Впрочем, Вандомская школа не являлась неким атавизмом прежних времён: основанная монахами-ораторианцами, она лишь частично подверглась изменениям лихих времён, сохранившись как крохотная часть огромного монастыря. Отсюда круглые шапочки на головах и синие воротники: учителя – монахи, святые отцы. Вместо школьного звонка и барабанной дроби – тяжёлые удары колокола. Но главное не это. Главное – решётки, которые повсюду: на окнах, в дверных проёмах и при входе в подсобные помещения. Вандомский коллеж – некий слепок монастырской школы-тюрьмы. Руководители ораторианской школы – бывшие священники, присягнувшие на верность нации по положению о церкви в 1790 году[6], Лазар-Франсуа Марешаль и Жан-Филибер Дессень, – знали, что делали: мысли, вольнодумные слова и, конечно, запрещённые книги – самый злой порок в заведении подобного рода.
«Заточение в темницу знаний не прерывалось даже на время каникул, – пишет А. Труайя. – Учащиеся носили форму – круглая шляпа, небесно-голубой воротничок, костюм из серого сукна (материал поставляли сами директора), – за качество которой отвечали. Довольно частый осмотр обмундирования заставлял тщательно заботиться об одежде. Раз в месяц дозволялось написать родителям, которых руководство настоятельно просило избегать визитов, ибо это могло смягчить характер маленьких заключенных. За шесть лет Оноре видел своих лишь дважды. По воскресеньям дети строем шли в имение к господину Марешалю, где собирали гербарий, играли в мяч или наблюдали за жизнью животных на ферме. Каждый воспитанник шефствовал над голубем – кормил крошками, собранными в столовой во время еды»{13}.
Для свободолюбивой души Оноре обучение в Вандомской школе оказалось ежедневной, ежечасной пыткой. И результат оказался плачевен. Как писал он сам в «Луи Ламбере» («Louis Lambert»), «…я стал самым бездеятельным, самым ленивым, самым задумчивым учеником младшего отделения, и, следовательно, меня наказывали чаще других».
Отсюда – нарекания преподавателей и частые пребывания в местном карцере. О, эти одинокие вечера в тесной каморке наедине с мышиным писком и… собственными мыслями.
Как ни странно, первым толчком к сочинительству послужил как раз карцер, или, как его называли сами школьники, «альков». Тишина и уединение явились теми необходимыми условиями, которые обострили воображение художественной натуры малыша. Мальчик заделался частым посетителем местной библиотеки, «пожирая кучи книг». Юный Оноре из кожи лез вон, чтобы вновь и вновь угодить в угрюмый «альков», от которого остальные школьники шарахались как чёрт от ладана.
Ситуацию усугубляло глубокое одиночество: за все шесть лет, пока Оноре находился в Вандомском коллеже, его мать навестила сына лишь дважды.
Его письмо матери в первый год учёбы в Вандоме – своего рода отчёт послушного ребёнка перед строгим родителем:
«Вандом, 1 мая (1807). Любезная матушка. Я думаю, папа был огорчен, когда узнал, что меня посадили в “альков”. Прошу тебя, успокой его, скажи, что я получил похвальный лист при раздаче наград. Я не забываю протирать зубы носовым платком. Я завел себе толстую тетрадь и переписываю туда начисто все из своих тетрадок, и у меня хорошие отметки, надеюсь, это доставит тебе удовольствие. Обнимаю от всей души тебя и всех родных, а также всех, кого я знаю. Я узнал имена учеников из Тура, которые получили награды: Буалеконт. Других не запомнил.
Бальзак Оноре, твой послушный и любящий сын»{14}.
Дети чувствительны, прямолинейны и безжалостны. Однажды он запишет: «У меня никогда не было матери…»{15}
Ну а матушке и в самом деле было не до старшенького.
Легкомысленная по натуре, мадам Бальзак втихаря от вислорогого муженька закрутила бурный роман с турским богачом и владельцем замка в Саше – неким Жаном де Маргонном, от которого, как и следовало ожидать, вскоре забеременела.
Анри Труайя: «…Жан-Франсуа де Маргонн, двумя годами моложе ее, был женат, супруга его была некрасива, предана мужу. Он влюбился в Шарлотту-Лору с первого взгляда и пользовался столь явным расположением этой прелестной особы, что невозможно было устоять. Та, со своей стороны, была не слишком щепетильна, а Бернар-Франсуа закрывал на все глаза, полагая, что в его годы надо быть терпимым к сердечным вольностям своей молодой половины, тем более что приличия соблюдены»{16}.
Как бы то ни было, пока бедняжка Оноре маялся в тесных монастырских «альковах», его матушка в 1807 году произвела на свет ещё одного маленького Бальзака – незаконнорожденного Анри. Об Оноре, томящемся в «вандомском изгнании», на какое-то время, казалось, все позабыли…
Ничего удивительного, что школьная жизнь в коллеже закончилась нервным срывом и досрочным отъездом домой. Родные едва узнали в тощем лунатике с отрешённым взглядом когда-то весёлого, румяного и толстощёкого мальчугана.
Позже на основе детских и юношеских воспоминаний писателя из-под его пера выйдет во многом биографический «Луи Ламбер». (Кстати, именно так – Луи Ламбер Тинан – звали одного из товарищей Оноре в Вандоме.) Да и в некоторых других его произведениях будет явно прослеживаться зеркальный образ самого Бальзака – скажем, образ Рафаэля де Валантена в «Шагреневой коже» («La Peau de Chagrin») или д’Артеза в «Утраченных иллюзиях» («Illusions perdues»). Однако наиболее угадываемый образ – безусловно, образ Луи Ламбера.
В указанном произведении Бальзак-Ламбер предстаёт во всей своей красе:
«…Он привык к деревенскому воздуху, к существованию, не стесненному никаким воспитанием, к попечениям нежно любящего старика, к мечтаниям, когда он грезил, лежа на солнцепеке. Ему было невероятно трудно подчиниться школьному распорядку, чинно ходить в паре, находиться в четырех стенах, в помещении, где восемьдесят подростков молча восседали на деревянных скамьях, каждый уткнувшись в свою тетрадь. Он обладал удивительной восприимчивостью, и чувства его страдали от порядков, царивших в коллеже. Запах сырости, смешанной с вонью, стоявшей в грязной классной комнате, где догнивали остатки наших завтраков, оскорблял его обоняние, чувство, больше всех других связанное с церебральной системой и раздражение которого неприметно влияет на мыслительные органы. Но, помимо этих источников вони, здесь было еще множество тайников, в которых каждый хранил свои маленькие сокровища: голубей, зарезанных к празднику, или еду, которую удалось похитить из столовой. Кроме того, в нашем классе лежал громадный камень, на котором всегда стояло два ведра с водой, – сюда мы являлись каждое утро, словно лошади на водопой, и по очереди, в присутствии надзирателя, ополаскивали лицо и руки. Затем мы переходили к столу, где служанки причесывали нас. В нашем дортуаре, который убирали лишь раз в сутки, перед нашим вставанием, вечно царил беспорядок, и, несмотря на множество высоких окон и высокую дверь, воздух в нем был очень тяжелым от подымавшихся сюда испарений из прачечной, вони отхожего места, пыли, летевшей, когда чесали наши парики, не говоря уже о запахах, которые издавали наши восемьдесят тел в этом битком набитом помещении… Отсутствие ароматного деревенского воздуха, окружавшего его до сих пор, нарушение привычного образа жизни наводило на Ламбера печаль. Он сидел, подперев голову левой рукой и поставив локоть на парту, и вместо того, чтобы готовить уроки, разглядывал зеленые деревья во дворе и облака на небе. Казалось, что он занимается; но педагог, который видел, что перо его лежит на месте, а страница остается чистой, кричал ему: “Ламбер, ты ничего не делаешь!”…»
В своём автобиографическом повествовании писатель рассказал и о другом – о телесных наказаниях, которые Бальзаку-Ламберу пришлось испытать на собственном тщедушном детском тельце. Ultima ratio – последний довод научить уму-разуму непослушных школяров. Это когда розгой по причинному месту!
Строки из «Луи Ламбера»: «Из всех физических страданий жесточайшее нам причинял, конечно, кожаный ремень примерно в два пальца шириной, которым разгневанный наставник изо всех сил хлестал нас по пальцам. Чтобы подвергнуться этой классической мере воздействия, провинившийся опускался посреди зала на колени. Нужно было встать со скамьи, подойти к кафедре, преклонить колени и вынести любопытные, а зачастую и издевательские взоры товарищей. Для нежных душ эти приготовления к пытке были вдвойне тяжелы: они напоминали путь от здания суда к эшафоту, который некогда вынужден был совершать приговоренный к смертной казни. В зависимости от характера одни вопили и проливали жгучие слезы и до наказания, и после. Другие переносили боль со стоическим выражением лица. Но даже и самые сильные с трудом подавляли болезненную гримасу в ожидании страдания.
Луи Ламбера пороли особенно часто, и этим он был обязан свойству своей натуры, о существовании которого долгое время даже не подозревал. Когда оклик наставника «Да ты ведь ничего не делаешь!» вырывал Луи Ламбера из его грез, он нередко, поначалу сам того не замечая, бросал на учителя взгляд, исполненный дикого презрения, взгляд, заряженный мыслями, как лейденская банка – электричеством. Этот обмен взглядами, несомненно, оказывал самое неприятное действие на педагога, и, уязвленный молчаливой издевкой, наставник пытался заставить школьника опустить глаза. Впервые пронзенный этим лучом презрения, словно молнией поразившим его, патер произнес следующее запомнившееся мне изречение: “Если ты будешь так смотреть на меня, Ламбер, ты изведаешь розгу”…»
И вот тогда-то, как пишет Бальзак о своём герое, «у него появился прямо-таки волчий аппетит, который он был не в состоянии утолить. Он глотал самые разные книги, он поглощал без разбора религиозные, исторические, философские трактаты, а также труды по естественной истории».
Бескрайний мир книг заменил ученику скучную серую жизнь среди понурых школяров и занудных патеров. Мир книг – это мир грёз. И он заполнил малышу природную пустоту, которая, как известно, не может быть вечно бесхозной.
Впрочем, Оноре повезло: в стенах школы-тюрьмы он неожиданно нашёл единомышленника в лице священника, присягнувшего на верность нации, ставшего учителем математики, – некоего Иасента-Лорана Лефевра. Лефевр заведовал библиотекой, содержимое которой в большинстве своём составляли книги из разграбленных замков и аббатств во времена революционных событий.
«…Учитель и ученик гораздо больше были увлечены литературой, чем цифрами и равенствами, – пишет А. Труайя. – Вместо того чтобы заставлять мальчика корпеть над учебниками, отец Лефевр поощрял его к чтению трудов, скрытых в недрах библиотеки, чему тот и предавался с удовольствием в часы их занятий. В свое время священник увлекался поэзией и философией, восторженное любопытство воспитанника напоминало ему о собственной юности. Он обнаруживал в нем богатое воображение, пылкость, стремление бесконечно предаваться мечтам. “Заговорщики” – мальчишка одиннадцати лет и сорокалетний мужчина – втайне от всех обменивались впечатлениями по поводу прочитанного. Они были одной породы – охотники за мечтами»{17}.
Прочитав в местной библиотеке почти все книги, Оноре превратился в некоего инопланетянина. Ничего удивительного, что вскоре произошло то, что и должно было произойти: у подростка случился нервный срыв, некий сбой психики.
Его сестра Лора вспоминала: «Когда ему было четырнадцать лет, директор коллежа г-н Марешаль написал матушке, между Пасхой и днем раздачи наград, чтобы она как можно скорее приехала за сыном. Его постиг недуг, он впал в своего рода коматозное состояние, тем более обеспокоившее наставников, что они не видели к тому причин. Мой брат был для них просто ленивым школьником, и они не понимали, каким умственным перенапряжением могло быть вызвано это заболевание мозга. Оноре стал таким худым и хилым, что походил на сомнамбулу, спящую с открытыми глазами; он почти не слышал обращенных к нему речей, не знал, что отвечать… без ведома учителей он прочитал значительную часть книг из богатой библиотеки коллежа, состоящей из сочинений ученых монахов-ораторианцев, основателей и собственников этого обширного учебного заведения, где воспитывалось около трехсот подростков; каждый день он прятался в укромном месте и глотал серьезные книги…»{18}.
В здоровом теле – здоровый дух. Дух Оноре опередил развитие тела. Довольно редкое для подростка явление. Но и сам Оноре оказался редким ребёнком. Долгое пребывание в мрачных «альковах» Вандома серьёзно повлияло на его восприятие мира.
«Разум стал для него не просто отдельной игровой комнатой, но и арсеналом, – пишет Грэм Робб. – В дортуарах Вандома зародился европейский реализм. А в созданной Бальзаком вселенной в Вандомском коллеже учился и Вотрен, главный злодей, наделенный сверхъестественными силами и страстным желанием управлять обществом, которое он понимает и которое поэтому презирает»{19}.
Тогда ещё никто не догадывался (и даже сам Оноре), что присутствуют при рождении Явления, имя которому – БАЛЬЗАК.
Апрель 1813 года. Юный Оноре вновь дома, в Туре. Только – дома ли?
Его забрали обратно по непреклонному требованию отцов-ораторианцев, не пожелавших далее возиться с этой не пришедшейся ко двору «паршивой овечкой». Г-н Марешаль так отзывался об Оноре: «Из мальчика не вытянешь ничего – ни уроков, ни домашних заданий, непреодолимое отторжение вызывает у него необходимость выполнять любую работу по принуждению».
Очень быстро выяснилось, что дома Оноре, в общем-то, никто не ждал: даже в родительских стенах от бедолаги-инопланетянина шарахаются как от чумного. 35-летняя maman занимается только собой, ибо её волнуют лишь наряды, сонм поклонников и, конечно, любовники. Ну а отец…
Отцу в этот период вообще нет никакого дела до детей: будучи к тому времени помощником мэра, он всеми силами пытается удержаться на плаву в бурной политической речке. Городскую власть в Туре подмяли под себя молодые и дерзкие. Сложность ситуации усугублял тот факт, что старый приятель и покровитель Бернара-Франсуа, генерал Поммерёль, покинув Тур, переселился в Лилль. С его уходом местная масонская ложа заметно ослабела, поэтому прикрывать махинации г-на Бальзака стало некому.
Если ты влиятелен и богат – к тебе льнут все: даже соседская дворняга предпочитает лаю дружелюбное повиливание хвостом. Но если ты споткнулся – берегись: одиночество тебе обеспечено. После того как нового турского префекта заинтересовали растраты Бернара-Франсуа, допущенного до управления местным госпиталем, стало понятно, что пора сматывать удочки. Тем более что душка-префект, сжалившись над проворовавшимся чинушей, лишь пока намекнул на преступные махинации госпитального попечителя, у которого, как было известно, росло четверо малышей, нуждающихся в папеньке так же, как и детишки самого г-на префекта.
Впрочем, не только превышение полномочий чиновника вывело префекта из себя. Виной всему оказалась… г-жа Бальзак, жена проворовавшегося масона. Вернее – непомерная зависть, которую возбудила ветреница в сердцах местных кумушек. Даже с годами Анна-Шарлотта сумела сохранить свою привлекательность, жонглируя мужскими сердцами, как красотка шапито кеглями. Ещё больше раздражало, что негодница нагло перевирала свою фамилию, рассказывая, будто она – мадам де Бальзак. Ох уж это несносное «де»! Оно как красная тряпка для разъярённого быка, намекавшее на родство этих ничтожных Бальзаков с теми – Бальзаками д’Антраг. А род последних, как хорошо было известно, давно пресекся.
Хотя местные дамы в данном вопросе явно лукавили, ибо не их ума были все эти «де» с их родственными привязками. Платья! Они-то и явились зерном раздора. Эти умопомрачительные платья, в которых вышагивала по Туру, сделав очередную модную причёску, г-жа Бальзак, выводили кумушек из себя. А какие у неё ленты, им нет цены! Великолепный атлас кружил головы. Разнесчастные атласные ленты, обходившиеся престарелому муженьку в копеечку, они превращали обычную зависть в неприкрытую ненависть – женскую, мужскую, всеобщую…
Всё правильно, когда жена префекта на фоне этой выскочки выглядит серой простушкой, вывод напрашивается сам по себе: муж этой гордячки не только отпетый рогоносец (с этим-то как раз можно было бы и смириться), но, главное, что он – вор! А от предположения до Уголовного кодекса – несколько шагов, если не один, роковой.
Тем не менее новый префект понимал: за спиной Бальзака влиятельные лица. Тронь – хлопот не оберёшься. Один послужной список этого старикана чего стоит: «Секретарь бывшего Государственного совета на протяжении шестнадцати лет, комиссар секции в Париже 21 июня 1791 года, в день побега бывшего короля я затем занимал пост председателя секции, был депутатом городской коммуны, чиновником муниципалитета, комиссаром и наконец председателем суда, который в ту пору один рассматривал все судебные дела, возбуждавшиеся полицией города Парижа»{20}.
Но его жена… А эти ленты!..
Г. Робб: «Если женщина хорошо одевается, она производит впечатление кокетки и даже легкомысленной, – поучает г-жа Бальзак свою дочь Лору, когда та выходит замуж. – Скоро пойдут слухи, что ее муж уж слишком успешен в делах… Если бы моя матушка в свое время предупредила меня об этом, жительницы Тура не относились бы ко мне так плохо. В силу возраста твоему батюшке хватило такта не перечить мне. Нам по карману были самые элегантные наряды»{21}.
И это при том, что попечитель госпиталя, судя по воспоминаниям современников, довольно ревностно относился к своим обязанностям.
«Он высмеивал человечество только тогда, когда не мог прийти ему на помощь, он многократно это доказывал – вспоминала Лора Сюрвиль. – В лазарете не раз вспыхивали эпидемии, в частности, когда скопилось много солдат, возвращавшихся из Испании; отец обосновался тогда в госпитале и, позабыв о своем здоровье ради спасения других, проявлял усердие, которое у него доходило до самоотверженности. Он устранил множество злоупотреблений, не страшась недоброжелательности, какую возбуждает такого рода мужество, ввел в этом госпитале значительные усовершенствования, в том числе мастерские, где могли работать трудоспособные больные, добился определения им платы за их труд»{22}.
В ноябре 1814 года Бернар-Франсуа будет вынужден перевестись из Тура (где располагался штаб его 22-й дивизии) в Париж, возглавив там снабжение 1-й армейской дивизии.
Итак, о чём это мы? Ах да, о юном Оноре, который даже нами, столь неравнодушными к судьбе этого несчастного мальчика, оказался напрочь забыт. Прости нас, малыш. А заодно прости своих родителей, для которых важнее были дела собственные, нежели хрупкий, болезненный мир будущего гения.
Бедняжка, его вновь куда-то отсылают. Неужели в Париж? В этот город-монстр, где, как он слышал от сверстников, злые клошары обожают есть нежное человеческое мясо, запивая его кислым сидром. Хотя, мысленно тешил себя рассудительный Оноре, это, скорее всего, лишь враки; с другой стороны, если хорошенько наточить старый перочинный нож, подаренный когда-то отцом, тогда не страшны не только грязные клошары, но даже разбойники!
На сей раз папаша определяет сына в частную школу Ганзера и Бёзлена. То был своего рода пансион для учеников лицея Карла Великого в парижском квартале Марэ. Однако проучиться в этом лицее Бальзаку удалось всего восемь месяцев.
Когда войска союзников приблизились к столице, к Оноре приехала квохчущая, как курица-наседка, маменька и, дабы не испытывать судьбу, срочно увезла отрока домой, где он, беря частные уроки, будет жить вплоть до августа.
Париж опустел. Мы совсем забыли о главном: на дворе 1814 год – самый трагический после восхождения на политическом небосклоне яркой звезды Наполеона Бонапарта. Война! Она для бедных французов не прекращалась. Победоносная наполеоновская армия осталась в безбрежных русских снегах. И это казалось немыслимым! Ещё страшнее было другое: теперь вся Европа ополчилась не только на Бонапарта, но и на всех французов. Враг продвигался к Парижу. Поговаривали, что в отместку за сожжённую Москву русские казаки не оставят от французской столицы камня на камне, предоставив грабить горожан алчным полякам. На окраину города, откуда были слышны выстрелы пушек, тянулись жидкие шеренги подростков, возглавляемые хромоногими и безрукими ветеранами. Им предстояло сложить головы на алтаре национального патриотизма.
Впрочем, пушечные раскаты если кого-то и пугали, то только не мадам Бальзак, матушку нашего героя, которая вновь погрузилась в очередной омут «большой любви»: на сей раз её избранником оказался некий испанский граф (бывший беженец) де Прадо Кастеллане, повеса и сердцеед, жизненным кредо которого являлось коллекционировать ветвистые рога мужей своих любовниц. И, надо сказать, в этом деле испанец немало преуспел, затащив в постель очередную заблудшую овцу.
Так что бедняжка Оноре и в этот раз оказался лишь поводом: поводом для maman съездить в Париж, где у неё намечалось любовное свидание. Ничего удивительного, что тёплой встречи с сыном, на которую соскучившийся по материнскому теплу юноша так надеялся, не получилось: мать снова была холодна, как ледяная скала. И по пути домой, когда они уже добрались до Блуа (в это время там находилась императрица Мария Луиза), нервы Оноре не выдержали. Он неожиданно кинулся на мост через Луару, задумав броситься оттуда в реку. Но, на счастье, парапет оказался слишком высок. Бедняжке ничего не оставалось, как забиться в истерике. Теперь Оноре уже ничуть не сомневался: мать его просто не любит!
Через восемнадцать лет Бальзак отомстит матери, описав в «Лилии долины» версию событий, произошедших в марте 1814 года. Там будет всё: неверная замужняя женщина и любовник-испанец, которого заживо замуровали в кирпичной стене спальни. Если учесть, что имя настоящего графа было Фердинанд де Эредиа, то вымышленное звучало… Фередиа.
Холодность со стороны матери Бальзак не сможет забыть до конца своих дней.
В одном из своих писем г-же Ганской он напишет: «Если бы вы только знали, что за женщина моя мать. Чудовище и чудовищность в одном и том же лице. Моя бедная Лоранс и бабушка погибли из-за нее, а теперь она намерена загнать в могилу и другую мою сестру. Она ненавидит меня по многим причинам. Она ненавидела меня еще до моего рождения. Я хотел было совсем порвать с ней. Это было просто необходимо. Но уж лучше я буду страдать. Это неисцелимая рана. Мы думали, что она сошла с ума, и посоветовались с врачом, который знает ее в течение тридцати трех лет. Но он сказал: “О нет, она не сумасшедшая. Она только злюка”… Моя мать – причина всех моих несчастий»{23}.
Дети безжалостны. Особенно, если их безжалостность основана на реальных причинах. Месть Бальзака в отношении своей матушки оказалась ещё хуже: с годами он просто перестал воспринимать её всерьёз. Тоска по материнской ласке у взрослого Оноре сменится равнодушием.
31 марта 1814 года наспех созданное Талейраном правительство собирается у нового патрона. После недолгого совещания Талейран заявляет:
– Людовик Восемнадцатый олицетворяет собой основу государства. Он – законный король!
Уже в апреле отрекшегося от престола Наполеона Бонапарта союзники отправляют в изгнание на остров Эльба в Тирренском море. Франция рыдает! Униженные и оскорблённые парижане, привыкшие к великим победам своих солдат, ведомых доблестным императором, никак не могут смириться с очевидным. Дети Бернара-Франсуа, воспитанные под императорскими знамёнами с золотыми пчёлами, плачут вместе со всеми.
Правда, «траур» по Бонапарту длился недолго. Когда в конце мая герцог Ангулемский торжественно вступил в Тур, горожане его встретили дружным «vivat!».
Тридцативосьмилетний герцог Луи-Антуан Ангулемский являлся старшим сыном графа д’Артуа (будущего короля Карла X) и соответственно племянником двух Людовиков – казнённого шестнадцатого и будущего восемнадцатого. Это был тот самый герцог, которого в 1787 году с подачи Марии-Антуанетты едва не женили на её девятилетней дочери. Планам помешала Революция. Герцог и принцесса обвенчаются лишь в 1799 году, в курляндской Митаве, куда им придётся срочно бежать.
Будучи добровольцем на английской службе, герцог направлялся из Бордо в Париж, где собирался встретить своего дядю, будущего короля Людовика XVIII. По пути в столицу он вознамерился заехать в Тур.
Страна бурлила! Каждый француз жил сегодняшним днём.
Никогда ещё, пожалуй, люди до такой степени не уподоблялись флюгерам. Командование штаба 22-й дивизии (куда был приписан Бернар-Франсуа) устроило банкет и бал в честь его королевского высочества. Бывшие аристократы, отсиживавшиеся в своих замках, наконец вылезли на свет Божий. В поддержании порядка деятельно участвовал лейтенант национальной гвардии де Маргонн.
Однако если мы скажем, что Оноре в те дни сильно волновали политические события, то сильно рискуем оказаться занудами. Наполеон, Бурбоны, франкмасоны – нет, нет и ещё раз – нет! Только не это тогда волновало подростка. Потому что в этом возрасте он засыпал и просыпался с единственной мыслью, будоражащей всё его естество: мыслью о притягательном и недосягаемом… женском теле. Волшебная магия женской красоты буквально сводила юношу с ума! Думы «об этом» пронзали юное тело невидимой молнией, способной расколоть надвое вековой дуб. При слове «женщина» сознание, кажется, покидало его…
Но одно думать, другое – видеть. Бал, насколько знал Оноре, это то место, где… одни женщины! Пятнадцатилетний Оноре, выполняя волю матери, представлял на мероприятии отца, отлучившегося из Тура. Матушка постаралась. Она заказала для «старшенького» ярко-синий костюм; шёлковые чулки… новые кожаные туфли… голубая рубашка с жабо… Оноре чувствовал себя явно не в своей тарелке; тем не менее понимал: наверное, именно так и должен выглядеть галантный кавалер. Глядя на себя в большое зеркало, подросток не мог поверить, что с другой стороны на него с лёгкой ухмылкой смотрит не кто иной, как он сам! Вот уж спасибо, матушка!..
И вот Оноре на балу. Затесавшись в толпу женщин, он смущённо стоял и, наслаждаясь головокружительным, пьянящим ароматом, несколько стыдливо наблюдал за происходящим. И при этом… испытывал настоящий восторг! Его ослепляло всё: огни сотен свечей, тяжёлые малиновые драпировки и, конечно, ослепительный блеск золота и бриллиантов… Но главное – обворожительные женские плечи. Вскоре он поймал себя на мысли, что никак не может сосредоточиться. Женщины… Их было так много! Юные и старухи, красивые и не очень, порхающие и задумчивые. Но все – очаровательные и притягательные. А он… Он не мог поднять глаз, чтобы вволю всем этим насладиться. Потому что его взгляд, не выдерживая женского очарования, от лица очередной красавицы куда-то предательски опускался ниже и ниже – по шее… до плеч… в самый вырез… А дальше… Дальше у него начинала кружиться голова.
Оноре присел, желая в душе оказаться неким невидимкой, которого бы никто не видел, зато он сам мог бы рассматривать всех вместе и каждого (каждую) в отдельности. И вдруг! (Как странно, в этом большом зале почти всё с ним случалось «и вдруг».) И вдруг совсем близко, о Боже, руку протянуть! рядом присела, «как птичка, которая садится в гнездышко», взрослая женщина, обдав несчастного счастливца таким ароматом чего-то запретного и убийственно головокружительного, что юноша буквально опьянел. Позже он напишет: «Меня сразу поразили ее пухлые белые плечи… плечи, тронутые розовым, которые, казалось, вспыхивали, словно обнажились впервые… Я потянулся, дрожа, стараясь разглядеть вырез, и меня в высшей степени заворожила грудь, скромно прикрытая прозрачным газом, однако голубоватые, идеально округлые полушария отчетливо виднелись в кружевах»{24}.
После бала Оноре долго не мог прийти в себя. Эта Фея, с плечами, «тронутыми розовым», и не думала его отпускать. Поселившись в голове юноши, она, казалось, совсем не собиралась никуда оттуда уходить! Впрочем, было кое-что и похуже: он сам не хотел (и даже боялся!) ухода обворожительной Феи. И, словно издеваясь над собой, не раз и не два представлял эту женщину сладострастной, с обнажёнными не только плечами, но и… О, эти влекущие губы… Иногда он видел Её по ночам, причём почти наяву. И даже не одну, а в окружении многих из тех, кого успел выхватить взгляд на том злосчастном балу. Воспоминания об этих женщинах теперь сводили беднягу с ума! Или он уже сумасшедший? Пусть так, только бы снились эти плечи… глубокий вырез на груди… и бесконечные кружева, кружева… Кружева, в тенётах которых спрятано… неведомое счастье.
Впрочем, мечтать было некогда. В июле 1814 года Оноре был зачислен экстерном в Турский коллеж, чтобы заново пройти курс предпоследнего класса. Здесь он получает престижную награду – орден Лилии. Мало того, в официальном сертификате в его фамилии будет сделана серьёзная и важная поправка, ибо здесь она звучала как де Бальзак.
Ну а Бальзак-старший, как уже было сказано, переводится в Париж и назначается снабженцем 1-й армейской дивизии. В этот раз помог Огюст Думерк – сын его бывшего патрона, у которого в интендантской среде было всё схвачено. Жалованье Бернара-Франсуа в 7500 франков позволяет содержать семью и снять большую квартиру на улице Тампль, дом № 40, в квартале Марэ.
Вскоре Оноре вновь начинает учиться в классе риторики в лицее Карла Великого (правда, теперь он переименован в «королевский коллеж»), однако в другом пансионе – некоего г-на Лепитра. Старина Лепитр слыл большим эрудитом, опубликовавшим «Историю обожаемых римлянами и греками богов, полубогов и героев». Но не это послужило главной причиной в выборе для Оноре учебного заведения (улица Тюренн, дом № 9). Во-первых, этот самый Лепитр был другом Бернара-Франсуа и слыл ярым монархистом (времена менялись, а с ними – и нравы); во-вторых, Бернар-Франсуа и Лепитр оба являлись франкмасонами. Ну а в-третьих…
В-третьих, обучение Оноре в пансионе Лепитра – это целая история. Впрочем, и сам г-н Лепитр – не менее интересная история; вернее, заметный винтик во французских событиях Великой революции… Лепитр! Это имя Бальзак не забудет никогда.
С чего начать? Быть может, с того, что именно хромоногий Лепитр мог изменить историю Франции, повернув ход событий совсем в другую сторону. И тогда не случилось бы того, что случилось: Консульство, Империя Бонапарта, Ватерлоо… По крайней мере, Мария-Антуанетта осталась бы точно жива.
Историю изменил винтик, коим не посчастливилось оказаться г-ну Лепитру. Прошлое г-на Лепитра стало его личной бедой, которая тянулась за ним, как кошкин хвост за самой кошкой. Оно, это прошлое, было ещё ужаснее, чем его фамилия, которая в переводе с прекрасного языка Бомарше означает что-то вроде клоуна.
Вспоминая каждый раз о своём давнем конфузе, хромоножка-Лепитр впадал в жуткую депрессию; а порой, закрывшись дома в кабинете, он доставал бутылку крепкого вина и пытался найти утешение в последней капле на её донышке. Часто помогала именно последняя капля, но отнюдь не всегда. В таких случаях считавшийся трезвенником г-н Лепитр ставил на стол вторую бутылочку, и вот тогда…
Тогда-то и начиналось самое страшное. На дне второй бутылки (и он об этом прекрасно знал!) захмелевшего директора ждала не спасительная капля, а нечто другое – вернее, некто, который, не стесняясь, кривил рожицы и пытался выпрыгнуть из тесного стеклянного нутра. В такой момент (и это мсье Лепитр тоже знал!) следовало как можно быстрее закрыть горлышко бутылки пробкой, ибо в противном случае негодник грозил выскочить и… И начать противно щекотать в носу. А далее происходило нечто умопомрачительное: уважаемый директор, г-н Лепитр, принимался безудержно и громко хохотать, будя по ночам не только благоверную, но и добропорядочных соседей.
И лишь после этого напившийся директор в душевном припадке падал на кровать и засыпал на целые сутки. И снилось «хохочущему клоуну» событие, навеки ставшее для него настоящей бедой. Кошмар был один и тот же: ему виделась та, которую он буквально боготворил – обезглавленная королева Мария-Антуанетта; та, которую в 1793 году он должен был спасти. Но не спас. И это при том, что именно он, Лепитр, участвовал в известном заговоре по освобождению несчастной. Заговор провалился. По вине Лепитра. И даже по прошествии лет это буквально сводило последнего с ума. Ужасные кошмары не давали забыть случившееся. Снилась она, Мария-Антуанетта. И её голова. Отдельно от тела. С открытыми глазами. И в неподвижных глазах невинной жертвы читался укор. Нет, не кому-то – а именно ему Лепитру, не спасшему королеву!
Что же произошло?
В революционные дни мсье Лепитр был молод и энергичен, поэтому любое дело ему казалось по плечу. Сведя знакомство с муниципальным чиновником мсье Туланом, поддерживавшим связь с роялистами, в частности с генералом де Жаржэ, он вошёл в группу заговорщиков, готовивших побег королевы из Тампля. Однако в последний момент всё пошло не так.
Вообще, заговоров было два. Быть может, именно поэтому с освобождением королевы ничего не получилось. Хотя, судя по серьёзности подготовки и тому, как близки оказались заговорщики к осуществлению задуманного, остаётся лишь сожалеть о несбыточной мечте Марии-Антуанетты оказаться на свободе. Оба заговора были автономны; а так как проводились в разное время, их руководители ничего не знали друг о друге.
В контексте данного повествования нам интересен первый заговор, в котором принял участие мсье Лепитр.
Итак, заключённой в Тампле с детьми королеве тайно передаётся некое послание, в котором королевский бригадный генерал Франсуа Огюстен Ренье де Жаржэ, муж горничной королевы, сообщает, что, несмотря на риск, готов в любой момент помочь узникам выбраться из тюрьмы. В первых числах февраля 1793 года к Жаржэ является незнакомец с планом по освобождению королевы. Будучи уверен, что перед ним провокатор, Жаржэ едва сдерживается, чтобы не выгнать того взашей. Возможно, встреча этим бы и закончилась, если б не записка, которую передал посетитель. Писала Мария-Антуанетта, почерк которой генералу был хорошо знаком: «Можете вполне доверять подателю этой записки, он будет говорить с Вами от моего имени. Его чувства мне известны, вот уж пять месяцев они неизменны».
Человеком, передавшим послание от королевы, был некто Тулан – известный всему Парижу республиканец, который в минувшем августе при штурме Тюильри одним из первых под огнём швейцарцев ворвался во дворец, за что даже был пожалован революционной медалью, с гордостью носимой им на груди. По этой же причине городская ратуша доверила ему охранять королеву. Но, узнав эту женщину ближе, Тулан, как пишут историки, из Савла превратился в Павла, став её преданным защитником.
Генерал Жаржэ, продолжая не доверять неизвестному, требует от того помочь проникнуть в Тампль для личной встречи с королевой. Несмотря на кажущуюся невыполнимость подобной просьбы, вскоре Тулан передает генералу ещё одну записку от королевы: «Если Вы намерены прийти сюда, было бы лучше поторопиться; но, Бога ради, будьте осторожны, не дайте себя узнать, особенно женщине, которая сидит с нами». (Мария-Антуанетта намекала на некую Тизон, на самом деле оказавшуюся шпионкой.)
Благодаря Тулану, подкупившему тюремного фонарщика, переодетый Жаржэ беспрепятственно проникает в камеру к королеве. Там он предлагает ей поистине дерзкий план побега: переодевшись в форму депутатов ратуши, по поддельным документам служащих магистратуры, якобы проводивших в тюрьме инспекционный обход, покинуть крепость. А так как фонарщика часто сопровождают его дети-подростки, будет нетрудно вывести и детей. Недалеко от выхода, шепчет королеве генерал, их будут ждать три коляски. Поместятся все, уверяет Жаржэ.
Главную роль в этой истории должен был играть именно Лепитр, которому суждено было стать лжефонарщиком. И поначалу он с радостью согласился сыграть в этом историческом спектакле, не догадываясь, что болтать языком и действовать – разные вещи. Беда в том, что Лепитр, в отличие от большинства заговорщиков, согласился участвовать в заговоре исключительно… ради денег. Бывший хромоногий школьный учитель не желал рисковать головой за просто так! А сумма, которую ему предложил генерал Жаржэ, была достаточна для того, чтобы обеспечить себе достойную старость.
И когда до осуществления задуманного оставался один шаг, мсье Лепитр испугался. Ему вдруг явственно показалось, что по пятам идут ищейки, которым наверняка что-то нашептала шпионка Тизон. Лепитра окончательно покинуло мужество. Он уже был не рад, что связался со всеми этими людьми. Хотелось домой, под одеяло, и сделаться невидимым. А потому, пришёл к выводу Лепитр, лучше всего отказаться! Да! Да! Да! Именно так: отказаться! Лепитр в панике. Он в холодном поту и дрожит как осиновый лист.
– Нет, у нас ничего не выйдет, мы провалимся! – старается он убедить Тулана, когда тот, рассердившись, призывает трусишку к совести. – Вывести всех из Тампля – ведь это безумие, авантюра!
– Тогда хотя бы королеву… – пытается уговорить того сотоварищ. – Согласись, вполне осуществимо… А с детьми разберёмся потом.
– Ну да, одного человека легче… Хорошо, попробую, – соглашается Лепитр. – Но сумма остаётся прежней – та, о которой первоначально шла речь…
– Безусловно, – заверил алчного трусишку Тулан.
Однако то, что устроило Лепитра, не устроило саму королеву.
– Как без детей?! – вскричала она, когда услыхала предложение Лепитра. – Нет, это просто невозможно! На кого я их оставлю здесь, в Тампле? Эти изверги выместят на бедных детях всю свою злобу!.. Нет-нет, либо с детьми, либо мы все остаёмся…
В письме генералу Жаржэ Мария-Антуанетта напишет: «Мы лелеяли чудесную мечту – и только. Для меня большой радостью было еще раз в подобных условиях убедиться в Вашей преданности мне. Мое доверие к Вам безгранично. При любых обстоятельствах Вы найдете во мне достаточно характера и мужества, но интересы моего сына – то единственное, чем я должна руководствоваться, и каким бы счастьем для меня ни было освобождение, я все же не могу согласиться на расставание с сыном. В том, что Вы вчера сказали, я усматриваю Вашу преданность, очень ценю ее и, поверьте, понимаю, что Ваши доводы основываются на моих личных интересах, а также на том, что подобный случай никогда более не повторится. Но я не смогла бы найти себе оправдания, если бы была вынуждена оставить здесь своих детей».
Позднее она передаст Жаржэ ещё одно письмо, ставшее прощальным: «Прощайте; поскольку Вы решили ехать, я считаю, что лучше всего Вам это сделать быстрее. Боже мой, как я оплакиваю Вашу бедную жену! И как я буду счастлива, когда мы с нею вскоре соединимся. Никогда не отблагодарить мне Вас за все, что Вы сделали для нас. A dieu! Как ужасно это слово!..»
Генерал Жаржэ сумеет выехать в Турин; после Реставрации Людовик XVIII сделает его генерал-лейтенантом. А вот Тулана казнят. Лепитр же окажется сначала в тюрьме Сент-Пелажи, затем – в Консьержери, откуда, как известно, выход был один – через гильотину. Однако ему здорово повезло: суд вынесет заговорщику оправдательный приговор.
«После 31 мая Террор, господствовавший в Париже, проник и в тюрьму, – пишет А. Ламартин, – увеличив тяжесть заточения. Конвент, после издания декрета о предании суду королевы, разлучил ее с сыном. Этот приказ пожелали прочесть королевской семье. Ребенок бросился в объятья матери, умоляя ее не отдавать его в руки палачей. Королева отнесла сына на кровать и, встав между ним и муниципальными чиновниками, объявила им, что, прежде чем они коснутся его, им придется убить ее. Напрасно грозили использовать силу, если она будет противиться декрету: в течение двух часов она стояла на своем, пока наконец не сдалась, побежденная угрожающими жестами комиссаров. Королева по настоянию принцессы Елизаветы и дочери одела дофина и со слезами передала его тюремщикам. Сапожник Симон, долженствовавший заменить при дофине нежно любившую его мать, отнес его в комнату, где юному королю суждено было умереть. Ребенок два дня пролежал на полу, отказываясь принимать пищу. Цинизм и грубость Симона разрушали тело и развращали душу его питомца. Он обращался с ним так же, как обращаются с дикими зверенышами, отнятыми у матери и посаженными в клетку. Он наказывал его за чувствительность, награждал за дурные поступки, поощрял пороки, учил ребенка с неуважением относиться к памяти отца, слезам матери, набожности тетки, невинности сестры и преданности приверженцев. Он заставлял его петь непристойные песни и стоя прислуживать ему за столом. Однажды, во время одной из диких забав, он чуть не выбил глаз дофину, ударив его салфеткой по лицу. В другой раз он схватил кочергу и, подняв над головой ребенка, грозился убить его… Опьяняемый сознанием своей значимости и вином, этот человек не оказался способен на сострадание»{25}.
Ну и два слова о другом заговоре, вошедшем в историю Франции как «Заговор гвоздики» (Le Complot de l’Oeillet). Его организатором был некто барон Жан Батц.
Суть его такова. 28 августа 1793 года подкупленный полицейский, некто Мишонис, явился в камеру королевы в Консьержери в сопровождении молодого мужчины, в котором Мария-Антуанетта узнала шевалье де Ружвиля. Последний, поклонившись королеве, выронил на пол две красные гвоздики, украшавшие отвороты его сюртука. В цветах Мария-Антуанетта обнаружит записку: «У меня есть люди и деньги». Через пару дней эти же двое обсуждают с королевой подробности побега, который планировался в ночь со 2 на 3 сентября. В тайну посвящены семья консьержей Ришар и служанка Мари Арель. Ночью 2 сентября королева, покинув камеру, прошла две комнаты, после чего ей осталось пройти ещё одну и выйти во двор. На улице её ждал конный экипаж. Однако в последний момент дал слабину жандарм Жильбер, который, остановив королеву, отказался пропустить её дальше. Беглянке ничего не оставалось, как вернуться обратно в камеру. Мало того, малодушный Жильбер тут же подал рапорт своему командиру, подполковнику Дюменилю, после чего о случившемся стало известно Комитету общественной безопасности.
После провала заговора шевалье де Ружвиль скрылся, а Мишонис был схвачен и в июне 1794 года гильотинирован.
Во всём случившемся была немалая «заслуга» трусишки Лепитра.
Драматические события с королевской семьёй превратят хромоногого Лепитра в неврастеника и человека, склонного к запоям. На его глазах разыгрывалась трагедия, которую, если бы не его трусость, можно было бы избежать.
1 августа 1793 года по решению Конвента Мария-Антуанетта будет предана суду Революционного трибунала. На следующий день декрет объявили бывшей королеве. При зачитывании документа на лице вдовы Луи Капета не дрогнул ни один мускул. После гибели супруга и изоляции малолетнего дофина (за месяц до решения Конвента) эту женщину уже вряд ли что могло озадачить или испугать. Попрощавшись с дочерью, вдова поручила детей принцессе Елизавете. Потом взяла узел с платьями и отправилась вслед за муниципальными чиновниками. Проходя через калитку, королева сильно ушиблась головой о перекладину; из раны стала сочиться кровь. Кто-то из чиновников поинтересовался, не сильно ли та ударилась головой?
– Теперь мне вряд ли что может сделать больно…
Марию-Антуанетту поместят в Консьержери[7].
Всё это время королева даже не всплакнула. Она давно поняла, что земной крест, который ей выпало нести, следовало донести до конца, с гордо поднятой головой. Что эта женщина видела в этой жизни? Простые смертные считали, будто, кроме радостей, нарядов и великосветских балов, в жизни избалованной аристократки не было ничего. Но как они все ошибались! О, если бы люди знали, что таилось за ширмой кажущегося благополучия. Всё посыпалось уже в день свадьбы французского дофина и австрийской принцессы. После того как Реймсский архиепископ окропил брачное ложе святой водой, все удалились. Вместе со всеми вышел и… дофин. Первую брачную ночь Мария-Антуанетта провела в одиночестве! Слабая попытка овладеть новобрачной на следующую ночь окончилась для бестолкового мужа досадным поражением. Будущий Людовик XVI сделает в дневнике обычную для него запись: «Ничего». Так с этим «ничего» Мария-Антуанетта, даже став королевой, проживёт все дни супружеской жизни. Правда, ещё будут дети, но они – совсем другое…
Тюремный смотритель Ришар и его супруга встретили августейшую узницу с уважением и сочувствием. Мало того, первую ночь в тюрьме королева провела в комнате смотрителя. Зато в последующие до казни дни вдове пришлось довольствоваться камерой, разделённой пополам: по соседству разместились охранники-жандармы.
Такая учтивость будет стоить чете Ришаров свободы. Вскоре мужа и жену, а также двух чиновников (мы о них говорили), имевших доступ к королеве, арестуют, обвинив в заговоре. Удалят даже служанку. После этого содержание станет ещё хуже – узницу переведут в более тесную каморку, где надзор окажется намного строже.
22 вандемьера (13 октября 1793 года) вдову Капета вызвали в суд. Обвинения (главным обвинителем был некто Фукье-Тенвиль) оказались тяжёлыми – от заговора против Франции до написания контрреволюционных сочинений.
– Как вас зовут? – спросил подсудимую председатель суда.
– Мария-Антуанетта Лотарингско-Австрийская.
– Ваше звание?
– Вдова Людовика, бывшего короля Франции.
– Сколько вам лет?
– Тридцать семь…
Показания свидетелей были организованы исключительно для соблюдения протокола – как принято говорить, для проформы. Клеветники щеголяли перед членами суда красноречием. Депутат Конвента Лекуантр, канонир Руссильон, помощник городского прокурора Гебер, нотариус Силли, служащий министерства юстиции Терассон, бывший городской прокурор Манюэль… Был опрошен даже мэр Парижа г-н Жан-Сильван Байльи.
Два известных столичных адвоката старались как могли, не оставив от обвинений камня на камне. Однако даже защита подсудимой оказалась проформой. Судьба бывшей королевы была решена задолго до суда…
Всю ночь перед казнью палач Сансон провёл в здании Революционного трибунала. Он очень переживал, ибо происходящая суета в здании Трибунала сильно напоминала творящуюся нервозность перед казнью несчастного Людовика, которую палач не мог забыть до сих пор.
«Назавтра после казни, – пишет о Сансоне Лора Сюрвиль, – он велел отслужить за короля искупительную мессу, быть может, единственную, отслуженную в тот день в Париже!..»{26}
Когда закончилось заседание, он подошёл к председателю Трибунала Фукье-Тенвилю и спросил:
– Ваша честь, прошу предписания выдать вдове Капета хотя бы закрытый экипаж…
– Да ты, я вижу, совсем распоясался, Сансон! – вышел из себя Фукье-Тенвиль. – За такие слова тебя самого следует отправить на эшафот!
– Но ведь Луи Капета везли в экипаже, – не сдавался палач.
– Молчать!!! Не бывать тому, чтобы австрийскую потаскуху везли с королевскими почестями! Мы, конечно, со своей стороны поинтересуемся у членов Конвента относительно их мнения на этот счёт, но больше об этом ни слова! По крайней мере, в стенах Трибунала. Слышите, ни слова!
Депутаты Робеспьер и Колло от решения в вопросе об экипаже для бывшей королевы ловко увернулись, отдав это на откуп Фукье-Тенвилю. Поэтому вопрос отпал сам собою: Марию-Антуанетту ждала только старая «позорная телега» с ржавой соломой…
25 вандемьера II года Республики (16 октября 1793 года) в десять часов утра Сансон в сопровождении своего старшего сына прибыл в Консьержери. Тюрьма была оцеплена войсками и жандармами. Мария-Антуанетта ожидала палача в «камере смертников» (так называлась комната, откуда приговорённых к смерти отвозили на казнь), в окружении двух жандармов, смотрителя Боля и его дочери, заменившей королеве служанку. Войдя в комнату, отец и сын Сансоны сняли перед женщиной шляпы. Некоторые из присутствующих (за исключение солдат охраны) поклонились. Мария-Антуанетта была в белом платье; её плечи укрывала белая косынка, а голова покрыта чепчиком с чёрными лентами.
– Я готова, господа, – спокойно сказала она. – Мы можем отправляться в путь…
– Следует, мадам, кое-что сделать, – обратился к ней Сансон-старший, давая понять, что нужно остричь волосы.
– Хорошо ли? – спросила она палача, повернувшись к нему спиной.
Оказалось, что волосы на голове женщины уже были острижены. (Волосы по просьбе королевы остригла дочь смотрителя Боля.) В то же самое время Мария-Антуанетта протянула палачу руки, чтобы он их связал. От услуг подошедшего к ней аббата королева отказалась.
Пока, как заметил Сансон, вдова Капета держалась достаточно мужественно. Однако, когда вышли в тюремный двор, на лице женщины мелькнул ужас: она увидела «позорную телегу». Тем не менее вдове удалось быстро справиться с испугом; она смело встала на кем-то подставленный стул и оказалась в телеге. Когда рядом расположились Сансоны (отец и сын), кавалькада тронулась в путь.
Где-то на полпути толпы возмущённого народа вдруг перекрыли телеге дорогу, возникла давка. Испуганная лошадь, тревожно заржав, встала. Народ напирал. Отовсюду неслись гневные крики:
– La mort!!!
– Смерть австриячке!..
– Тиранку на гильотину!!!
Сансоны, пересев с козел, встали рядом с королевой. Какой-то офицер, пробившийся сквозь охрану к телеге, поднёс к её лицу здоровенный кулак, но был остановлен оказавшимся поблизости аббатом. Однако Марию-Антуанетту происходившее вокруг, казалось, совсем не трогало. Взирая с повозки с поистине королевским величием, идущая на смерть королева, хотела она этого или нет, своим взглядом успокаивала даже самых буйных. Отвага заставляет себя уважать. Через несколько минут путь был свободен; телега, жалобно заскрипев, тронулась. В следующий раз повозка остановилась недалеко от эшафота – аккурат напротив главной аллеи, ведущей к Тюильри. И тут королева не выдержит. Внезапно побледнев, она как-то жалко всхлипнула, поглядела в сторону дворца и прошептала:
– Дочь моя! Дети мои!..
Чем ближе повозка приближалась к площади Революции, тем спокойнее становилась королева. Вот и эшафот. Телега, дёрнувшись, остановилась. Замешкавшись на секунду, королева вдруг услышала за спиной чей-то голос:
– Смелее!
Вздрогнув от неожиданности, Мария-Антуанетта обернулась к Сансону и в его сострадательном взгляде всё увидела: палач хотел ободрить приговорённую к смерти.
– Благодарю вас, сударь…
Палач помог сойти ей с повозки; даже попытался взять под руку, но та отказалась:
– Не нужно. Слава Богу, у меня ещё есть силы дойти самой…
Мария-Антуанетта взошла на эшафот с тем же величием, с каким, будучи королевой Франции, ходила по дворцовым коридорам и паркам Версаля. Гневные крики толпы в тот момент были для неё не более чем бессильные волны в глазах командира судна на капитанском мостике. Волны приходят и уходят – королева остаётся в веках!
Появление Марии-Антуанетты у платформы гильотины привело толпу в некоторое смущение; крики и гвалт стали постепенно стихать. Глаза каждого были устремлены на лицо жертвы – спокойное и торжественное. Никаких слёз и стенаний. Они ещё не поняли, что эта женщина уже больше находилась там, нежели здесь, рядом с ними. И этот миг – последний в её земной жизни – следовало прожить достойно.
Когда помощники палача стали привязывать жертву к доске гильотины, из груди королевы вырвались предсмертные слова:
– Прощайте, дети. Я ухожу к вашему отцу…
Доска опрокинулась. Через мгновение просвистел нож гильотины…
Из толпы кто-то выкрикнул:
– Да здравствует Республика!
Сансон не стал прикасаться к отрубленной голове. Это сделал один из его помощников, который, пронеся её по краю эшафота, показал черни. Кто-то упал в обморок. Вид подрагивающих ресниц на мёртвом лице оказался не для слабонервных. Приоткрытые глаза, зашептались в толпе, плохая примета…
Примета, и правда, окажется плохой. После Марии-Антуанетты на эшафот прошествуют те, кто её туда отправлял. Один за другим. Как на параде абсурда. Впрочем, разве Французская революция не показала себя настоящим абсурдом?..
Г-н Лепитр на казни той, которую не спас, конечно же, не присутствовал. Да и вообще, после случившегося виновник провала сильно запил, решив поставить на себе крест. Но потом одумался, заедая горе непомерным количеством сладкого (особенно ему нравилась халва). Всё это привело к тому, что Лепитр с годами сильно погрузнел, а к хромоте присоединилась заметная косолапость.
Именно таким его и запомнит юный Оноре де Бальзак – грузного и косолапого. То были времена, когда старое директорское прозвище «клоун» уже никто не вспоминал: теперь г-н Лепитр был для воспитанников просто «жуком».
Особенностью «жука» была какая-то болезненная страсть к Бурбонам. Именно поэтому имперскую власть Бонапарта директор воспринимал с равнодушием алкоголика, страдавшего больными почками. Тем не менее он продолжал поглощать горькую, зная, что содержимое бутылки для него не просто яд, но яд смертельный. Всё это выглядело как целенаправленное самоубийство.
Поколение, выросшее под гром барабанов и шелест знамён Наполеона Бонапарта, над которым витали золотые императорские пчёлы, реставрацию Бурбонов восприняло с недоумением. За два десятка лет о Бурбонах успели забыть. Не сохранилась даже могила давным-давно казнённого Людовика XVI, чьё тело было сброшено в общую яму для обезглавленных на гильотине. Наполеон навёл в стране порядок, создал Империю, а жаков и жанов, которые разнесли Бастилию буквально по кирпичику, одел в военные мундиры и отправил покорять мир. Сначала, укрепив южные границы, предпринял поход в Италию; потом ещё дальше – в Египет и Сирию. Вернувшись домой, он принялся за пруссаков, австрийцев и тех, кто «имел что-то против».
И как-то незаметно вся Европа оказалась Европой французской – с назначенными Бонапартом королями, правителями, наместниками. Пока дело продвигалось успешно, пруссаки с австрияками подобострастно кивали, делая хорошую мину при плохой игре. А с ними – и все остальные: швейцарцы, голландцы и прочие поляки.
А потом… Потом была Россия. С русскими у Бонапарта вышла осечка. Боровшийся все годы правления с «британскими плутами», Наполеон почему-то двинул свою армию в противоположную сторону, надеясь проскользнуть сквозь русские степи в Индию. Недооценка армии царя Александра обернулась катастрофой. Введя на территорию России более полумиллиона солдат, Наполеон сбежал оттуда, сумев спасти всего лишь тридцать тысяч. Отныне о прежних победах оставалось только вспоминать. Тотальная мобилизация безусых юнцов ситуацию не изменила.
В марте 1814 года союзные армии вступают в Париж. Впереди на белом коне – русский император Александр I; рядом – прусский король и князь Шварценберг, представляющий империю Габсбургов. Позади – пышная свита из генералов, за которыми стройные ряды войск. Русского царя – опять же на белом коне – встречает… Талейран. Париж пал к ногам победителей. А вслед за союзниками вернулись и Бурбоны.
Герцогиня д’Абрантес: «Достоверно то, что союзники не давали никому ни малейшего обещания… Император Александр благосклонно думал о Бурбонах… но чтобы кто-нибудь знал его мнение, я не думаю. В пользу Бурбонов могли растолковать то обстоятельство, что русский император избрал для своего пребывания дом Талейрана, известного врага Наполеона… Его встретил г-н Талейран, вместе с аббатом Прадтом и бароном Луи… В тот же день архиеписком Мехельнский рассказывал всем, что король Прусский улыбнулся ему, что князь Шварценберг поклонился ему, а г-н Нессельроде сказал несколько слов…»{27}
Французам повезло: царь Александр I, разбивший Наполеона, оказался отнюдь не «варваром» и уж тем более не дикарём, как об этом трещали все газеты. Венский конгресс, созванный по его инициативе, всего лишь перекраивал Европу, но никак не расправлялся с ней. Александр не мстил – он всего лишь изменял конструкцию под названием Pax Napoleonica на нечто новое, во главе которого отныне будет двуглавый орёл. Да, французы были побеждены, но не унижены; изгнаны отовсюду, но при этом их границы не скукоживались до размеров грецкого ореха, оставаясь в своих исторических пределах.
К счастью для Франции, царь Александр оказался либералом. В отличие от прочих монархов из числа союзников. Не будь русского императора, от Парижа не осталось бы камня на камне.
Русская армия решила вопрос с больными почками директора Лепитра решительно и одним махом: «узурпатор» был отправлен в ссылку, а на Троне вновь воцарились Бурбоны – на сей раз Людовик XVIII[8]. Г-н Лепитр оказался так взволновал случившимся, что не придумал ничего лучшего, как прилюдно хвастать своими недостатками, уверяя всяк и каждого, что у него много общего с нынешним королём – например, ожирение и косолапость. Его собеседники, конечно, соглашались и даже кивали головами, но, придя домой, громко смеялись, крутя пальцем у виска. Впрочем, мнение сослуживцев и друзей тщеславного директора отнюдь не волновало. Ведь счастье как золото: оно слепит глаза.
Но однажды солнце померкло. В марте 1815-го с Эльбы бежал Наполеон. Явился, называется, не запылился. (Именно в те дни мсье Лепитр в первый раз недоглядел, как из бутылочки с шардоне выпрыгнул надоедливый тиран, принявшийся его щекотать.)
Только это не всё. В жизни г-на Лепитра «узурпатор» Бонапарт не только выпустил джинна из бутылки – он сломал всю его личную жизнь! Дело в том, что вдруг взбунтовалась госпожа Лепитр, неожиданно заделавшись ярой бонапартисткой. Июньские дни 1815 года раскололи семью на два непримиримых лагеря: Ватерлоо воодушевило директора и окончательно разбило сердце его супруги.
– Успокойся, дорогая, – приговаривал, гладя волосы жены, мсье Лепитр. – Ничего не поделать, мы должны смириться с поражением нашего императора…
– Ни за что! – кричала в ответ благоверная, не веря притворным словам супруга, который, как она знала, всегда был роялистом. – Если британцы посмеют пойти на Париж, мы выйдем на баррикады!
– О, нет! – вскричал испуганный муж. – Они убьют тебя, дорогая…
– Да хоть бы и так! Умереть на баррикадах – это ли не счастье для патриота Отечества?! Vivat l’empereur!..
– Тс-с… – выпучил глаза Лепитр. – Ты погубишь себя и нас. Тс-с, прошу тебя…
Но увещевания мужа ни к чему не привели. Едва на окраинах столицы послышался цокот вражеской конницы, парижане потянулись на баррикады. Многие к судьбе Бонапарта были безразличны, но им не нравилось другое – наступавший на родную столицу некий сброд, возглавляемый ненавистным герцогом Веллингтоном, извечным недругом французов. «Все на баррикады!» – клич не только рабочих окраин, но и зажиточного центра. Да, парижане от войны сильно устали, но в данном случае оказались непреклонны: если не было под рукой винтовки, брали вилы и выходили навстречу врагу. А уж проткнуть пузо надменному британцу – это ли не потеха для истинного француза?! Вперёд, на красногрудых! За непобедимого Императора! Vivat l’empereur!.. Vivat l’empereur!.. Vivat l’empereur!..
Правда, так рассуждали не все. Иного мнения был, к примеру, всё тот же г-н Лепитр, решивший, что, пока другие будут проливать кровь, ему удастся по-тихому где-нибудь отлежаться. Ну а потом, если, конечно, получится, выставить себя героем… Но для этого, понимал он, следовало кое-чем пожертвовать – вернее, кое-кем. В своём письме министру образования директор Лепитр напишет, что все бонапартисты пансиона изгнаны, а вместе с ними и… мятежная г-жа Лепитр.
…Король Луи XVIII оказался тщеславен и глуп. Ему вдруг показалось, что внезапно свалившаяся на чело бесхозная французская корона будет сидеть на макушке вплоть до скончания века. И от привалившего счастья едва не лишился рассудка.
Приближение Талейрана явилось самой большой ошибкой нового Бурбона.
«Самым ярким представителем недовольных, порожденных императорским режимом, был Талейран, – пишет Луи Адольф Тьер[9]. – Он являлся предметом надежд одних и страхов других, и, хотя был готов вскоре сыграть важную роль и сыграл ее, все намного преувеличивали возможности Талейрана и его решимость. Если бы Наполеон был окончательно побежден, а неприятель находился в Париже, Талейран, бесспорно, мог бы содействовать учреждению нового правительства на обломках правительства поверженного, но он не стал бы проявлять инициативу, пока над дворцом Тюильри развевалось трехцветное знамя: то был ложный страх полиции и иллюзия роялистских салонов»{28}.
Конечно, этот циничный интриган всегда был тайным союзником Людовика XVI, но как кончил несчастный Луи? Призвать к Трону того, кто 18 брюмера содействовал государственному перевороту и возвышению Бонапарта… Того, кто напрямую оказался причастен к казни герцога Энгиенского и свержению испанских Бурбонов… Принятие Хартии и конституции монархии – все это можно было провести и без хромоногого хамелеона. Впрочем, скудоумие когда-то сгубило и его брата, бедного Луи XVI.
Как и казненный король, его последователь совершает одну ошибку за другой, главная из которых – потеря памяти. Граф, долгое время находившийся в изгнании и неожиданно ставший монархом, разучился понимать свой народ. Такие значимые слова, как Свобода, Равенство и Братство, рожденные Великой революцией, как оказалось, для Людовика XVIII ничего не значили. Он позабыл о них. Впрочем, эти слова для монарха никогда ничего не значили. Но только не для его подданных, для которых три знаковых слова являлись смыслом жизни! Два десятка лет Свободы, и Равенства, и Братства (пусть даже в Империи – но в наполеоновской!) изменили людей: после многих лет этого самого равенства французов трудно было вновь сделать вассалами.
Но Луи-Огурец (именно так за тучное тело и одутловатое лицо прозвали нового короля в народе) вновь и вновь наступает на грабли: новоявленный монарх вознамерился повернуть время вспять – туда, ко временам казненного брата. Пусть не абсолютная монархия – но монархия же! Тем более что рядом находилась неплохая советчица – герцогиня Ангулемская, дочь казненного Людовика XVI. Лучше всех о ней высказался Антуан Тибодо: «Ангел явился – сухая, надменная, с хриплым и угрожающим голосом, с изъязвленной душой, с ожесточившимся сердцем, с горящими глазами, с факелом раздора в одной руке и мечом отмщения в другой»{29}.
Постепенно, шаг за шагом ключевые должности при Людовике занимаются роялистами-эмигрантами – теми самыми, кто воевал против своего народа не год и не два – два десятка лет! Овеянное славой и омытое кровью трехцветное знамя Великой революции отныне белое, а когда-то трехцветная кокарда – тоже белая, да ещё и с лилиями Бурбонов…
Наплевав на права простых граждан, король идет дальше, решив сэкономить на военных. И это явилось ещё одной серьёзной ошибкой Людовика. Никто, начиная со времен римских кесарей, не делал этого, не получив обратно в лоб. Армия пренебрежения не прощает! Даже не первой свежести гризетка – и та требует если не уважения, то хотя бы человеческого к себе отношения. Несмотря на то что военным министром был утвержден прославленный наполеоновский маршал Сульт, пытавшийся сохранить своих боевых соратников на прежних должностях, многие офицеры все-таки были уволены. На их место заступили выскочки-эмигранты, по сути, вчерашние враги. О былых подвигах солдат Великой армии Наполеона новички предпочитают не вспоминать, относясь к ветеранам с подчеркнутым пренебрежением.
Луи XVIII вдвое уменьшил военным жалованье. Тем более что имелся один чрезвычайно важный нюанс: то были офицеры и генералы не Луи-Огурца, а все как один – солдаты своего Императора, Наполеона Бонапарта! Выпестовавшего их и любившего, как своих единокровных братьев. То была наполеоновская каста, победоносно промаршировавшая от Парижа до Москвы. Правда, потом пришлось возвращаться несолоно хлебавши, но не в этом дело. Тогда, при Наполеоне, они все чувствовали себя Единым Кулаком, способным покорить мир. И вдруг какой-то Огурец…
Луи Адольф Тьер: «Решение участи офицеров представляло… большие трудности. Согласно предложенной организации без должностей должны были остаться 30 тысяч офицеров. В их отношении, как и в отношении Императорской гвардии, было принято половинчатое решение: тех, кто не мог быть включен в предложенную систему, оставляли на счету полков с уплатой половины жалованья и правом на две трети освобождавшихся мест. Это значило одновременно создать весьма опасный класс недовольных и запретить почти всякое продвижение оставшимся кадровым офицерам»{30}.
Армия возроптала. А ведь ещё были сотни и тысячи служащих всякого рода – таможенники, сборщики податей, офицеры полиции, которые были вместе с армией в её нелёгких походах, и также погибавших, а теперь умиравших от голода в Париже вместе с семьями.
И эти люди, как пишет Тьер, также «присоединялись к группам недовольных офицеров и добавляли к их веселью сокрушительное зрелище собственной нищеты»{31}.
Луишка слаб, он не способен на серьезную военную кампанию; любая заварушка для этого «бочонка» может уложить его в обморок. За что воевали, братья?! За кого умирали в русских снегах?! Даешь обратно Бонапарта! «Vivat l’empereur!»… Долой Бурбонов!
Однако крикунов осаживают. Сейчас не то время, консулы – в прошлом. Бонапарт на Эльбе. Вот вернется – кричите…
Бонапарт вернулся.
1 марта 1815 года Наполеон высаживается в Гольф-Жуане, близ Антиба. Свергнутый император жадно вдыхает воздух Франции, встретившей его весенним ароматом.
Бурбоны при усердии Талейрана Бонапарта ловко провели. Поэтому он был уверен, что французы одумаются. Только в этот раз им не придется брать штурмом Бастилию – сейчас достаточно в сторону Бурбонов крикнуть «ату!». Но то – Бурбоны. А как быть с теми, с кем воевал, побеждал и проливал кровь в боях за Францию? Ведь первым сейчас на его пути должен был встать старый соратник Массена! Именно маршал Массена военным министром Сультом был поставлен на командование 8-м военным округом (Марсель). И старый вояка Массена Сульта не подвел, приказав генералу Миоллису перехватить беглеца на южном побережье во что бы то ни стало.
Дивизионный генерал Секстус-Александр-Франсуа Миоллис был тертым калачом. Именно он, будучи в 1809 году командиром 30-й дивизии, расквартированной в Риме, по приказу Наполеона арестовывал папу Пия VII, и он же эвакуировал Париж при приближении изменника Мюрата в окружении австрийцев. Так что этот битый жизнью наполеоновский генерал умел принимать решения быстро и пунктуально. Выйдя наперерез Бонапарту во главе двух пехотных полков, уже через день он встанет под знамена свергнутого императора.
Между тем немногочисленная армия Наполеона, скрытно перейдя Альпийское предгорье, уже 7 марта выходит к Греноблю. Когда об этом узнали в Париже, там началась паника. Военный министр Сульт был срочно отправлен в отставку; на его место король назначил Анри Кларка, герцога Фельтрского. (Но что это могло изменить?)
При подходе к городу, у входа в ущелье близ деревни Лаффре, навстречу отряду выдвинулись королевские части под командованием генерала Маршана. Несмотря на то что под ружьем у Маршана находилось шесть полков (три пехотных, гусарский, саперный и артиллерийский), в ущелье он отправил роту саперов и батальон 5-го линейного полка (те должны были взорвать мост). Командовал ими некто капитан Рандон. Но на полпути отряд Рандона сталкивается с авангардом Наполеона.
Не желавший начинать братоубийственную бойню, Бонапарт предпринимает следующее. Он приказывает своим солдатам переложить ружья из правой руки в левую и опустить. Остановив жестом руки отряд, Наполеон дальше идёт один, навстречу направленным на него ружьям. Подойдя к солдатам 5-го линейного полка на расстояние пистолетного выстрела, он распахивает на груди сюртук и громко кричит:
– Солдаты пятого полка! Надеюсь, вы узнали своего Императора?! Неужели среди вас есть желающие выстрелить мне в грудь?.. Я в вашей власти… Если захотите, вы можете застрелить вашего Императора прямо сейчас!..
И тут послышался какой-то гул. Становясь все громче и громче, с какого-то мгновения этот гул стал различимым: французские солдаты радостно приветствовали того, кому привыкли кричать только одно:
– Vivat l’empereur!.. Vivat l’empereur!.. Vivat l’empereur!..
После того как действия 5-го полка поддержали солдаты 7-го линейного (командир – генерал Лабедуайер), к концу дня чаша весов оказалась на стороне бонапартистов. Мятежные полки покинули Гренобль, а с ними и вооруженные чем попало горожане и местные крестьяне. Когда на следующий день в город входит Наполеон, людская толпа несет его на руках.
– Vivat l’empereur!.. Vivat l’empereur!.. Vivat l’empereur!..
10 марта вслед за Греноблем пал Лион. Страна напоминала разворошенный муравейник. Все сновали и суетились, не зная радоваться или спасаться бегством. Бурбоны уже успели надоесть. Но никто не хотел опять воевать. А возвращение Наполеона, понимал каждый, в любом случае означало войну…
И тогда власти идут на беспрецедентный шаг: навстречу мятежной наполеоновской армии выдвигается «храбрейший из храбрых» («le Brave des Braves») – маршал Ней. Но Ней уже не тот Ней, который вел свой корпус по скрипучему льду Днепра. Ней обещал Бурбонам доставить беглеца в Париж… в железной клетке.
Однако мало кто знал, что Ней колебался. Этот маршал был отчаянным и храбрым, но не подлым и забывчивым. Ней по-прежнему оставался маршалом Императора. И об этом знал не только он сам, но и Бонапарт. Ничего удивительного, что уже на марше Нею доставили коротенькую записку «от Самого»: «Ней! Идите мне навстречу в Шалон. Я Вас приму так же, как на другой день после битвы под Москвой».
И Ней все понял. Вскочив на коня, он выхватил из ножен саблю и воскликнул:
– Мои офицеры и солдаты! Дело Бурбонов дохлое! Оно погибло навсегда!..
Армия Нея в полном составе перешла на сторону Наполеона. Людовик XVIII бежал в Гент. Теперь можно было идти на Париж…
20 марта, в девять вечера, Император вернулся в Тюильри.
А. Тьер: «Так, за двадцать дней, с 1 по 20 марта, свершилось необычайное пророчество о том, что императорский орел полетит без остановок с колокольни на колокольню до самых башен Нотр-Дама. Не было в судьбе Наполеона события более необыкновенного и с виду более необъяснимого… Ведь подлинными причинами необычайной революции, помимо ошибок Бурбонов, была проницательность Наполеона, прочитавшего сердце оскорбленной эмигрантами Франции, и его отвага, когда он привлек на свою сторону первый же колебавшийся между долгом и чувствами батальон»{32}.
Как вспоминал на острове Святой Елены сам Наполеон, Париж встретил изгнанника овациями: «…Отбоя не было от тысяч офицеров и граждан столицы, пытавшихся заключить его в объятия; толпы восторженных людей понесли его на плечах во дворец среди сильнейшего хаоса, похожего на тот, что охватывает неуправляемую толпу, готовую разорвать человека на части»{33}.
А в Тюильри стояла непривычная суета: это лакеи спешно заменяли напольные ковры с королевскими лилиями на другие – старые, на которых красовались императорские золотые пчёлы. Пчёлы, пчёлы, пчёлы…
Была ранняя весна. Париж гудел, как растревоженный после зимней спячки пчелиный улей…
Малыш Оноре, мы о тебе вновь едва не позабыли.
Так вот, в те исторические дни юный Бальзак вместе со сверстниками восторженно кричал:
– Vivat l’empereur! Vivat!..
Ему тогда казалось, что большей радости, чем возвращение Наполеона, не может быть на свете. Для простых французов очередное появление Бонапарта явилось некой реинкарнацией былых времён. Именно поэтому многие восприняли это как личный праздник. Однако, как заметил Оноре (или это ему только показалось?), далеко не все разделяли с подростком его восторженные чувства.
Теперь о пансионе Лепитра.
Вообще, все пансионы в своей жизни Оноре будет вспоминать с содроганием. Впрочем, иначе и быть не могло. На рассвете учеников будили так называемые зануды – учителя интерната. После подъёма – утренний туалет, с чисткой зубов и плесканием в лицо холодной водой; скудный завтрак… Занятия, которые, кроме скуки, навевали тоску по дому и семье. Мечталось дотянуть до спасительной перемены, во время которой иногда удавалось чего-нибудь перехватить, если, конечно, имелись карманные деньги. Хотя «перехватить» громко сказано: консьерж Мишель торговал таким отвратительным кофе, что… Но ведь другого-то не было. И так изо дня в день.
Трудно представить, как одинок был Оноре в этой клерикальной школе. Брошенный собственной матерью мальчонка оказался наедине с самим собой и с обстоятельствами. А обстоятельства были таковы, что плата за пребывание в школе Лепитра, включая обучение, питание и одежду, была относительно скромной. Но беда заключалась в другом: руководство школой сильно «экономило» на учениках – да-да, дирекция беззастенчиво воровала! Ученик мог выжить, если из дома присылались деньги и тёплые вещи, например шерстяные носки или кожаные перчатки. О, как у него в зимние вечера мёрзли ноги! Порой казалось, что эти ледяные ноги невозможно согреть. Что уж говорить о руках! Вечно красные и холодные, они не могли согреться, даже когда на них приходилось долго дуть. Но горячего воздуха из детского тельца явно не хватало.
Перчатки… Кожаные добротные перчатки могли позволить себе лишь маменькины сынки, коих в школе было немало. Но для таких сорванцов, как Оноре, не замечать мук холода считалось неким шиком, отличавшим будущего мужчину от хлюпика.
Несколько месяцев учёбы в пансионе Лепитра оставили в душе Бальзака не менее глубокое впечатление, чем пребывание в Вандомском коллеже. Расставание с Лепитром прошло без пышных проводов.
Хотя запомнилось многое. Например, благодаря пройдохе-консьержу Мишелю он впервые испробовал кофе – напиток, который в последующей жизни заменит ему вино, пиво, чай, а также сидр и всё остальное, вместе взятое. (И это при том, что кофе от Мишеля все единогласно называли «отвратительным пойлом».) Ведь «Бальзак и кофе – это некий букет единого целого», – скажет один из его современников.
И всё благодаря некоему Мишелю. Как пишет А. Моруа, этот тип был «сущим контрабандистом», который «…“смотрел сквозь пальцы на самовольные отлучки и поздние возвращения воспитанников и снабжал их запретными книгами”; у него всегда можно было выпить кофе с молоком – такой аристократический завтрак был доступен лишь немногим, ибо при Наполеоне колониальные товары стоили очень дорого. Оноре, вечно сидевший без гроша, нередко бывал в долгу у этого человека»{34}.
Кофе заменял бедному Оноре все прелести жизни, в частности телесные удовольствия в парижских борделях. Придёт время, успокаивал он себя, и его будут добиваться лучшие женщины Парижа. Да, такое время непременно придёт. И Его будут добиваться лучшие из лучших! Но тогда, удручённый рассказами своих товарищей о любовных (зачастую – вымышленных) подвигах, с этими мыслями он жил и засыпал.
Кружева… Кружева…
«Сто дней» реинкарнации Наполеона Бонапарта закончились разгромом французской армии под Ватерлоо и высылкой «узурпатора» на затерянный в Атлантике остров Святой Елены. Политические иллюзии рассеялись, и к власти вновь вернулся Луи-Огурец.
На сей раз всё оказалось серьёзнее. Бурбоны не церемонились. Из страны изгоняли бонапартистов, «цареубийц», республиканцев и прочих неугодных, одновременно конфискуя их имущество. Особо нещадно расправлялись с наполеоновскими генералами и маршалами. Когда казнили маршала Нея, стало понятно: государственный террор достиг своего апогея.
После падения Парижа в 1814 году именно маршал Ней уговорил императора отречься от престола. Бурбоны доверили ему стать членом военного совета; тогда же маршал возглавил королевскую 6-ю дивизию. Однако по возвращении Наполеона с острова Эльбы, как мы помним, перешёл на его сторону.
А потом произошла развязка. К середине 1815 года Мишель Ней командовал 1-м и 2-м корпусами. В сражении при Ватерлоо он руководил центром французских войск, до последнего сдерживая натиск неприятеля (во время боя под ним было убито пять коней!). Когда всё закончилось, Ней был арестован и привезён в Париж. Людовик приказал судить опального маршала. Военный суд отказался участвовать в этом; зато из ста шестидесяти пэров сто тридцать девять голосов было подано за смертную казнь без права обжалования приговора.
Маршала Нея казнят 7 декабря 1815 года близ Парижской обсерватории. Последнее «пли!» Ней скомандовал сам. По иронии судьбы, легендарного наполеоновского военачальника расстреляли французские солдаты…
Утраченные иллюзии – на самом деле не только название бальзаковского романа. Иллюзии – это то, чего наш герой лишился задолго до лишения своей мужской девственности. Позже Бальзак будет вспоминать, когда в его добром сердце впервые появилось зерно цинизма. И сколько бы ни думал, мысли всегда наталкивались на случай, произошедший с ним в доме родителей.
Обожаемая им сестра Лора (самый близкий Оноре человек) однажды с таинственным видом передала ему некое семечко, не преминув шепнуть, что оно – «драгоценнейшее семя кактуса из Святой Земли».
– Надеюсь, – с придыханием говорила Лора, – тебе удастся не только его сохранить, но и вырастить из него бесценный кактус!..
Оноре пообещал, что непременно это сделает. Он нашёл горшок, насыпал туда земли, прикопал семечко, полил водой и… стал терпеливо ждать. Через какое-то время появился росток, который, по мере того как его старательно поливал хозяин, быстро увеличивался. Оноре был чрезвычайно рад, что его старания не пропадали даром. Однако со временем растение дало плод, скоро превратившийся… в тыкву. Лора громко смеялась. Ну а Оноре…
С тех пор он навсегда лишился всяческих иллюзий.
Осенью 1815 года Бернар-Франсуа забирает сына из пансиона Лепитра и отправляет для продолжения учёбы к своему старому знакомому г-ну Ганзеру (г-н Бёзлен к тому времени скончался). К слову, курс риторики Оноре по-прежнему слушает в королевском коллеже Карла Великого. Однако учился отпрыск славного рода Бальзаков крайне посредственно, что сильно уязвляло матушку.
Узнав, что он всего лишь тридцать второй в латинском переводе, Анна-Шарлотта пишет ему довольно гневное письмо: «Мой дорогой Оноре, не могу подобрать выражений достаточно сильных, чтобы описать боль, которую ты мне причинил, ты делаешь меня по-настоящему несчастной, тогда как, отдавая всю себя моим детям, я должна была бы видеть в них мое счастье… Ты прекрасно понимаешь, что тридцать второй ученик не может принимать участие в празднике, посвященном Карлу Великому, человеку вдумчивому и трудолюбивому. Прощайте, все мои радости, ведь я столь часто лишена возможности собрать вокруг себя детей, я так счастлива, когда они рядом, но мой сын совершает преступление против сыновней любви, так как ставит себя в положение, когда не может прийти домой и обнять свою мать. Я должна была послать за тобой в восемь утра, чтобы мы все вместе позавтракали и пообедали, хорошенько поболтали. Но отсутствие прилежания, легкомыслие, ошибки заставляют меня оставить тебя в пансионе»{35}.
В тот раз его не пригласили на семейные посиделки. Прощай, вкусный домашний обед…
В ноябре 1816 года жизнь Оноре кардинально меняется: он становится студентом юридического факультета Сорбонны. Тогда же посещает Коллеж де Франс, заслушиваясь лекциями известных профессоров. Одновременно с учёбой юный студент подрабатывает в адвокатской конторе.
Лора Сюрвиль: «В этот период своей жизни брат был очень занят, ибо помимо посещения лекций и работы, поручаемой патронами, ему приходилось еще готовиться к очередным экзаменам; но деятельная его натура, его память и способности были таковы, что он еще урывал время, чтобы закончить вечер за карточным столом у нашей бабушки, и эта добрая и славная женщина, по неосмотрительности ли или по нарочитой рассеянности, позволяла ему легко выигрывать в вист или бостон деньги, нужные для приобретения книг. В память о ней он навсегда сохранил любовь к этим играм; он вспоминал ее словечки, а когда однажды воскресил в памяти один ее жест, это стало для него радостью, вырванной у могилы!»{36}
О том, что деньги зарабатываются тяжёлым трудом, первой ему заявила уже стареющая матушка (ей к тому времени стукнуло тридцать восемь):
– Работать, работать и ещё раз – работать!
– Да работа клерком – это же просто рабство! – не выдержал однажды Оноре.
– Что?! – всхлипнула maman. – Работа, милый мой, это прежде всего долг перед семьёй, да и перед всеми нами… В конце концов, Оноре, ты должен зарабатывать деньги! – назвала мадам Бальзак вещи своими именами. – Деньги, дорогой, ох как пригодятся, когда у тебя появятся собственные дети. Без них – никуда…
– Да, но…
– Никаких «но»! – окончательно вышла из себя г-жа Бальзак. – Чтобы чего-то достичь в жизни, ты должен вкалывать как вол!
Вкалывать в жалкой лачуге стряпчего Оноре не хотел. Тем более «как вол». Он желал лишь одного – свободы. И от правоведческой неволи, и от матушки, и от… И от всего.
Маменькины доводы оказались убедительнее. В результате студент стал младшим клерком в конторе поверенного мсье де Мервиля[10]. Жан-Батист Гийонне-Мервиль, чья контора располагалась на улице Кокийер, 42, был другом отца Оноре, поэтому с устройством юноши проблем не возникло. Зато сама работа давалась нелегко. Тем не менее первое, с чем пришлось столкнуться юному клерку, это нехватка базовых знаний по праву.
«Хотя он посещал две самые лучшие французские школы – Вандомский коллеж и лицей Карла Великого, – он вышел оттуда со всеми признаками самоучки – пишет Г. Робб. – Даже романы, написанные тридцать лет спустя, изобилующие громкими фамилиями и учеными аллюзиями, выдают пристрастие к беспорядочному чтению. Атмосферу книг он часто ценил больше содержания. Привычка Бальзака накапливать знания явно вступала в противоречие с заведениями, где учили по готовым лекалам»{37}.
Маячившая на горизонте свобода на деле обернулась удавкой хлопот и обязанностей. Он вставал с первыми лучами солнца; в пять утра уже выходил на работу. И, ёжась от холода, с большой неохотой брёл туда, где его ждала душная комнатушка, пропахшая бумагой и какой-то кислятиной, с грязными окнами и ободранными обоями. Здесь Оноре встречал таких же несчастных и сонных младших клерков.
Потом эта комнатушка будет не раз появляться в его «человеческих комедиях».
Грэм Робб: «Она [комната. – В. С.] появляется… как своего рода батискаф, который каждый день опускался в мутнейшие воды социального моря. За иллюминаторами проплывали мрачные создания, не описанные нигде, кроме скучных судебных документов»{38}.
Да и честный стряпчий, каким в глазах Бальзака являлся Гийонне де Мервиль, вернётся в «Полковнике Шабере» («Le Colonel Chabert») в образе адвоката Дервиля. Именно там, в конторе стряпчего Мервиля, одном «из самых отвратительных заведений на службе общества», молодой Бальзак постигал азы изнанки жизни.
«Роясь в делах, – замечает А. Труайя, – Бальзак знакомится с тонкостями судебной процедуры, от него не ускользают ни комические, ни горестные детали судеб неизвестных ему людей, перед глазами разворачивается роман с множеством действующих лиц, которые дышат и страдают. Никогда прежде не становился он свидетелем столь неприкрытой жизни. Иногда кажется, что сквозь выведенные каллиграфическим почерком строки доносится интимный запах каждой семьи, преследует его неотступно, словно приговоренного наблюдать за чужим существованием, будто он одновременно еще и эти люди и у него нет больше собственной судьбы. Целый мир набрасывался на него, словно кошмар»{39}.
К весне 1818 года первая ступень в его юридической карьере в качестве младшего клерка будет пройдена, и в апреле поднаторевшего в праве Оноре устраивают в адвокатскую контору друга семьи (а по совместительству – соседа по квартире) Виктора Пассе[11]. Здесь он окончательно научится оформлять и расторгать контракты, составлять завещания и виртуозно обходить «подводные камни» брачных контрактов.
В своём «Нотариусе» Бальзак писал, что после такой стажировки «…молодому человеку трудно сохранить чистоту: он знает изнанку каждого крупного состояния, видит ужасную борьбу наследников над еще неостывшими трупами, человеческое сердце, сжатое Уголовным кодексом»{40}.
Рано или поздно всё заканчивается. 4 января 1819 года Оноре де Бальзак становится наконец бакалавром права. Цель достигнута: он дипломированный юрист. И теперь, как полагала матушка, деньги сами посыпятся в карман его чёрного сюртука.
Только сам Оноре так не считал. Став юристом, он сделал для себя очевидный вывод: заниматься правом никогда не будет! Юристы, доктора и священники ведь не просто так носят чёрные одежды – это цвет траура. Так пусть это будет траур по его утраченным иллюзиям. С него хватит! С иллюзиями покончено раз и навсегда. Он станет… писателем!
Этот, без преувеличения, выбор по призванию Оноре сделал исключительно сам: с дипломом бакалавра в кармане он… отказался от юридической практики.
Позже в одном из писем Лоре Бальзак напишет: «Если я поступлю на должность, я пропал. Я стану приказчиком, машиной, цирковой лошадкой, которая делает свои тридцать-сорок кругов по манежу, пьет, жрет и спит в установленные часы; я стану самым заурядным человеком. И это называют жизнью – это вращение, подобное вращению жернова, это вечное возвращение вечно одинаковых предметов»{41}.
Разве человек с такими мыслями смог бы долго продержаться в конторе нотариуса или адвоката? Конечно, нет. Решено, он будет только писателем! Именно об этом новоиспеченный юрист и заявил своему отцу. Как ни странно, юноша встретил со стороны батюшки полное понимание.
То была первая победа юного Бальзака: он окончательно определился с жизненным направлением.
Мысль об отдельном жилье возникла у Оноре не на пустом месте. Ещё в 1817 году Французская Академия объявила литературный конкурс, в котором мог принять участие любой желающий. Вот он, шанс! И 4 августа 1819 года Оноре начинает жить самостоятельной жизнью в крохотной мансарде на улице Ледигьер.
Это был первый шаг к свободе, к которой он так стремился. И всё-таки юноша волновался. Отныне он оставался один на один с самим собой и своими мыслями. А на выходе через год-два должно было появиться нечто, способное перевернуть его будущее. Отпрыску отводилось ровно два года на то, чтобы затмить Париж, появившись в столице в ранге молодого и талантливого писателя. 120 франков в месяц, съёмная комната и запрет появляться в обществе – вот те непременные условия, поставленные «юному дарованию» строгим батюшкой. Согласитесь, не каждый день встречаются такие отцы. Впрочем, и дети тоже.
Хотя со стороны всё это выглядит несколько странно: действительно, стоило ли неискушенного юношу подвергать такому серьёзному испытанию? Но это, как уже было сказано, взгляд со стороны, тем более – из сегодняшнего дня. В те неспокойные годы не только в семье Бернара-Франсуа, но и в сотнях других европейских семей так было принято – отделять повзрослевшего юнца подальше от отца с матерью и привычного для него образа жизни, дабы тот познал изнанку общества на собственном непростом опыте, если хотите – на собственной шкуре.
Подобная постановка вопроса для нас с вами видится, безусловно, диковато. И здесь, пожалуй, следует согласиться с французами, относившимся к своим чадам столь «бесчеловечно»: такое воспитание являлось самой настоящей школой выживания, своего рода испытательным сроком для дальнейшей жизни, некой необходимостью для самостоятельного вхождения отпрыска в достаточно сложный человеческий социум.
Отныне Оноре приходилось надеяться исключительно на себя: как одеваться, чем питаться, а также лично планировать каждый собственный день. Это только кажется, что нет ничего проще – встал, оделся и пошёл. Неожиданно для себя юный «гений» столкнулся с сонмом проблем и забот.
Хорошо сидеть в тёплой и уютной комнате за письменным столом, а после, поработав и сытно отобедав, часа два-три крепко вздремнуть на свежих простынях. Именно так поначалу и представлялась Оноре самостоятельная жизнь.
Но реальность оказалась намного сложнее, скучнее и не столь романтична. Да что там! Самостоятельная жизнь предстала во всей своей обнажённости – с её жестокостью, цинизмом и опасностями. Например, легко рассуждать об обеде, когда в кармане громко позвякивает. Однако денег, высылаемых матушкой, хватало лишь на то, чтобы едва сводить концы с концами и не падать в голодные обмороки. Достаточно сказать, что хлеба как такового в убогой мансарде на улице Ледигьер никогда не было. Ибо имелись сухари. А всё потому, что эти одеревеневшие от времени хлебные куски стоили гораздо дешевле, чем свежий, ноздреватый и пахуче-дурманящий ломоть… Впрочем, не будем об этом. Как и о хрустящем круассане… Круассан! Он исключительно для богачей. Такой вкусный и буквально тающий во рту…
Ну так вот, если деревянный сухарь обмакнуть в разбавленное козье молоко, он становится мягким и податливым. И прикрыв в такие минуты глаза, можно увидеть, что ты ешь не чёрствый сухарь, а свежий пирог с яблоками, поданный в воскресный день к столу милой бабушкой. Да и круассаны… Нет-нет, только не о круассанах!
Если он обнаглеет и станет поедать свежий хлеб! и круассаны! – то очень быстро проест все деньги, предназначенные для насущных расходов. А это, поверьте, немало: одна ненасытная лампа для освещения сжирает три су[12] в день! Да ещё расходы на прачку, стиравшую рубашки, штаны и постельное бельё (два су); уголь для тепла (тоже два су); молочнице… торговцу кофе… и… и… и…
Этих «и» было слишком много, чтобы можно было справиться с ними одним махом.
Например, зубы. Да-да, обыкновенные зубы, которых, если верить дантистам, во рту человека должно быть ровно тридцать два. У Оноре их меньше. Два или три уже успели вытянуть безжалостной козьей ножкой. А всё потому, что эти разнесчастные зубы, которые у обычных юношей и девушек обычно не болят, у бедняги Оноре почему-то постоянно ныли, вызывая массу страданий. Батюшка говорил, что такое может быть от сладкого; матушка вторила другое: плохо, мол, чистит зубы, следовательно, не следит за ртом. А как за ним следить: стоять у зеркала и смотреть? Так всю жизнь и просмотришь, не успев ничего написать…
Идти к дантисту – себе дороже. Визит к мсье Дютье обойдётся… э-э… Вот-вот. Поэтому к этим алчным дантистам не стоит наведываться вовсе. С ними, зубодёрами, вылетишь в трубу! Так что приходилось тихо страдать, а иногда и… стонать.
Правда, с таким положением дел не соглашался Адриен Даблен. По факту – преданный друг (несмотря на его тридцать шесть!), в действительности же – этакий негласный опекун, назначенный матушкой, чтобы приглядывал за «её милым Оноре». Так что тому ничего не оставалось, как «приглядывать». На деле же – частенько надоедать своими несносными советами.
– Оноре, дружок, как твои зубы? – спросит, бывало.
– Всё в порядке, Адриен, а что?
– У тебя же на нижнем коренном имелось дупло… Помню, как ты мучился. Сходил бы к дантисту…
– Да я про тот зуб давно забыл! Приложил к вздувшейся десне, как подсказала молочница Генриетта, свиное сало, и зуб тут же успокоился.
– Но ведь там же дупло! – не унимался Даблен. – Зуб снова заболит, его непременно следует полечить…
– Ерунда! Запомни: волки никогда не обращаются к зубодёрам. А клыки у них – ух!..
Мансарда в шестиэтажном доме была далека от совершенства и напоминала скорее склеп, нежели жилое помещение.
Её описание мы без труда находим в «Шагреневой коже»: «Как ужасна была эта мансарда с желтыми грязными стенами! От нее так и пахнуло на меня нищетой… в щели между черепицами сквозило небо… Комната стоила мне три су в день…»
Убогость каморки сильно раздражала: окружающий мир следовало переделывать под себя. Письменный стол… Его просто не было. Хозяин жилья и не думал тратиться на такую роскошь: кому он нужен, этот письменный стол?! Разве какому-нибудь сумасшедшему писаке – так такому не место в подобной мансарде на улице Ледигьер. Вместо стола – бюро. Жалкое и обшарпанное, как сама каморка, покрытое неприглядным сафьяном. Старое кресло, стоявшее в углу, угрожало оказаться рассадником тысяч безжалостных клопов… То же с матрасом расшатанной кровати. А эти облезлые стены!
Нет-нет, здесь всё будет по-другому. Сюда, в простенок, он повесит великолепное зеркало в золочёной раме… А здесь, напротив, будет помещена гравюра с изображением родных сердцу турских лугов… Письменное бюро следует хорошенько отмыть, поставив на него бронзовый подсвечник… Вороньи перья, писчая бумага, чернильница… Шаткий стул, на котором будет сидеть при написании сочинений, следует отдать в починку…
Эти несчастные су! Складываясь один к одному, они превращались в солидные десятки и сотни, а потом… Потом – во франки. Франки – это угроза впасть в долги, что вообще недопустимо. Как говорила матушка, он должен быть осмотрителен и бережлив. Иначе не продержаться. Легко сказать! Денег сильно не хватало. В мансарде постоянно гулял ветер. Следует прикупить тёплый халат, а на голову – ватиновый колпак. И… и… и…
Эти «и» убивали! Им не было конца. От мелких делишек раскалывалась голова! И лишь перо и шуршащая под ним бумага освобождали от надоедливых мыслей. Тогда-то и начиналось самое настоящее: на сцене появлялся истинный Оноре. Думающий и пишущий. В обнимку с его героями, характерами, действиями персонажей, их мыслями, чувствами, переживаниями и потребностями. Всё это и был Бальзак, выросший из безвестного сочинителя в великого романиста.
Первые шишки оказались болезненны. И всё же мысль о свободе окрыляла. Свобода! Наслаждаться ею хотелось вечно.
«Помню, как весело, бывало, я завтракал хлебом с молоком, – пишет Оноре в «Шагреневой коже», – вдыхая воздух у открытого окна, откуда открывался вид на крыши, бурые, сероватые или красные, аспидные и черепичные, поросшие желтым или зеленым мхом. Вначале этот пейзаж казался мне скучным, но вскоре я обнаружил в нем своеобразную прелесть. По вечерам полосы света, пробивавшегося из-за неплотно прикрытых ставней, оттеняли и оживляли темную бездну этого своеобразного мира. Порой сквозь туман бледные лучи фонарей бросали снизу свой желтоватый свет и слабо означали вдоль улиц извилистую линию скученных крыш, океан неподвижных волн… Словом, поэтические и мимолетные эффекты дневного света, печаль туманов, внезапно появляющиеся солнечные пятна, волшебная тишина ночи, рождение утренней зари, султаны дыма над трубами – все явления этой необычайной природы стали для меня привычны и развлекали меня. Я любил свою тюрьму, ведь я находился в ней по доброй воле».
Всё по-честному: юноша наслаждался тем, что выбрал сам, по собственной воле.
Но как же ты ошибался, милый Оноре! Свобода – та же медаль: при наличии лицевой стороны обязательно бывает оборотная…
Итак, Париж, улица Ледигьер. Начало литературного поприща молодого и начинающего писателя. Париж – не Тур, и даже не все те городки, где он бывал, вместе взятые. Париж – это Париж, столица. Лувр, Нотр-Дам-де-Пари, Елисейские Поля, Булонский лес…
Однако пока столица вдохновляла – и только. А ещё – соблазняла. Но вот славой и не пахло. Ни славы, ни признания собратьев по перу, ни звона в кармане золотых, ни хруста крупных ассигнаций, ни дорогих обедов в кругу почитателей-обожателей (и обожательниц!) – ничего! Каторжный труд взамен скудного обеда. Пока только это. Оставалось последнее – надежда. Вот она-то и придавала юному и тщеславному человеку веру в себя и в то, чем он занимался. Хотя, как уверяют мудрецы, иногда для высокой цели бывает достаточно одной лишь надежды.
Первый серьёзный труд обернулся большим разочарованием. В конце апреля 1820 года, как пишет сестра Лора, Оноре явился к отцу с готовой трагедией. Во всё лицо белозубая улыбка, а в глазах – торжество триумфатора. Молодой писатель уверен: его «Кромвель» гениален! Кропотливый труд во время бессонных ночей должен был окупиться сторицей.
Для начала организовали чтение в кругу друзей. И вот все в сборе.
«Друзья являются, начинается торжественное испытание, – вспоминает сестра. – Восторг автора постепенно стынет, ибо по лицам слушателей, холодным либо удрученным, он замечает, что не производит большого впечатления. Я была в числе удрученных. То, что я выстрадала во время этого чтения, предвосхитило тот ужас, коий довелось мне испытать при первых представлениях “Вотрена” и “Кинолы”. “Кромвель” еще не был отмщением г-ну ***; последний с обычной резкостью высказал свое мнение о трагедии. Оноре, повысив голос, отвергает его суждение, но прочие слушатели, хотя и в более мягкой форме, тоже говорят, что произведение весьма несовершенно. Наш отец собирает все суждения и предлагает дать прочитать “Кромвеля” какому-нибудь почтенному лицу, знающему и беспристрастному. Г-н де Сюрвиль, инженер, строитель Уркского канала, который впоследствии станет его зятем, предлагает своего бывшего учителя из Политехнической школы. Брат принимает этого литературного старейшину в качестве верховного судии. Славный старик добросовестно прочитал пьесу и объявил, что автору следует заняться чем угодно, только не литературой. Оноре мужественно принял этот удар – он не дрогнул и не разбил себе голову о стену, ибо не признал себя побежденным.
– Трагедии не мое дело, вот и все, – сказал он и снова взялся за перо»{42}.
Кажется, Цицерон заметил: поддержи талантливого, ибо бесталанный пробьёт себе дорогу сам! Бесценный дар Оноре нуждался в поддержке. Неужели труду стольких бессонных ночей уготовано бесславно желтеть в письменном столе? Нет, этому не бывать! Ему просто завидуют! А если нет?..
Близкий товарищ Оноре Даблен, видя состояние друга, взялся помочь:
– Стоит ли грустить, Оноре? Твой «Кромвель» просто великолепен, но кто его видел?
– Ну… моя трагедия… некоторые считают её скучной…
– Ерунда! Если предлагать – то труппе Comédie-Française.
– Comédie-Française? – удивился тот.
– Вот именно. Там халтура не пройдёт! А «Кромвель» – никакая не халтура. Все будут сражены глубиной твоего таланта и отточенностью исторических персонажей…
Друг познаётся в беде. И очень хорошо, когда рядом этот самый друг имеется. Бескорыстный поступок добряка Даблена позже найдёт отражение не в одном бальзаковском романе. А пока он, скромный торговец скобяными товарами, имевший к театральным подмосткам не бо́льшую близость, чем Колумб к индийским берегам, пытается найти кого-то, кто смог бы помочь начинающему гению.
«Ценитель» нашёлся в лице некоего мсье Лафона – отнюдь не театрального кумира, тем не менее настоящего актёра. Его никто не знает, ибо роли, которые тот играет в Комеди́ Франсе́з, безнадёжно проходные – «подай-принеси» и «кушать подано». Это для изысканной театральной публики: если уж актёра – так непременно уровня Рокур или Франсуа Тальма. Но в глазах Оноре и Лафон за счастье. Ведь если он (сам Лафон!), ознакомившись с «Кромвелем», представит трагедию молодого драматурга (а она просто не может не понравиться!) своим партнёрам по театру, то драма будет немедленно поставлена в столичном Comédie-Française. А это несомненное признание таланта! Трагедией заинтересуются члены правительства и, кто знает, быть может, сам король Луи! Вот он, прямой путь к Славе и Богатству.
Однако в последний момент уже заупрямился сам Оноре:
– Нет, с меня хватит! Если и этот, как его…
– Мсье Лафон…
– Если и этот именитый актёр скажет, что мой «Кромвель» – тягомотина, у меня окончательно сдадут нервы, после чего вообще не останется сил писать дальше.
– Но как же быть? – воскликнул Даблен.
– Хватит критиков, они мне просто надоели! Я им всем докажу, что Оноре Бальзак кое-что может. Поверь, настанет час, когда все эти критики при упоминании моего имени будут снимать шляпы…
Как бы то ни было, пока для начинающего писателя всё выглядело довольно безрадостно. Из окна мрачной мансарды Оноре видел лишь унылую повседневность – редких прохожих да кровли парижских домов («бурые, сероватые или красные, аспидные и черепичные»). Тоска и неопределённое будущее. Впору вешаться…
Впрочем, последнее в планы юного Бальзака никак не входит. Дитя Империи, он вместе с молоком матери (правильнее – кормилицы) впитал в себя почти фанатичное обожание Наполеона. То было поколение, влюблённое в своего императора больше, чем в родного отца. До мозга костей. До умопомрачения. И пусть императорская армия разбита, а кумира французов отныне называют не иначе, как узурпатором, не так-то просто отнять предмет всеобщего обожания. Выходец из простой семьи, покоривший полмира, – это ли не тот, которому следует поклоняться? И если Наполеон стал императором, завоевав Европу оружием, то почему бы ему, Бальзаку, молодому и талантливому, не стать… императором пера? Фантастично? Конечно. Только кто сказал, что не осуществимо? Ведь он не простой писака, а Бальзак! Оноре де. Последняя маленькая приписка, появившаяся не столь давно у всей семьи, ещё больше укрепляла его веру, придавая смелости и окрыляя надеждой.
Из письма сестре Лоре: «…Великий Расин потратил два года на отделку “Федры”, предмет зависти всех поэтов. Два года!.. два года!.. подумай только, целых два года!.. Но мне сладостно, изнуряя себя день и ночь, мысленно связывать свои труды со столь дорогими мне существами! Ах, сестра, если небо одарило меня хоть крупицей таланта, великой радостью для меня будет увидеть, как моя слава озарит всех вас! – писал он сестре. – Что за блаженство победить забвение и еще больше прославить имя Бальзака! При этой мысли кровь у меня бурлит! Когда мне случается набрести на удачную идею, мне кажется, что я слышу твой голос: “Ну же, держись!”
…Какие страдания приносит любовь к славе! Да здравствуют бакалейщики, черт побери! Они весь день продают, вечером подсчитывают выручку, время от времени упиваются какой-нибудь мерзкой мелодрамой – и счастливы!.. Однако они проводят все свое время между сырами и гостиной. Живут полной жизнью скорее литераторы; однако все они сидят без гроша и богаты только спесью. Да что там! Пусть себе живут, как знают, и те и другие, и да здравствуют все на свете!»{43}
И всё-таки ему тяжело. Рядом с гением всегда кто-то должен быть рядом – тот, кто бы помогал, баловал, заботился и любил. Без любящего «кого-то» трудно втройне.
Однажды он сообщил Лоре, что нанял слугу:
«…У него такое же смешное имя, как у слуги доктора. Тот слуга зовется Тихоня, а мой зовется Я-сам. Право, скверное приобретение!.. Я-сам ленив, неловок, нерасторопен. Его хозяин хочет есть, хочет пить, а он не предлагает ему ни хлеба, ни воды – он даже не может защитить его от ветра, дующего в дверь, и в окно, как Тюлу в свою флейту, только не так приятно.
Следует выговор хозяина слуге.
– Я-сам! – Чего изволите, сударь? – Видите вы эту паутину, в ней жужжит большая муха, да так громко, что я чуть не оглох! А эту живность, прогуливающуюся по постели, а эту пыль на оконных стеклах, от которой я слепну?..
Лентяй глядит, но не трогается с места! И несмотря на все эти недостатки, я не могу расстаться с этим тупицей Я-самом!..»{44}
В другом своём письме он продолжает начатую тему со слугой Я-самом:
«Новости насчет моего хозяйства самые плачевные: работа вредит опрятности. Бездельник Я-сам все больше распускается. Он выходит за покупками только раз в три-четыре дня к самым близким лавочникам, продающим самую скверную провизию во всем квартале; прочие слишком далеко, а этот малый экономит даже на движениях. Так что твой брат (коему предназначено сделаться столь знаменитым) уже сейчас питается как великий человек, иными словами, умирает с голоду!
Другое зловещее обстоятельство: кофе убегает и разводит ужасную пакость на полу; требуется много воды, дабы возместить ущерб; но поскольку вода сама не поднимается в мою поднебесную мансарду (она только стекает оттуда в ненастные дни), придется предусмотреть после покупки фортепьяно установку гидравлической машины, если кофе и впредь будет убегать, пока хозяин и слуга ворон считают. Не забудь послать мне вместе с Тацитом плед, чтобы укрывать ноги; и если бы ты могла присоединить к этому какую-нибудь старую-престарую шаль, она пришлась бы очень кстати. Ты смеешься? Это именно то, чего мне недостает для моего ночного одеяния. Сперва надо было подумать о ногах, которые больше всего мерзнут; я закутываю их в туренский каррик… Вышеупомянутый каррик закрывает только полтела, верхняя часть остается незащищенной от мороза, которому надо проникнуть лишь сквозь крышу и мою куртку, чтобы добраться до кожи твоего братца, слишком, увы, нежной, дабы его переносить; так что холод меня покусывает.
Что касается головы, то я рассчитываю на дантовский колпак, чтобы спасаться от аквилона. Экипированный таким образом, я смогу очень приятно существовать в своем дворце!..»{45}
Но это быт, каков он есть у одинокого молодого человека. То – некий занавес, скрывающий от остальных главное – работу. Бальзак трудится не покладая рук: он пишет. Ибо знает: не будет писать – потеряется смысл его теперешней жизни. Ведь просто брызгать чернилами – не самоцель. Цель в другом – стать не просто писателем, а знаменитым, кумиром читателей!
«Ты спрашиваешь, что нового? – обращается Оноре в очередном письме к сестре. – Надо тебе рассказать; на мой чердак никто не приходит, значит, я могу говорить только о себе и болтать всякий вздор, например: на улице Ледигьер № 9 случился пожар, прямо в голове одного бедного молодого человека, и пожарные не смогли погасить огонь. Поджог совершила прекрасная женщина, с которой он даже не был знаком, говорят, что она живет во Дворце четырех наций, за мостом Искусств; она зовется Слава. Беда в том, что погорелец рассуждает, он говорит себе: “Есть у меня талант или нет, в обоих случаях я готов ко многим огорчениям! Без таланта я пропал! Придется провести всю жизнь, постоянно чувствуя неудовлетворенные желания, мелкую зависть, горькие муки!.. Если у меня есть талант, меня будут преследовать, клеветать на меня; в таком случае, я знаю, мадемуазель Слава прольет немало слез!..”»{46}
С некоторых пор на его рабочем столе появляется гипсовая статуэтка незабвенного кумира – Наполеона. К ножнам шпаги Бонапарта Оноре прикрепит «скромную» табличку: «Завершить пером то, что он начал мечом! Оноре де Бальзак».
Завершит. Правда, на это уйдут годы…
Сестра нашего героя, Лора Бальзак, была под стать старшему брату – умной и чрезмерно мечтательной. А ещё унаследовала от матушки врождённый максимализм – в частности, в вопросе о браке. Уж если любить – так достойного; а замуж – непременно за лорда! Хотя, если подумать, можно бы и за маркиза. Ведь она прехорошенькая, да ещё и умница, каких поискать. Замуж не против, но чтоб не за старика-зануду. И совсем было бы хорошо, попадись молодой, красивый, знатный да богатый. Ну и с приложением в виде «де».
Однако достойных женихов на любовном горизонте пока не находилось. Если был красив – то беден; богатый – старый и скряга; знатный – «чёрный вдовец», сменивший трёх жён… Никого. Ну вот ещё… мсье Сюрвиль. Но разве этот инженер-путеец, окончивший, кстати, Политехническое училище и что-то ремонтировавший на обводном канале реки Урк, близ Вильпаризи, – так вот, разве он пара? Нет и нет! Не тот масштаб! Да, он умён и широких взглядов. Не вздорен и, кажется, влюблён. В неё, в Лору. А Лора? Она в нерешительности.
«В ту пору я еще жила в царстве мечты, – вспоминала Лора. – Вдруг я в один прекрасный день разбогатею, вдруг я выйду замуж за лорда, вдруг, вдруг, вдруг!..»{47}
Мсье Сюрвиль – не лорд, и даже не маркиз. Да и без «де». Хотя… хотя это самое «де» всё-таки имелось. Эжен-Огюст-Луи был внебрачным ребенком провинциальной актрисы Катрин Аллен. Фамилия Сюрвиль – сценический псевдоним его матушки. А вот отец скончался ещё до рождения сына. На помощь матери-одиночке пришёл родной брат умершего отца, богатый руанец, который назначил побочному сыну брата годовую ренту в тысячу двести ливров. Ещё через какое-то время по решению суда Эжен был признан «побочным сыном покойного Огюста Миди де ла Гренере, имеющим право в качестве такового считаться наследником своего отца». Хотя юный Эжен продолжал называть себя Аллен-Сюрвиль.
Таким образом, мсье Сюрвиль – наследник «покойного Огюста Миди де ла Гренере», своего отца; следовательно, настоящий дворянин с достойной наследника частицей «де». Ничего удивительного, что инженер Миди де ла Гренере-Сюрвиль, в отличие от Лоры де Бальзак, считал девушку прекрасной для себя партией.
«На Новый год он явился с конфетами, но напрасно, – пишет А. Моруа. – Его банальные подарки встречали с пренебрежением. Однако в мае 1820 года молодой инженер наконец воспользовался своим правом на отцовское имя – Миди де ла Гренере – и наследство. Узнав о брачных планах сына, Катрин Аллен открыла ему тайну его рождения. В письме, адресованном графу де Бекке, генеральному директору ведомства путей сообщения, Эжен указывал, что его матушка до сих пор не позаботилась добиться исполнения давнего решения суда, а потому ему пришлось съездить в Руан, чтобы узаконить свое гражданское состояние. И он просил отныне именовать его Миди де ла Гренере-Сюрвиль»{48}.
Последнее обстоятельство многое меняло. Пожизненная рента молодого человека могла обеспечить семье жизнь в достатке. Лора извелась: но он ведь даже не маркиз!
– Послушай, деточка, такими женихами не бросаются! – насела на капризную дочурку матушка. – Мсье Сюрвиль – инженер, имеет приличное жалованье… У него впереди прекрасная карьера! Хорошенько подумай, дочь моя, хотя и думать нечего: блестящая партия!..
Пьер Сиприо: «Лора строила воздушные замки. Она хотела выйти замуж за юного и прекрасного пэра Франции, карета которого была бы украшена старинным родовым гербом. Все претенденты получали безоговорочный отказ. Один – “из-за слишком худых ног, другой – из-за близоруких глаз, третий – из-за фамилии Дюран”. Сюрвиль не вскружил голову Лоре, но к нему она в конце концов почувствовала симпатию».{49}
Лора была послушной дочерью. 18 мая 1820 года она выйдет замуж за мсье Сюрвиля. Венчались в парижской церкви Сен-Мерри, куда съехались многочисленные гости и родственники. Но всё это явилось некой парадной вывеской. А суровая правда заключалась в том, что жених оказался заурядным инженером второго класса со скромным жалованьем в двести шестьдесят франков в месяц, что было меньше условий, оговорённых в брачном контракте.
Однако в данной ситуации Лора повела себя в высшей степени достойно. Победила её покладистость. Как правильно замечает Андре Моруа, не в силах похвалиться настоящим, она «сама придумывала себе блестящее будущее. Уж она-то продвинет мужа по службе, пустит в ход свои связи и добьется для него подряда на строительство всех каналов Франции».{50}
Лора де Сюрвиль оказалась прекрасной женой, во многом слепившей свою семью собственными руками.
За полтора года жизни в «литературной мансарде» Оноре Бальзак набил немало творческих шишек, которых ему потом хватило на годы вперёд. От здорового духа почти ничего не осталось – впрочем, как и от здорового тела. Парнишка так отощал, что матушка почти в категоричной форме заставила сына вернуться в лоно семьи, окружив «гения от литературы» домашним теплом и заботой. Нет, это не было капитуляцией! Как считал сам Бальзак, то было кратким временем собраться с новыми силами.
«Ныне я понимаю, что не богатство составляет счастье человека, – однажды напишет Оноре в письме Лоре. – …Те три года, которые я проведу (здесь), будут для меня всю остальную жизнь источником радостных воспоминаний. Ложиться спать, когда заблагорассудится, жить, как тебе вздумается, работать над тем, к чему есть склонность, а когда не хочется, вовсе ничего не делать, не ломать голову над будущим, встречаться только с умными людьми… и покидать их, когда они тебе наскучат, видеть глупцов только мимоходом и поспешно уходить, завидя их; думая о Вильпаризи, вспоминать только хорошее; иметь своей возлюбленной Новую Элоизу, своим другом – Лафонтена, своим судьей – Буало, своим образцом – Расина и местом для прогулок – кладбище Пер-Лашез… Ах, если бы это могло длиться вечно!..»{51}
И всё-таки начинающий писатель угнетён. Его жизнь пролетала в постоянном труде, а на выходе… На выходе почти ничего. Пшик!
Двадцатые годы XIX века – расцвет в литературе английского романтизма. Книги Байрона и Вальтера Скотта во Франции раскупаются на ура. Читателям хотелось пиратов, рыцарей и пылкой любви. А также чего-нибудь мистического: узников таинственных замков, ведьм, колдунов, любвеобильных пажей и обиженных красоток, взывающих о помощи.
Первый роман Бальзака – «Стени, или Философические заблуждения» («Sténie»), написанный в стиле Руссо и выпорхнувший из-под его пера, как поначалу казалось, чтобы прославить даровитого автора, – очень быстро принёс разочарование. Всё то же, на потребу публики: «колдунья-магнетизёрша», узники в цепях, средневековая поножовщина… Однажды он не выдержит: «Это не роман, это оскомина!..» Со «Стенией» получилась одна морока: сто раз садился за неё и столько же раз бросал. Так и не закончил. Оскомина.
А в голове ещё один роман… и ещё…
Романы – хорошо. Но для молодых французов имелось занятие посерьёзнее, чем сочинять сказки про любовь. Например… военная служба.
А. Труайя: «Его угнетает возможность провести годы на военной службе, но первого сентября 1820 года судьба улыбнулась Оноре – он освобожден от подобной перспективы. Сертификат генерального секретаря префектуры Сены говорит о том, что у молодого человека слишком маленький рост – 1 метр 655 миллиметров. Полный коротышка с цветущей физиономией и подпорченными зубами не в восторге от того, что видит в зеркале, но уверен – божественный огонь скрывается под столь неказистой оболочкой. И хочет как можно скорее доказать это. Родным, конечно же. Но главное – тысячам незнакомых людей, которые, закоснев в ежедневных заботах, ждут, сами того не зная, появления на небосводе литературы его, и только его – Бальзака».{52}
Романы «Фалтурна» («Falthurne») и «Корсино» («Corsino») писались быстро, но ни один из них так и не был закончен. У автора, как он сам признавался, просто не хватало терпения изводить себя и бумагу. Лишь много позднее Бальзак поймёт, почему так произошло: он писал не то, что требовал его талант. Следуя общей тенденции, романист всего лишь подстраивался под модный англо-французский роман того времени. Отсюда цепь неудач.
Нет, такое непозволительно, это не для него! Это просто немыслимо!..
И всё-таки Оноре ошибался! Он делал всё правильно. А несколько неудачных произведений оказались лишь ступеньками вверх. Проходя эти ступеньки, рождался блистательный писатель-романист. Он научился таким образом писать романы!
Из письма Бальзака сестре Лоре: «Если бы хоть кто-нибудь придал немного прелести моему холодному существованию! Нет для меня цветов жизни, а ведь я в том возрасте, когда они расцветают! К чему мне будут богатство и наслаждения, когда моя юность уже пройдет? Зачем нужен театральный костюм, если ты больше не играешь роли? Старик – это человек, который отобедал и теперь смотрит, как едят другие, а я молод, моя тарелка пуста, и я голоден! Лора, Лора, исполнятся ли когда-нибудь два самых заветных моих желания: быть знаменитым и быть любимым?..»{53}
Но однажды всё закончилось. Basta, сказал строгий батюшка, ba-sta! Довольно сомнительного сочинительства. В январе 1821 года очередной платы за съёмную квартиру на улице Ледигьер не последовало.
– Всё, съезжай, голубок, – огорошил сына отец. – Уговор дороже денег. По крайней мере, я своё слово сдержал. А ты? Так что съезжай!
– Куда?! – опешил Оноре. – Куда ехать – не к вам же?! Ведь именно теперь мне требуется этот спокойный уголок, где покой, тишина и творческое вдохновение…
– Ты прав: будешь жить с нами, в Вильпаризи, – попыталась успокоить сына мать.
– Все в одной куче?! Но как я буду писать?..
– Не волнуйся, мы обеспечим тебе хорошие условия. Я даже готова тебе приплачивать – только работай, пиши!
«Хорошие условия»… Снова на шее у отца с матерью. Нет, с него хватит! Пора наконец самому зарабатывать на хлеб насущный. Будут деньги – будет свобода.
А пока… Пока остаётся единственное: вновь жить с родителями.
Впрочем, отцу с матерью не легче. Их жизнь медленно катилась к закату. Бернара-Франсуа мягко отправляют на отдых с годовой пенсией в 1695 франков. Деньги немалые, но в сравнении с прежним жалованьем в военном ведомстве (7800 франков) пенсия выглядит жалкой подачкой. Беда не приходит одна: почти одновременно с предложением об отставке Бальзаки из-за краха банка «Doumerc et Cie» лишились почти всех своих сбережений. Отныне приходится экономить – прежде всего на расходах. Тот самый случай, когда говорят «пора затянуть пояс потуже». Пришлось затягивать.
Прежде всего, понял Бернар-Франсуа, следовало уезжать из столицы. Тогда-то семья и переехала в Вильпаризи – в местечко по дороге в сторону Мо.
После замужества старшей сестры младшенькая, Лоранс, потеряла покой: ей тоже захотелось замуж. Долгое время девушку терзали внутренние комплексы. И это понятно: остроумие, острый язычок и насмешки Лоры не оставляли младшей сестре ни шанса блистать даже в семейном кругу. Рядом с Лоранс Лоры было слишком много. Поэтому после отъезда старшей сестры младшенькая смогла вздохнуть полной грудью. Обе сестры были во многом схожи: Лоранс была неглупа, отличалась начитанностью и смазливым личиком.
Как и старшая, младшая мечтала о богатом и щедром муже. Главное – чтобы любил. И… и обязательно чего-нибудь дарил! Задумываясь о подарках, девушка начинала чувствовать, что улетает в неведомый сказочный мир. Ведь только там тебе могут подарить… скажем… жемчужное ожерелье. Да-да, непременно жемчужное ожерелье в несколько тяжёлых нитей, с выделяющимся среди них крупным бриллиантом чистой воды. А ещё… Ещё сапфиры и яркий изумруд. Богатые камни подчеркнули бы строгость её нового атласного платья, сшитого на заказ у старика-портного Жодэ… Кашемировая шаль, расшитая узорами… Нет, две – именно две шали, ведь он (её будущий муж!) не поскупится для неё купить две – две шали! Муаровая сумочка, яркие ленты, шляпка… Капор или боливар из белого атласа? И… и… туфли! Туфли, туфли, туфли! Дабы не промахнуться и купить хорошие, по последней моде, без помощи maman вряд ли обойтись. Хотя маменька уже не та: мода для молодых! Спросить у соседки Колетт? Пожалуй. А ещё… ещё…
А потом она засыпала. Как засыпают все молодые и романтичные девушки – быстро и беспробудно крепко.
Видя такое дело (что и младшую пора определять), сметливый батюшка решил взять инициативу в свои руки, выбрав жениха по своему вкусу. «Избранника» звали Арман Дезире Мишо де Сен-Пьер де Монзегль. Отец обладателя двойной частицы «де» был знаком Бернару-Франсуа по Королевскому совету и работе в Интендантском ведомстве. Но было кое-что поважней: они оба являлись франкмасонами. Тридцатитрёхлетний жених служил в парижском управлении по взиманию городских пошлин.
– Батюшка, он же намного старше, – заупрямилась было Лоранс. – Когда у меня будет двое детей, мой муж превратится в жалкого старикашку…
– Цыц! – нахмурил брови отец. – Такой жених – куда уж лучше?! Орёл![13] Благородный дворянин, из хорошей семьи, на государственной службе… Замок на взгорье – их, родовой. Или будешь, милая, принца дожидаться? Время упустишь – выдам за золотаря!..
– Но ведь старинный замок уже не Монзеглей, разве не слыхали, батюшка?
– Ну и что ж с того? Не за замок выходишь замуж – за человека…
– Говорят, ветреный он, да ещё, ах, дуэлянт!
– Настоящий мужчина и погулять любит, и подраться – истинно говорю. В любом случае, ничего позорящего фамилию не совершил, так что не о чем и судачить. В совершенстве владеть шпагой и пистолетом дано не каждому. Из таких как раз хорошие мужья получаются, вот и весь сказ…
«Все наши беседы сводятся к 5-10 замечаниям о погоде и 8-10 замечаниям о пожарах, поэтому, суди сама, насколько теплы наши разговоры»{54}, — жалуется Лоранс сестре.
Как бы то ни было, пришлось смириться. 12 августа 1821 года был подписан брачный контракт. На торжество, как и в случае с Лорой, прибыло много гостей. Вместе со всеми радовался и Оноре. «Было мороженое, родственники, друзья и просто знакомые, пирожные, нуга и прочие лакомства».{55}
Однако в этот раз не обошлось без неприятностей.
Из письма Оноре сестре Лоре: «Празднество!.. Я могу послать тебе лишь длинный грустный перечень событий. На обратном пути со свадьбы Лоранс (праздновали в Париже) Луи попал кнутом папеньке в левый глаз и повредил его – печальное предзнаменование… Кучерский кнут прикоснулся к этой прекрасной старости, нашей общей радости и гордости! Сердце кровью обливается! К счастью, зло не так велико, как сперва показалось! Мне больно было видеть внешнее спокойствие папеньки, я бы предпочел, чтобы он жаловался, быть может, это принесло бы ему облегчение! Но он так гордится (и по праву) своею силой духа, что я не посмел даже утешать его, а видеть страдания старца – все равно что видеть страдания женщины! Я не мог ни думать, ни работать, однако надо писать, писать каждый день, дабы завоевать независимость, в которой мне отказывают!»{56}
Кучер Луи, едва не сделавший Бальзака-старшего слепым, пребывал в подавленном состоянии: он сорвал Бернару-Франсуа важное торжество. Старик крепился, но скрыть неловкость было невозможно, ибо кнут повредил роговицу глаза. Досаднее всего было то, что папаша предполагал прожить с хорошим зрением лет до девяноста.
Матушка оказалась благоразумнее всех. Решив выждать несколько дней, госпожа Бальзак, ничтоже сумняшеся, посчитала своим долгом поговорить с зятьком начистоту, решив расставить точки над «i». Такой разговор состоялся, после чего Анна-Шарлотта написала Лоре: «Он дал мне честное слово, и я ему верю, что он никогда не имел дела с проститутками и совершенно здоров, его никогда не лечили, он никогда не принимал лекарств и здоровье его превосходно. У него нет детей, которые могли бы в будущем явиться. Нога его никогда не ступала в игорный дом, и, будучи первым в Париже среди игроков в бильярд, никогда не играл на деньги».{57}
О, святая простота!..
Ирония судьбы – словосочетание-хлыст. В любом случае, подобное не для слабонервных. Ибо для тщедушного телом и слабого духом нежданная оплеуха страшнее выстрела у виска.
Ирония судьбы сыграла с младшей сестрой Оноре Лоранс злую шутку: она влюбилась. Нет, не в мужа, который, как мы помним, нравился лишь её батюшке. Выйдя замуж, девушка неожиданно полюбила… другого. Ну разве не оплеуха судьбы?
Бедняжка уже была готова кинуться «головой в омут», если бы не Оноре. Брат хорошо знал слабые стороны сестрицы, поэтому первым кинулся спасать «утопающую»:
– Одумайся, Лоранс, он тебе не пара! Ты молода, скоро станешь матерью, твой муж обеспеченный человек. И дался тебе этот жалкий писака Ле Пуатвен?!
– Но ведь и ты, дорогой братец, тоже…
– Хочешь сказать – писака? – перебил сестру Оноре. – Да, я писака. Но писака писаке рознь. Для таких, как Ле Пуатвен, писать – не главное. Основным для него является другое – зарабатывать на этом. А это, поверь, совсем разные вещи. Всё равно что конюха и мясника назвать любителями животных: каждому своё. Бросив мужа и уйдя к писаке, ты пропадёшь с ним!
К счастью, у Лоранс достало житейской мудрости не поддаться чувствам и вернуться к обязанностям «покладистой и любящей жены».
«…Ты еще не слышала, что бедняжка Лоранс по уши влюбилась в Огюста де л’Эгревиля? – пишет Оноре старшей сестре Лоре. – Не подсказывай ей, что я предал дело огласке, но мне с трудом удалось убедить ее, что из писателей выходят ужасные мужья, разумеется, с финансовой точки зрения»