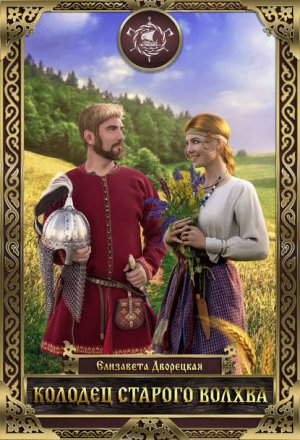
© Елизавета Дворецкая, 2015
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru
Глава 1
Еще не проснувшись до конца, лежа в дреме с закрытыми глазами, Медвянка по своему обыкновению вспоминала, что хорошее обещает принести ей наступающий день. Она всегда так делала – словно прикидывала, стоит ли вставать? – и каждый день неизменно убеждалась – стоит! И сегодня особенно! Сегодня – Лелин велик-день, ее ждут первые в году хороводы, песни, игрища, в которых Лелей выберут не кого-нибудь, а ее – ведь она, а не другая, самая красивая девушка в Белгороде! Одна новая рубаха из крашеного тонкого льна, которую она сама вышивала ползимы, стоит того, чтобы подняться и надеть ее!
Потом Медвянке вспомнился вчерашний вечер, и она сладко вздохнула от удовольствия. Слава Ладе и Макоши, вчера Молчан наконец-таки собрался посвататься, ему отказано и дело это кончено! Медвянка чувствовала такое облегчение, будто несла две бадьи воды и наконец-то сбросила. Больше Молчан не будет ходить за ней тенью, значительно смотреть своими желтыми глазами и молчать, будто она ведунья и сама прочтет его мысли. Да и смогла бы – не стала бы. Медвянке никогда не нравился степенный и толковый, но молчаливый и скучный кузнец-замочник, и она была всей душой рада, что больше он не станет к ним ходить.
Перевернувшись на спину, Медвянка открыла глаза, высунула руки с задравшимися рукавами рубахи из-под одеяла и сладко потянулась, зажмурилась. В отволоченное окошко тянуло свежим запахом весеннего утра, еще прохладного, но обещающего теплый день. Яркий Ярилин луч лежал на глиняном полу, и Медвянке вдруг стало скучно в доме, наполовину зарытом в землю, захотелось на волю.
Оглядевшись, она увидела, что лежит одна, сестры Зайки нет, челядинка тоже ушла, ее подстилка из козьей шкуры свернута и засунута за ларь. Откинув одеяло, Медвянка спустила ноги на пол, одной рукой схватила вязаные чулки, второй – кожаный башмак – новенький, прошитый цветными ремешками – отцовский подарок к весенним праздникам, и заторопилась, испугавшись, что спала слишком долго. Мать всегда приходит будить ее – отчего же сегодня не пришла?
Одеваясь и торопливо расчесывая костяным гребнем свою пышную и длинную рыже-золотистую косу, Медвянка слышала через окошко голоса матери и челядинки, возившейся в хлеву. Раз еще не выгнали корову – значит, не так уж долго она и спала. Скотину только вчера впервые в этом году выгнали на луга, и сегодня все улочки белгородского детинца и посада уже ждали, что вот-вот запоют за тыном рожки кончанских пастухов. И в этом ожидании тоже была весна, тоже был праздник.
Из передней клетуши слышались голоса отца и гостя, боярина Гостемира, который жил у них во время княжеских сборов в поход. Заплетая косу, Медвянка прислушалась и усмехнулась – спор шел все о том же самом.
– Ты, Гостемир, ратный человек, вот ты мне и скажи – неужели у нас неприятелей по всей земле столько? – расспрашивал гостя Надежа. – Сколько живу, а не помню, чтоб князь хоть одно лето дома побыл. Ты смотри: едва он в Киеве сел, так сразу на ляхов пошел, да тут же на вятичей, а на другое лето опять на них, на третье – на ятвягов. И так все семнадцать лет! На радимичей, помню, рать собирали, на болгар, на греков, на хорватов – да где они есть, хорваты, что за народ такой, что нам до них за дело? На чудь ту же в который уж раз идут!
– А помнишь ты такое лето, чтоб печенеги на полян не ходили? – отвечал ему Гостемир. – То-то – не помнишь! А с печенегами воевать – люди надобны, кони, оружие, всякий припас. Где брать, коли в походы не ходить? Без вятической и чудской дани на что города строить? И без великого ума догадаешься.
– Без великого ума и другое догадаешься! – горячась и волнуясь, подхватил Надежа. – Вот уйдет князь, а без него печенеги нагрянут, все городки пожгут, все труды в дым пустят! Вон, с Мал Новгородом что сотворили…
– Так за воями и пойдем, чтоб не печенеги нас, а мы их по ветру пускали! – тоже горячась и перебивая, убеждал его Гостемир.
– Оставался бы князь дома – никто к нам и не сунется! Как в песне поется: коли сокол в лову бывает, высоко птиц бивает, а не даст гнезда своего в обиду! А наш Ясный Сокол – чуть трава на луга, так он в облака!
Городник, посвятивший свою жизнь и труд обороне русских городов, и боярин, с отрочества привыкший полагать честь и доблесть в ратных походах, вели такие споры каждый день и никогда не приходили к согласию. Каждый из них был по-своему прав: ради будущей безопасности южных русских земель князю приходилось на время оставлять их без своей защиты. Чтобы удержать достигнутое, князь отправлялся собирать силы, рискуя потерять больше, чем приобретет. И ни сам князь, ни его мудрые бояре и бывалые воеводы не видели выхода из этого ведьминого кольца.
Но сегодня Надеже и Гостемиру не удалось доспорить до утомления, когда мысль о ковше холодного кваса вытеснит желание разобраться в княжеских делах. Со двора послышался шум, перепуганное квохтанье курицы, едва не попавшей кому-то под ноги, всполошенный лай пса Уголька. Что-то крикнула хозяйка, любопытная Медвянка выглянула из задней клети в переднюю, зажав в кулаке конец косы с недовязанной лентой. Хлопнула дверь сеней, словно ее рвануло бурей, и на пороге показался мужик могучего сложенья, с торчащей во все стороны, как будто ветром раздутой темной бородой. Даже вниз по ступенькам он не спустился, а рухнул, словно не в силах был снести свой гнев и возмущение.
– Ты гляди, чего деется! – возмущенно загудел он прямо от порога, не здороваясь и не кланяясь. – Опять полк притащился какой-то боярский, и сызнова тысяцкий к нам его сует! Да что мы – бездонные?
– Да не шуми ты, хоть поклонись добрым людям! – воскликнула жена Надежи, Лелея, устремляясь со двора вслед нежданному гостю
Это был сосед, кузнец-оружейник, прозванный Шумилой. Родом он был из Полоцка, из племени кривичей, а его горячий и непокорный нрав послужил причиной тому, что его первого полоцкий посадник отправил со всем семейством на Киевщину, когда князь Владимир велел собирать народ для заселения вновь построенных сторожевых городов. Воевода без сожаления расстался с хорошим оружейником, лишь бы избавиться от шумного бунтаря, который всегда был недоволен посадником и его тиунами, данями и повинностями, напоминал полочанам о том, что не всегда они были данниками Киева и совсем недавно еще имели свой княжий род, перебитый князем Владимиром.
– Сядь да расскажи толком! – уговаривала его хозяйка. – Да где ж тут толк! – продолжал бушевать оружейник, никого не слушая. – У наших у кузнецов на всяком дворе уже по полку стоит, самим сесть некуда, хозяева на дворе спят, и клети, и бани заняты, хоть в хлеву живи, а у наших и хлев-то не у всякого есть! До каких же пор такое будет? Охота князю воевать – так и пущай себе идет, а нам-то за что такая беда? Что же он их на своем дворе не поселит? У него-то там не тесно!
– Уймись ты, баламут! – усовещал оружейника Надежа. – Какой ты Шумила – тебе Буреломом бы зваться! Попомни мое слово – насидишься ты в порубе!
– Да как тут терпеть – совсем замучали постоями! – не унимался Шумила. – У вас-то в детинце еще тихо. А у нас – что орда прошла. Горшки побиты, куры поедены, хоть сам на солнышко кукарекай!
Надежа и Гостемир засмеялись. – Выпей-ка квасу ради праздника! – весело сказал Надежа и взял со стола деревянный ковшик с утиной головой на ручке. – Разом на сердце полегчает!
– Мутно на душе, коли пива нет в ковше! – засмеялся Гостемир.
– Какой-такой праздник? – прогудел Шумила, вытирая рукавом выпуклый, блестящий от пота лоб. Выговорившись, он заметно поостыл и теперь переводил дыхание, как после трудной работы.
– Как какой? Лелин велик-день! – воскликнул Надежа, наливая квасу из большой корчаги. – Стареешь, брат, стареешь, беда! Девичий праздник забыл! А ведь в молодые-то годы только и ждал – а? – Надежа подмигнул гостю, протягивая ему ковшик, и Гостемир с удовольствием засмеялся, вспоминая, как ждал когда-то в юности начала весенних хороводов и игрищ.
В переднюю клетушу вышла наконец Медвянка. Поклонившись гостям, она медленно и торжественно повернулась, чтобы отец мог ее оглядеть со всех сторон. Надежа и оба гостя, любуясь ею, даже забыли, о чем у них шел разговор. Не зря Медвянка надеялась и сегодня, третий год подряд, представлять богиню-Весну в игрищах и обрядах Лелиного велика-дня. У нее были красивые карие глаза, блестящие, как темный янтарь, тонкие черные брови, словно прочерченные угольком, румянец горел на ее щеках непреходящей зарей. Уголки ее ярких губ были чуть приподняты, и это придавало ее подвижному лицу выражение смешливого задора. Хороши были и ее волосы цвета темного меда, густые, тонкие, вьющиеся на висках и надо лбом легкими завитками, и в каждом волоске горел солнечный луч. Богиня Лада одарила Медвянку красотой, Мать Макошь дала ей легкий, веселый и бойкий нрав. Отец не чаял в ней души, все парни Белгорода не отводили от нее глаз.
Сегодня она чувствовала себя особенно красивой и нарядной, постаравшись в честь богини Лели. Наряды были единственным рукодельем, на которое Медвянка не жалела трудов: ее верхняя рубаха из красноватого полотна была украшена многими полосами разноцветной вышивки, из-под нее виднелся подол нижней рубахи, тоже вышитой и крашенной в желтый цвет. На руках ее звенели витые серебряные обручья, на груди пестрели бусы из красно-рыжего сердолика и желтого янтаря, на висках блестели, укрепленные на полоске тесьмы, позолоченные кольца с узорными бусинками, которые отец привез ей из Киева.
– Ах, хороша у тебя дочь! – одобрительно кивая, воскликнул Гостемир. – Хороша! Истинно, сама Леля-Весна! Будь я на двадцать лет помоложе – беспременно бы посватался!
– Спасибо на добром слове, да у нас в городе и своих женихов хватает! – весело ответил Надежа, со значением поглядев на дочь.
Медвянка многозначительно фыркнула, вспомнив о Молчане, и якобы смущенно подняла к лицу рукав
– Да уж я видал вчера! – тоже вспомнив вчерашний вечер, сказал Гостемир, подкручивая ус. – Женихов вам с собаками не искать!
– Собаками со двора гнать! – сдерживая смех, отозвалась сама Медвянка.
Она знала, что в городе будет много болтовни про вчерашнее неудачное сватовство, что многие, особенно имеющие дочерей на выданьи, будут осуждать ее за разборчивость, но ее это не беспокоило. Она очень любила, когда о ней все говорили.
– Ох, боги светлые! – Лелея недовольно вздохнула. – Макошь-Матушка ее дух, видно, из ветра сотворила!
Со вчерашнего вечера она только вздыхала. С одной стороны, иметь в зятьях такого толкового и надежного человека, как Молчан, было бы хорошо, но Лелея была неглупа, хорошо знала свою дочь и не могла не понимать – Медвянка и Молчан совсем друг другу не подходят, в семье их не было бы лада. А без лада какое счастье? Старшая дочка, всегда готовая болтать, смеяться, петь, плясать хоть до зари, была не охотницей до домашней работы, и это не нравилось городничихе.
– Не ворчи, матушка! – защищал свою любимицу Надежа. – Ведь как хороша, добрым людям на радость – посмотришь, и сердце веселится! Как огонек – дом освещает!
– Огонек твой светит, да не греет! Наговоришь ты ей – она и без того привередница выросла, ни на одного доброго парня не глядит. Что же, княжича дожидаться – да где его взять?
– Будут здесь и княжичи! – подхватил боярин Гостемир, который неизменно заступался перед хозяйкой за Медвянку просто потому, что при взгляде на нее у него веселело на сердце. Вот здесь он был целиком согласен с Надежей – за что ее бранить, если она так хороша! – Князь-то, слышали, и старших сыновей с собой в поход берет. Вышеслав, Изяслав, Святополк – все уже молодцы! И больше всех Вышеслав!
– Расскажи, боярин! – Медвянка улыбнулась ему, ее глаза блестели лукавой мольбой.
Княжичи, которых ждали в Белгороде со дня на день вместе с самим Владимиром, занимало немало места в ее мыслях. Ей хотелось хоть разок посмотреть на них, узнать, какие они – сыновья Владимира, внуки Святослава, потомки Дажьбога.
– Да ну тебе, ступай! Собралась, так ступай! – Мать махнула на нее рукой, не давай Гостемиру говорить. Она знала легкий нрав и живое воображенье дочери и беспокоилась – от мыслей о княжичах добра не будет.
– Мы ее за Явора отдадим! – тут же доложила Гостемиру младшая дочка Надежи, которую пока еще звали детским именем Зайка. В свои десять лет она была миловидна, резва и проворна и обещала в будущем не уступить старшей сестре.
Медвянка не стала спорить с матерью, а пошла из клетуши, приплясывая на ходу и смеясь прошедшему разговору. Ей и правда пора было идти. Про княжичей она еще успеет расспросить Гостемира, когда матери не будет поблизости, а упускать что-то из предстоящего сегодня она не собиралась.
Двор Надежи смотрел резными воротами на маленькую площадь в середине детинца, и старший городник, таким образом, жил в самом сердце города и всех его событий. Сюда же выходили дворы тысяцкого и епископа, подле них стояла маленькая деревянная церковь с одной маковкой, покрытой серебристыми плашками осинового лемеха. В детинце было тише и малолюднее, чем в Окольном городе, крепкие тыны белогородской знати стояли величаво и спокойно
Выйдя со двора, Медвянка направилась к высоким воротам тысяцкого Вышени. Она была дружна со старшей Вышениной дочкой и обещала зайти за ней, чтобы вместе идти на Лельник. По дороге Медвянка с удовольствием ловила на себе веселые взгляды, улыбалась всем вокруг, даже напевала негромко. Тесноватая площадь детинца, отсыревшие за зиму бревна тынов, влажная земля, растоптанная копытами скотины и сапогами дружины, были облиты золотом солнечных лучей, и все казалось красивым, потому что говорило о весне. А стоило Медвянке вспомнить, что скоро она увидит и князя, как ликованье вскипало в ней, как бурный весенний ручей. Весна была вокруг нее и внутри нее, она сама была – Весна.
За воротами воеводского двора Медвянка увидела десятника из Вышениной дружины, Явора. Встретив ее взгляд, он остановился, а потом улыбнулся восхищенно и радостно. Яркое солнце слепило ему глаза, от этого казалось, что Медвянка, облитая солнечными лучами, сама излучает этот свет. Она была словно берегиня, рожденная от росы и трав, с блестящими, как молния, очами, лучезарно-прекрасная Денница, дочь светлого солнца.
– Что смотришь, будто глаза примерзли? – задорно спросила Медвянка. – Или не признал?
– Гляжу, не пойму, живая ты или мне мерещится? – не успев подумать, от души сказал Явор.
Медвянка засмеялась, но в сердце была премного довольна и его словами, и восхищением в его глазах. Она была рада, что встретила его – на девичий праздник мужчинам нельзя смотреть, а ей хотелось показаться Явору во всей красе наряда.
– Мерещится-то спьяну, а ты не пьян ли с утра? – со смехом спросила она. – Смотри, воевода увидит!
– Да ты про что! – удивился Явор.
Но Медвянка, все еще смеясь, прошла мимо него к крыльцу женского терема воеводских палат и поднялась на несколько ступенек
– Постой! – Явор вдруг порывисто шагнул за ней и схватил ее за руку. Медвянка обернулась, и смех все еще играл в чистых чертах ее лица. – Постой! – повторил Явор, любуясь ею, и горячо заговорил: – Что же ты бежишь от меня, как от зверя лесного? Или я тебя обидел чем?
– Еще бы не обидел – у честного народа на виду за руки хватаешь! – с лукавым упреком ответила Медвянка и попыталась отнять руку. Явор легко останавливал на скаку жеребца и ломал в ладони еловую шишку – но тонкое белое запястье смешливой девушки легко выскользнуло из его пальцев. Насильно мил не будешь.
Медвянка принялась старательно поправлять витое серебряное обручье, а потом быстро глянула на Явора. Вот оно, дескать, мое обручье. Уж три года ношу, а потом пригожему молодцу отдам, за кого замуж пойду. Не за тебя! Не твоей родне на посиделках рушники вышиваю и пояса плету!
Явор без труда понимал ее взгляды – за несколько лет он узнал лицо Медвянки гораздо лучше, чем свое собственное. Она и правда была – весна, то солнышком пригреет, то ветерком протянет, то прояснится, то нахмурится.
– Хоть сегодня-то, в Лелин день, не беги от меня, – тихо сказал Явор, снизу вверх глядя на девушку на ступеньках крыльца. Медвянке очень нравилось смотреть на рослого Явора сверху вниз, и она задорно улыбалась, чувствуя, что он в ее власти. – Видит Ладина Дочь – никто тебя так не любит и любить не будет вовек, как я люблю.
И ведь правду говорит – никто другой столько твоих насмешек не терпел, – говорила умная часть Медвянки, но она была заперта в самой дальней клети ее души и голос ее был почти не слышен. А русалочий дух, владевший любимой дочерью Лады, уже вытолкнул ответ.
– А ты почем знаешь, как другие любят? – насмешливо отозвалась Медвянка, и ее блестящие глаза говорили: я-то знаю! – Коли ты мужика посадского через тын метнул, так думаешь, что всех одолел? Забыл, чего Обережа говорит: на всякого сильного сильнейший сыщется?
Избавившись вчера от Молчана, она с особым удовольствием вспомнила сейчас тот давний случай. В прошлую Макошину Неделю Молчан хлебнул лишнего в гостях, изменил своей обычной замкнутости и, встретив Медвянку под чьи-то тыном, когда она шла домой с посиделок, решил непременно с ней поговорить о своем сватовстве. Только спьяну он и мог думать, что она согласится! Но она не хотела и слушать. А Молчан схватил ее за руки, прижал к тыну и неловко пытался поцеловать. К счастью, его навык в этом деле был хуже, чем Медвянкин навык уворачиваться. Возмущенная и рассерженная Медвянка пыталась освободиться, но кузнец был слишком силен. Занятый борьбой с девицей, Молчан не услышал сзади шагов Явора, и вдруг чья-то сильная рука взяла его за пояс и приподняла, а вторая ухватила за ворот кожуха и пригнула вперед и мимо девушки, слегка стукнув лбом о тын. Утратив равновесие, замочник тут же выпустил Медвянку и нелепо взмахнул руками, стараясь удержаться на ногах. «Побеседовал с девицей, удалой молодец, а теперь ступай восвояси!» – мирно пожелал ему знакомый голос. Сильные руки рывком подняли Молчана за пояс и за ворот, земля выпрыгнула из-под ног и подбросила, холодно свистнул ветер, ловко проскочили внизу заостренные верхушки полуторасаженного тына, и подмерзшая земля радостно рванулась навстречу заблудшему сыну, вздумавшему полетать, – уже с другой стороны.
Этот случай долго со смехом обсуждал весь Белгород. Надежа благодарил Явора и подарил ему плеть с костяной рукояткой, с навершием в виде волчьей головы. Подарок был с намеком и с предупреждением. Старший городник знал, что Явор и сам непрочь посвататься к его дочери. И вот что тебе нужно будет, если ты мою дочь возьмешь! – хотел бы любящий отец сказать желанному зятю.
А сама Медвянка, с восхищением наблюдавшая полет Молчана, тут же кинулась рассказывать подружкам смешную повесть. Не упустила они ни одной мелочи – только забыла поблагодарить Явора.
– Метнул, – спокойно подтвердил Явор, положив руку на столб крыльца и больше не трогая Медвянку. – И еще метну, коли опять стыд забудет. И покуда не сыскался такой, кто меня через тын метнет, я свою дорогу не брошу. Нет у меня ни матери, ни сестры – ты одна мне всех дороже!
– Я тебе дорога! Выкупить меня – твоей казны не хватит! – крикнула Медвянка и взлетела по ступенькам до самого крыльца.
Явор подался за ней, но она толкнула дверь и скрылась в сенях, только медово-золотистая коса с красной лентой и двумя серебряными монетами-диргемами на конце мелькнули перед глазами огорченного и раздосадованного Явора.
В сердцах ударив кулаком по резному столбу, Явор сел на ступеньку крыльца и угрюмо вздохнул, жалея, что опять заговорил с Медвянкой о любви. Знал ведь, что кроме обиды ничего не добьется, но тоска по Медвянке, и зимой не оставлявшая его, весной вскипела, как горячая смола, а сама девушка показалась ему сейчас еще краше прежнего и слова сами рвались с губ. Казалось, промолчу – задохнусь. Или правда за чужую ложку сдуру схватился, не про меня такая красавица? Явор был высок и статен, но красотою похвалиться не мог: его волосы выгорели на степном солнце почти до белизны, а лицо потемнело, отчего он казался несколько старше своих нынешних двадцати трех лет. В придачу нос его, когда-то давно перебитый, имел горбинку и был немного сворочен в сторону. Такой жених казался Медвянке недостойным ее красоты, и она без стеснения насмехалась над ним. Бывало, Явор по несколько дней отворачивался, проходя мимо Надежиного двора, но красота и прелесть Медвянки снова и снова заставляли его забывать насмешки и прощать обиды. Такую красоту дают богини, а Мать и Дочь не рождают на свет ничего дурного. Только доброе, только на радость. Явор любовался Медвянкой как зарей или радугой, и, страдая от ее насмешливости, в красоте ее находил утешенье.
Все еще улыбаясь после встречи с Явором, Медвянка поднялась в терем. В глубине души ей льстило, что первый молодец в Белгороде, предмет вздохов многих девиц детинца и посада, любуется только ею и не глядит даже на других. Это вам не Молчан! Слова Явора о любви были ей что прыжки через костер – близко к чему-то важному, священному, и страшновато, и весело, под ногами жар, над головой ветер, и дух захватывает, и смеяться хочется. А на отроков в воеводских сенях, встретивших ее жадными взглядами, значительно подтолкнувших друг друга локтями в бока, она глянула без смущения, с задорным вызовом – а ну сунься ко мне, кто хочет полетать через тын!
Весна в этом году выдалась ранней и теплой, семейство воеводы уж с месяц как перебралось из нижних теплых истобок в горницы. Здесь свет проникал не через маленькие волоковые окошки, а свободно лился в широкие окна, закрытые желтоватыми пластинками слюды в частой крашеной красной охрой раме, и светло было так, что иголку на полу увидишь. Лавки, лежанки и лари радовали глаз цветными вышитыми покрывалами – рукодельем хозяйки и ее дочерей. Плахи пола прятались под трехцветным, степной работы ковром с узорами из мягких завитушек. На ковре валялась кукла, сплетенная из мягкой льняной пряжи, одетая в вышитую рубашечку – младшая дочка тысяцкого сама еще не носила девичьей ленты
Старшая воеводская дочь, Сияна, встретила Медвянку в рубахе, с растрепанной косой и со слезами на глазах. Сияне только что исполнилось пятнадцать лет, она была рослой, статной на загляденье. Белое лицо ее с правильными чертами и нежным румянцем было бы красиво, но светлые и мягкие брови и ресницы придавали ей больше сходства с ребенком, чем с женщиной. Сияна была скромна, прямодушна, не тщеславилась своим знатным родом и высоким чином отца. Огонь жизни, который играл в каждой черточке Медвянки, у нее был запрятан глубоко внутри и дремал. Если Медвянка была ярким душистым цветком, к которому со всех сторон устремляются пчелы, то Сияна была еще только почкой, ожидающей солнечного луча, который пробудит ее, даст силы расцвести.
– Ты чего, душа моя, не одета, не прибрана? – удивленно напустилась на нее Медвянка. – Или ты захворала? Или и у вас кмети всех петухов поели?
– Меня отец не пускает на Лельник! – дрожащим от слез голосом ответила Сияна. Ее розовые губы дрожали, а голубые глаза влажно блестели, как цветочки пролески с каплями росы
– Как – не пускает? – изумилась Медвянка. – Чем же ты провинилась?
– Ничем я не провинилась! Говорит, мне не пристало, я, дескать, боярская дочь, мне не к лицу с черной чадью хороводы водить! Раньше не пускал – говорил, мала еще, но теперь-то не мала, мне шестнадцатое лето пойдет, я уже невеста! Все пойдут, а я в горнице буду сидеть, как увечная какая-нибудь, как дурочка безъязыкая…
Тут выдержка совсем ей изменила и Сияна снова расплакалась от горькой обиды.
– Говорит, Христос не велел, грех какой-то, вот еще! – сквозь слезы вымолвила она. – Это все Иван ему наговорил!
– Кто ни наговорил, а надо отца слушаться! – бормотала нянька Провориха, с детства ходившая за воеводской дочерью и теперь еще смотревшая за ее младшими сестрами. – Да не кручинься ты так, голубка моя, мало ли тебе будет веселий! Ты же красавица у нас, как зорька ясная! Тебе ли в печали быть? Что тебе в хороводе этом! Попроси только – тебе отец из каменьев самоцветных велит венок свить, не чета прочим!
Но обе девушки ее не слушали. Легко было говорить няньке, много лет покрытой вдовьим повоем и поседевшей под ним. А для них, будущих невест, велик день Лели-Весны, заклинающий тепло и цветенье, предваряющий игрища и свадьбы русальего месяца кресеня, был важнейшим днем этой поры. Лишиться его было нестерпимо обидно. Кто он такой, этот болгарин Иоанн со своим богом Христом, почему он запрещает радость юности?
– Может, матушка за тебя заступится? – утешала Сияну Медвянка
– Пробовала матушка, да он не слушает! Бискуп, говорит, огневается, князю расскажет, что, мол, тысяцкий в Белгороде Христа не почитает, а дочерей своих на бесовские пляски пускает. Я сама слышала, как они в гриднице говорили. И без того бискуп зол, что у нас ведун в детинце живет, а тут еще я… А скоро же князя ждут, отец и боится… Да с чего он взялся, Христос этот, что ему в наших весельях? Он – сам собой, а как же без Лели? Может, он и весне не велит быть?
Сияна плакала, уткнувшись в платок, не в силах ничего договорить до конца, но ее обида на отца, на епископа и на Христа были ясны и без слов. Все трое непонятно почему лишили ее веселья Ладиных и Лелиных игрищ, Сияна была разобижена и несчастна.
– Может, на Ярилин день он тебя пустит, – говорила нянька. Отняв у девушки мокрый платок, она дала ей новый и поглаживала свою питомицу по вздрагивающим плечам. – Тогда ведь князь уже в походе будет, он и не проведает ничего. А там и Купала скоро!
– Ах, да не плачь ты! – сказала Медвянка. Слова Проворихи о князе напомнили ей о том, о чем она сама думала так часто. – И правда, хватит тебе и после хороводов! Зато скоро у вас тут князь будет, и кмети его, и бояре, и княжичи! Вот бы мне на них хоть глазком поглядеть! А ты-то с ними всякий день за столом сидеть будешь! Не плачь, а то так и будешь зареванная, некрасивая. А будешь хороша, да приглянешься какому-нибудь из княжичей, он к тебе посватается – княгинею будешь!
Медвянка воодушевленно вздохнула, мгновенно представив всю череду этих замечательных событий, только на месте Сияны она видела себя. Но, по воле Матери Макоши, Пряхи Судьбы, каждой свое – Медвянку едва ли позовут в княжескую гридницу.
Сияна перестала плакать и теперь только водила платком по щекам и по покрасневшему носу. Она уже смирилась со своим несчастьем, но слова подруги ее мало утешили. Вот она-то вовсе не думала о кметях и княжичах и с радостью променяла бы их всех на свободное веселье в хороводе, без няньки и напоминаний о боярской чести. Но помочь горю было нечем – тысяцкий хотел жить в мире с епископом, даже если это угрожало миру в его собственной семье.
И в рощу за крепостной стеной, позади окружавших Белгород оврагов, Медвянка отправилась одна. Впрочем, это ее не слишком огорчило – чужие слезы скатывались с ее сердца, как роса с листа. Трисветлое Солнце прежним блеском встретило ее на дворе, и Медвянка забыла огорчение Сияны. Жалко, конечно, подругу, но нельзя с грустью в сердце идти величать Богиню-Весну – огневается! И Медвянка снова пела, призывая благодетельную силу Дочери:
Перед воротами детинца, где выходил к ним кожевенный конец, стояли, дожидаясь Медвянку, еще две подружки, дочери тульника Укрома. Девушки были похожи друг на друга, но каждая была хороша по-своему, у обеих подолы рубах вышиты в девять рядов, в русых косах ленты, рукава стянуты у запястий плетеной тесьмой, по пять разноцветных стеклянных бусин блестело на шее у каждой – немалое богатство для Окольного города! В ожидании им не давали скучать три парня – два кметя и один свой, из кузнецов. Обе Укромовны весело смеялись, слушая их – ни одна не будет обижена вниманием. А парни помнили, что один из них лишний, и каждый был уверен, что уж точно не он! Завидев Медвянку с увязавшейся за сестрой неугомонной Зайкой, девушки тут же вспомнили, что время болтать с парнями придет только вечером, и в притворном негодовании замахали на них руками – не держите, не до вас, мы идем Богиню-Дочь славить! Укромовны устремились следом за Медвянкой, парни провожали их глазами, приглаживая волосы и оправляя пояса. Вечером и поглядим, кто будет лишним
На опушке рощи Медвянку уже дожидались девушки, собравшиеся сюда со всего Окольного города и из детинца. Богаче всех были одеты и убраны девушки из дружинных родов. Князь Владимир прочно славился своей ратной доблестью и удачей, его воины часто привозили из походов добычу. Дочка сотника Велеба, Веснушка, сама была некрасива – у нее были большие выпученные глаза, толстые губы, волосы будто бронзовая проволока. Но серебряными украшениями она блестела, как рыба чешуей. На синей ленте, обвивавшей ее голову, было укреплено не два, не четыре, а целых десять колец-заушниц, которые ее отец привозил из разных походов. Даже Медвянка на миг позавидовала сотниковой дочке.
Каждая девушка принесла из дому угощенье, заменившее древнюю жертву: пироги, сметану, молоко, лепешки, особенно много было вареных яиц, расписанных цветными узорами. Сложив подношенья Ладе и Леле на заранее устроенной дерновой скамье, девушки разбрелись по роще искать цветов себе на венки. Цветов в эту пору было уже много, и всякая цветочная головка, белая, желтая, розовая, голубая, глядевшая из зелени травы, приветливо кивала, словно говоря: Леля-Весна пришла, проскакала по земле на золотом коне, и там, где ударил он жемчужным копытом, оттает земля, пробьется к свету трава, расцветут цветы. Идет в мир долгая пора тепла и света, а зима с ее тьмою, холодом, дымным угаром темных полуземлянок осталась позади.
Медвянка радостно шла по березняку, потоки весеннего свежего тепла овевали ее, струились от дышащей земли, от белых стволов берез, от чистого неба. Сама себе она казалась легкой-легкой: выйди на поляну, раскинь руки – и полетишь. Она ступала осторожно, чтобы поменьше мять юную травку, гладила белые стволы берез с черными глазками, теплую, нагретую дыханием Ярилы. Легкий белый пух березовой коры приставал к ее пальцам, и она ладонью чувствовала, как под кожей сестры-березы бьется и бежит сок. И в ней самой, как в березке, росла радость новой весны, пробужденная дыханием молодого, буйного божества – Ярилы. Словно чьи-то зоркие глаза с дружеским любопытством наблюдали за ней из гущи ветвей. Сам Догода – свежий весенний ветерок – бродил по березняку, шевелил и гладил ветки, и Медвянка оглядывалась, всякий миг ожидая увидеть его – в остроконечной шапке, из-под которой виднеются турьи рога, с легким посохом в руках, покрытом зелеными побегами, с доброй улыбкой на лице
Медвянка забрела в рощу дальше всех, но не замечала этого: ей казалось, что она прямо от опушки вошла в иной мир, прозрачный, светлый и прекрасный, в тот небесный край, где сама Леля проводит лето, осень и зиму.
Меж стволов засветилась широкая прогалина, Медвянка вышла на поляну и вдруг ахнула: в бледной зелени вокруг серого пня светились маленькие белые звездочки. Подснежники! Не боясь запачкать рубаху, Медвянка опустилась на колени и не сразу решилась протянуть руку к тонкому, почти прозрачному белому цветку. Сам Догода, видно, привел ее на эту тайную полянку, где так щедро рассыпаны эти цветы, слезы радости Лели от встречи с бабушкой, Макошью-Землей.
С пучком подснежников Медвянка явилась на поляну, где ее уже ждали и аукали. Завидев ее с подснежниками, девушки окружили счастливицу, дивясь и завидуя. Видно, только Медвянке должны были даться в руки светлые дары Лели-Весны, только ей и пристал венок Дочери. Девушки свили венок из разных пестрых цветов, украсили его подснежниками, словно жемчугом. Румяная, с блестящими глазами, в ярком душистом венке Медвянка была прекраснее всех. Богиня-Весна не постыдится вдохнуть в нее свой дух, облачиться в ее тело и быть среди них, благословить их судьбу.
Лелю-Медвянку усадили на зеленую дерновую скамью, положили возле нее каравай хлеба, с другой стороны поставили кувшин молока, горшочек сметаны, разложили крашеные яйца. К ногам ее грудой сложили венки из травы и цветов. Гончаровой дочери Живуле посчастливилось найти россыпь лесных фиалок, и ее лежащий сверху венок смотрел на прекрасную Лелю множеством удивленных синих глаз.
Вокруг Лели водили хороводы, пели величальные песни, желая, чтобы вся земля расцвела так же прекрасно, дала бы роду людскому столь же обильные дары, чтобы на каждую девушку перешла часть ее красоты и жизненной силы.
В благодарность Леля-Медвянка раздавала девушкам яйца, бросала им венки – которая поймает, та скоро выйдет замуж
В разгар веселья до слуха девушек стал долетать шум со стороны дороги. Сначала они не обращали внимания на стук множества копыт – в эти дни белгородская дорога только ночью затихала. Но этот шум и невнятные крики казались особенно громкими. Одно только слово – «князь», невнятно долетевшее до поляны, заставило всех встрепенуться.
– Князь! – первой воскликнула сама Леля-Медвянка, а за нею и все загомонили: – Неужто князь приехал! Дождались! Бежим посмотрим!
С венками на головах девушки бросились бежать к опушке. И они не ошиблись: к мосту через ров к воротам города подъезжал отряд, который мог принадлежать только князю. Три десятка витязей, покрытых красными плащами, на одинаковых вороных конях, пестрая стая воевод в боярских бобровых шапках – конечно, это его ближняя дружина, хотя и не вся. Острые глаза Медвянки мигом выхватили из пестрого строя багряный княжеский плащ. Это был он, сам светлый князь Владимир Красно Солнышко! На Киевщине все знали его в лицо, и сейчас он показался всем красивее, бодрее обычного – то ли князь радовался близкому походу, то ли и его не оставило равнодушным дыхание весны.
Кмети-детские заметили пеструю стайку девушек, появившуюся на опушке рощи, замахали им руками, что-то весело закричали. Девушки смеялись, закрывались рукавами. Видно, сам Перун послал им лучших своих внуков для игрищ и хороводов нынешнего вечера. Кмети из ближней княжеской дружиной были мечтой, сладким сном любой девицы на Киевщине – они не только сильны, ловки и удалы, на них лежит благословение богов, и любовь их – все равно что любовь самих небесных Братьев-Воинов.
Князь уже вьезжал в ворота, но придержал коня и обернулся. Взгляд его ясных серо-голубых глаз упал на Медвянку, словно молния, выбрав ее одну, минуя всех, и у нее захватило дух. Она стояла на опушке рощи, под зелеными шепчущими березами, гордо выпрямившись, как хозяйка, княгиня этого весеннего дня. С венком из подснежников на волосах, медом и золотом горящих под солнцем, с пылающими щеками, в красноватой рубахе, она показалась самой богиней Лелей, в свой велик день вышедшей из березняка приветствовать светлого князя.
Владимир Святославич подался к одному из своих спутников, русобородому великану с серым волчьим хвостом на шапке, и спросил что-то, показывая глазами на Медвянку. Тот недоуменно покачал головой. Тогда один из ехавших рядом кметей, предупреждая желание князя, тут же оторвался от строя и во весь мах поскакал к опушке рощи, топча молодую травку и разбрасывая комья грязи из-под копыт. Девушки с визгом бросились бежать и скрылись в роще. Смешавшись в первый миг, Медвянка тоже сделала шаг назад, но наткнулась на березу и осталась стоять, опираясь спиной о белый ствол. Этот всадник на вороном коне, в белой рубахе и с красным плащом за плечами, с мечом в серебряных ножнах на поясе, мчался на нее стремительно и медленно-медленно, как во сне. Брызгами разлетался чистый звон от серебряных подвесок на сбруе его коня, всадник казался Медвянке божественным виденьем – как сам Яровит, младший из Небесных Братьев, время которого – весна.
В последний миг, в двух шагах от прижавшейся к березе девушки, кметь резко осадил коня, а сам птицей спорхнул на землю. Боевой выученный конь встал, как вкопанный, а всадник, держа блестящую серебряными бляшками узду, шагнул к Медвянке. Золотая серьга поблескивала в его левом ухе под светлыми кудрями, вольно вьющимися безо всякой шапки на радость девицам, а голубые глаза его смотрели на Медвянку радостно и ласково.
– Не бойся меня, краса-душа! – весело улыбаясь, воскликнул парень. – Не ворог я, не лиходей!
– А я и не боюсь! – уверенно ответила Медвянка. Парень показался ей статным и красивым, и даже шрам на щеке, полуприкрытый небольшой светлой бородкой, его не портил. Глаза ее загорелись прельстительным задором, и стало видно, что она не богиня, а простая смертная девушка.
– Как тебя звать? Какого родителя дочь? – спросил кметь, быстро обшаривая острым взглядом ее лицо и фигуру. – Чего смеешься, не я спрашиваю, князь Владимир Святославич спрашивает!
– Звать меня Медвянкой, а отец мой – Надежа-городник, – ответила Медвянка, словно бы с усилием одолевая смущение – но что же делать, раз спрашивает сам князь? Но при этом она не могла не коситься в сторону ворот – ей отчаянно хотелось знать, смотрит ли князь еще на нее, – но кметь загородил от нее дорогу и мост через ров.
– Надежу мы знаем! К такому умельцу и князю в гости не зазорно пожаловать! – Парень улыбнулся и подмигнул Медвянке, намекая, что сам тоже не прочь зайти.
– Мой отец и князя сумеет принять, как подобает! – ответила Медвянка, а лукавым взглядом досказала: и ты приходи.
– Кланяйся батюшке, краса-душа!
Кметь вскочил в седло – красный плащ его метнулся языком пламени – и поскакал назад к воротам. Князь тронул коня, весь его отряд потянулся в город, застучали копыта по бревнам моста.
Медвянка провожала глазами княжескую дружину, и улыбка сама собой засияла на ее румяном от свежего ветра и волнения лице. Сбывалось то, о чем она и мечтать не смела. Подружки сбежались к ней, тормошили, расспрашивали, завидовали – ведь сам князь отметил ее вниманием! Кметь из ближней княжеской дружины говорил с ней! А Медвянка даже не отвечала им – небывалый восторг бурлил в ее певучем сердце, ей хотелось плясать и смеяться. Поистине, Лада и Ярило подарили чудо своей любимице!
Медвянка и думать забыла о прерванном величании Лели: взгляд светлого князя заменил ей праздник. Другие девушки тоже не вспоминали о нем – приезд дружины занимал их гораздо больше. Только гончарова дочь Живуля стояла позади всех и не смотрела даже на дорогу, а бережно держала свой венок с синими глазами фиалок. Она тревожилась, не разгневается ли Дочь на то, что праздник в ее честь так скоро прервали. Видно, этой весной даже богиня Леля была принуждена уступить дорогу Небесным Братьям-Воинам – Яровиту, Перуну и Трояну.
Глава 2
С приездом князя Владимира словно само солнце вошло в Белгород. Суета и гомон обрели смысл и упорядоченность. Князь привел с собой только треть своей ближней дружины, еще не все обещанные городами полки подошли, но теперь каждому сделалось ясно, что подготовка кончается, поход близок, и вот-вот турий рог даст знак вступать в стремя
В семью старшего городника приезд князя принес одно беспокойство. Взволнованный рассказ сияющей Медвянки о том, как на нее смотрел сам князь, сильно напугал Надежу и Лелею. По Киевщине давно бродили слухи о чрезмерной любви светлого князя Владимира к красным девицам, и число его сыновей от разных жен было красноречивым тому подтверждением. А Надежа вовсе не хотел отдать свою любимую дочь на княжескую забаву.
– Вот угораздило, прогневили мы богов! – причитала Лелея. – Мати-Макоше, смилуйся, оборони от беды! И куда тебя только понесло, коза ты безголовая! Сраму не оберешься!
– Да не плачь ты, мать! – скрывая досаду, пытался утешить жену Надежа. – И мы не холопы, не смерды сирые, чтоб князь нас так обидеть мог! Силой не потащит он нашу девку к себе!
Но Лелея не верила утешеньям и горевала. Надежа строго запретил Медвянке выходить во двора, а челяди велел никого из киевских на двор не пускать, а коли полезут силой, скликать людей будто о татьбе и разбое. Медвянка была обижена и расстроена, спорила с отцом, даже плакала. Вот когда она до конца прочувствовала горе Сияны, которую не пускали на Лельник! То, в чем она видела радость своей жизни, было наглухо заперто от нее родительской строгостью. И почему? Про князя всегда с три короба наврут, не сделает он им ничего дурного! Но Надежа был непреклонен.
– Буде тебе гулять, догулялась! – с непривычной суровость сказал он ей. – А мне внука приблудного не надобно, хоть и княжьего рода. Пусть князь себе забавушек у кого другого поищет. Вот будем князя в поход провожать – посмотреть и тебя возьму. А покуда мне носа не смей казать из ворот!
Даже сидя за столом в княжеской гриднице, Надежа чувствовал себя как на еловой лапе, ерзал, едва притронулся к угощениям и все посматривал на князя. Но Владимир-Солнышко, поприветствовав Надежу наравне с прочими, больше на него не глядел. О его любви к красивым девушкам люди не лгали, но перед далеким походом у него были другие заботы.
А вокруг него все пировали, кричали славу князю, хвалились ратной доблестью. Только один человек, как и Надежа, не разделял общего веселья. Сотник Велеб сидел мрачный и только пил кубок за кубком пахучий малиновый мед. В этот раз его сотня не шла в поход, а оставалась беречь Белгород. Добыча и слава на сей раз достанутся другим, и ничто не могло утешить Велеба.
На другой день весь Белгород гудел новостью – князь с большой дружиной идет на чудь! Многие радовались, надеясь на богатую добычу, но кое-кто беспокоился.
– На чудь-то хорошо, а как бы не пошли бы на нас печенеги! – толковал Надеже сосед, старшина сереброкузнецов Вереха. – Пора для них удобная – травень, как бы по траве по новой не наладились они к нам! Прослышат, что князя нету и войска нету… Вот, остается у нас Велебова сотня, а что сотня сделает? В орде же тысячи несчетные! У нас один воюет, а на него семеро пашут. А у степняков – ни пахать, ни сеять, сколько мужиков, столько и воев, на нашего одного ихних десять! Стены-то у нас крепкие, да в осаде сидеть – припасы надо. Обещал князь дать припас, да где он? Ты его видал? И я не видал. Вот и думай, что нам с сего похода ждать, добра или худа. Как по-твоему, Явор?
Явор тоже был здесь. Надежа увидел десятника на улице и сам зазвал в гости. Явор пришел охотно, надеясь повидать Медвянку. Она сидела в углу, ни на кого не глядя, неразговорчивая и угрюмая. Несмотря на все уговоры, отец держался своего решения не выпускать ее со двора. Медвянка была просто убита таким разочарованьем, но ослушаться не смела. Меньше прежнего расположенная заниматься полезным делом, она бродила по дому и по двору, вслух жаловалась на судьбу и завидовала Зайке. Младшая сестра вольно бегала по всему детинцу и вместе с другими детьми целыми днями сидела у ворот княжеского двора, любовалась на бояр, кметей и их коней в блестящей серебром упряжи, а потом возбужденно пересказывала сестре все, что видела. Но Медвянку это мало утешало. Где-то там, на площади за тыном, ходил тот самый голубоглазый парень из детских, показавшийся ей самим Яровитом. Иногда Медвянке казалось, что она слышит в гуле голосов за тыном и его веселый голос, что-то кричащий, поющий, смеющийся. Он был так близко, но они не могли увидеть друг друга. Медвянке казалось, что за неизвестную вину она одна не допущена на всеобщее веселье.
И Явор, не сводящий с нее глаз, вызывал у нее только досаду. Куда ему до киевских витязей! Он был таким скучным и невзрачным по сравнению с киевлянами, что Медвянку даже злила его упрямая надежда ей понравиться. А киевская дружина завтра-послезавтра уйдет в поход и она, быть может, никогда уже не увидит ни княжичей, ни воевод, никого, кроме Явора с его кривым носом! Медвянке было тоскливо и досадно, а одолевать дурные чувства она не умела.
А Дунай Переяславец, занявший столько места в ее мыслях, тем временем вовсе не думал о ней. Его увлечения быстро загорались и быстро угасали, ему нравились все девушки на свете, но ни к одной он не был по-настоящему привязан. Его занимало только то, что было у него перед глазами. А с глаз долой – из сердца вон. В другое время и с Медвянкой бывало так, но теперь, в домашнем заточении, ей было не на что отвлечься и не о чем больше думать. А Дунай в потоке забот и новых впечатлений давно потерял из памяти ее образ. Небесный его покровитель – Яровит – влек его к новым и новым встречам, разговорам, мечтам.
Не таков был Явор. Его чувства и привязанности возникали не так легко и не давались кому попало, зато держались крепко. Однажды полюбив Медвянку, он любил ее в дали и вблизи, в радости и в печали. Никакой поход не мог заставить его забыть о ней – среди дел и забот он любовался ее образом в своем сердце и черпал в нем сил для нелегкой ратной службы. Может быть, Медвянка и не стоила такой глубокой и сильной любви, но таким был сам Явор, такими были и его чувства – делить себя он не умел.
Сейчас Явор видел, что Медвянка не хочет разговаривать с ним, но то и дело поглядывал на нее. Его тревожил ее расстроенный вид – он тоже слышал о ее встрече с князем и думал, что она боится злых языков. Он и пришел сюда сегодня, чтобы узнать, не нужна ли ей защита, и Надежа был всем сердцем благодарен ему за это.
Услышав свое имя, Явор отвлекся от мыслей о Медвянке и повернулся к Верехе.
– Как мыслишь – ждать ли нам летом печенегов? – повторил сереброкузнец.
– Не посмеют! – уверенно ответил Явор. – В прошлое лето из-под Васильева так их погнали, что долго помнить будут.
– Так ведь сколько городов тогда полки собирало! – воскликнул Вереха и принялся вспоминать: – Из Киева были, из Овруча, из Чернигова самого! А ныне-то где они все? Все в чудь идут, а мы с чем остаемся?
– Как так – с чем? – вскричал Надежа и выразительно махнул в сторону Явора. – А нашего тысяцкого дружина? Наши-то соколы ясные с нами остаются – да пусть хоть три орды под город придут, я бояться и не подумаю!
– Одно хорошо – за твоими стенами нас не взять! – сказал Вереха. – Истинно, как в Перуновом Ирье живем!
– С такими стенами и дружины не надо, – негромко и язвительно сказала Медвянка. Она обращалась якобы к матери, но бросила быстрый колючий взгляд на Явора. – Хорошо в белгородской дружине служить! Знай себе у ворот стой, да по улицам похаживай, да на девиц поглядывай!
Явору нетрудно было понять, в кого она метит своей речью. Медвянка видела, что он задет ее словами, но не унималась.
– Боги милуют – на Белгород вороги не идут, а искать их – заботы нет! – продолжала она. – Кто посмелее – те с князем идут, в чужих землях себе ратного дела ищут. А иные, хоть и воями зовутся, да воюют с тараканами возле теплой печки!
Этого Явор уже не мог пропустить мимо ушей. К ее насмешкам над его перебитым носом он уже привык, но эти нападки его сначала удивили, а потом обидели. Свою службу на рубеже степей он считал и важной, и трудной не менее, чем покорение дальних земель. Гордость воина мешалась в его сердце с обидой любви, он помрачнел и нахмурился.
– Не про меня ли толкуешь? – глухо, отрывисто спросил он, исподлобья глядя на Медвянку.
А она словно бы обрадовалась, что проняла его своими словами.
– Хотя бы и про тебя! – с вызовом ответила она и отбросила шитье, которое бесполезно ковыряла иголкой. – Про кого же мне толковать, как не про тебя? Проходу от тебя нет! Куда ни повернусь – опять ты рядом толчешься! Вся удаль твоя на девок ушла! А как князь в поход идет – только тебя одного и не видать!
– Вот как ты про меня! – Лицо Явора побледнело даже под загаром, потом потемнело от прилившей крови, дыхание участилось.
Каждое слово Медвянки, ее презрительный взгляд били его в самое сердце, словно железный наконечник стрелы. Никогда еще ему, выше всего ценившему ратную доблесть, не приходилось слышать обвинений в лени и трусости. Ни от кого он и не потерпел бы их, а в устах любимой им девушки они были страшнее смерти. Вот чем она отплатила ему за любовь! И сама она вдруг показалась ему вовсе не красивой, а злой, как омутница с холодными глазами и мертвым сердцем. И как раньше его тянуло к ней, теперь резко толкнуло прочь – хотелось бежать от нее подальше, чтобы не видеть презрения в ее блестящих глазах, не слышать этих несправедливых упреков, так остро жалящих и его любовь, и его гордость.
– Ну, благодарю – надоумила! – с трудом переводя дыхание, выговорил Явор. – И верно – чего я здесь-то не видал? И на чудь пойдешь – только бы глаза мои тебя вовек не видали!
– Хорошо надумал! – раздраженно одобрила Медвянка. – Ну, чего же ты не идешь? Беги скорей, а то передумаешь!
Явор вскочил со скамьи.
– Спасибо за дружбу, хозяин, пора мне! – глухо бросил он Надеже и стремительно вышел, даже раньше, чем удивленный хозяин успел хоть что-то ответить ему.
Видя, что наделала своими словами, Медвянка была и довольна, и несчастна разом. Ей хотелось всех прогнать от себя и горько расплакаться. Она редко чувствовала себя несчастной, но в это недолгое время обида на весь свет терзала ее, как все двенадцать злых сестер-лихорадок.
Быстрыми сердитыми шагами Явор вышел со двора Надежи и направился к воеводским воротам. В нем кипел гнев на девчонку, которая судит о том, чего не знает и не понимает. Его жег стыд, что он так долго смотрел на нее обожающе-помраченными глазами. Словно протрезвев, Явор увидел ее по-новому, и она уже казалась ему не лучезарной Денницей, а только недоброй и бессердечной девицей. Макошь дала ей красоту, но не дала сердца. «Да и чего в ней нашел хорошего? – с досадливым удивлением думал Явор по пути к воеводскому двору. – Вон, в гончарном конце Егоза – тощая да рыжая, тоже только и знает, что вертеться да хихикать – ничем не хуже. Видно, от безделья одурел, как будто сглазили меня! Весь город знает! За спиной смеются!» Ему хотелось скорее забыть и Медвянку, и свое помрачение, убежать куда-нибудь подальше – да хоть в чудской поход, сбросить с себя эту дурную любовь, как старую кожу. Явор знал, конечно, что сотня Велеба, в которую входил его десяток, по жребию остается в Белгороде, но теперь, после упреков Медвянки, не мог смирить со своей бесславной участью и хотел просить тысяцкого отпустить-таки его в поход. Здесь ему без труда найдется замена, а место его – в походе. Не пристало мужчине, воину, сидеть сиднем в городе за крепкими стенами! От чего белгородцев оборонять – от дурного домового? С этим делом старый Обережа лучше управится.
Хоромы князя и тысяцкого стояли на одном широком дворе, обнесенные общим тыном, и соединялись меж собой просторными сенями. Сейчас на дворе было людно и шумно. Горделиво расхаживали щеголеватые кмети из княжеской ближней дружины, бегали челядинцы, сновали разные купцы, ремесленники. Всех расталкивая и никого не замечая, Явор взбежал на крыльцо терема и в сенях перед гридницей столкнулся с кем-то из детских. Даже не глядя, тот быстро и чувствительно толкнул его в плечо, шагнул вперед, заступая Явору дорогу, и только потом обернулся.
Словно конь, остановленный на полном скаку, Явор яростно впился глазами в неожиданное препятствие. Толчок уже был нешуточной обидой, а сейчас Явор менее всего был склонен прощать. Этого парня он знал – да и кто не знал Дуная Переяславца, его золотую серьгу в левом ухе и шрам на щеке, о котором он рассказывал всякие небылицы?
– Куда несешься, будто тур за коровой? – насмешливо ответил Дунай на гневный взгляд Явора. – Того гляди, стену лбом прошибешь, княжьи хоромы завалишь!
Расправив плечи и уперев руки в бока, киевский витязь стоял перед белгородским десятником, не пуская его к дверям гридницы. Дунай был на пару лет моложе Явора, но многолетнее положение княжеского любимца приучило его на всех смотреть свысока, будь то хоть боярин, хоть воевода, не сидящий, как Дунай, каждый день за княжеским столом. По своей близости к князю детские считали себя выше всех прочих, а Переяславец, статный, веселый и удалый, был воплощением всех их лучших качеств, их гордостью и отрадой самого князя Владимира-Солнышка.
Детские вокруг дружно рассмеялись, их смех хлестнул Явора больнее плети. А Дунай продолжал, оглядывая Явора с насмешливым удивлением:
– Откуда ж такой скорый? Не пожар ли? Не петух ли клюнул?
– К князю мне, – бросил Явор и хотел его обойти, но Дунай снова оказался перед ним.
– Занят князь с воеводами, не до тебя, – с пренебрежением ответил он Явору. Весь его уверенный вид показывал, что в его власти пустить или не пустить к князю.
Но и Явор был непрост – в хоромах воеводы Вышени его слово значило немало, и он не мог стерпеть, чтобы заезжий гость не давал ему пройти.
– А ты мне не указывай! – с резкой досадой ответил он. Явор знал, что Переяславец – один из первых любимцев князя Владимира, но сейчас ему было на это наплевать. – Ты-то здесь в гостях, а я дома!
– Мы при князе везде дома, – уверенно ответил Дунай и смерил Явора любопытно-испытывающим взглядом. Оба они были одного роста, но казались неровней. Даже сегодня, в будний день, Дунай был одет в нарядно вышитую рубаху, обут в красные сапоги, на груди его сверкала витая серебряная гривна, широкая – впору седому воеводе. Красный плащ его был сколот на плече серебряной запоной варяжской работы, серебряные бляшки на поясе сверкали сплошной чешуей. Светловолосый и кудрявый, с ясными голубыми глазами и белыми ровными зубами, любимец князя был и любимцем всех киевских девушек. Куда было до него десятнику сторожевого города! Лицо Явора, потемневшее от гнева и внутреннего напряжения, сейчас казалось страшным. И рубаха на нем была грубее, и сапоги проще, и бляшек на поясе всего ничего.
– Здешний, стало быть! – Дунай снова усмехнулся. – Застенный сиделец! Хорошо ли вам тут живется, не тревожат ли мухи? Вы бы хоть ворота иногда отворяли, ветерка бы впустили, а то у вас тут и не продохнуть!
– Пригрелись они тут, уж выйти в поле и боязно! – подхватил его насмешки другой киевлянин.
– Куда там – ноги-то затекли от сиденья! – Бока болят от лежанья!
Детские стояли кругом Явора и Дуная, смеялись, поддерживали своего. Но Явор больше никого не видел. Он смотрел только на Дуная, в его красивое, уверенное, смеющееся лицо. Откуда в нем столько гонора – в палатах княжеских нашел его, а палатах и красуется, а вот каков он в поле будет? И чем он серебро свое заслужил – застольными песнями? И все же перед Дунаем Явор сам себе казался мужиком-засельщиной, и чувство незаслуженного унижения усиливало его гнев и досаду. Раздражение и обида кипели в нем, а Дунай словно нарочно разжигал их.
– Чего на дороге стал? – отрывисто бросил Явор Дунаю, сдерживаясь из последних сил. – Пусти!
Но Дуная нелегко было напугать – его это все только забавляло. Взгляды и смех товарищей-детских подзадоривали его и без того беспокойный нрав.
– Нельзя такому горячему к князю – палату запалишь! – весело отозвался он и с вызовом предложил: – А надобно тебе – так пройди!
Явор сорвал с плеч мешающий плащ, а Переяславец уже стоял перед ним, готовый встретить удар. Нет, не только на словах он был ловок – Явор даже не заметил, как он успел это сделать, перелился, словно язык пламени. Киевляне волной откатились по сторонам, освобождая место. Кулаки Дуная были привычно готовы к драке, смех исчез с его лица, но голубые глаза смотрели так же ясно, вызывающе и уверенно, словно говорили: «Ну-ну, давай, поглядим, на что ты годишься, а я-то и не таких перекидывал!»
Каждый из детских мог одолеть пятерых, но в Яворе сейчас была ярость рыкаря. По его темному лицу Дунай это понял и внутренне приготовился к нешуточной драке. Явору и в голову не пришло – сейчас он ни о чем не способен был думать, – что нечаянно он сам устроил себе испытание, необходимое для приема в княжескую ближнюю дружину. Даже если он не одолеет Переяславца, а только будет не слишком быстро им побежден, то и этим докажет свое право быть среди витязей князя-Солнышка.
Противники подались друг к другу, но вдруг где-то рядом высокий девичий голос отчаянно вскрикнул: «Нет, стойте!» – и словно голубая птица пала откуда-то сверху и метнулась между Явором и Дунаем.
Оба кметя невольно отшатнулись прочь, на лицах обоих было одинаковое изумление. А между ними оказалась, разведя руки, как крылья, воеводская дочь Сияна. Никто не знал, как она здесь оказалась, только нянька ее охала в верхних сенях: ее старые ноги не поспевали за проворной девушкой.
– Да как ты смеешь такие слова ему говорить! – гневно и взволнованно выкрикивала Сияна в лицо удивленного и растерявшегося от неожиданности Дуная, перед которым вдруг оказался совсем не тот противник. – Вы, киевские, сами только и знаете, что в сафьяновых сапогах красоваться да славою хвалиться, а где она, ваша слава, – в тридевятых землях вся, куда и ворон костей не заносил! На ляхов ходите, на хорватов, на чудинов, а нам-то что с них? А Явор не славы себе ищет, он нас тут от степи бережет! У тебя я не знаю за что гривна на шее, а у него – за полон малоновгородский! У баб тамошних, у детей спроси, что он у Родомана отбил, от неволи избавил! Вы идете себе славы искать, а он нас беречь будет – да мы его одного на десяток таких не променяем! И не смей смеяться – чтоб глаза твои бесстыжие на него глядеть не смели!
Сияна сердито сжимала кулаки перед грудью, браслеты на ее белых руках звенели, щеки разгорелись от волнения, а глаза блестели, как голубые звезды гнева. Даже слезы появились в них от обиды за Явора и всю белгородскую дружину. Сияна хорошо знала заслуги Явора, а прямой и справедливый нрав не позволял ей молча слушать, как над ним насмехается киевский щеголь.
Ни слова не отвечая, Дунай отступил назад, в удивлении глядя на Сияну и даже не пытаясь защититься, хотя было чем. Свою гривну он получил из рук князя Владимира после прошлогодней васильевской битвы за то, что помог уберечь от гибели юного княжича Мстислава. Свой знаменитый шрам на щеке он вынес оттуда же, и с ним еще другой, длинный и глубокий, но скрытый под рубахой на боку и известный немногим. От той раны Дунай едва не умер и выжил, по увереньям васильевской ведуньи Веснавы, только молитвами всех киевских девушек. Но сейчас Дунай даже не заметил того, что его самого обижают напрасно. Он видел в гриднице дочь воеводы Вышени, но она сидела за столом тихо и скромно, не поднимала глаз, не говорила ни слова, не отвечала на шутливые похвалы князя Владимира и казалась совсем еще девочкой. А сейчас она преобразилась: откуда-то взялись и стать, и решимость, и красота. И в его глазах Сияна вдруг увидела совсем не те чувства, которые хотела вызвать – не стыд, а удовольствие. Любуясь ею, Дунай и не осознал ее упреков. И она вдруг смутилась, воодушевление отхлынуло.
– Да еще и драться задумал – у нас в хоромах, да нашего же побить! – добавила Сияна, но уже не так уверенно, голос ее зазвенел скрытыми слезами. – Коли собрался на чудь, так на чудинов бы удаль и берег…
Но тут силы ее кончились: она не могла больше выдержать такого высокого и сильного волнения, которое восхищенные глаза Дуная только подогрели. Слезы переполнили глаза Сияны и быстрыми ручейками побежали по щекам. Прижав к лицу ладонь, она бросилась прочь так же стремительно, как появилась, и торопливо поднялась по лесенке в горницы. Ей сделалось нестерпимо стыдно за то, что она вмешалась в спор мужчин, столько всего наговорила, да еще и расплакалась у всех на глазах.
Все бывшие в сенях удивленно провожали ее глазами: киевляне даже не все знали, кто эта высокая девушка с сияющей золотой косой. Дунай растерянно потер шрам на щеке и улыбнулся, думая, как удивительно выросла и похорошела маленькая дочка Вышени.
Явор был не меньше его изумлен заступничеством воеводской дочери. Когда дверь горницы наверху захлопнулась, он перевел взгляд на Дуная и вдруг усмехнулся его растерянно-обрадованному виду. Это был уже не тот задира, который не пускал его к князю. Да и стоило ли, по правде сказать, с киевлянами браниться? Он же с ними в один поход собирается.
С трудом оторвав взгляд от верхних сеней, где скрылась Сияна, Дунай посмотрел на Явора и многозначительно покивал головой.
– Она – Вышенина дочка? – спросил он у Явора, словно больше не у кого было.
– Она, – подтвердил Явор. – А хороша-то как! – начисто забыв о едва не состоявшейся драке, Дунай открыто делился с бывшим противником своим восхищением. – Я ее в прошлое лето видел, так совсем девчонка была. А теперь смотри – красавица! Чай, и жених есть?
Он дружески-задорно подмигнул Явору, киевляне вокруг заулыбались, и Явор с изумлением понял, что его-то и считают женихом Сияны – иначе почему бы она вступилась за него? Смеясь над такой нелепой мыслью, Явор покачал головой.
– Жениха покуда нет, да и ты не сгодишься! – сказал он Дунаю. – Больно речист.
– Ты чего тут буянишь, Яворе? – раздался от порога гридницы голос тысяцкого. Все обернулись к воеводе, вышедшему на шум, а он удивленно смотрел на своего десятника. Явор, которого он всегда так ценил за спокойствие и присутствие духа, теперь стоял перед киевским кметем без плаща, готовый к драке. – Что за шум подняли? Или тебя Леля-Весна по лбу ударила?
Киевляне засмеялись шутке, истинного смысла которой не поняли, а Явор вспомнил свою Лелю – Медвянку, которая и погнала его сюда. Вспомнив о деле, Явор снова нахмурился. Досада его улеглась, но решимости не убавилось. Не в его обычае было отступать от принятого решения.
– Хочу я тебя, воевода, о милости просить, – заговорил он и поклонился. – Пусти меня в поход с князем. Может, с детскими мне и не равняться, – Явор бросил взгляд на Дуная, – а в походе и от меня толк будет. Все лучше, чем здесь с бабами сидеть. А то уже…
Он хотел сказать: «А то уже в глаза мне смеются!», но не стал, не желая даже краем поминать Медвянку.
– Эй, вояки, князь зовет! – Вслед за Вышеней из гридницы вышел еще один киевский кметь, невысокий ростом, но плотный, с очень широкими плечами. Этого Явор тоже знал – это был Ян Кожемяка. – Галдите тут, как на вече, а в чем толк – бог весть. Князь знать желает.
Вслед за тысяцким все переместились из сеней в гридницу. Князь Владимир сидел среди своих воевод и здешних бояр на лавке под развешанными красными щитами и нетерпеливо притоптывал алым, шитым золотом сафьяновым сапогом по дубовым плахам пола. На лбу князя-Солнышка меж красиво изогнутых черных бровей залегла тревожная морщинка. Он не слышал через дверь, о чем зашел спор, но чуял неладное и беспокоился, как бы не было омрачено раздором начало похода. За день до совместного выступления ссора и драка между киевским и белгородским кметем была совсем некстати. Белгородские бояре притихли, опасаясь, что светлый князь разгневается на шум и свару, учиненную здешним десятником. А гнева его боялись так же сильно, как желали его милостей. Давно ни один князь не был таким полным хозяином во всех подвластных землях, как Владимир, сын Святослава.
Однако, увидев двух виновников, лица которых ясно обличали их среди толпы, князь удивленно приподнял правую бровь. Его ясные серо-голубые глаза заглянули сначала в одно лицо, потом в другое. Явор опустил глаза – он не привык смотреть в лицо потомку Дажьбога.
– Ты, Дунай, в драку полез? – удивленно спросил Владимир у своего кметя. – От кого бы ждал, да не от тебя. И ты…
Чуть прищурившись, светлый князь только миг помедлил и все же вспомнил имя – а сколько их было, десятников, по всем его сторожевым городам?
– И ты, Явор? – продолжал князь. Услышав из его уст свое имя, Явор внутренне содрогнулся, словно его назвал голос бога. Голос этот был ясен и строг, значителен, как будто, минуя уши, проникал прямо в сердце. – Что же вы не поделили? Стыд какой – вот враги бы наши порадовались, на вас глядя! В прошлое лето вместе против печенегов шли, а теперь наладились друг другу бока обломать?
Белгородцы хмуро опустили глаза. Им было стыдно и неловко за Явора и за себя перед князем-Солнышком. А Дунай в ответ на суровую княжескую речь ухмыльнулся и потрепал кудри на затылке. Если у других князь Владимир порой вызывал страх, то Дунай с равным восторгом принимал и похвалу его, и упрек. Для других светлый князь мог быть грозным Перуном, свергающим молнии, но для Дуная он был только Солнцем Красным, источником тепла и света. Десять лет они каждый день сидели за одним столом, с раннего отрочества Дунай почитал во Владимире отца своего, князя, светлого бога. Не раздумывая, он отдал бы жизнь своему повелителю, и Владимир знал это. На Дуная он не мог сердиться – неизменно веселый и глубоко преданный парень был дорог ему более, чем он даже себе признавался. За долгие годы они узнали друг друга не хуже кровных родичей. Князь понимал Дуная по полувзгляду, а Дунай его – по движению брови, по стуку сапога.
Вот и сейчас князь Владимир видел, что его любимец признает за собой некоторую вину, и обращался к нему.
– Чтобы Явор с тобой первый задрался – не поверю. – Князь строго покачал головой, но Дунай не тревожился, зная, что сумеет оправдаться перед своим Солнышком. – А ты что же? В поход не терпится? Кровь играет? Так пошел бы дров порубил – меньше шума, а больше толку.
Белгородцы тревожно молчали, а киевляне негромко засмеялись – они знали, что князь не унизит своего любимца холопьей работой. Знал это и сам Дунай. Краем глаза окинув напряженные лица белгородцев, он решил, что они уже достаточно напуганы княжеской строгостью и можно ему начинать.
– Уж прости меня, княже-Солнышко, не со зла я, а по неразумию! – покаянно кланяясь, заговорил он. – Да и драться-то я не хотел – на дороге случился. Кабы знать мне, что белгородские молодцы так горячи, я бы по стеночке пробирался.
Он рассказывал, стараясь позабавить князя, но ничего к чести своей не приврал. Дунай вовсе не старался обвинить противника и выгородить себя, а даже брал на себя больше вины, чем было на самом деле. И все у него выходило так легко, словно ради забавы и было затеяно.
Киевляне открыто смеялись, и белгородцы начали посмеиваться в бороды. С каждым словом Дуная лицо князя смягчалось, морщинка исчезла с его лба, на устах появилась улыбка – и словно солнце взошло в палате, разогнав тяжелые тучи досады.
Даже Явор пару раз усмехнулся. Видя, как гладко и весело рассказывает Дунай, с каким удовольствием слушают его князь и киевляне – словно гусляра на пиру, – он удивлялся своему бывшему противнику, столь ловкому и языком, и кулаком.
– И куда ж ты так спешил, что такого детинушку не приметил? – спросил князь у самого Явора. – Об него и не такие спотыкались! Что же у тебя за дело было, что и часа не терпело?
Явор посмотрел ему в лицо, уже не боясь встретить взгляд потомка Дажьбога. На сердце его полегчало, гнев и обида ушли куда-то, словно муть, унесенная чистым ручьем. Осталось только горячее желание послужить князю-Солнышку, быть ему полезным.
– С поклоном я к тебе пришел, светлый княже! – Явор поклонился сначала князю, потом тысяцкому Вышене. – И к тебе, воевода-батюшка! Речам таким гладким я не обучен, да меч в руках держать умею. Засиделся я в Белгороде. Возьми меня в поход, княже-Солнышко! Как я воеводе служил, он скажет, а как тебе послужу – сам увидишь.
Владимир Святославич помедлил, оглядывая его рост, сложение и лицо. Даже его ближняя дружина, случалось, несла потери и нуждалась в пополнении.
– Возьми его, княже! – сказал воевода Ратибор. – Я сего молодца с отроческих годов знаю – воин он добрый!
– Он побратим мой, княже, – сказал его сын Ведислав, взглядом подбадривая Явора. – Я за него как за себя ручаюсь. Возьми его.
Князь Владимир переводил взгляд с одного говорившего на другого, и ему нравились их речи. В Яворе Владимир видел крепость тела и твердость духа, он понравился князю и тем, что не побоялся схватиться с Дунаем, и тем, что так быстро остыл от гнева. В походе на такого кметя можно положиться, и князь готов был благосклонно отнестись к его просьбе.
– Ну, ежели твой побратим, Ратиборич, стало быть, славного рода кметь! – сказал он и перевел взгляд на Вышеню. – А ты что скажешь, воевода? Отдашь мне молодца?
– Не отдам! – решительно отрезал Вышеня и с непреклонным видом покрутил головой. – Все здесь – твое, хочешь – бискупа Никиту забирай, а Явора не отдам. Чего в чуди будет – Бог весть, а у нас тут степь под боком – сам ведаешь. Стены у нас крепкие, тебе спасибо, да без воев не надежнее будут плетня осинового. Не гневайся – не для себя держу молодца, а ради покоя земли Русской!
Князь Владимир помедлил, в раздумье постучал пальцами по резному подлокотнику кресла. Он видел непреклонность Вышени и не хотел с ним ссориться – ведь на этого человека он оставлял Белгород, а за ним и Киев.
– И девицы здешние заплачут по нем горько! – подал голос Светлояр Зови-Гром, Владимиров сотник.
– Киевляне заулыбались, Вышеня нахмурился. Князь Владимир тоже усмехнулся, чело его разгладилось – он принял решение. Ради дружбы с Вышеней ему приходилось отказаться от Явора, но он жалел об этом только краткий миг. Да, Явор пригодился бы ему в походе, но и здесь, на рубеже вечно беспокойной степи, сильный и умелый воин тоже не будет лишним. И светлый князь понимал это лучше, чем кто-либо другой.
– Не пускает тебя воевода! – сказал он Явору и развел руками. – А я его не обижу, через его голову не возьму. Да ты не кручинься и обиды не держи. Я свою дружину в трудный поход веду, да и вы здесь остаетесь не на солнышке греться, а от печенегов Русь беречь. И не всякий на это годен – немалая удаль нужна, оружия сила и духа крепость. Надобен ты здесь, Явор, и место тебе здесь. Не для обиды говорю – надобен ты здесь. Уразумел?
Никто вокруг больше не улыбался. Вышеня хмурился, недовольный тем, что чуть было не лишился лучшего десятника. Даже Дунай сделался серьезен, в его голубых глазах было понимание. Явор помедлил, глядя в глаза светлого князя, как в священное пламя, и молча поклонился в ответ. Слова князя-Солнышка возродили его гордость, утвердили за ним честь не меньшую, чем за теми, кто идет покорять неведомые земли. И Явор был благодарен Владимиру – за то, что светлый князь отказал ему в просьбе, исполнения которой он совсем недавно так горячо желал.
Глава 3
Народился новый месяц, счастливый для всякого начинания, и князь Владимир объявил день выступления в поход. У Явора за прошедшие дни полегчало на сердце. Отказ тысяцкого отпустить его, горячее заступничество Сияны, доверие и добрые слова князя заслонили несправедливые упреки раздосадованной Медвянки, вернули ему порушенную гордость. Явор снова знал, что в Белгороде он нужен, что здесь уважают его. Вот если бы еще об этом знала Медвянка… Ее он больше не видел – Надежа не пускал дочь со двора, и сам Явор к городнику не заходил. Он хотел бы и вовсе забыть о ней, но десять раз на дню она безо всякого повода приходила ему на ум. Стараясь отвлечься, Явор усердно исполнял не только свои, но и множество чужих дел, съездил на охоту со Светлояром и Рагдаем, прыгнул на загривок кабану, так что даже все дивились его смелости… Но едва Явор вытер лоб, как тут же ему подумалось: видела бы его сейчас Медвянка, так не сказала бы, что ему милы тараканы за печкой. Видно, приворожила она его, если даже кабаном ее из мыслей не выбить!
За день до ухода войска к Явору явился княжеский отрок – князь Владимир звал Явора на пир в палату к своей ближней дружине и заверил, что местом он не будет обижен.
– Ты расскажи после, как и что! – кричали знакомцы Явору, когда он шел через пирующий двор к гриднице.
Явор охотнее остался бы в сенях и на гульбищах, где сидели его товарищи из белгородской дружины, но князю ведь не откажешь. Протолкавшись через сени, тоже уставленные столами, Явор шагнул через порог гридницы. В первый миг он не узнал хорошо знакомую палату – так изменила ее роскошь и богатство сегодняшнего убранства. Явору показалось даже, что он попал прямо в золотую гридницу Перунова Ирья, где Бог-Громовик пирует со своими братьями и дружиной из всех славнейших витязей прошлого. И светлым солнцем, так изменившим все вокруг, был здесь князь Владимир Красно Солнышко. Сегодня он был одет в длинное нарядное платье из плотного и блестящего византийского шелка – пурпурного, как подобает высшему земному властителю, с вытканным узором в виде желтовато-белых крылатых зверей. Золотое шитье платья, золотой пояс, золотая гривна на груди, алая шапка, отороченная черным соболем, делали князя ослепительно-прекрасным и величественным – само Красно Солнце в зените озаряло сияньем гридницу
Угощенье здесь было богаче – на серебряных блюдах лежали жареные лебеди, даже бобры – редкое и очень вкусное угощенье; горами были навалены пироги из белой муки с мясом и рыбой, в больших горшках испускали белый пар каши из лучшего пшена с медом, сливками, изюмом, мочеными ягодами. Прямо на полу посередине на огромном, как ладья, медном блюде лежал целиком зажаренный тур – добыча Рагдая на вчерашней охоте, с позолоченными рогами, украшенный зеленью и свежими цветами. Целые бочки медов стояли у концов каждого стола, а возле них кравчие с большими черпаками. Возле княжеского стола стояли бочонки с дорогим греческим вином, и отроки каждому гостю подносили его долю перед тем, как князь или кто-то из его ближних воевод поднимет кубок.
Проводить князя в поход приехали многие киевские бояре, посадники из ближних городов со своими семьями и дружинами. В первый миг Явор растерялся – он знал свое место за столом тысяцкого Вышени, а где ему сесть теперь? Лезть выше положенного Явор не стремился, но и ниже своего достоинства сидеть не хотел.
Тысяцкий указал ему место сразу после сотника Велеба – еще вчера он сидел пониже. Вышеня еще сам не понял, то ли ему сердиться на Явора за то, что он хотел от него уйти, то ли гордиться, что его десятник так обласкан князем. И больше он склонялся к последнему – он понял причину просьбы Явора и уважал стремление воина в ратное поле.
Но едва Явор окинул глазами гридницу, прикидывая, как бы пройти к указанному месту, как крепкая рука с дружеским задором хлопнула его по плечу. Обернувшись, Явор увидел Дуная.
– А, друже Яворе! – радостно, словно родного брата встретил, кричал Переяславец. – А я-то уж думаю, чего ты так припозднился – не держит ли тебя в сенях какой чурбан бесталанный, хотел уж на выручку бежать! – Дунай закатился смехом и потянул Явора за свой стол. – Иди, иди к нам! Не поссоришься – не помиришься, не помиришься – не подружишься, а с кем подерусь, с тем после и подружусь, верно, Гремислав?
Дунай толкнул локтем своего товарища.
– Вестимо – у тебя все не как у людей, – со спокойной дружеской снисходительностью ответил Гремислав. Дунай рассмеялся, словно его похвалили. Видя рядом оживленного, разговорчивого Дуная и невозмутимого, полного достоинства Гремислава, трудно было поверить в их тесную дружбу.
Явор усмехнулся и сел рядом с Дунаем. Теперь, получив основания уважать белгородского десятника, Переяславец был весел и дружелюбен. Слово князя для него было свято, да и сам он предпочитал тех, кто мог дать ему отпор – с такими было веселее. Весь вечер он не закрывал рта, рассказывал о Киеве, о прежних походах, удивлялся, как это они с Явором не встретились в прошлом году под Васильевом, хотя оба там были. Отвлекался он только на то, чтобы подмигнуть какой-нибудь девушке с другой стороны стола.
Только Сияну Дунай искал глазами напрасно – ее не было в гриднице.
– Не пойду! Ни за что не пойду! – твердила она в ответ на все уговоры матери и няньки и трясла головой. – Не выйду, шагу из горницы не ступлю, пока киевские здесь!
Ей представлялось невозможным показаться на глаза кому-нибудь из тех, кто видел, как она чуть ли не лезла в драку с киевским кметем. Как ее угораздило только? И сильнее всего ее смущала память о голубых, ясных, удивленно-радостных глазах Дуная. То и дело они сами собой вставали перед ее взором, и словно тихая молния пробивала ее насквозь, кровь приливала к щекам Сияны, ей хотелось закрыть лицо руками и спрятаться куда-нибудь от стыда. Ясноликая Лада, богиня-любовь, впервые заглянула ей в лицо своим жарким взором, и юная душа Сияны была в смятении. Но в этом она не хотела признаться ни матери, ни няньке, ни даже Медвянке. Ну, может быть, Медвянке, только не сейчас, потом.
Медвянка тоже была здесь, сидя вместе с отцом за столом белгородской знати. Отрок с воеводского двора, пришедший вчера звать Надежу на пир, передал, что и дочь его светлый князь будет рад видеть у себя в гостях. Надежа снова встревожился. Вспомнил-таки светлый князь! Не сказать ли Медвянку больной – подальше от беды? В отчаяньи Надежа пошел посоветоваться с волхвом Обережей.
– Пусти ее, пусти! – уверенно посоветовал ему старик. – Залаз невелик – у князя теперь не забавы на уме. А побывать на пиру ей на пользу пойдет. Пусть поглядит твоя горлинка, что как она ни хороша, а и покраше ее найдутся на свете!
Волхву Надежа верил и принял его совет. Последние слова Обережи особенно ему понравились – своей дочери он только еще и желал, что поменьше гордости да доброго жениха!
Медвянка, услышав об отцовском решении, сначала возликовала, а потом смутилась. Собственные наряды казались ей недостаточно хороши для княжьего пира, и она упросила мать сходить к Сияне. Сияна одолжила ей одну из своих верхних рубах, из блестящего византийского шелка, золотисто-желтую, расшитую по оплечью и рукавам желтым янтарем с Варяжского моря. К волосам и лицу Медвянки этот наряд очень шел, она чувствовала себя красивой, но все же робела. Ведь на княжьем пиру будут такие именитые гости – как же не заробеть дочери старшины из порубежного города!
Попав за стол в палату, видя вокруг себя пестрое собрание Владимировых гостей, Медвянка совсем растерялась и сидела тихо. Поблизости от таких именитых людей она едва смела поднять глаза. И вид Явора, сидящего в таком почете за дружинным столом, да еще рядом с Дунаем, так смущал ее, что она лишь раз-другой посмела бросить беглый взгляд в их сторону. Никогда еще Надежа не видел свою дочь такой тихой, молчаливой, скромно опустившей глаза. Даже кмети и молодые боярские сыновья ее не занимали, весь ее игривый задор угас среди этого шума и великолепия. Женщины из семей посадников и воевод, из киевской знати, казались ей дивными птицами, сверкающими радужно-шелковым опереньем и самоцветами уборов. Заметней всех была Путятина дочь Забава, прозванная Жар-Птицей. Ей было всего шестнадцать лет, но своей красотой она славилась на всю Русь и сейчас служила лучшим украшением гридницы, сияя золотой косой, белым румяным лицом, красным шелком одеяния, золотым самоцветным венцом с жемчужными подвесками, который Путята восемь лет назад привез из Корсуни. Разве равняться с нею Медвянке? Даже на княжичей, о которых столько думала раньше, она теперь едва глянула.
Епископ Никита благоразумно не явился на прощальный пир, и его присутствие не мешало княжеской дружине отметить начало нового похода по обычаю, установленному с древности. Воеводы поднимали кубки во славу небесных братьев-воинов, Яровита, Перуна и Трояна, среди которых каждый воин имел своего особого покровителя, и гридница дружно кричала славу им. Старшая Владимирова дружина была крещены вместе с ним самим почти десять лет назад, кмети младшей – при поступлении, но крест на шее не мог разом изменить привычные представления людей, выросших с именами богов-воителей в сердце.
За семнадцатилетнее киевское княжение Владимира Красна Солнышка в его дружине было сложено столько песен и слав, сколько иному князю не услыхать и за сорок лет. Желая подбодрить старых и новых соратников перед походом, князь побуждал своих бояр и воев вспоминать и рассказывать. Князь позвал гусляров, чтобы они старыми славами поддержали дух молодых воинов, и первый гусляр пел песню о поход князя Олега Вещего на Цареград.
Никто из ныне живущих не мог помнить этого похода, и за давностью лет любое чудо казалось возможным. Как наяву кметям виделись ладьи со звериными мордами на носах, быстро катящиеся по полю на колесах, а над ними цветными крыльями парят паруса, украшенные солнечными ликами и туго наполненные ветром. А потом дань – сверкающие монеты и украшения, кубки, чаши, резные ларцы, литые светильники, пестрые шелка, богато изукрашенное оружие, бочки с вином, добрые кони… И каждый из слушавших песню верил в это чудо и гордился мощью своего племени, способного сотворить небывалое.
Первого певца сменил другой, воспевавший князя Игоря Старого.
– Нам ли не быть с победою – наши боги нас укрепят! – выкрикнул Берковец, едва гусляр окончил. Герой хорватского похода был уже сильно хмелен, в одной руке он держал чашу с медом, а другой опирался на плечо товарища, но удали его хмель не убавил. – Как и предки наши – умрем мы, а назад не поворотимся! И ничего нас не страшит, потому как в руках мы Перуновых! Сам Яровит нас щитом укрывает, Перун копьем наши дороги прямит, Троян секирою наших ворогов крушит! Тебе, Солнышко наше, пью сию чашу, за честь и удачу твою на все времена!
Берковец одним махом выпил свою чашу и грохнул ее об пол; все пили следом за ним, кричали, князь Владимир, довольный удалой речью, подарил Берковцу серебряную чашу с чеканкой.
Гости князя Владимира одобрительно кричали, стучали чашами, клялись не посрамить памяти князей-воинов и их дружины. Ведь сколько силы и славы в прошлом Русской земли – любого ворога одолеет она и до скончания веков будет могуча и славна!
Только жена тысяцкого Вышени, боярыня Зорислава, вздохнула украдкой. – Что невесела? – спросила ее соседка, жена Ратибора. – Твой-то сокол с тобою остается. Или добычи жалеешь?
– Чем еще за ту добычу платить придется? – ответила Зорислава. – Слыхала я от отца про Святославовы походы. Князь на греков ходил, а печенеги той порой – на Киев. А толку было что? Кости тех воев давно в земле, а где золото их – одни боги весть. Только духи их в Перуновом Ирье сими песнями тешатся. Теперь опять вот воевать наладились, а свой дом без обороны оставляют.
– Что делать, матушка! – боярыня Явислава вдруг тоже вздохнула. – И мне мало радости в сем пиру. Мужа и сына, видишь, в поход провожаю, а внука встречать буду.
– Откуда же? – Из рук Матери Макоши! Невестке моей к исходу травеня срок родить, а Ведислав-то когда еще воротится да узнает, кого ему боги дали, сынка ли, дочку ли…
– Ну, дай вам боги внуков здоровых! – пожелала ей Зорислава. – И им, чай, ратных дел достанется немало!
Гости были во хмелю, связной беседы уже не вязалось, гусляры сами сели угощаться, им на смену заиграли гудошники. Победитель ятвягов Светлояр Зови-Гром пошел плясать со своим побратимом Рагдаем древнюю воинскую пляску, которой еще деды дедов тешили богов перед началом похода и призывали удачу. Это был древний обряд, ритуальный танец-поединок, и движения его шли из битвы, только были яснее, красивее, слаженнее. Все в гриднице хлопали в лад, притоптывали, молодые завидовали ловкости и удали двух прославленнных витязей.
Забава не долго смогла усидеть за столом. Едва лишь побратимы кончили свой танец, она мигом выпорхнула в круг. Навстречу ей выскочил Дунай – вечный ее соратник и соперник в плясках, и все вокруг радостно закричали, ожидая красивого и зажигательного зрелища. Теперь танец был не поединком, а предсвадебным обхаживанием невесты, но не серый селезень ходил возле уточки, а огненный сокол вился вокруг жар-птицы. Ловкость и крастоты их танца била в глаза, как острие копья, красно-золотые рукава Забавы летали, как бьющееся жертвенное пламя. Белгородские женщины, наслушавшись всякого про Путятину дочку, во все глаза смотрели на нее, но не могли не признать, что едва ли ей сыщется равная на всей Киевщине.
Даже сам князь, веселый, с ярко-голубыми блестящими глазами на покрасневшем от выпитого лице, не удержался и вышел из-за стола. Теперь два сокола бились за жар-птицу, но Дунай очень скоро признал себя побежденным и вышел из круга, размашисто утирая лоб – ничуть, впрочем, не взмокший. Его со смехом хлопали по плечам, а он вовсе не был огорчен поражением – своему князю он без обиды уступил бы любую девицу не только в пляске, но и на самом деле. Яровит всегда ищет себе вождя, который укажет ему путь, за которого он с восторгом отдаст свою жизнь. Дунай нашел своего Перуна еще десять лет назад и на службе ему был стократ счастливее всех полновластных правителей.
И уж кто был счастлив исходом их поединка, так это сама Забава. Заря разлилась по щекам, глаза заблестели молниями. Как все молодые кмети восхищались ею, так Забава восхищалась князем; с детства она преклонялась перед ним, как перед самим солнцем, и его единственным из всех на свете мужчин считала достойным любви. Сейчас за ней не следили скрытно-зоркие глаза княгини Анны, волна счастья и воодушевления несла Забаву на гребне, так искрились ее глаза, так плясала в ней каждая жилочка, что и самого Перуна она свела бы с ума.
А Медвянке даже не хотелось теперь плясать, веселая игра гудков, рожков и трещоток не радовала ее. Здесь-то ей не удастся встать в середину круга и всех заставить восхищаться собой. Медвянка смотрела на Забаву, невольно любуясь ею и остро, горестно сознавая ее превосходство. Как красива была Путятина дочь, как нарядна и ловка, как горда своей статью, родом и богатыми уборами! Кто перед ней Медвянка – дочка ремесленного старосты из сторожевого городка, почти ничто. Медвянка не привыкла чувствовать себя хуже кого-то и оттого переживала унижение особенно остро. Она бросила взгляд в сторону Явора – а он что поделывает? Рядом с ним сидел теперь светловолосый витязь в синей шелковой рубахе, расшитой серебром, с красной вставкой на груди, – Ведислав Ратиборич. Он убеждающе говорил что-то Явору, положив руку ему на плечо.
– О чем это они? – невольно вслух спросила пораженная Медвянка.
– Кто? – Вереха услышал ее возглас и проследил за взглядом девушки. – Да Явор с Ратиборичем побратимы, я так слыхал, они с отроческих лет дружатся.
Медвянка отвернулась со стыдом и досадой. Побратим Ратиборова сына – вот уж чего она не ждала! И это Явор, которого она чуть ли не трусом назвала! Медвянка уже жалела, что пошла на этот пир – он принес ей больше смущения и огорчения, чем радости. Теперь ей хотелось только, чтобы князь с дружиной скорее ушел и в Белгороде все стало по-прежнему.
Дотемна бояре, кмети и отроки плясали в палате, а народ во дворе и на площади детинца перед княжескими воротами. На весь Белгород разлеталась игра рожков и трещоток, песни, смех, плесканье ладоней, удалые и веселые крики. Веселье, как огонь, гонит прочь беды и напасти – в это твердо верили славяне, оттого так много песен и плясок провожает славянина во всем земном пути от колыбели до могилы. Чем горячее веселье, тем удачнее будет предстоящее дело – и в теплый свежий вечер месяца травеня белгородцы сделали все, что могли, желая князю удачного похода.
Через день на самой заре большая княжеская дружина выступала в поход. Рассвело рано, прохладный утренний ветерок тянул из близкой степи свежие запахи растущих и расцветающих трав. Старик Обережа сам вывел из конюшни светло-серого, почти белого княжеского жеребца под нарядным красным седлом и золочеными звоночками и бляшками на сбруе. Сотни глаз на широком дворе следили, не заденет ли конь порога – это было бы дурным знаком перед ратной дорогой. Но конь вышел легко, и сотни радостных криков разорвали тишину – боги благословляют новый поход. Отроки приняли повод из рук старика и повели коня к крыльцу, где ждал его светлый князь. Детские кинулись выводить своих коней, в мельканьи их красных плащей двор казался охваченным пламенем
Привычным ровным порядком ближняя княжеская дружина выезжала из детинца. Весь Белгород наполнился топотом сотен ног и копыт, конским ржаньем, звоном оружия.
Мирное население Белгорода тоже поднялось спозаранку и вышло проводить князя с дружиной. Наряженные, как на праздник, ремесленники Окольного города с семьями, жены и дети уходящих кметей, растревоженные сборами в поход и прощаньями, толпились на улицах, у ворот и на стене крепости, приветственно кричали, махали руками и шапками, тянулись, стараясь еще хоть раз увидеть своих среди дружинных рядов. Кто-то надеялся на будущую добычу, но больше семьи уходящих желали того, чтобы снова увидеть своих родичей живыми.
– Свете мой светлый, соколе мой ясный, куда ты от меня отлетаешь, на кого меня и малых наших детушек покидаешь? – то там, то здесь принимались причитать женщины.
А дети шумными стайками бежали следом за полками, стараясь разглядеть своих отцов и убедиться, что мой отец – среди всех первый!
Лучше всех, конечно, были кмети-детские. До битв было еще далеко, но для проводов князь велел им одеть шеломы и кольчуги. Дорогие и прочные доспехи сверкали на солнце стальной чешуей, и ближняя дружина Владимира казалась тем волшебным полком морских витязей, которых премудрый князь-чародей умел вызывать из моря для обороны своего города. И каждый из бегущих следом и сидящих на тынах мальчишек, даже те, кому по малолетству еще не полагалось и штанов, с восторгом и завистью разглядывал их коней и оружие. И каждый отчаянно мечтал скорее вырасти, стать таким же сильным, уйти в Киев и наняться на службу к прославленному князю Владимиру-Солнышку, ходить с ним в походы за добычей и славой!
Впереди детских ехал сам светлый князь Владимир Святославич со своими старшими сыновьями и ближними воеводами. Багряный плащ за плечами овевал его цветом священного живого пламени, золоченые узорные бляшки на груди кольчуги горели под солнцем так, что было больно смотреть. Казалось, сам он разливает вокруг себя золотые лучи, как Красное Солнце, идущее по небосклону. Глядя на него, женщины утирали слезы со щек, веря, что всем известная удача князя-Солнышка убережет в походе их близких, поднимали повыше маленьких детей, чтобы они посмотрели на него, чтобы хоть случайный взгляд любимого богами князя послужил им защитой от бед.
Княжеское войско постепенно вытягивалась из ворот крепости. Белгородская знать смотрела с заборола, как по берегу уходит прочь от города конная дружина, как багряным листком клена трепещет на ветру впереди плащ Владимира Красна Солнышка. Стоял на забороле и Обережа – в длинной белой рубахе, вышитой волшебными узорами, со множеством оберегов и длинным ножом на поясе, с ожерельем из медвежьих зубов на шее, с высоким посохом в руках, на верхушке которого была вырезана медвежья голова. Опираясь на посох, Обережа смотрел вслед дружинам. Он был уже очень стар – его семь десятков лет хватило бы на две жизни. Он пережил нескольких князей, сменявших друг друга в Киеве, он видел то новое святилище древних богов, которое молодой князь устроил в Киеве семнадцать лет назад. Видел он и то, как двенадцать кметей волокли потом Перунов идол вниз по Боричеву току, колотя его палками, как лиходея. Казалось, попран мировой закон, разорвана связь потомков и предков, Земля-Мать не стерпит подобного оскорбления! Но земля устояла, и небо не рухнуло, зима и лето так же сменяли друг друга, и так же вращалось извечное колесо жизни, смерти и возрождения. И Обережа, хоть и был уже стар, научился новой истине. Можно сбросить в Днепр идол Перуна – идол ведь только дубовая колода, не в ней же пребывает сам Небесный Воин, это знают и малые дети. Можно побить на куски каменные идолы Макоши и Дажьбога – они простили, солнце светило и трава вырастала по весне, как и тысячи лет назад. Можно засыпать землей очаг жертвенника – труд на полях, гибель в сражениях, ежегодные и ежедневные, тоже жертвы, и их не отвергают боги. Но никакому князю не по плечу переделать мир. Все пройдет – но останется родная земля, древняя и прекрасная земля Русская. Можно по-разному мыслить ее благо, но тот, кто честно желает блага ей, не будет ею отвергнут и забыт потомками. И сейчас Обережа просил богов за счастье и удачу князя Владимира, все силы отдававшего трудам и битвам за благо этой земли.
Но вот дружина ушла, в Белгороде разом стало пусто и непривычно тихо. Многодневный шумный праздник кончился, ежедневные заботы по-хозяйски шагнули на порог. За прошедшие недели белгородцы позабыли, что такое будни, и теперь на сердце у всех сделалось серо и скучно. Но ничего не поделаешь: потехе – краткий час, делу – долгое время. Князю свои заботы, дельному люду свои. Вспоминая каждый о своих делах, белогородцы постепенно потянулись к надворотной башне, где была лестница вниз. По пути они почтительно кланялись и епископу, и волхву. Почитать волхвов каждый из них был привычен с детства, а почтения к епископу требовал князь. Простые люди делали и то, и другое, чтобы не разгневать никого, кто обладает властью над землей и небом.
Вслед за всеми пошел и старшина городников Надежа со своим семейством. За прошедшие недели он привык к Гостемиру, и теперь ему было грустновато, словно он проводил в поход родича. Лелея, напротив, была довольна, что избавилась от постояльцев и чужие люди больше не будут путаться у нее под ногами на собственном дворе. Зайка то и дело дергала за руки родителей: «А вы видали? А почему у него? А это кто был?» Ярких воспоминаний этих дней ей хватит еще надолго. И чего бы ей ни случилось повидать в жизни, эти детские воспоминания о князе-Солнышке навсегда останутся самыми яркими и весомыми.
Медвянка отстала от родичей и все постреливала глазами по сторонам. Для нее это утро было радостным втройне. Она наслаждалась блестящим зрелищем уходящих дружин, радуясь и тому, что с их уходом к ней возвращается привычная воля и привычное положение первой красавицы Белгорода. Шумная и пестрая толпа киевлян и прочих гостей схлынула, Забава Путятична уехала восвояси в Киев, все взоры снова были обращены к одной Медвянке, и она ликовала, как княгиня, сумевшая отбить нашествие и вернуть себе свой золотой стол. Только одно омрачало ее радость – мысль о Яворе. Украдкой Медвянка высматривала его все утро, но не увидела ни разу и уже беспокоилась – не передумал ли тысяцкий, не отпустил ли его в чудской поход?
Одумавшись, Медвянка жалела, что так обидела его. Знала она и о том, что Сияна не побоялась заступиться за Явора, защитить его от напрасного бесчестья. Этот поступок подруги пробудил в душе Медвянки неясные угрызения совести – ведь она не хуже Сияны знала смелый нрав и заслуги Явора. Теперь она побаивалась, что сам Явор тоже оценит заступничество воеводской дочери, втайне ревновала к Сияне, и ей нетерпелось увидеть Явора и убедиться, что он по-прежнему ее любит. Но слово не воробей – не идти же к нему теперь просить прощенья! Обидеть и прогнать намного легче, чем позвать назад и повиниться, и у Медвянки не хватило бы прямодушия и силы на такой поступок. Однако, она не возражала бы, если бы Явор вернулся сам, и в душе надеялась на это.
Возле Обережи девушка задержалась. – Дедушка! – негромко, почтительно окликнула Медвянка волхва. Волхв обернулся к ней.
– Дедушка, а как по-твоему, долго князь в походе пробудет? – спросила она. На самом деле поход и княжеская дружина уже мало ее занимали, но ей не хотелось уходить со стены так скоро.
– Не короче часа, да не дольше времени, – размеренно, словно сам хозяин луны Числобог, ответил старик. – Да лучше бы ему сперва свою землю оборонить, а после уж чужой искать. А, Явор? – неожиданно спросил он, подняв глаза выше лица Медвянки.
– На то и пошел чужую искать, чтобы свою оборонять лучше, – раздался позади нее голос Явора. Незаметно подойдя, он оказался за спиной Медвянки. – Кривичи и словены не хотят давать воев, чтобы нижние земли от степи оберегать – вот князь за воями и пошел. Нам же здесь спокойнее будет!
При одном его имени в лице Медвянки проскочила какая-то искра, оно разом прояснилась. Быстро обернувшись, Медвянка блестящими глазами глянула ему в лицо. И он показался ей не таким, как обычно – он был скован и тайно раздосадован, и старался не смотреть на нее. А Медвянка была сейчас хороша: веселая и задорная, в белой рубахе, обшитой золотыми ленточками, она была похожа на огонек, на красный цветок папоротника, дразнящий взор, но не дающийся в руки. И с тем же упорством, как раньше Явор искал ее взгляда, она была полна решимости заставить его снова смотреть на нее.
Явор не мог пройти мимо нее и остановился, хотя дал себе слово, что не будет разговаривать с ней – хватит делать из себя посмешище. «Да плюнь ты и забудь! – убеждал его побратим Ведислав, которому одному он и мог рассказать свою печаль. – Не одна звезда на небе, не одна и девка красная на белом свете! Вот ворочусь из похода, сам тебе в Киеве невесту найду, да не посадскую, а из боярышень! И с приданым найдем, и красивую найдем, не плоше той. Да и что красота – сердце было бы живое да горячее, там и счастье». Соглашаясь с побратимом, Явор старался гнать прочь мысли о Медвянке, уверял сам себя, что больше на нее и не взглянет… но те несколько дней, что он ее не видел, показались ему целым месяцем, притом месяцем груденом – темным, хмурым и холодным.
Гордость дала бы Явору сил идти прочь, не глядя на Медвянку, но она, словно задалась целью рушить все его замыслы, вдруг сама обратилась к нему.
– Да уж куда спокойнее – с таким-то воином! – воскликнула она, бросив на Явора блестящий, вызывающий взгляд. – Ты же, Явор, воевода знатный – только печенеги тебя увидят, так со страху с коней попадают, только и останется их в вязанки вязать да с воза на торгу продавать!
– Да ладно тебе, не смейся! – нахмурясь, неохотно ответил Явор, досадуя на себя, что не может удержаться и избегая смотреть ей в глаза. – Сама знаешь, я в княжескую дружину просился, да тысяцкий меня не отпустил.
– Нельзя, нельзя тебе отсюда уходить! – воскликнула Медвянка в преувеличенном испуге. – Князь ушел – еще полбеды, а вот ежели прознают печенеги, что Явора-десятника в Белгороде нет – вот тут и жди набега!
– Помолчи – беды накличешь! – прервал ее Явор. – В прошлое лето не видала ты печенегов близко – а то бы не смеялась.
Даже и до размолвки Явор не позволил бы Медвянке смеяться над этим – слишком хорошо он знал, каким трудом и какой кровью достается мир для русских городов. И он не боялся говорить с ней резко, а даже надеялся, что она смутится, пусть даже рассердится – только пусть отведет свои блестящие, смеющиеся глаза.
– А я и не над ними смеюсь! – быстро ответила Медвянка, игриво поводя глазами.
– Она была довольна, что вызвала-таки Явор на разговор, но лукавый русалочий дух толкал ее и теперь все делать ему наперекор. Раньше Явор искал ее взгляда – она отворачивалась. Теперь он отворачивался – а она заглядывала ему в глаза, наслаждаясь замешательством этого сильного, гордого и такого уважаемого, как оказалось, человека. Теперь она видела, что не утратила власти над ним, и совсем повеселела. Пусть она и не так хороша, как Забава Путятична, но свое у нее не отнимется!
– А над кем же? – Явор наконец глянул ей в глаза, так сурово, словно хотел отбросить ее этим взглядом, решительно положил руки на пояс и подвинулся к ней. Своего он достиг – Медвянка живо отскочила в сторону.
– Медвянка! – закричал от башни старший городник. – Куда опять запропала?
Не оглянувшись больше на Явора, Медвянка убежала на зов. Явор вздохнул, с тоской провожая ее глазами. Любовь и гордость боролись в его сердце; он не робел перед врагами, но кареглазая девушка с медово-золотистой косой лишала его сил. Сияющие и вечно смеющиеся глаза Медвянки заворожили, заморочили его, а против ворожбы бессилен меч, бесполезна кольчуга. Она была как ясно солнышко, то жгущее, то ласкающее своими лучами, и нельзя было не любить ее. Она была его несчастьем, его проклятьем, и Явор настойчиво искал в своем прошлом какой-нибудь нарушенный зарок, вину перед богами, за которою они послали ему эту проклятую любовь.
– вспомнились ему слова старой песни. Огоньком дрожащая впереди фигура Медвянки тянула его к себе, как цветок папоротника в темном лесу. Явору было стыдно и перед собой, и перед людьми вокруг, но он ничего не мог с собой поделать.
Помедлив для порядка, Явор оправил пояс и двинулся следом за Медвянкой, стараясь не упускать ее из вида. Старик Обережа проводил его понимающим взглядом, обеими руками опираясь на медвежью голову, вырезанную в навершии посоха. Наверное, и светлоликая Дева когда-то так же смеялась, маня за собой Одинца, и с тех пор каждая женщина и каждый мужчина так или иначе повторяют путь первой человеческой пары, так же ищут свое, единственное, как единственными на свете были друг для друга Одинец и Дева. Проходят годы и века, сменяются князья, даже боги изменяют свои имена. Но неизменен остается закон продолжения жизни на земле – падает с неба дождь, девушки расцветают, как цветы весной, и сильные мужчины следуют за ними, чтобы множился человеческий род, чтобы воинам было кого защищать, а служителям богов – за кого молиться.
Тихо посмеиваясь от удовольствия после встречи с Явором, Медвянка торопилась догонять родичей. Неподалеку от нее в толпе пробирался гончар Межень с двумя сыновьями и дочкой Живулей. Сыновья его, Громча и Сполох, словно по ветру повернули головы к девушке-огнецвету.
– Для кого так нарядилась, Медвянка? – окликнул ее Громча. – Для князя никак?
– А то как же? – задорно ответила Медвянка, на миг оглянувшись на него.
Краем глаза она поглядывала, не идет ли сзади Явор. Простые гончары мало ее занимали, но такой уж у нее был нрав, что она не могла остаться равнодушной к чьему-то восхищению. Даже эта малая дань была дорога и приятна княгине, вновь обретшей свой пошатнувшийся было стол.
– Княгинею хочешь быть? – продолжал Громча. В его глазах Медвянка была вполне достойна княжеских хором. – У князя жен чуть не три десятка было – тебя только не хватает.
– Так не горшки же мне лепить! – бегло отозвалась Медвянка.
Люди вокруг засмеялись. – Так тебе, парень! – Не садись не в свои сани!
Громча отворотился и в смущении почесал себе нос. Понимая, что дочери старшего городника он вовсе не пара, Громча любовался ею издалека, но сегодняшний праздник воодушевил его и придал смелости вступить с ней в беседу. Однако, быстрая на язык Медвянка мимоходом посадила его в лужу. А Громча, будучи рослым и сильным, соображал не слишком быстро и редко находил подходящий ответ на шутки и насмешки.
Из-за спины Громчи выскочил младший брат – Сполох, заметно превосходивший его проворством разума и остротой языка. И в драках, и в спорах сыновья Меженя всегда стояли друг за друга и были дружны, несмотря на различие склада и нрава.
– Да длиннорогого теленка никто замуж не берет! – выкрикнул Сполох, стараясь отомстить за брата. – Хвалилася калина: «А я с медом хороша!» – запел он, приплясывая и кривляясь, как скоморох.
Но Медвянка только насмешливо фыркнула – не ей было обижаться на чумазых гончаров.
– Глину бы сперва с рыла отмыл, а после на городниковых дочерей глаза пялил, – проходя, с пренебрежением бросил замочник Молчан.
Ради проводов князя он нарядился в желтую льняную рубаху с вышитым шелковым поясом, но лицо его с выпуклым упрямым лбом оставалось таким же невеселым. Уж конечно, он лучше всех помнил, как летал через тын, и с тех пор не упускал случая показать, что никого не боится. Только Явор в эти случаи почему-то больше не попадал. Но уж чумазому гончару Молчан не мог позволить и смотреть на девушку, к которой сам думал посвататься.
– Куда хочу, туда и смотрю, уж не ты ли мне не велишь! – с вызовом ответил Громча и остановился, загораживая своему обидчику дорогу.
Если в дело надо было пустить кулаки, он никогда не отступал. После того, как его обсмеяли, Громче пуще прежнего хотелось поправить свое достоинство. Но Молчан за ним никакого достоинства не признавал и презрительно усмехнулся в ответ.
– Куда лезешь, горшок чумазый?! – отозвался он и смерил гончара уничижительным взглядом от остриженных в кружок волос до обтрепанных поршней на ногах. – Уйди с дороги, покуда цел!
Замечая назревающую ссору, люди останавливались вокруг них, ожидая развития событий и готовые вмешаться, если понадобится.
– Да что ты с ним разговариваешь! – воскликнул другой замочник, по имени Зимник. – Пошел вон!
И он решительно спихнул Громчу с пути. По хитрости своего ремесла и благодаря покровительству епископа замочники ставили себя выше прочих жителей Окольного города и никому не позволяли себе перечить. Конечно, Громча знал об этом, но на глазах у Медвянки он не отступил бы даже перед княжескими кметями. Привычно подвернув рукава праздничной рубахи, он набросился на замочника с кулаками. За того встали товарищи, за Громчу – брат и другие посадские, не жаловавшие гордых замочников, и вмиг пол-улицы втянулось в драку. Голосили женщины, испуганно вопила сестра Громчи Живуля. А Медвянка во все глаза смотрела на разгоревшееся побоище и увлеченно ахала. Она-то нисколько не испугалась, а напротив, бурно переживала новое развлечение.
На шум прибежали кмети тысяцкого и кинулись разнимать драку. Ловко и привычно орудуя древками копий, кмети принялись расталкивать и растаскивать в стороны раскрасневшихся, растрепанных и утративших праздничный вид горожан. Женщины причитали над синяками и ссадинами своих мужей и сыновей. А Медвянка, которой некого было жалеть, поднесла к лицу рукав, пряча усмешку. Она помнила, что вся свара разгорелась из-за нее, и в глубине души была довольна.
– А ну разойдись, лешачьи дети! Морок вас возьми, тур вас топчи! – доносился до нее из плотной шевелящейся толпы сердитый голос Явора.
Его красный плащ быстро метался среди полотняных рубах. Может, десятнику и не пристало своими руками разнимать драку посадских мужиков, но Явору хотелось чем-то себя занять, чтобы не смущаться досужими мыслями о Медвянке. А здесь как раз подвернулось привычное дело; драка была ему не в новость, он распоряжался и уверенно раздавал тычки и затрещины.
– Пошел, будет клешнями махать! Да пусти его, чтоб вас обоих на том свете всяк день градом било! – покрикивал он на не в меру ретивых драчунов. – А ну – за ворот да в поруб тебя! Посидишь в яме – так удали поубавится! Поди прочь, дядька Шумила, не до тебя! Ну, Кощеевы кости, кто зачинщики?
Громчу и Зимника растащили последними; те настолько разошлись, что ничего не видели и не слышали, рвались из рук кметей и снова кидались друг на друга. Отмахиваясь, замочник попал Явору кулаком в лицо. Разъяренный таким оскорблением своему достоинству десятник схватил Зимника за плечо, могучей рукой повернул к себе и с такой силой ударил в челюсть, что тот отлетел на три шага и рухнул в пыль. В следующий миг двое кметей уже сидели на нем и вязали ему руки.
Двое же кметей держали за руки Громчу. Лишившись противника, сын гончара сразу угомонился и покорно позволил кметям себя взять. Ему вязали руки, а он угрюмо молчал, свесив растрепанную голову и лишь изредка бросая сумрачные взгляды на бранящегося десятника. Придя в себя, Громча и сам не понимал, как сумел ввязаться в такую драку. И уж конечно, лучше бы ему этого не делать.
Связанного Зимника подняли и поставили на ноги. Выглядел он уже совсем не по-праздничному: шапка валялась в пыли, пыль серела в его волосах и на бороде, нарядная рубаха с шелком вышитым оплечьем была разорвана от ворота до плеча, по подбородку ползла струйка крови из разбитой губы. Отплевываясь от крови и пыли, замочник бранил и гончаров, и кметей, и весь белый свет.
– Тащите обоих на воеводский двор! – распорядился Явор. – По всему видать, с них все и пошло. Посидят в порубе день-другой, а там тысяцкий с ними разберется!
Явор провел краем ладони под носом – на руке осталась кровь. Нос ему еще в отроках сломал любимый побратим Ведислав, и с тех пор Явор ни с кем не боролся, как было принято «до первой крови». Потери в красоте он не жалел – не девка! – но кровь из носа у него теперь текла от любого легкого удара, и это было очень досадно. Из-за этого Явор вдвое больше сердился на посадских мужиков, затеявших свару в день проводов князя. Княжья дружина ушла в далекий поход, а Явор-десятник, глядите-ка, в своем же посаде кровь проливает! Это ли не доблесть! Не зря его князь добрым словом отличил! Тьфу, люди засмеют!
И, как назло, до ушей его донесся тихий и звонкий знакомый смех. Пожалуй, даже мерзкое хихиканье растрепы-кикиморы ему сейчас было бы приятнее услышать. Медвянку он хотел бы сейчас видеть меньше всего, а она стояла совсем близко и знай себе потешалась. Заметив угрюмое лицо Явора и его неприязненный взгляд, она попыталась было сдержаться, подняла к лицу рукав, но не выдержала, всплеснула руками и звонко расхохоталась.
Явор прижал рукав рубахи к носу, чтобы не капала кровь, и снова отвернулся. Ему отчаянно хотелось, чтобы она каким-нибудь чудом оказалась вдруг на другом конце города. Но она, словно злыдень Встрешник ее перенес, мигом очутилась перед ним. Сдерживая смех, Медвянка приглаживала переброшенную на плечо косу и поглядывала на Явора с видом лукавого почтения.
– Чего смеешься? – грубовато-досадливо спросил Явор. Сейчас ее взгляды и улыбки только сильнее раздражали его. – Вот забаву сыскала! Шла бы домой!
– Ай-ай, не все еще жеребята по твоему лику ясному прошлись! – воскликнула Медвянка и насмешливо покачала головой. – Видать, нехорош твой нос замочникам показался – хотели поправить!
Явор сердито шмыгнул носом и запрокинул голову, силясь остановить кровь. Он злился и на драчунов, и на Встрешника, и на Медвянку.
– Тебе бы все смеяться, а ведь поди сама все и заварила! – с досадой, приглушенно из-под рукава отозвался он. – Ты хуже огня – где пройдешь, там переполох!
Медвянка снова засмеялась, словно соглашаясь с этим обвинением, но скорее гордясь своей виной, чем стыдясь ее. Явор отвернулся и хотел идти прочь, но путь ему нежданно преградил Добыча, старшина белгородских кузнецов-замочников. Это был невысокий ростом, довольно щуплый мужичок сорока с лишним лет, с большим залысым лбом, изрезанным глубокими поперечными морщинами. Борода у него была рыжеватая, а глаза желтые, как у собаки. Он же мог считаться старшиной всех городских сплетников и склочников. Редкая свара на торгу обходилась без его участия, а все судебные обычаи и законы он по долгому опыту знал не хуже любого старца и сам мог бы давать советы при воеводском суде – если бы хоть кто-нибудь верил в чистоту его совести и беспристрастность.
Сам Добыча не участвовал в драке, и его нарядная синяя рубаха и шелковый кушак, вышитый серебряной нитью, не пострадали, но старший замочник был очень сердит за своих людей. Гневно хмуря брови, он притоптывал ногой по плотному песку улицы. Медвянка забавлялась, глядя на его гнев – «будто у ежа гриб отняли!» А Явору было не до забав.
«Только тебя не хватало, сквалыги старого!» – в досаде подумал Явор. Старшина замочников не пользовался его уважением, а сейчас он был в таком дурном расположении духа, что едва ли сумел бы быть вежливым.
– Ты чего это, десятник, моего человека повязал? – возмущенно воскликнул Добыча, указывая на связанного Зимника. Тот уже унялся, обессилев от драки и ругани, и смирно ждал, когда кмети поведут его в детинец.
– За то и повязал – за свару и бесчинства! – резко ответил Явор, отняв от лица рукав, покрытый кровавыми пятнами. – Приходи завтра к тысяцкому – отвечать будешь за твоих кузнецов.
– Да ведь это гончары подлые на моих людей накинулись с бранью! – вскипел Добыча. – Ты гончаров и вяжи, а моих не тронь! Нету тебе такого приказу от тысяцкого, чтоб…
– Ты, дядя, меня не учи, какой мне был приказ! – перебил его Явор. Он был рад сорвать на ком-нибудь свою досаду, а старший замочник напрашивался сам. – И не лезь мне под руку – а то сам в поруб пойдешь со своим молодцом на пару!
Он снова вскинул к носу рукав, а Добыча отскочил, словно ждал удара. Замочник мог быть весьма нахальным, но не был храбрецом, а вид Явора яснее ясного говорил, что он свое обещание выполнит. Добыча не мог тягаться с десятником открыто, и ему ничего не оставалось, как только надеяться на завтрашний воеводский суд.
– Тащи их! – Явор махнул кметям.
Громчу и Зимника повели в детинец, за ними повалила толпа любопытных.
– Я воеводе челом буду бить! – долетал оттуда голос Добычи, который на безопасном расстоянии от Явора снова осмелел. – Эдак всякий смерд будет лучших людей бранить да бить – скоро дождемся Страшного Суда!
– Эко напугался! – толковали белгородцы, оставшиеся на улице. – Страшно ему уже! Побольше бы он боялся – потише бы жил!
В другое время Добыча не упустил бы случая погордиться тем, что во всей толпе он один знает, что такое Страшный Суд. Но сейчас у него были заботы поважнее.
– Суда еще нет, а вон Живуле уже страшно! – подхватила Медвянка, оглядываясь на дочь гончара.
Та тихо жалостливо причитала над Сполохом – он держался за левый глаз, под которым быстро наливался синяк. Но больше синяка его мучала тревога – как теперь отвечать за все это перед отцом? А как брата вызволять из поруба? И как жалко нарядной одежды – они-то ведь не богатые замочники, чтобы иметь по пять цветных рубах!
– Вот начали поход! – толковали старики. – Вот князю божий знак!
– Не я один буду Белгороду обороной от печенегов, – проворчал Явор, оглянувшись на нескольких парней гончарного конца. Их изукрашенные кулаками замочников лица красноречиво говорили, что не все удалые молодцы ушли из города с князем. – Ну, вроде унялось…
Он провел тыльной стороной ладони под носом, проверяя, не будет ли свежей крови. После стычки с Добычей его гнев поостыл, досада улеглась. Оправив пояс, Явор хотел вслед за кметями идти в детинец, но на пути у него снова оказалась Медвянка.
– Не горюй – ты теперь краше прежнего будешь! – сказала она, глядя на Явора с игривым одобрением. – Коли не лицом, так славою. По мне – кто не из боязливых, тот и красавец!
– Правда ли… – недоверчиво пробормотал Явор. Такого он от нее еще не слышал.
В звонком голосе Медвянки слышался скрытый смех, она улыбалась с ласковым лукавством. Теперь, не то что в день их первой ссоры, досада Явора уже не была ей безразлична. Его нахмуренные брови и резкий отчужденный голос живо напомнили ей, как он чуть было не ушел от нее в чудской поход. Теперь ей хотелось его успокоить и укрепить его расположенье к ней.
Вынув из рукава платок, Медвянка подала его десятнику. Недоверчиво глядя на нее, Явор взял платок из ее рук и бессознательно поднес к лицу. Кровь почти унялась, но одолжение Медвянки от этого не теряло в цене. Девушка дарит парню платочек в знак своей любви, и никто из белгородских парней не мог похвалиться платочком Медвянки.
– Возьми себе, – великодушно позволила она. Но тут же спохватилась – много чести! – и поспешно добавила, желая притушить значение дорогого подарка: – Не стирать же мне за тобой…
Она хотела еще что-то сказать, но подумала, что и так сказала слишком много. Не прощаясь, Медвянка повернулась и побежала догонять родичей, давно ушедших домой в детинец. Явор смотрел ей вслед, держа в руке подаренный платок и на пробу подрагивая крыльями носа. Кровь больше не шла – видно, Медвянка заговорила ее. В сердце Явора мешались остатки досады и обиды, недоумение и смутное удовольствие.
«Хороша любовь! – подумалось ему. – Пожаловала милостью, княжна светлая, Хорсова дочка! Коли меня в какой рати убьют, так она мне на тот свет целый убрус с собой даст!»
И все же такой знак любви был лучше, чем никакого. С показной небрежностью Явор сунул платок за пазуху и зашагал на воеводский двор. Получив желанный подарок так неожиданно и не вовремя, Явор не мог оценить его по достоинству и радоваться в полную силу, но все же в глубине его души шевелилось какое-то смутное и теплое чувство.
Глава 4
На другой день на двор гончара Меженя явился отрок из дружины тысяцкого – звать ответчиком на суд. Межень со вчерашнего дня был молчалив и хмур более обыкновенного. Что за сыновей бесталанных послала ему Мать Макошь! И головы у них не умнее глиняного горшка! Уж не сглазил ли их кто, не лишил ли разума? А иначе с чего бы они вздумали ссориться с замочниками, у которых старшина дружен с епископом и вхож к тысяцкому! Как будто их отец берет по гривне серебра за каждый горшок и не знает, куда девать денег! Видно, зловредный дух Встрешник привязался к ним по дороге. Не сходить ли к Обереже, не попросить ли отвести беду, прогнать невидимого злыдня?
Сполох ходил с утра тихий и виноватый. Его праздничная рубаха, пострадавшая в драке, была выстирана и висела на веревке между полуземлянкой и погребом, служа укоряющим напоминанием об их безрассудстве.
– Не напасешься на вас полотна! – ворчала мать. – Сколько отец работает, чтоб вас, ораву, накормить-одеть! А вы за делом ленивы, только за столом проворны да добро портить ловки!
Сполох сознавал, что мать в досаде обижает их напрасно – оба они, особенно Громча, усердно копали, возили и месили отцу глину, запасали дрова, обжигали готовую посуду. Но возражать он не смел – виноваты, сказать нечего. Межень ни в чем не упрекал младшего сына, но Сполох и сам понимал, что отец думает о деньгах для продажи, которую их наверняка заставят платить. Кто бы ни был виноват на самом деле, мало надежды на то, что тысяцкий признает бедных гончаров правыми, а богатых замочников виноватыми. За сыновей, живущих при нем, отцу и придется отвечать. Да и куда деваться – ведь не оставишь родного сына в порубе
Отрока с воеводского двора Межень встретил без удивления, как ожидаемое и неизбежное несчастье. Выслушав посланца, гончар молча угрюмо кивнул и пошел к лохани мыть испачканные в глине руки. Сполох, не дожидаясь указаний, тоже пошел мыться. Вспоминая вчерашние обидные слова Молчана, он с двойным усердием оттирал глину с рук и лица, чувствуя в душе, что с удовольствием побил бы заносчивого замочника еще раз. Разговорчивый обычно Сполох сейчас помалкивал, понимая, что тысяцкого прибаутками не одолеть. Живуля тем временем доставала отцу и брату новые рубахи, чтобы хоть не стыдно было встать перед воеводой и посадскими старцами.
– Вот нам какие веселья! – причитывала она сама с собой. – Помогите нам, Матушко-Макоше, Перуне-Громоверже, Свароже-Господине!
Одевшись и расчесавшись, гончар с сыном отправились в детинец. Теперь как раз был четверг, с древности посвященный богу правосудия Перуну. На дворе тысяцкого толпилось немало народа из самого Белгорода и из ближней округи – прежде, во время княжеских сборов в поход, большим людям было не до них.
Но Меженю не пришлось ждать. Рассерженный Добыча явился к тысяцкому с жалобой с самого утра, уже изложил ему дело со своей стороны и теперь поджидал ответчиков в гриднице, где правил свой суд тысяцкий Вышеня. Оба виновника, поднятые из поруба и умытые от вчерашней крови и пыли, тоже были здесь. Громча смотрел только под ноги, на широкие дубовые плахи пола, и не поднимал глаз даже на родичей – так ему было стыдно. Зимник же бросал злые взгляды на гончаров, на кметей, особенно на Явора. Привыкнув насмехаться над бедными соседями, он не мог простить воеводским кметям права поднять кулак него самого.
Добыча тоже помнил, что Явор угрожал и ему, и даже подумывал, в случае благоприятного поворота дела, пожаловаться тысяцкому и на Явора. Старший замочник был уверен, что жалобу его признают правой. Где же это видано, чтобы чумазые гончары, которые больше гривны серебра в глаза не видали, безнаказанно били замочников, изделия которых купцы развозят по дальним землям и продают богачам! Нету в ляхах, чехах и немцах такого вора, чтобы отпер замок киевской и белгородской работы! Добыча гордился своим ремеслом и собой, и ему казалось, что и все другие должны так же безоговорочно признавать его превосходство. Нельзя сказать, чтобы он был уж совсем неправ – замки он и в самом деле ковал хорошие. Он только забывал о том, что замки его запирают дома, построенные плотниками, а к сундуках хранится добро, сделанное самыми разными умельцами.
Сам Добыча был родом из древлян, на границе которых с полянскими землями и был поставлен Белгород. Семейство же Меженя было из полянского племени и переселилось в новопостроенный город из села под Киевом. Добыча считал их чужаками, и из-за этого они в его глазах были виноваты вдвое больше.
– Нельзя позволить всяким пришлым на нашей же земле наших людей бить и бесчестить! – горячо говорил он перед тысяцким. – Пусть они свое дело делают и свой чин помнят! Князь наш светлый их в свой город жить пустил, от змеев степных уберег, а они бесчинства творят!
– Земля тут все же не твоя, а княжья, – спокойно возражал ему Вышеня.
Каждый четверг ему приходилось выслушивать немало жалоб и разбирать немало споров. Тысяцкий хорошо помнил, кем и зачем сюда посажен. В новом городе, свободном от остатков родового уклада и вечевого обычая, вся власть принадлежала князю Владимиру.
– А чего вам с них причитается – на то княжий устав есть, – размеренно рассуждал Вышеня. – Князь наш всякую вину велел судить честно: обиженному взять свое, и князю – свое. Вот теперь и разберем, какая на ком обида. Сказывайте, кто свару первым начал?
Но ответить на этот простой вопрос оказалось далеко не просто. Ни Громча, ни Зимник и Молчан не соглашались признать себя зачинщиками. Бывшие с ними товарищи и родичи, как и вчера, вступались за своих.
Разбирательство вышло бурным. Особенно горячо за гончаров вступался оружейник Шумила. Он не был бы собой, если бы прошел мимо такого дела. А возможность встать против вечного противника – Добычи – только подогревала его ретивость. Шумила и старшина гончаров доказывали, что спор и драку первыми начали замочники, Добыча возмущенными воплями пытался доказать, что виноваты во всем гончары. Даже спокойный нравом Вышеня не выдержал и рявкнул:
– Молчать, воронье посадское! Всех взашей!
Спорщики умолкли, и тысяцкий быстро выяснил, что ни Добычи, ни Шумилы не было на месте события во время начала драки. Явор тоже успел только к ее разгару и в видоки не годился.
– Что же мне с вами делать? – говорил тысяцкий. – Не божий же суд вам творить. Драка – еще не поклеп…
– Это нам не годится. – Межень покачал головой. – Хоть и бранили нас обидными словами, а нам еще работать надо, руки целыми нужны.
Хмурый, с колючей темно-русой бородой, в беспорядке торчащей во все стороны, гончар сейчас был похож на свернувшегося ежа. Заранее готовясь оказаться виноватым, он все же не хотел уступать. Мучась каждым мгновеньем этого суда, он сам же затягивал его, упрямо не желая брать вину на себя. Продажа за зачин драки обошлась бы ему куда дороже, чем богатому замочнику. А предложенное тысяцким древнее средство узнать правду годилось ему еще меньше. Для божьего суда требовалось взять в руки раскаленное железо, и ответчик, даже и доказав свою невиновность, долго не мог работать руками.
– Боятся они! – тут же воскликнул Добыча. – Не хотят отвечать, а боги-то видят, они их ложь покажут! Перун Праведный им воздаст!
– Не тревожь бога небесного попусту. Ты-то сам железо возьмешь? – спросил тысяцкий, переводя взгляд на него. – Или молодец твой будет отвечать?
Зимник хмуро покачал головой. Самому себе он не мог не признаться, что первым дал волю рукам. Молчан тоже помнил, что первый стал задирать Громчу. Ни один из них не решился бы взять в руки раскаленное железо – из этого испытания мог выйти с честью только тот, кто твердо верил в свою правоту. По своей воле замочники, пожалуй, и вовсе бы не пошли жаловаться тысяцкому на обидчика, а при случае разочлись бы с ним и сами.
– Что же делать? – снова спросил тысяцкий. – Дело не головное, чтоб его богам судить… Может, еще кто из ваших знакомцев там был?
– Медвянка была, – обронил Громча и тут же покраснел, устыдившись, что в таком важном деле первой ему на ум пришла девушка. Молчан презрительно усмехнулся – чего с него спрашивать, неуча неумытого, у него одни девки на уме!
– А, Медвянка! – Тысяцкий тоже усмехнулся. Больше он не удивлялся тому, что простой гончар задрался с именитым замочником. – Вот оно что! Где шум, там уж верно она! Что же теперь не пришла?
– А она, верно, с Надежей по стенам пошла, – сказал кто-то из посадских старцев. Они собирались в гридницу со своих концов и улиц, чтобы следить за справедливостью суда и в случае надобности давать воеводе советы. – Надежа собирался стены смотреть, а она, видно, за ним увязалась. Любопытная…
Сидевший тут же Явор улыбнулся про себя и незаметно прижал к себе Медвянкин платок, который со вчерашнего дня так и носил за пазухой. Едва только произнесли имя дочери старшего городника, как Явор вспомнил ее улыбающееся, задорное и красивое лицо, лукаво-ласковый взгляд, и вчерашнее смутно-приятное чувство снова шевельнулось в его сердце, уже сильнее и ярче.
– Ей, сыщите-ка Надежину дочку, – велел тысяцкий своим отрокам. – Уж она-то глазаста, она-то верно видела, кто кого первым обидел.
Кто-то в гриднице засмеялся, а Добыча обиженно нахмурился. Ему казалось зазорным, что на суд, где дело касалось и его, зовут видоком девку, хоть и городникову дочь. Но возражать замочник не посмел – решать дело божьим судом не хотелось и ему. Имена богов горохом сыпались с его языка, но на самом деле Добыча до жути боялся их недремлющей силы.
Надежа явился довольно быстро. За отцом шла и Медвянка, очень довольная тем, что самому тысяцкому понадобилось ее свидетельство. Но Надежа не дал ей покрасоваться перед воеводой и кметями.
– Кончай, воевода, разговоры разговаривать, надо за дело приниматься, – от порога заговорил старший городник. – На полуночной стороне на валу оползень. Скликай людей вал поправлять. Сами разумеете – травень пришел, мир да покой ушел.
Мигом позабыв о тяжбе, старшины Окольного города заговорили о новой тревоге. Все пестрое население Белгорода было обложено повинностью по строительству и укреплению стен. Старшины улиц и концов принялись с жаром обсуждать и делить работу, спорить, кому сколько людей посылать на починку вала. А тысяцкий увидел в этом удобный случай покончить с надоевшей ему тяжбой.
– А заместо продажи за вашу свару, братие-дельники, приговорим так: с замочников двум десяткам работников завтра быть на валу, и с гончаров двум десяткам. И самим зачинщикам быть первыми, а из поруба их отпущу, – решил он. – И оставим дело сие с миром.
Межень остался доволен, как не смел и надеяться. Работать на валу все равно пришлось бы, а теперь, даже если по приговору тысяцкого ему с сыновьями и придется перетаскать больше земли, это все же будет легче, чем расплачиваться деньгами.
А Добыча снова нахмурился: решение тысяцкого обидело его не меньше самой драки. Это что же выходит, его замочники ничем не лучше чумазых гончаров?! Но ему пришлось смириться и промолчать: на дворе был месяц травень, тревожная пора, когда по новой траве печенежские роды и орды пускались к пределами славянских земель в поисках добычи. Общая опасность уравнивала всех, теперь было не время для ссор.
Крепостные стены Белгорода были удивительным сооружением. Когда десять лет назад Владимир Святославич задумал построить между стугнинскими рубежами и Киевом город-крепость, который стал бы щитом для столицы, для этого дела были призваны самые умелые городники. Долго они спорили, как бы сделать этот щит поистине нерушимым. Земляные валы, которыми славяне и прежде обводили свои городища, были недостаточно надежны – оползали от времени и дождей и постоянно требовали множество рабочих рук для починки. И Надежа, тогда еще молодой, но умелый и толковый мастер, придумал средство. Он задумал построить дубовые клетки, наполнить их глиняным кирпичом и сверху засыпать землей. Долго он размышлял, чертил лучинкой на земле и писалом на бересте, строил маленькие крепости, в локоть высотой, для пробы. Конечно, такая затея требовала еще больше времени и труда, но князю Владимиру она понравилась, а средств для важных начинаний он не жалел. Надежу князь поставил во главу всего строительства и не обманулся – крепостные валы Белгорода вышли высокими, крутыми и прочными. Поверх валов было поставлено два ряда дубовых городен, наполненных землей, а над ними шла площадка, покрытая крышей. Между опорами крыши оставались проемы – скважни. Даже тех, кто видел новый киевский детинец, стены Белгорода поражали высотой и неприступностью, и Надежа по праву гордился своей работой. Князь Владимир оставил его старшим городником Белгорода и не забывал своей дружбой
Но и эти валы требовали постоянного присмотра, и Надежа зорко следил за сохранностью всей огромной крепости. Веселый и доброжелательный в домашней жизни и дружеском обиходе, он становился требовательным и жестким, когда речь шла о работе. Поэтому, когда он требовал людей для поправки вала, посадские старшины не смели ему перечить и в любое время давали нужное количество рабочих рук.
На другой день после воеводского суда Межень и оба его сына вместе с другими гончарами, кожевниками, кузнецами и оружейниками отправились на крепостной вал. Они копали и возили землю от окружавших Белгород оврагов, утаптывали ее, срезали и подкладывали свежие пласты дерна. Туда-сюда тянулись волокуши, мелькали серые рубахи или загорелые спины. Городники с Надежей во главе наблюдали за работой и раздавали указания. Казалось бы, всего несколько дней прошло со времени ухода княжеской дружины, но князь, пир, веселье, песни-славы о ратной доблести отодвинулись далеко-далеко. Кончились удалые праздничные гулянья, наступили будни, и теперь уже простым людям приходилось потрудиться ради посрамления врагов и сохранения родной земли. Парни ремесленных концов, со вздохами и завистью вспоминая кметей и их вольное житье, не знали и не думали о том, что сами они со своими деревянными лопатами и рогожными волокушами – тоже ратники Русской земли, не менее нужные ей, чем те, ушедшие с князем.
Особенно усердных забот требовал глубокий ров, окружавший крепостные стены. Всякую весну его заливала талая вода, бурные ручьи смывали землю с валов, ров наполнялся жидкой грязью и заметно мелел. Теперь, когда вода сошла и дно подсохло, ров требовалось снова углублять, выгрести оттуда сползшую и смытую землю. Эта работа была самой тяжелой и самой грязной. Надежа отправил туда зачинщиков недавней драки – чтоб неповадно было драться! – не подозревая, что причиной-то всему послужила его смешливая красавица дочка. Но она гуляла по верху заборола, веселая и нарядная, не запачкав даже носки поршней, а замороченные ее лукавыми очами Громча и Молчан возились с лопатами и огромными рогожными кулями на дне рва, перемазанные липкой черной грязью по самые брови
В полдень Надежа разрешил работникам передохнуть. Женщины и дети принесли им из дома поесть, белгородцы разбрелись по пригоркам и уселись на свежей травке.
На нагретом солнцем пригорке устроился и Межень с сыновьями. Выбравшись из рва, они едва отмыли от грязи лицо и руки, так что головы их теперь были мокрыми, как после бани. Грязные рукава рубах им пришлось закатать чуть ли не до плеч, чтобы можно было притронуться к хлебу. Живуля расстелила на траве полотняный убрус, разложила на нем хлеб, яйца, несколько вареных реп, поставила глиняный жбан кваса. Не евшие с утра и еще сильнее проголодавшиеся на работе братья накинулись на еду, так что хлеб и репы исчезали быстрее соломы в огне.
– Чего так мало хлеба-то? – бормотал Громча, засовывая в рот последнюю горбушку. Полный сознания своей вины, он старательно работал за двоих, поесть был бы непрочь и за троих, а досталось ему до обидного мало. – Брала бы больше.
– Нету больше дома-то! – Живуля виновато развела руками. Ей было от души жаль, что она не может покормить голодных братьев получше, но взять еды было негде. – Просо толкли – мать на вечер кашу хочет варить, а хлеба больше нету, печь надо. Вот желудей натру – квашню поставим.
– А замочники вон чистый хлеб жуют, ни желудей им, ни лебеды. – Сполох обиженно покосился на соседний пригорок. Там сидели работники кузнечного конца и среди них замочники Добычи.
– Ешь, что дают, по сторонам не зевай! – ворчливо прикрикнул на сына Межень. – Ишь, боярин сыскался! Работать надо, а не языком трепать! Задирались бы вы на улице поменьше – и теперь бы себе работали, на чистый хлеб зарабатывали…
Сполох обиженно насупился и растянулся на траве, чтобы немного отдохнули руки и плечи. Рядом с ним Громча, вздыхая, собирал хлебные крошки с подостланного убруса. Глядя в небо, Сполох мечтал: кабы вот так лежать себе на теплой травке, забыв обо всех на свете лопатах, а вон те облака были бы из сметаны да творога, и все валились бы прямо ему в рот.
Но помечтать подольше Сполоху не удалось – скоро городники снова погнали работников на вал. Межень с сыновьями взялись за лопаты, а Живуля собралась домой.
Засунув убрус, служивший скатертью, в опустевшее лукошко, она побрела по гребням оврагов, выискивая в траве «белую лебеду», дикий лук и чеснок, щавель, листья одуванчиков – приправу к борщу, украшение бедного весеннего стола.
Вдруг она услышала возле себя знакомый голос: – День тебе добрый!
Живуля обернулась, привычным движеньем отводя русую прядь от лица, но та тут же упала снова. К девушке приближался невысокий смуглолицый парень с черными бровями, надломленными посередине, с темноватым румянцем на выступающих скулах. Одет он был в рубаху и порты из грубого серого холста, его черные волосы были острижены коротко в знак подневольного положения. Живуля знала его – это был Галченя, младший сын Добычи, рожденный от пленной печенежки
Мать его шла следом, держа в руках пустую корчагу из-под кваса. За смуглую кожу и черные глаза домочадцы Добычи звали ее Чернавой. Одеждой – холщовой рубахой и плахтой – она ничем не отличалась от всех женщин города, голову ее покрывал темный повой, на смуглых сухих руках звенело несколько медных браслетов. О племени ее напоминал только печенежский амулет у пояса, похожий на бронзовый цветок с четырьмя лепестками, и маленькое бронзовое зеркальце. Степняки очень любили зеркальца, а славяне совсем не знали этой вещи, и белгородские девицы с опасливым любопытством косились на гладкий, блестящий бронзовый кружок, который печенежка всегда носила на поясе. Но редко какая из них набиралась смелости, чтобы попросить посмотреться – девушки боялись, что печенежское диво испортит их красоту.
– Здорова будь, девушка, белый цветочек! – приветливо сказала Чернава Живуле. – Все хлопочешь? Ранняя ты пчелка – прежде всех на луг вылетела!
– Да вон – целый улей вьется! – смущенная похвалой Живуля улыбнулась и показала вокруг. По зеленым пригоркам тут и там копошились разноцветные платки женщин, мелькали серые рубашонки детей – все собирали съедобные травы, то и дело отвешивая низкие поклоны Матери-Земле.
– Посиди, отдохни! – дружелюбно предложил девушке Галченя.
Усевшись на пригорке, он похлопал ладонью по теплой травке рядом с собой. Чернава тоже устроилась поблизости, поджав под себя ноги, как сидели степняки. Повернувшись к солнцу, она подставила смуглое лицо его лучам и с удовольствием вдыхала запах степных трав. Все изменилось вокруг нее за долгие годы плена, даже сама она переменилась и говорила чужим языком, но ветер степи остался для нее так же сладок, как и много лет назад, на воле.
– А вы что тут ходите? – спросила Живуля и села возле Галчени. – Вам ведь лебеды не искать, у вас и хлеба довольно.
– Батины работники нынче весь хлеб поели! – Галченя усмехнулся и показал пустой мешок. – Как батя ни отговаривался, а пришлось ему со своей дружины два десятка человек с волокушами и лопатами на вал выслать. А батя бранится – вся работа стоит. Домой скоро идти нет охоты!
Галченя усмехнулся: не в первый раз ему приходилось сносить дурное расположенье духа отца-хозяина, вызванное чужой виной. Жилось Галчене нелегко: сын рабыни, он и сам считался Добычиным холопом и не мог быть ровней старшим братьям, рожденным от жены хозяина. Сын и холоп своего отца, полуславянин и полупеченег, он состоял из двух разных частей, и худшая – кровь печенега и доля холопа – держала в плену и унижала лучшую часть, хотя по уму и нраву Галченя мог бы быть не хуже свободных славян. Домочадцы Добычи не были злыми людьми, но все же Галчене и его матери доставалось много лишнего труда и мало лишнего хлеба. Люди сторонились их, боясь черных глаз, Чернаву не раз пытались обвинить в болезнях и пожарах, девушки отворачивались от Галчени. Любой мог бы озлобиться от такой жизни и возненавидеть все вокруг, но с Галченей этого не случилось. Терпеливо вынося все дурное, он умел видеть и хорошее и охотно отвечал добром на доброе отношение к себе.
Одна только добросердечная Живуля не избегала его, и Галченя всегда был рад случаю побыть с ней. Ее саму родичи считали простоватой до глупости, потому что она никогда ни на что не сердилась и не обижалась, жалела любую уличную собаку и готова была отдать свою краюху хлеба мимохожему старику. Так же жалела она и Чернаву с сыном и никогда не отказывалась поговорить с ними. Даже теперь, после судебного разбирательства между Добычей и Меженем, Живуля не видела причин лишить Чернаву и Галченю своей дружбы.
– И у нас глину не месили, горн холодный стоит, – жаловалась она Галчене. – Нам-то хуже вашего. Ваш старший – богатый, вы голодны не останетесь. А нам не работать – так и не есть. С этими проводами княжьими братья совсем ошалели, от работы отстали, все возле кметей вертелись да их басни слушали, батя их работать чуть не поленом загонял. Боялся даже, как бы и они с кметями не сбежали. А едва князя проводили – драка эта проклятая! Теперь вот пятница, а нам на торг вынести нечего. С чего живы будем, я и не знаю. Вот, одной лебедой и спасаемся.
– Не горюй! – Галченя положил широкую ладонь на ее худенькое плечо и дружески пожал его. – Эта забота не на век. Вон, чуть не полгорода выгнали – дня в два-три управятся, да и пойдет все опять своим путем.
– Дали бы боги! – с надеждой сказала Живуля.
Ее мягкое сердце всегда было готово верить в доброту богов, а мнение других неизменно казалось ей правильным и убедительным. Галченя, конечно, был холопом и стоял ниже ее, хоть и бедной, но свободной дочери ремесленника, но он был мужчиной и уже поэтому казался Живуле умнее. И она охотно делилась с ним своими тревогами, надеясь, что он ее разубедит.
– А то люди говорят: вот прознают печенеги, что князь из Киева в поход ушел и все дружины увел, так придут опять к нам. А под стугнинские городки они в прошлый год ходили, Мал Новгород так и лежит разорен – им теперь дорога к нам открыта.
– Боги помилуют! – утешал ее Галченя. – Такие стены никакому ворогу не одолеть. Правда, матушка?
Чернава посмотрела на них и ответила не сразу. За долгие годы жизни среди славян она перестала понимать, кто ей свои, а кто чужие. И глядя на смуглолицего ее сына, странно было слышать, что он говорит о печенегах как о врагах.
– Правда, – ровно подтвердила Чернава, но сын услышал в ее голосе затаенную грусть. – Но и народ Бече живет голодно – и он не имеет много хлеба. Не надо думать, что они желают зла. Люди степей – не волки, хоть и ведут свой род от волков. Всеми народами владеют боги. Когда Тэнгри-хан и богиня Умай добры, народ Бече имеет еду от своих стад и кочует в степях. А когда нет, когда война, или засуха, или мор – тогда в степи голод и смерть. Тогда…
Чернава не договорила, но Живуля и сама могла докончить – тогда печенеги идут в набег. А набег – это дымы пожаров на полуденном краю небосклона, причитающие беженцы, затоптанные поля и дороговизна хлеба, полуголодный год, болезни… Живуля поежилась, словно черное зло, обрекающее на беду печенегов и славян, уже было где-то рядом.
– А кто это – Тэнгри-хан? – шепотом спросила она у Галчени.
– Бог – хозяин неба, – ответил он и показал взглядом вверх, где белые облака, похожие на толстых коров, лениво паслись в голубых лугах. – Вроде как Сварог печенежский.
– А Умай? – Богиня земли, вроде Макоши.
Громча, увидев их вдвоем, издалека погрозил кулаком. Ему вовсе не нравилось, что его сестра сидит рядом с холопом печенежской крови. Недавно Живуле исполнилось пятнадцать лет, с этой весны она считалась невестой. Она была миловидной девушкой, сероглазой, с круглым простоватым лицом, мягким носиком и розовыми губами. Никакая лента не держалась в ее прямых русых волосах, тонких и не слишком густых, коса ее быстро расплеталась, и волосы всегда были в беспорядке рассыпаны по плечам, висели вдоль щек, падали на глаза и мешали смотреть. Худенькая и неприметная, Живуля не привлекала парней ни веселым нравом, ни пестротой наряда – небогатый гончар только и мог купить дочери, что пару бронзовых заушниц да медный перстенек. И все же доброта сердца, покладистый нрав и трудолюбие делали Живулю вполне достойной невестой, за которую, особенно если толком причесать ее и хоть как-то принарядить, родичи могли бы попросить у посадского жениха порядочное по меркам Окольного города вено. А какое вено спросишь с холопа? С ним дружбу водить – только позориться
– А тебя за меня бранить не будут? – спросил Галченя, перехватив опасливый взгляд Живули в сторону родичей. – Ты такая хорошая, как цветочек беленький, а я мало что холоп, так еще и печенегом зовут…
Живуля смущенно улыбнулась, услышав про цветочек. Не будучи красавицей, она не была и разборчива, ей нравился Галченя, и оттого вдвойне приятнее было знать, что и она ему нравится. Непривычная наружность Галчени будила ее любопытство, а нелегкая участь вызывала сочувствие. А он был так ласков с ней, так явно благодарен за доброе участие, что Живуля готова была любить его за одно это. Дома ее уже не раз бранили за дружбу с сыном печенежки, но эта дружба была так дорога ее сердцу, что в этом она находила в себе силы, хоть тайком, все же ослушаться отца и братьев.
– Бывает, пеняют, – созналась она, отведя глаза и в смущении дергая зеленые стебельки травы. Она боялась обидеть Галченю, но не умела солгать. – Тебе, говорят, скоро замуж идти, а он…
Впервые, нечаянно связав вместе Галченю и замужество, Живуля вдруг страшно смутилась и покраснела, как спелая земляника. Смутился и Галченя. Ему и мечтать не приходилось жениться, а тем более взять за себя свободную девушку. Но сейчас, когда Живуля произнесла эти слова, он вдруг понял, что ему этого хочется больше всего на свете. Едва дыша, слыша только стук своих сердец, они сидели рядом на траве, в смятении не смея поднять глаза и все же ощущая друг друга рядом с такой силой и ясностью, как никогда прежде. В свежем теплом ветерке их овевало дыхание доброй богини Лады, которая не различает свободных и холопов.
В соседнем овраге, где горожане брали землю для подсыпки вала, вдруг послышался гомон.
– Глядите, кости! И железо тут! Мертвец, гляди! – раздавались там возбужденные, испуганные, любопытные голоса. – Чей же он? Откуда здесь?
Выбирая землю из склона оврага, работники кузнечного конца нежданно наткнулись на человеческие кости. На их крики со всех сторон сбегались любопытные и толпились в овраге, разглядывая пугающую находку. Разгребая землю, кузнецы нашли человеческий скелет с истлевшими остатками кожаной одежды, а рядом пару конских копыт. Тут же лежало оружие – тяжелый лук с костяными накладками, железные наконечники стрел, широкая, почти прямая сабля с заостренным концом.
– Э, это все не наше! – увидев почерневшее оружие, сразу определил молодой кузнец. – Это работа печенежская!
– Верно, печенег это! – согласно заговорили белогородцы вокруг. – Гляди, копыта – так печенеги хоронят, чтоб, стало быть, на тот свет ему верхом доскакать.
– А сам конь где же?
– А самого коня родичи на страве съели – такой у них обычай.
Чернава и Галченя с Живулей подошли поближе. – Идите сюда! – Один из кузнецов увидел их и посторонился. – Идите, гляньте – ваш?
Люди расступились, пропуская печенежку с сыном. Чернава заглянула в яму, помедлила, а потом кивнула.
– Наш, – подавляя вздох, сказала она. – Давно. Еще не было города. В походе умер.
– Умер-то умер, а мы его потревожили! – с опасливым недовольством сказал другой кузнец, постарше. – Как бы не осерчал – вон, кости все разворошили. Выйдет он теперь из могилы и начнет злобствовать. Или к своим полетит да на нас их приведет – мало ли беды…
Народ вокруг тревожно загудел. – Засыпать его назад, да дело с концом! – Нечего ему в нашей земле лежать! Выбрать кости из яруга да в реку. Пусть Ящер его ест!
– Нету тут вашего Ящера! Это у вас, у словен, во всякой луже по ящеру жертв дожидается, а у нас в Рупине нету такого!
– Ты словен не трогай, удалой! – Да будет вам! – остановил разгорающуюся брань старый кузнец. – Мало ли нам печенегов да печенежских навий, чтоб еще меж собой раздориться.
– Обережу позовите! – подсказал кто-то. – Он знает, как навий прогонять!
– Тоже выдумали! Обережу, еще кого? Может, вам еще Будимира Соловья из Новгорода кликнуть? – перебил эти голоса Зимник, прорвавшись вперед.
Теперь на нем была простая серая рубаха с засученными рукавами, волосы на лбу, перетянутые ремешком, намокли и слиплись от пота, на разбитой Явором губе видна была болячка с засохшей кровью. Зимник был зол на весь свет за то, что его, умелого замочника, сперва побили, а потом еще заставили копать землю, и от работы его злость не проходила, а только увеличивалась.
– Обережу вам! – злобно выкрикнул он и плюнул на землю. – Да чего он сотворит, болтун старый! Епископа зовите! Епископ теперь у нас Богу служит, он и оборонит нас!
– Да ведь дух-то навий… – начал кто-то возражать. – А кто супротив – самому князю супротив! – вскинулся Зимник, даже не разглядев, кто это сказал. – Так и тысяцкому доведем!
– Ну и ступай сам за ним, – сдержанно, с осуждением ответил старый кузнец. Все знали, что Добыча старается подладиться к епископу и все замочники надеются на его заступничество.
– И пойду!
Все больше разъяряясь от всеобщего молчаливого осуждения, Зимник махнул рукой, словно стряхивая с себя неодобрительные взгляды, и широким шагом направился к воротам в город. Переглядываясь, люди разошлись подальше от разрытой ямы, но за работу никому приниматься не хотелось. Теперь даже страшно было ударить в землю лопатой – а вдруг снова кость покажется? Кто бормотал заговор, кто крестился, думая, что лишняя защита не помешает.
– Батько, а может, с ним там сокровища зарыты? – возбужденным шепотом спрашивал какой-то отрок, дергая отца-кожевника за рукав.
– Да какое там! – недовольно отмахивался отец. – Сам не видал – копыта конские да копье ржавое – вот и все его добро. Был бы богат – так в разбой бы не ходил…
– Ишь, почесал! – ворчали люди вслед ушедшему Зимнику. – Быстро спохватился – лишь бы не работать.
Чернава осталась возле разрытой могилы. Опустившись на колени возле разворошенных лопатами костей, она зашептала что-то по-печенежски, моля небо за того, кто здесь лежал, и за весь свой кочевой народ. Лицо ее казалось застывшим, а веки она полуопустила, не желая никому показать, как болит ее сердце при виде останков неведомого ей батыра. Она не знала, что за человек лежит в этой могиле, но это был ее соплеменник, погибший в походе. А теперь могилу его потревожили в ожидании нового похода. Боги войны есть у каждого народа, и все они жестоки, жадны до жертв. Сама Чернава, ее невольничья судьба были такой жертвой. Сколько их было, сколько будет еще? Галченя, хмурясь, наблюдал за матерью, а Живуля, до глубины души напуганная, жалась к нему и теребила обереги на груди.
– Чего она там бормочет? – опасливо заговорили люди вокруг. – Еще наворожит чего! Гоните ее прочь!
– Да уймитесь вы, будет лаять-то! – прикрикнул на них молодой кузнец. Кузнецы были первыми и любимыми учениками Сварога, небесного кузнеца и отца всех ремесел. Среди ремесленного люда кузнецы считались сродни волхвам и меньше других боялись нечисти и нежити.
– Ты скажи ему, что мы не со зла, ненароком, – примирительно, словно прося прощения у мертвеца, обратился кузнец к Чернаве. – Знали б, не копали бы там, пусть бы лежал в покое. Тоже ему мало радости – в чужой земле лежать…
Чернава кивнула, не поднимая век, и продолжала шептать. Несмотря на опасения, никто не мешал ей, признавая за ней право помолиться за соплеменника.
Вскоре в овраг явился священник Иоанн, присланный епископом с благословением прогнать злобную нечисть. Болгарин Иоанн, вместе с самим епископом уже несколько лет живший в Белгороде и без труда выучившийся русской речи, был человеком средних лет, невысокого роста и легкого сложения, но держался он всегда уверенно, словно обладал некой тайной силой, скрытой от чужих глаз. Его смуглое лицо имело правильные, крупные, немного резкие черты и было обрамлено густой черной бородой. Глаза его, большие и темно-карие, одним быстрым взглядом успевали охватить все вокруг. Эти-то темные глаза, непривычные для светлоглазых славян, и не нравились белгородцам. Про Иоанна не говорили ничего дурного, но никто и не стремился к дружбе со служителем Бога, который для большинства оставался чужим и непонятным.
Иоанн помолился над костями, окропил их святой водой и велел засыпать могилу.
– Идите с миром, сынове, к работе своей, – сказал он белгородцам. – Не будет вас тревожить дух убиенный.
– А может, честный отче, плетнем его осиновым огородить? Для крепости? – спросил старый кузнец.
– Не надобно. Крест животворящий ему путь загородил.
Белгородцы принялись за работу снова, но вяло, неохотно. То и дело кто-нибудь озирался, словно боясь, что злобный мертвец подкрадется со спины. Надежа расхаживал вдоль валов, пошучивал, стараясь подбодрить своих работников, но сам с трудом сохранял бодрый вид и невольно хмурился.
– Не хмурься, батько! – уговаривали его Медвянка и Зайка, гулявшие за отцом по заборолу. – А то и нам смутно глядеть на тебя!
– Так-то вот, горлинки мои! – сказал им Надежа. – Мы-то мнили, на чистом месте новый город князь ставит, а оно не чисто! Сколько билися-ратилися за сию землю – нам ли ею владеть, города ставить да пашни пахать, или печенегам – табуны гонять. Сколько крови здесь пролито, сколько костей схоронено – и не узнать! А узнаешь – и не тот еще страх возьмет!
Несмотря на молитвы Иоанна, весь город был сильно напуган костями в овраге. Весть о страшной находке уже разлетелась по всему городу, всех приведя в трепет, и каждой матери мерещилось, что враждебный дух чужого мертвеца уже заглядывает в ее окошко, тянет жадные когти к ее детям. На Чернаву и ее сына стали коситься еще злее, как будто и они здесь чем-то виноваты.
Уже назавтра старые бабки, шамкая беззубыми ртами, толковали по углам, будто слышали ночью вой печенежского упыря и видели его черную косматую тень. Дети в сладком ужасе прислушивались к их бормотанью и крепче сжимали в ладошках обереги, которые им матери повесили на шею – кусочки янтаря, кремневые стрелки, звериные зубы, маленькие мешочки с плакун-травой и одолень-травой. Взрослые отмахивались от этих разговоров, но даже у самых смелых было смутно на душе.
– Христово слово, оно, может, и сильно, – приговаривали белгородцы, недоверчиво качая головами. – А вот волхвы наши знают слова крепкие, верные… Обережу бы нехудо попросить…
Глава 5
Старый волхв Обережа жил в детинце, поблизости от деревянной церкви, как ни досадно было епископу Никите такое соседство. Когда шесть лет назад князь созывал и собирал людей для заселения вновь основанного города, Обережа пришел сам, незваный. Люди вырыли старику землянку, и он стал тихо жить в ней, помогая людям целебными травами, заговорами, советами. Он указал место, пригодное для рытья колодца, и сам поселился возле него. Источники издавна почитались славянами, и в Белгороде, где не было святилища, все пестрое население дружно признало колодец главным священным местом. Обережа сам возвел над драгоценным источником высокий дубовый сруб под двускатной крышей, прикрывавшей ворот, вырезал на них волшебные знаки воды и небесного огня. Вскоре детинец оброс посадом, в Окольном городе были свои источники воды, но колодец Обережи почитали и приходили к нему в особо важных случаях – за водой для умывания невесты или обмывания покойника, для приготовления настоя или отвара целебных трав. Приходя к волхву за советом, белогородцы бросали в колодец мелкие монетки, бусины. Девушки весной кидали в него украшения, прося у богов хорошего жениха
– А отчего у тебя, волхве, такой глубокий колодец? – бывало, спрашивали у Обережи. – Разве ближе нет воды?
– Оттого глубок мой колодец, что глубока земля наша матушка, – отвечал Обережа. – Велика ее сила, богатства ее немеряны – сколько ни черпать их, вовек не вычерпаешь.
Когда несколько лет спустя в Белгороде появился епископ Никита, он сперва потребовал изгнания волхва. Но белгородцы дружно вступились за Обережу. Они помнили, что первым открыл воду в детинце именно он, и от хранителя священного колодца зависело в их глазах благополучие всего города. Тысяцкий Вышеня и сам так думал, а князь Владимир, к которому епископ воззвал о помощи, велел оставить волхва в покое: тот хорошо лечил белгородскую дружину и воодушевлял жителей города-щита на упорную борьбу со степняками. Тех служителей древних богов, кто не противился его делам, Владимир-Солнышко не считал своими врагами. И Обережа остался жить в детинце возле колодца, в нескольких десятках шагов от нового двора епископа Никиты. Епископ быстро выстроил деревянную церковь в честь святых апостолов, и Белгород процветал, охраняемый крестом и священным колодцем
На третий день после того, как в овраге открыли печенегову могилу, с десяток жителей Окольного города пришли рано поутру на двор к Обереже. Привел их Шумила – кузнец меньше всех прочих был склонен признавать нового Бога. Тысяцкий терпел его только за то, что в вечно беспокойной степи умелый оружейник был важнее, чем иной усердный христианин, каких, по правде сказать, водилось немного, и то больше среди купцов и бояр.
– Помоги, старче! – кланяясь низко, как не кланялся и тысяцкому, принялся от всех просить Шумила. – Детей наших мучат всяку ночь Намной и Полуночница, бабы не спят от страху, от печенежского упыря! Помоги беду прогнать!
– Слышал я про беду вашу, – Обережа кивнул. – Печенега, говорите, в овраге нашли схороненного?
– Нашли, нашли печенега! – на разные голоса подтвердили белгородцы. – С конем, и с оружием!
– С конем, говорите? Стало быть, погребен со всей честью?
– Погребен-то погребен, а мы его потревожили! Болгарин-то свое над ним помолил, да вишь – бродит по ночам нечистый дух, нет покою! Как бы он теперь не наделал бед!
– Не наделает, – успокаивающе сказал Обережа и поднялся, взял свой высокий посох с медвежьей головой, прислоненный к стене дома. – Подите скажите по улицам, чтоб собрали какого ни есть угощенья и несли к яругу. Я и сам сей же час иду.
Скоро встревоженные женщины потянулись с улиц детинца и Окольного города за ворота к оврагу. Каждая несла с собой лепешку, или каши в плошке, или молока в горшочке, или репу. Не жаль было отдать даже весь свой небогатый обед, лишь бы откупиться от грозящего зла.
Приметив эти приготовления, сам епископ Никита явился в гридницу к тысяцкому.
– Погляди, воеводо, на город твой! – воззвал он к Вышене. – Старый обояльник, что твоим попущением в детинце живет, бесовское волхованье затеял! Отвращает он народ от правой веры! А ты глядишь только, как он весь город за собою в бездну влечет!
– Не страшай меня, отче! – с неудовольствием отозвался тысяцкий. Ему было неприятно ссориться с епископом.
– Ведун-то вас не обидел – дорогу дал, вперед пустил! – смело вступила в беседу боярыня Зорислава. Она не одобряла привода на Русь чужого бога и не скрывала этого. – Вы над костями теми свою службу отслужили, а мертвеца не уняли – весь посад теперь дрожмя дрожит!
– Тьма бесовская в их душах дрожит! – одарив боярыню злобным взглядом, епископ снова обратился к тысяцкому. – А крест Господен тому злому духу путь затворил!
– Бабам посадским поди расскажи! – снова ответила ему боярыня Зорислава. Тысяцкий молчал, предоставив жене спорить с епископом. – Мы уж им говорили, да они не поверили! А люди работать не могут со страху. Что же, анделы твои придут на вал землю возить!
– Вот воротится князь… – начал епископ, но не кончил, гневно стукнул посохом и вышел вон из гридницы. Ему самому было досадно, что во всех спорах приходится ссылаться на князя, а старого бесомольца люди слушаются, как родного отца.
Дослушав спор матери с епископом, Сияна тихонько кликнула сенную девушку и велела ей взять чего получше со стола – мяса или пирога – и тоже отнести к оврагу.
– Только чтобы Иоанн не видал, – шепотом добавила она.
Девушка знала, что за помощь Обереже Иоанн стал бы укорять ее, но и она сама, вместе с младшими сестрами и сенными девушками, вздрагивала с приходом темноты от каждого шороха – так и казалось, что страшный печенежский мертвец крадется из мрака.
Со всех улиц народ сбегался посмотреть, как Обережа будет прогонять враждебный дух; всем было и страшно, и любопытно. Работники на валу перестали копать и таскать и тоже смотрели, опираясь на лопаты или держась за веревки волокуш.
Могилу печенега снова открыли. Обережа с тихим приговором уложил кости в могиле так, как им и положено лежать, оружие вынул из ямы, а вместо него положил принесенные женщинами угощенья. Сверху он накрыл могилу широкой доской, а на доске начертил угольком охранительные знаки, замыкающие мертвецу путь в белый свет. После он велел белогородцам засыпать могилу землей и развести сверху большой костер.
В толпе со всеми стояла и Живуля. Ей было страшно оказаться так близко от печенеговой могилы, но хотелось своими глазами увидеть, как Обережа загородит ему путь. Кто-то бережно обнял ее сзади за плечи; Живуля тихо вздрогнула от неожиданности, обернулась и увидела Галченю.
– Смотри, что я тебе принес, – тихо, стараясь не привлекать ничьего внимания, прошептал он и показал девушке кремневую «громовую стрелку», Перунов оберег от нечисти. – Возьми, и никакой тебя мертвец не тронет.
Галченя видел, как Живуля напугана, и хотел ее ободрить, но в глубине души побаивался: не оттолкнет ли она его, все-таки он ей неровня. Но Живуля благодарно улыбнулась в ответ.
– Спасибо, – прошептала она и взяла из его ладони кремневую стрелку. Камешек был теплым от его рук, и Живуле показалось, что в этом осколке кремня живет и дышит часть благодетельной силы самого Перуна-Громовика. Невелика драгоценность – кусок кремня, но Живуле так дорога была забота Галчени, так порадовал ее этот скромный подарок, что весь ее страх перед мертвецом прошел.
– Поди от нас, черен чуж человек, в степи широкие, в степи далекие, в края печенежские, откуда родом ты, там тебе и место! – говорил тем временем Обережа, обходя костер кругом и поводя перед огнем своим можжевеловым посохом. Чернава тихо повторяла речи волхва по-печенежски, чтобы дух мертвеца лучше понял. – Назад не оглядывайся, в стороны не поворачивайся, своего коня седлай, в свою сторону поезжай, где деды твои теперь живут, там тебе и житье!
Оружие из могилы Обережа унес к себе, успокоенные белогородцы снова принялись за работу. Только Чернава до самого вечера сидела над кострищем, грустно покачивая головой и тихо бормоча что-то по-печенежски.
На другой день работа на валу продолжалась. Людское движение переместилось в сторону, белогородцы брали землю из других оврагов, обходя подальше черное кострище над могилой печенега. И все же, несмотря на старания волхва, они не избавились от опасений полностью. То, что печенежского мертвеца нашли так близко от города, да еще и в тревожный месяц травень, всем представлялось дурным, угрожающим предзнаменованием.
Поодаль от стен, на месте маленького белгородского жальника, тоже копошился народ – по большей части женщины, старики и старухи, дети и подростки. В эти дни, когда на полях появились первые ростки ячменя и пшеницы, нивам была особенно важна благосклонность небес. Кого еще просить о помощи, как не предков, живущих ныне в Верхнем Небе, где Сварог хранит запасы небесной влаги? Поэтому на дни появления ростков приходился второй после Радуницы срок весеннего поминания умерших. Те, кто за недолгие годы существования Белгорода успел похоронить здесь кого-то из родичей, теперь пришли на могилы с угощениями-жертвами и плакали, причитали, бились о землю, словно хотели достучаться в эту дверь, навсегда закрывшуюся за их близкими.
Женщина во вдовьем темном повое припадала к земле, как березка под жестокими порывами бури, ударялась лбом о траву, заходилась отчаянным криком, словно муж ее ушел в Сварожьи луга только вчера, а не пять лет назад. Но пусть же он видит, слышит, как убиваются по нем жена и сын, пусть знает, как им без него тяжело, и не оставит их без помощи. Мальчик лет восьми хмурился, слушая материнские причитания. Его тоже тянуло заплакать, но он крепился – ведь теперь он единственный в семье мужчина, одна опора матери.
Крики и слезные вопли причитальниц долетали до работавших возле валов. Мужики оглядывались, недовольно крутили головами. После недавних страхов из-за печенежского мертвеца слушать оклич покойных было неприятно – смерть снова напоминала о себе.
Старший городник Надежа с утра по обыкновению был на крепостной стене, наблюдая за работами. Медвянка увязалась за отцом и прогуливалась от одной скважни к другой, оглядывая окрестности. Вид, открывавшийся с огромной высоты белгородских стен, никогда не мог прискучить. Должно быть, сами боги из своих небесных палат вот так же видят землю, неоглядно-широко раскинувщуюся внизу. Яркая зелень луговины с черными, белыми, бурыми пятнами пасущихся белгородских коров, блестящая под солнцем вода Рупины, чистое голубое небо – это было всегда, но человеческий взор не устает любоваться красой Матери-Земли. В ясный день с заборола было видно далеко-далеко, на востоке можно было разглядеть блеск широко разлившегося Днепра. Медвянка уверяла, что видит и саму киевскую Гору, но Надежа ей не верил – ведь до Киева отсюда целых восемнадцать верст.
Но сегодня Медвянке было невесело – она не любила погребальных причитаний, ее жизнерадостному нраву были противны упоминания о смерти и горести, так не вязавшиеся со светом и свежестью весны. Слушая рыдания, долетавшие до заборола с жальника, она пожалела, что не осталась дома.
У надворотной башни мелькнуло что-то красное. – Ой, горюшко мое! – в притворной досаде воскликнула Медвянка, разглядев издалека знакомо развевающийся плащ. – Опять Явор идет! Идет, страхолюдина! Куда ни пойду – он тут как тут, за мною следом! Хоть в погреб прячься и со двора вовсе не ходи!
– А что ты на него так ополчилась? – спросил Надежа. – Чем он тебе не хорош? Тысяцкий его жалует, глядишь, и сотником будет.
Но Медвянка была непреклонна и со смехом мотала головой. – Да куда ему в сотники – с таким-то носом!
Надежа неодобрительно покачал головой. Выдавать силой было противно воле богов, да и не смог бы такой любящий отец, как Надежа, в чем-то принуждать свою дочку. Не теряя надежды убедить не в меру разборчивую девицу, что лучше Явора ей жениха не найти, городник раз за разом заводил с ней разговор об этом.
Повернувшись, чтобы поздороваться с Явором, Надежа вдруг увидел, что к нему приближается еще один знакомец – Добыча. Нетрудно было догадаться, чего он хочет, и эта встреча вовсе не обрадовала старшего городника.
– Уж прости, друже, что от работы тебя отрываю, – с непривычным подобострастием заговорил Добыча, поздоровавшись и даже поклонясь. – Сам знаю, как досадно, когда дело стоит – мне ли не знать! О том и хочу тебе челом бить – отпустил бы ты с вала моих людей! А я тебе тоже удружу по-соседски – свинью утром забили…
– Слышал я, слышал, как свинья твоя визжала! – Надежа усмехнулся, понимая, куда клонит старший замочник. – А печенегов не хочешь ли свининкой угостить? Да они, говорят, до нее не охочи.
Медвянка тем временем отбежала по стене подальше и притворилась, будто наблюдает за женщинами на жальнике и знать не знает никаких десятников со сломанными носами. В последние дни она сомневалась, не слишком ли сильно одолжила Явора подаренным платочком, и решила держаться с ним построже и попрохладней.
Поклонясь Надеже, Явор подошел к ней.
– А ты что же, душа-девица, родичам пирогов не печешь? – спросил он, поздоровавшись.
– А моих тут нет никого, – беспечно ответила Медвянка. – У меня деды-бабки под Вышгородом схоронены. А пока в Белгороде живем, у нас никто не помер, только дядька, материн брат, да и он не здесь… А ты-то чего по стене гуляешь? Или тебе службы мало? Так пошел бы людям помог, – Медвянка насмешливо кивнула вниз, где Громча и Сполох вдвоем тащили волокушу с землей. – Что же твоей силе зазря пропадать?
– Моя-то сила не пропадет, у меня дело иное, – сдержанно ответил Явор и замолчал.
Этими словами Медвянка напомнила ему самые горькие обиды, самый тяжкий день, когда он готов был бежать от нее хоть в чудской поход. Но она была слишком хороша, красота ее слишком влекла, делала незначительной и боязнь отказа, и опасность новых насмешек. Явор помнил, как она смехом отвечала на его слова о любви, но теперь у него был ее платок – знак приязни, повод к надежде. И в прошлые годы – на весенних игрищах в роще, на зимних посиделках у боярыни Зориславы – Медвянка играла с ним, что-то недосказанно обещала лукаво-ласковыми взорами, но потом ускользала, как белка, ничего не позволяя и оставляя в той же растерянности. Явора измучило это метанье, и история с чудским походом истощила его терпенье. Подаренный платочек сильнее, чем все прежнее, повеял на него теплым ветром надежды, и Явор устремился вперед, не в силах больше ждать и мучаться сомнениями. Так он кабану на загривок прыгал: удержусь – моя взяла, не удержусь – затопчет, знать, судьба!
– Ладно, не смейся! – примирительно сказал Явор, и голос его внезапно стал глуховатым и прерывистым. – Ты меня давеча выручила, платок дала – хочу теперь тебе в ответ подарок подарить. Посмотри-ка.
Чуткий слух Медвянки уловил перемену в его голосе, и она догадалась – для нее приготовлено что-то необычное. Глаза ее заблестели любопытством, она оторвалась от проема заборола и повернулась к Явору.
Он показал ей что-то маленькое в полураскрытой ладони, но не протянул руку, а держал ее перед собой, заставляя Медвянку подойти ближе. Она пренебрежительно повела бровями – дескать, не очень-то мне и занятно, что ты там принес. Но любопытство было тем врагом Медвянки, перед которым она всегда оказывалась бессильна. Словно бы нехотя, из одной вежливости, Медвянка подвинулась ближе к Явору и заглянула в его ладонь.
– Ну, что у тебя там? – небрежно спросила она. – Головастика поймал?
На ладони Явора лежал серебряный перстенек с черненым узором – солнечным крестиком в круге. На миг Медвянка застыла – такого подарка она не ожидала. Для нее все предыдущее было только игрой, и она не задумывалась, что это значит для Явора. Даже подарив платок, она не придала этому настоящего значения. Но Явор не смеялся и не смеха теперь ждал в ответ. Если бы она теперь приняла перстенек, то этим позволила бы Явору за себя свататься. Сейчас ей предстояло решить свою судьбу – или принять перстень и завтра ждать сватов, или отказаться и продолжать беспечальное девичье житье. На миг пестрое и шумное виденье свадьбы соблазнительно мелькнуло перед взором Медвянки, но она была достаточно умна, чтобы помнить – за свадьбой придет новая жизнь. Хлопоты о муже, скотина, печка и погреб, люльки плачущих детей… Прощайте, заботы отца и матери, песни и пляски в весенних хороводах, венки и ленты, любовные взгляды парней. И все ради десятника со сломанным носом! Нет, этого она не хотела.
– Вот уж невидаль! – Быстро справившись с растерянностью, Медвянка небрежно-равнодушно повела плечом и отвернулась. – Мне батюшка и не такие дарит.
– Так то батюшка! – ответил Явор. Она опять хотела ускользнуть, но он твердо был настроен добиться ответа. Прямой и открытый нрав его не позволял темнить и умалчивать в таком важном деле.
– Пойди за меня! – воскликнул он, стараясь наконец убедить ее. – Я тебя не обижу, ни в чем ты отказа знать не будешь, ни в платье, ни в уборах, только полюби меня, как я тебя люблю!
Медвянка отвела глаза, не зная, что сказать. Она не хотела соглашаться, но язык не поворачивался прямо отказать, ей был неприятен такой открытый разговор – гораздо веселее было играть и увиливать, оставив решение на «когда-нибудь потом». Но Явор больше не мог терпеть недомолвок.
– Хватит тебе тянуть! – Схватив Медвянку за плечи, он с силой повернул к себе и горячо заговорил, уже не выбирая слов, сердясь на нее и желая ее добиться. – Третий год веретеном вертишься, да я тебе не пряслень! Знаешь ведь, чего я хочу, так говори прямо – или сватать буду, или морочь кого другого!
Такой напор рассердил Медвянку – она вырвалась и вскинула к его лицу заблестевшие глаза, нахмурила тонкие брови. На себя бы посмотрел сперва – а она еще в чем-то виновата! Очень ей надо!
– Пусти! – гневно воскликнула она. – Я-то тебя на веревке не держу – сам ходишь, а не по нраву – шелкова тебе дорога! Когда заря утренняя с зарей вечерней сойдутся, тогда я за тебя пойду! И перстня твоего мне не надо!
Явор не старался ее удержать, он задохнулся от обиды и возмущения, сам себя зажал в кулак, чтобы не сорваться, не наговорить такого, о чем потом пожалеет; но взгляд его стал так гневен и страшен, что Медвянка испугалась и подалась назад. Явор перевел дыхание и сжал перстенек в ладони.
– Ну, как знаешь, – отрывисто, глухо выговорил он.
Могильный холм быстро вырастал над его надеждами на счастье. Но Явор умел владеть собой – по лицу его Медвянка не узнала, как сильно его ранил ее отказ. Явор не был самонадеян, но он знал себе цену. Он был оскорблен ее пренебрежением, и обида в первые мгновенья заглушила даже боль разочарования. Боги даруют и сердцу спасительный щит – когда удар очень силен, боль чувствуешь не сразу.
– Не хочешь – твоя воля, с земным поклоном просить не буду. Поищи себе других, у кого носы покрасивее! – окрепшим голосом резко бросил Явор, повернулся и пошел прочь.
Медвянка смотрела ему в спину, и теперь ей не хотелось смеяться. Пренебрежение на ее лице сменилось растерянностью, она стала даже непохожа на себя. Ее неприятно задел вдруг посуровевший голос Явора и его погасшее лицо. Она стояла у скважни, глядя, как Явор широкими, злыми шагами удаляется от нее по заборолу к воротной башне, и ощутила вдруг непривычную, неприятную пустоту в сердце. Вьющийся на ветру красный плащ Явора убегал все дальше, словно погасал, уменьшаясь, язычок пламени. Ей показалось, что он уходит совсем, и она испугалась вдруг возникшей пустоты – не рядом с собой, а везде.
– долетал до нее пронзительный голос с жальника, словно причитала сама тоска-сирота.
«Вот, развопились! – с досадой на женщин подумала Медвянка. – Словно весь белый свет схоронили!» И сходство погребальных причитаний со свадебными больно укололо ее сердце, Медвянка чуть не заплакала от тоски. Она сердилась на Явора, на женщин у жальника, сама не знала на кого. Хотелось скорее все исправить, как снимают перекипевший горшок с печи – раз, живее хватай через тряпку, и беды как не бывало. Но что исправишь в неразрывном круге жизни и смерти? Сами боги порою смертны и бессильны изменить мировой закон.
Желая скорее прогнать неприятный осадок из сердца, Медвянка подошла к отцу и Добыче послушать, о чем они говорят. А городник и замочник были так заняты своей беседой, что не заметили ни внезапного ухода Явора, ни непривычного темного облачка на лице Медвянки.