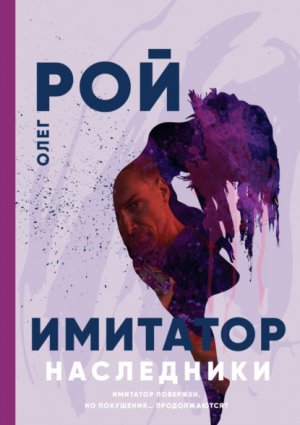
© Олег Рой, 2023
© RUGRAM, 2023
© Т8 Издательские технологии, 2023
Любые совпадения с реальными именами и событиями следует считать абсолютно случайными.
Автор
Пролог
– Вы когда-нибудь задумывались, в чем секрет популярности? Что ее вызывает? Вопрос был глупее некуда. С какой стати задумываться о подобной ерунде? Журналисты – идиоты. Даже те, кто никак, никак не может оказаться идиотом! Это профессия такая – быть идиотом. И лишь иногда – полезным идиотом. Потому что без этих словоблудов не обойтись. Никак не обойтись. Хорошее слово – идиот. Емкое. Иди от.
Но вопрос о причинах популярности… тьфу, пакость какая! Откуда он вылез? Вызывает, надо же. Как будто популярность – это дьявол, а он тут сидит и рисует пентаграммы. И слово-то какое скользкое – популярность. Поп да ля-ля-ля, два прихлопа, три притопа! Но ведь совершенно не обязательно отвечать напрямую. Ты усмехнулся и заговорил – мерно, как падают капли в гигантских, выше самого высокого собора, водяных часах. И не водяных вовсе! Верхняя колба переливается металлическим блеском, потому что в ней не вода – ртуть. Да, точно. Слова должны падать гигантскими ртутными каплями:
– Он выглядит обычным человеком. Лишь те, у кого довольно отваги и зоркости, чтобы взглянуть на пространство за ним, видят оставленные им следы. Устрашающе глубокие, словно сама земля подается, проседает, плавится под невыносимой его тяжестью. Беда в том, что сам он не может, не умеет обернуться. Не чувствует собственной тяжести, не видит этих следов, не ощущает подымающегося от них запаха. Непристойно отвратительного, но столь же и притягательного.
По лицу напротив пробежали тени. Искажая, заставляя щуриться, морщиться, гримасничать.
Что, страшно? То-то же! А ведь это и есть – ответ. Это только глупые девки колют себе ботокс – или что они там колют? – чтобы приблизиться к этой, как ее, красоте. Дуры! Думают – хотя думать там нечем, долбят попугайски – что на красоту, как на огонек свечи, летят, летят, летят мотыльки. Идиотки! Притягивает не красота, притягивает мрак. Тот, что таится в глубине змеиного зрачка. И безмозглые макаки, повинуясь этому мраку, делают шаг, другой, третий, все ближе, ближе, и взгляда не отвести… Хорошо ли вам видно, бандерлоги?
Следующего вопроса ждать пришлось долго. Наконец губы, прячущиеся в бликах света и тьмы, шевельнулись:
– Образы, которые вы создаете – как вы добиваетесь, чтобы они были настоящими? Как это у вас получается?
Это было уже не настолько глупо, можно и как полагается ответить.
– Потому что надо не создавать, а жить в них!
– Это полное перевоплощение или вы смотрите со стороны?
Нет, он точно идиот! Перевоплощение! Пришла фея-крестная, махнула палочкой, и тыква превратилась в карету. Ты чувствуешь, что бесполезно, что словами ни до чего, ни до кого не достучаться – и все-таки говоришь, едва сдерживая закипающее раздражение:
– Должна быть живая кровь. Живая, горячая, а не какая-то розовая пластмассовая жижа…
Собственный голос звучит почему-то зыбко, неуверенно, чуть ли не испуганно. И штампы эти пошлые – «горячая кровь», «розовая жижа». Тьфу.
От окна тянет сквозняком, и пламя свечей едва заметно колеблется, блики пробегают по лицу журналиста, и кажется, что тот ухмыляется. Точно, ухмыляется! Да как он смеет! Кто он – щелкопер, строкогон! Никто! Отличное слово в интернетах придумали – журнашлюшка! Ему бы глядеть снизу вверх, робея, трепеща – позволили приблизиться к тому, кому суждена – вечность… Но ухмылка – насмешливая, почти пренебрежительная неоспорима!
Размахнувшись, ты бьешь прямо в ненавистное ухмыляющееся лицо. Удар за ударом, удар за ударом, слыша только слабый хруст. Плевать на боль, что пронзает пальцы, на кровь, выступающую из сбитых костяшек, главное – стереть эту отвратительную ухмылку!
Наконец ты останавливаешься. И улыбаешься, глядя на лицо на полу – в пятнах крови, изломанное, искореженное, изорванное! Вот так!
Это искореженное, изорванное лицо, и боль в разбитых костяшках, и горячий, пульсирующий в горле восторг – вот оно, настоящим! Если бы можно было не просто запомнить – сохранить этот жар, этот восторг, эту силу! Взывать к ней и – пропустив через себя – выплескивать! Чтобы все разинули рты! Хорошо ли вам слышно, бандерлоги?
Возбуждение схлынуло, как горный поток после ливня: только что ярился, бурлил, казался смертельно опасным – и вот уже нет его, пустое ущелье щерится разочарованными, едва влажными клыками скал, между которыми застрял неопрятный мусор канувшего в никуда пикника.
Пустота.
Все эти… репетиции… бесполезны.
Нельзя поднять самого себя за волосы.
Нет.
Вот если бы это лицо было живым…
Пятница, 17 мая
– Прости, что давно не приходила, – Арина погладила узкий холмик – как одеяло поправила – собрала нападавшие с нависшей сверху березы сережки, но тут же высыпала их обратно в траву, вокруг банки с крупными садовыми ромашками. И веточку, уроненную лезущим сквозь оградку шиповником, добавила. Укололась – и почти обрадовалась этому.
Да, так лучше.
– Прости, – повторила Арина. – Мне так трудно сейчас. И дома, и… вообще. Помоги?
Ветерок шевельнул листву над головой, солнечные блики на сером камне сдвинулись, фотография в каменном «медальоне» улыбнулась – едва-едва. То ли благодарила, то ли утешала.
На Воскресенском кладбище сейчас хоронили так редко, что можно считать никогда. Разве что на семейных участках или уж по очень большим деньгам и связям.
И все-таки из соседней аллейки, из-за старых, но пышных берез, среди которых темнели кое-где невысокие декоративные елочки, доносился слабый, но явственный шум. Едва различимые человеческие голоса и еще что-то механическое, как будто мотор какой-то там работал. Арина покосилась в ту сторону. Сквозь зелень просматривалось что-то серое, массивное. И вспышки какие-то мелькали. Фотографируют? Хоронят какого-то большого человека?
– Ты! – рыдающий вскрик прорезал и березовый шепот, и ропот человеческих голосов, и механический гул. Как молния прорезает и темную облачную тяжесть, и мутную дождевую пелену. Только молния падает вниз, а этот возглас летел в самую вышину. Если бы не деревья, подумалось вдруг Арине, его можно было бы увидеть – острый, пронзительный, болезненногорячий.
Она поправила ромашки, погладила серый камень, поднялась:
– Прости. Ты же понимаешь, да?
Разросшиеся за десятилетия березы, рябины и боярышник только казались сплошной массой. За кладбищем ухаживали, по крайней мере за этой его частью. На аллейку, откуда исходил шум, удалось пробраться без труда и, главное, без ощутимого урона коже и одежде. Арина, правда, и сама не понимала – зачем ей эти чужие похороны.
Только – похороны ли?
Их порядок установлен давным-давно: служители готовят могилу, потом приезжают скорбящие родственники и друзья, говорят прощальные речи, опускают гроб в яму, засыпают ее землей – и ставят сверху памятник, крест или просто каменную плиту. Но это уже обычно позже, когда могила «осядет». Здесь же памятник – странной формы белый камень – уже стоял, слева от него лежала белая плита, кажется, мраморная. Почему слева, подумала Арина, это же неправильно, плита всегда лежит перед памятником, а тут она почему-то сбоку.
Вокруг толпился какой-то народ, а неправдоподобно маленький, словно игрушечный экскаватор копал яму. Прямо перед этим белым камнем, возле которого курили двое рабочих: брезентовые штаны, жилистые торсы блестят загаром – а ведь еще и май не закончился.
Молодой шатен с правильным, даже красивым, но совершенно незапоминающимся лицом поддерживая, обнимал очень красивую брюнетку. Арина почему-то сразу решила, что кричала именно она. Федра, Медея, Ифигения и все они сразу. Прозрачный черный шарф, соскользнув с гладко зачесанных волос, лежал на плечах строгого серого костюма. И это тоже показалось Арине странным: почему она не в черном? И спутник ее – муж, наверное? – тоже в сером костюме, только чуть темнее. И женщина постарше рядом с заплаканной красавицей – тоже с черным шарфом на голове, но платье у нее, хоть и строгое, но лиловое. Время уже прошлось по чеканным чертам ее лица, размывая, смягчая, сглаживая – но сходство было поразительным. Мать трагической брюнетки, к гадалке не ходи. Гладит дочь по руке, а смотрит в сторону. Точнее, в никуда. Взгляд остановившийся, нездешний.
По другую сторону от экскаватора коренастый коротко стриженый дядька негромко беседовал с высоким худым парнем в джинсах и джинсовой же куртке. Тот был похож на лобастого щенка-переростка. Худой, но не тощий. «Про таких говорят – мосластый», – подумала Арина. Крупный рот, вытянутое «лошадиное» лицо, неожиданно большие, широко расставленные глаза под массивными надбровными дугами и высоким выпуклым лбом, на который свешивались небрежные каштановые пряди. И движение, которым он отбрасывал эти пряди, было таким же небрежным. И как будто знакомым.
Дальше, за березово-ясеневой порослью белел фургончик с логотипом областной телекомпании на борту. Оператор с камерой на плече чуть повернулся к коллеге, что-то спрашивая. Рядом стояли еще какие-то люди, но разглядеть их Арина не успела.
Экскаватор вдруг застыл, подняв ковш. Водитель высунулся из кабины:
– Ну чего? Докуда копать-то будем? До самой Австралии?
Вчерашний всплеск оставил после себя пустоту, почти беспомощность. Ты смотришь на свои руки: иногда они кажутся красивыми, но – не сейчас. Слабые, неуклюжие, бесполезные… никчемные.
Бросив брезгливый взгляд на неопрятные окровавленные лохмотья – вчера не стал возиться с уборкой, сегодня ошметки, оставленные буйством яростного, буйного, всемогущего потока выглядели жалко, впрочем, это пустяки, подождет – ты вытаскиваешь с книжного стеллажа телевизионный пульт. Черный, длинный, тяжелый, похожий на гроб.
Повинуясь нажатию черной кнопки, ведущая местных новостей, похожая, как все они, на пластмассовую куклу, что-то принимается с полуслова бормотать о каком-то скандале. Ты прибавляешь звук – и в этот момент картинка меняется: вместо пластмассовой ведущей на экране появляется… кладбище! Люди вокруг могилы, знакомые лица…
Не может быть…
Впрочем, почему – не может? Ровно наоборот!
Месяц назад – или два? или, может, три? – глупый ящик показывал очередное бессмысленное ток-шоу. Зоопарк. Даже самый умный человек, попавший туда, выглядит болваном, тупицей, дикарем. Идиотом. Ничего интересного. Интересной показалась мелькнувшая в голове мысль… Где же это?
Ящики стола один за другим обнажали свое содержимое – бумага, бумага, сколько бумаги! Заметки для памяти вперемешку с давно ненужными квитанциями, наброски, мизансцены, эпизоды… Где же, где же оно? Неужели придется искать в компьютере? В тупой, безжизненной, бездушной мешанине железа и странных сущностей, именуемых файлами. От одной мысли о том, что придется копаться в этом хаосе, плечи сводило гадкой липкой дрожью. Как же так? Ты же все сколько-нибудь важное всегда распечатывал!
Вот оно!
Фантазии, говорите? Иллюзии? Ну-ну.
Неужели судьба наконец повернулась, следуя твоим усилиям? Неужели наконец-то случилось то, что должно было случиться?
Понедельник, 20 мая
– И тут уже я плюнула: заметят не заметят. Хотя там уже всем было не до меня. Оператор с камерой мечется как бешеный слон, репортер его тоже… скачет. Остальные сгрудились вокруг ямы и пялятся. – Арина размашисто мерила шагами приемную: от окна к двери и назад, мимо Евиного стола. – Чистый Гоголь. Ревизор. Немая сцена.
– А я уж думала, у меня глюки! – завканцелярией прижала к щекам ладошки с растопыренными пальцами. Ногти, естественно, короткие, но лак бледно-золотистый, под цвет проблескивающих в темно-рыжей шевелюре светлых, точно выгоревших (крепитесь люди, скоро лето!) прядей.
– Ты чего, Ев, какие еще глюки? – почти искренне удивилась Арина.
– Да этот сюжет с вечера субботы по всем каналам крутят. И я гляжу: там Вершина собственной персоной! Я уж решила, что мерещится, мысли-то почти насквозь про работу, ну, думаю, кранты, уже и в телевизоре всех вас видеть начинаю. Первый раз еще вечером в пятницу показали, ну по нашим, областным, а в субботу и центральные сподобились. И ты там. На заднем плане, но узнать можно. Я даже записала на всякий случай.
Ева нашарила на столе пульт, понажимала. Настенный телевизор, что висел в приемной у окна, мигнул, беззвучное новостное мельтешение сменилось кадрами с кладбища. Люди вокруг могилы, экскаватор, который вдруг останавливается, а люди, словно их магнитом притянуло, оказываются вплотную к яме.
– Вот, гляди! – Ева нажала на паузу. – Ты ведь?
– Ну я, – согласилась Арина, хотя узнать ее в этой размытой фигуре смог бы лишь близкий знакомый, и то с трудом. Но картинка была любопытная, Ева права. Оператор, метавшийся – она помнила – вокруг, как взбесившийся электровеник, в этот момент взял общий план. Интересненько. К могиле кинулись все – да не все. Заплаканная красавица закусила костяшки пальцев, спутник все так же ее обнимал, дама в лиловом стояла все с тем же равнодушным, нездешним взглядом: все это не имеет ко мне никакого отношения. Коренастый стриженый дядька тоже ринулся к могиле, только спину видно. Парень же с лошадиным лицом остался на месте – так же, как красавица и лиловая дама. Стоит, губу чуть прикусил, а глаза… Странный у него взгляд, очень странный.
– Неужели ты не видела? – изображение двинулось, секунд через десять Арина опять оказалась в кадре, теперь в профиль. – Не, я понимаю, ты сама там была, но… Где твоя хваленая следовательская интуиция?
– При чем тут интуиция? И при чем тут, если уж честно, я? Мало ли чего показывают…
Ева выключила запись и уставилась на Арину, пристроив подбородок на сомкнутых кулачках. И через несколько секунд выдохнула с явным облегчением:
– Вершина, ты меня разыгрываешь! Ты, небось, этот сюжет за выходные до дыр засмотрела! А теперь ваньку валяешь: ничего не знаю, починяю примус.
– Ну не то чтобы до дыр… – Арина засмеялась.
– Тьфу на тебя! – Ева укоризненно погрозила пальчиком. – Не любопытно ей, видите ли! Я аж испугалась – подменили Вершину!
– Но ты ведь купилась? Кстати, в наших новостях сюжет самый длинный был, в центральных куда короче. Вот бы полный вариант посмотреть. Не эти сорок секунд или сколько там, а все, что оператор наснимал.
– Ну так запроси да погляди – завканцелярией, она же секретарша Самого, она же «центр управления полетами», изобразила гримаску почти презрительную.
– На каком основании?
– Так Воскресенское же кладбище в нашей подследственности, разве нет?
– Воскресенское – да, а само дело вряд ли, там, на мой взгляд, подследственность чисто полицейская. Вряд ли следственный комитет будут привлекать.
– Подследственность, видите ли! – Ева фыркнула. – Дело-то громкое!
– Вандализм-то? Потому что по факту мы пока имеем только вандализм. Ну еще мародерство можно прицепить, могила-то, получается, ограблена. Гроб, хоть и использованный, какая-никакая, а материальная ценность. Но это уже именно прицепить.
– А все остальное? Шумилин покойный, конечно, не Абдулов или Еввстигнеев, снимался мало, а наш драматический, хоть и супер, но не МХАТ и не БДТ. Провинция-с, – Евины губы сложились в презрительную гримаску, но не к «провинции», а наоборот, к тем снобам, которые «столицы» превозносят как центр мироздания. – Но известный же! Такой актер был! Ты-то его не застала.
– Здрасьте вам! Я вообще-то тут выросла. У Морозова училась между прочим. В Питер уже после юрфака уехала, муж там работал. Собственно, и работает. Вся родня у меня здесь, ты чего? Это ж все в моем личном деле…
Зачем я про Морозова сказала, почти панически подумала Арина. Кто только у него не учился. И любят его все. Когда осенью ему пришлось срочно уехать, переживали. И на кафедру, когда все-таки вернулся, приняли с распростертыми объятьями: такими преподавателями не разбрасываются. Зубр, корифей и вообще легенда следствия. Сочувствовали: все ж понимают, от каких скоропостижных болезней люди так стремительно бегут. Ну да, ну да. Баклушин, узнав о возвращении «легенды» аж с лица спал. Уж он-то знал, что это за «скоропостижная болезнь». До сих пор ходит тише воды ниже травы. Боится, что ответка может прилететь. Оно бы и хорошо, но – не время бучу затевать. Пусть Борька мутит свои делишки, не до него сейчас, пусть все утихнет, пусть все все забудут – не те немногие, кто в курсе, а те, кто ни сном ни духом.
И кто сейчас Арину за язык тянул? Впрочем, Ева, кажется, ее реплику мимо ушей пропустила, сосредоточившись на собственной неприличной забывчивости.
– Ой, чего-то я и вправду ляпнула, не подумав. Слепое пятно какое-то, ей-богу.
Арина вздохнула облегченно:
– Бывает. А Шумилина я помню, как не помнить, девчонкой на его спектакли бегала. Так жалко было, когда он умер.
– Ты как думаешь, Марат этот – в самом деле сын его или заливает, рекламу себе делает?
– Кто ж их, скоморохов, разберет, – Арина вспомнила лобастое лицо, крупный рот, небрежные каштановые пряди: еще на кладбище оно показалось знакомым, но только дома, посмотрев и послушав новости, она поняла, кто этот молодой человек. – Разрез глаз и линия роста волос похожи. Но я не спец. Да и внешнее сходство – это так, в пользу бедных. ДНК надо сравнивать.
– А теперь сравнивать не с чем, да? Раз тело из могилы выкрали…
Ожил Евин селектор:
– С Вершиной лясы точишь? Ко мне! – в голосе полковника юстиции, за глаза именуемого ППШ, звучали отчетливые металлические нотки. Или это из-за динамика так кажется?
Вот как Пахомов узнал? Через закрытую дверь увидел-услышал? Через стену?
Присаживаться Арина не стала, остановилась у стола, как бы в трепетном ожидании. Только с ППШ эти штучки не проходили.
– Почему сразу не доложила?
– О чем, Пал Шайдарович? Если б там труп оказался, а так…
Пахомов вздернул бровь – не то насмешливо, не то укоризненно. Арине стало немного стыдно. И в самом деле: труп в могиле – ничего удивительного, а вот его отсутствие – совсем другое дело. Контекст – великая вещь.
– Что, вандализм возбуждать?
– Возбуждать погоди. Но доследственную проверку по факту осквернения могилы провести положено.
– А почему мы, а не полицейские дознаватели?
– Потому.
– Понятно, – вздохнула Арина. – Дело взято на контроль и все такое? А там, может, банальное мародерство. Может, у Шумилина часы какие-нибудь сверхценные имелись. Или перстень, к примеру. Хотя не думаю, не та семья. Может, в рамках проверки пройти там с георадаром? Кладбище богатое, теоретически могут и грабители быть.
Полковник усмехнулся:
– Расхитители гробниц.
– Да… – она вздохнула. – Хорошо бы, но вряд ли. Мародеры просто вскрыли бы захоронение, ценности повытаскали и все. Ну, может, закопали бы, следы заметая. Зачем им гроб? Вряд ли он антикварный. Шумилин, конечно, известный актер был, но не саудовский шейх. Или кого там в золотых гробах хоронят.
– Вот именно.
– Значит, дело в этой мутной истории с сыном? Который то ли сын, то ли нет. Могилу-то в пятницу вскрывали ради пробы ДНК шумилинской.
– Уже выяснила?
Пахомов одобрительно кивнул.
– Так точно, Пал Шайдарович. Разрешение на эксгумацию, кстати, областным управлением выдано. А эксперт из некоего независимого криминалистического бюро. Но все лицензии и прочая документация наличествует. Думаю, надо всю семейку аккуратно проверить. Вьюнош этот. Марат Гусев, спит и видит генетическое родство доказать. А вот родне шумилинской этот как бы сын вовсе без надобности, им выгодно отсутствие конкурентов. Но – гроб? Гроб-то зачем?
Пахомов сперва слушал ее рассуждения с одобрительным любопытством, но вскоре мотнул головой:
– Брысь! Иди работай.
Притворив за собой дверь пахомовского кабинета, Арина остановилась.
У Евиного стола завис посетитель. Не особо взрачный, предпенсионного возраста, под серым замшевым пиджаком что-то светлое, не то футболка, не то джемпер. Жидкие русые (то ли с проседью, то ли изначальный цвет такой невнятный) волосы почти не видны вокруг ленинско-шекспировской залысины от выпуклого лба чуть не до затылка. Серо-голубые глаза немного навыкате и неожиданный на длинном лице вздернутый нос. Сильно вздернутый, словно дядечка к стеклу прижался.
– Арин, побеседуешь с гражданином?
– Я вас узнал! – радостно заявил, развернувшись к ней, дядечка. – Вас по телевизору показывали! Помните, когда то дело обсуждали? Про мальчика в печке. Помните? И в эти выходные во всех новостях про эту могилу рассказывают, а вы тоже там были, я видел! Так что мне именно к вам нужно!
Дело о смерти маленького Вити Кащеева Арина помнила. Но что значит «обсуждали»? Это он про ток-шоу «Несчастный случай», что ли? Так оно чуть не полгода назад было. И сразу – про давешнее кладбище. Где имение, а где вода? В смысле – какая связь-то? Но – ладно. Ева из-за дядечкиной спины что-то показывала ладошкой и делала круглые глаза: забери этого типа. Арина пожала плечами:
– Пойдемте.
На пороге приемной она остановилась, вернулась к Евиному столу. Подняла брови, мотнула головой вопросительно – мол, что за явление?
Ева пожала плечами и сообщила тихо, почти шепотом:
– Говорит, что он зоркий, и у него для тебя есть информация.
– Зоркий? Что за… Псих, что ли?
– Да это вроде фамилия.
– Надо же! Ладно, разберемся.
Оказалось, и впрямь – фамилия.
– Я Рихард Зоркий, – представился дядечка, устроившись на «свидетельском» стуле перед Арининым столом.
И замолчал, глядя на Арину с очевидной, хотя и непонятной надеждой. Точно ждал, что она всплеснет руками, ахнет, расширит глаза в изумлении – какая неожиданность, звезды не ездят в метро и все такое. Черт его знает, может, и правда он – звезда? Знаменитость. Их нынче столько развелось, что не упомнишь. И не «признать» нельзя – обидится. Но – Зоркий? Кроме советского фотоаппарата и вовсе ничего в голову не приходило. И еще почему-то – из-за похожести звучания, должно быть – знаменитый разведчик вспоминался. Рихард Зорге. На разведчика посетитель не походил совершенно. Впрочем, что значит «не походил»? Смешно думать, что разведчики выглядят как-то особенно. Как в том анекдоте: ушанка со звездой и волочащийся следом парашют. К тому же господин Зоркий явно ожидал – или как минимум надеялся – что она узнает фамилию. Так что не разведчик. Может, актер? И тогда он действительно может знать что-то полезное.
– Простите, я… – она изобразила лицом сосредоточенную работу мысли: нахмурилась, даже глаза прикрыла, как будто вспоминала.
Тот, что сидел перед ней, улыбнулся – по-доброму, слегка снисходительно – и принялся перечислять:
– «Охота на завра», «Зачем тебе смерть», «Бремя окрыляет»…
В школьные времена Арина была заядлой театралкой, все шумилинские спектакли знала чуть не наизусть. Что там ставят сегодня, не представляла совершенно. Однако спектакли «Зачем тебе смерть» и «Бремя окрыляет»? Воля ваша, это как-то чересчур. Перечисленные названия больше подошли бы боевикам. Или триллерам. Их сейчас сотнями клепают. И все-таки вряд ли это кино. Нет, не актер на «свидетельском» стуле сидит. Скорее всего, писатель. Она виновато улыбнулась:
– Простите, у меня совсем не остается времени на чтение.
Угадала! Посетитель едва заметно кивнул. И вздохнул – сочувственно так, понимающе:
– Беда нашего времени. Но дело не в этом. Вот вы Дэна Брауна читали?
Арина помотала головой. «Код да Винчи» она, на волне всеобщего ажиотажа, читать начинала, но не осилила – мало того что скучно, так еще примитивнейшие загадки за суперинтеллектуальные головоломки впарить пытаются. Да еще и конспирологией густо присыпают. Увольте.
– Но знаете, кто он такой, да?
– Трудно было бы не знать, когда лет пятнадцать назад из каждого утюга вещали про этот «Код да Винчи», не захочешь, а запомнишь.
– Вот именно! – посетитель почему-то обрадовался. – Сегодня столько всего издается – а еще больше не издается, и не худшего, не худшего! – что невозможно в этом океане выплыть. Только реклама! Это мне, кстати, личный брауновский редактор говорил. На Франкфуртской книжной ярмарке, – гордо добавил неизвестный писатель Зоркий. – Вот так и говорил: пока журналисты вокруг тебя бучу не подняли, никто про тебя и не узнает, будь ты хоть Гомер с Хемингуэем в одном флаконе! Журналистам ведь плевать на стиль, на глубину, на живость – вообще на все, чем силен или слаб текст. Им скандал подавай, жареное что-нибудь! Слышали, может? В Америке даже серийные убийцы книжки пишут! И знаете, какими тиражами это издается? Потому что – жареное, острое, скандальное!
«Господи, – с тоской подумала Арина, – чего ж я так с этим… писателем нянчусь-то? И чего ему от следователя надобно? Завести на современных журналистов дело? Об убийстве литературы?»
– Простите, – заметила она довольно строго. – Вы пришли о журналистах поговорить?
– В какой-то степени, – не смутился он. – Вы ведь то дело вели? Ну то, когда вас в первый раз по телевизору показали. Вот, – и выложил на стол мрачноватого вида покетбук с крупными багровыми буквами на темной обложке: «Только пепел знает».
Арина машинально заглянула в выходные данные. Тираж две тысячи экземпляров, подписана в печать… Свеженькая книжка-то…
Зоркий аж руками на нее замахал:
– Не смотрите туда, это неважно! Просто они только сейчас согласились, когда вы все это заново расследовали! А я-то написал еще когда! Два года назад, когда эта история только случилась! По телевизору увидел, не когда вы там были, а в самом начале, и не понравилось мне все это. И… не знаю, как объяснить. Одним духом написал. Словно диктовал кто-то… оттуда. А после уже вы всех на чистую воду вывели. Понимаете?
«Только пепел знает», надо же. В итоге-то действительно именно пепел свое «сказал».
– То есть вы про это написали сразу, когда Витя погиб?
– Н-нет, – медленно, как бы сомневаясь, выговорил Зоркий. – Когда их всех по телевизору начали показывать, ну то есть не всех, потому что этого, якобы убийцу, посадили. Только это же все не так было, вы же знаете! И я посмотрел на них – и написал, как было! Только…
– Издателям не понравилось, что ваша книга противоречит приговору? – ей вдруг стало не то чтобы интересно, но досадливое желание поскорее от визитера избавиться пропало.
– Да-да, именно! – радостно подтвердил визитер. – Мы, говорят, все понимаем про художественное переосмысление реальности, но не надо нам этих ужасов, мы же не в Скандинавии какой-нибудь. Скандинавские детективы, вы понимаете…
– Я в курсе, – она почти хмыкнула. – Мрачный реализм и все такое. Но у нас ведь тоже подобное издается, разве нет?
– Ну… да, – неохотно согласился господин писатель. – Но они сказали, что это пляски на костях и вообще нехорошо, у людей горе и… Но вы же знаете, что на самом деле все было не так, как в приговоре значилось! И вот теперь, когда дело пересмотрели, они тоже согласились…
– Положим, тогдашнюю позицию издательства тоже можно понять. И ваша писательская… – она чуть не сказала «зоркость», но вовремя спохватилась. – Ваша писательская проницательность внушает уважение. Но, в конце концов, книгу-то издали?
– Да вы погодите! Вот, – на стол хлопнулась пластиковая папка с подшитой в нее пачечкой бумаги. Сквозь пластик просвечивали крупные буквы на первом листе: «Рихард Зоркий. С четверга до бесконечности». – Я вам распечатал. Вот, читайте! – он раскрыл папку где-то на середине:
Небо было таким черным, что звезды выглядели не источниками света, а неопрятными крошками на черном бархате. Но тьма, хранящаяся в разверстой могиле, была еще чернее. Только в самой глубине что-то поблескивало. И между чернотой неба и мраком земных глубин смутно, очень смутно, едваедва светлело пятно надгробного камня.
– Чо-та легкий какой-то… – от склоненной на краю фигуры, невидимой в темноте, шел тяжелый запах.
Руслан передернулся от омерзения. Ничего, скоро все закончится. Надо только немножко потерпеть.
– Мож, его там и нету? – отозвался из тьмы второй голос, такой же отвратительный и такой же вонючий.
– А че? Мож, кто-то раньше нас подсуетился? Слышь, шеф? Вынаем или как?
– Делайте как договорились, – откашлявшись, выдавил Руслан.
Вынутая из могилы земля ссыпалась обратно с тихим шелестом. Он слышал этот шелест – оглушительный, как треск неба после расколовшей его молнии.
– Слышь, шеф, хлебнуть надо. Для вдохновения, – говоривший хихикнул. – Мы ж слышали, у тебя есть. Давай, не жмоться!
Он вытащил из сумки бутылку, протянул в темноту:
– Не перестарайтесь, дело надо сделать. Потом как следует выпьете, – он подумал, что, когда они выпьют, все станет еще более мерзким. Но и более простым.
– Не дрейфь, шеф, мы норму знаем.
Скрип – отвернули пробку. Глухое звяканье – похоже, горлышко стукнулось о чьи-то зубы.
– Бутылку верните, – распорядился он. – После допьете. Еще нести…
– А мы его ща на тележечку, – мерзко подхихикивая, пробормотал тот, что требовал выпивки. – И довезем в лучшем виде.
– В развалины, что ли? – буркнул второй.
– Куда ж еще! Там дирижбомбель сныкать можно, не то что этого… бедного Йорика.
Арина пролистнула несколько страниц, подумав мельком, что готичность повествования призвана, должно быть, скрыть полное его неправдоподобие. Мрак у него, видите ли, полный! Поди-ка, раскопай могилу в полной темноте – да чтоб следов вторжения не оставить. Но вонючий помощничек – бомж, надо полагать? – цитирующий Шекспира – это мило. Хотя тоже штамп. А вонючий голос – совсем прелестно.
Первым словом на открытой странице оказалось «следователь». Да еще с восклицательным знаком. Но с маленькой буквы – значит, это хвост предложения с предыдущей страницы. Она вернулась чуть назад.
Когда все ломанулись к застывшему с поднятым ковшом экскаватору, Руслан не двинулся с места, удовлетворенно и снисходительно озирая сомкнутые спины. Оператор одного из местных телеканалов скакал вокруг, вскрикивая:
– Пропустите! Да пропустите же!
Никто на эти вопли внимания не обращал – все жадно любовались раскопанной могилой, где – сюрприз, сюрприз! – не было главного. Покойника то есть. Руслан едва заметно усмехнулся: жаль, что владелец могилы уже мертв. При жизнито он, хоть и был популярен, но столь жаркого интереса к своей персоне никогда не наблюдал.
Оператор вытянулся на цыпочках и задрал камеру как можно выше, чтобы снимать сомнительное свое видео поверх голов. Он почти ложился на жирные, в пятнах пота спины любопытных сограждан – но те даже не замечали.
Бараны. Как есть бараны.
Только вдова и дочь пропавшего покойника не участвовали в общем безумии. Стояли с безразличными отсутствующими лицами. Словно происходящее их не касалось. Еще и губками брезгливо подрагивали – как будто не у могилы обожаемого мужа и отца стояли, а возле источающего миазмы вокзального сортира. Дочку, впрочем, даже гримаса не портила. Такой ротик трудно испортить. Хороша куколка! В другое время и при других обстоятельствах Руслан, уж конечно, затеял бы с ней романчик – недлинный, но пожарче. Но – увы. Ему нельзя. С этой – нельзя.
Но в нескольких метрах от сомкнутой нездоровым любопытством толпы вдруг появилась еще одна куколка. Даже и получше дочки. Полная грудь распирает легкий – нараспашку – пиджачок и вовсе уж тонюсенькую майку под ним. Если подойти поближе, небось, и соски видны будут. Но даже отсюда, где Руслан стоял, было заметно, как обтянутая маечкой плоть двигается, так что рассыпанные по плечам смоляные локоны змеино шевелятся – дышала красотка взволнованно. И полные сочные губы поблескивают, и в глубине темных глаз горит жаркий огонь. И попка под тонкими джинсиками – девушка как раз повернулась в профиль – тугая и круглая, как волейбольный мяч. Он сглотнул, прогоняя не ко времени заполнившие мозг картинки. Надо же! Откуда такая взялась? Неужели журналистка? Отличная возможность совместить приятное с полезным…
– Это же Искра… – шепнул кто-то рядом.
Ни фига ж себе искра, целый пожар, саркастически хмыкнул Руслан, и только тут понял, что это – фамилия. Да еще знакомая! В последние полтора-два года ему волейневолей приходилось следить за прессой. Точно. Илона Искра. Черт побери! Это даже лучше, чем журналистка. Опасно, конечно, но чего ему-то бояться? Это, братцы-кролики, просто сказочно повезло – следователь!
Арину слегка замутило. Даже Эльвира Глушко, первая красавица городского и, пожалуй, областного следствия, не выглядела столь жаркой штучкой, как эта вот «литературная» следовательша. Пусть даже жаркой штучкой она выглядит в глазах персонажа, все равно пакостно.
Первым побуждением было швырнуть опус в жадно взирающего на нее автора. Но – профессиональная этика, черт бы ее побрал! – Арина лишь едва заметно вздохнула, закрывая папку:
– Случай действительно был… впечатляющий, понятно, почему вас это как писателя зацепило.
– Да нет же! – он даже привстал. – Когда могилу вскрыли? В пятницу? То есть два дня назад. А я это написал еще зимой! Когда начались эти пляски – сын или не сын. Только он Марат, а у меня Руслан. Телевизор, конечно, тупой ящик, но там много любопытного можно увидеть.
– Вы хотите сказать, про пустую могилу вы написали до того, как обнаружилось… вторжение?
– Да! – воскликнул он с восторгом. – Как написал, так все и вышло, понимаете? Даже вы там были!
– Понимаю… – Арина задумчиво провела пальцем по углу бумажной пачки, как пролистала. Нет, она кондовый материалист, ни в какую мистику и высшие разумы не верит, но, черт побери, есть совершенно реальные случаи, когда экстрасенсы находили пропавших людей – или их тела. Есть многое на свете, друг Горацио… И, как говорил, кажется, Нильс Бор, подкова приносит удачу независимо от того, верите ли вы в это или нет. В том смысле хотя бы, что кроме познанных законов мироздания наверняка есть и непознанные? Познание-то бесконечно, а? Писатель этот, конечно, со сдвигом, но они, наверное, все со сдвигом: им же приходится верить в создаваемую реальность – иначе выйдет не реальность, а картонная поделка. Еще Пушкин писал кому-то из друзей: «Представь, какую штуку удрала моя Татьяна! Она замуж вышла!» Это про Татьяну Ларину, создание его собственного воображения! О чем это? О чутком прислушивании к выдуманным характерам. Но почему только к выдуманным? Может, этот господин не придуривается? Может, и впрямь… провидит что-то? Если он хороший писатель…
– Я это оставлю, я специально для вас распечатал. Почитайте. Потому что пустая могила – это только начало, понимаете? – с улыбкой сообщил писатель.
– Только начало? И что дальше? – саркастически заметила Арина. – Кого-то убьют?
– Конечно! – писатель затряс головой, словно отбрасывая Аринин сарказм. – И вы же наверняка это расследовать будете! Понимаете, как все одно к одному? Сперва вот это, – он потряс «Пеплом». – И именно вы доказали, что все случилось не так, как сперва выглядело, а так, как я написал! Потом вы же собственными глазами смогли увидеть эту пустую могилу! И опять все, как у меня написано! Это не может быть случайными совпадениями! Это судьба нас сводит, понимаете?
– Судьба? – несколько недоуменно переспросила Арина. – Кажется, такого рода совпадения называются синхронизм, дело, в общем, обыкновенное и известное.
Но «зоркий» писатель опять предпочел не услышать ее реплики:
– Представляете, как за такую историю журналисты ухватятся?
– Журналисты? – Арина почему-то моментально расстроилась, пробудившийся было интерес стремительно угасал, уступая утихшему было желанию поскорее от назойливого посетителя избавиться. – А, ну да, конечно. Это все, что вы хотели мне рассказать?
– Пока да, – с явным сожалением вздохнул господин писатель. – Как только что-то… узнаю, я непременно… А вы пока прочтите, прочтите!
– Да-да, непременно. Спасибо, – слово вырвалось автоматически.
Ей совсем не хотелось его благодарить.
Дверь вдруг распахнулась:
– Вершина, на выезд!
Дом оказался одним из немногих в этом районе «сталинских»: консьержки не имелось, но высота потолков и чистота просторных лестниц внушала почтение.
В углу площадки между третьим и четвертым этажами располагалась пальма в массивной кадке, рядом – старый, но добротный диванчик. Откуда-то сверху донеслось мелодичное треньканье.
Средняя из трех дверей четвертого этажа была слегка приоткрыта. Возле левой же стоял Стас Мишкин с поднятой рукой – видно, только что нажимал кнопку звонка, пиликанье которого Арина услышала с предыдущей площадки.
Дверь распахнулась стремительным рывком:
– Что вы… Что вам надо? – резко спросила появившаяся в проеме худенькая девушка. Темные, как спелые вишни, очень красивые глаза глядели неприветливо, почти враждебно.
Опер оттарабанил положенный текст про понятых.
Девушка быстро, недоверчиво взглянула на приоткрытую соседскую дверь:
– Нина Игоревна? Да что вы такое… Сперва Жанка трезвонила, ключи ей давай, а откуда у меня? А теперь вы! Вы… вы врете, да?
Мишкин сочувственно покачал головой:
– Увы. Так что, пойдете понятой?
– Нет! – воскликнула девушка. – Нет, я не могу! Как же это? Я же только вчера к ней заходила! С пирожными, с ее любимыми… – она закашлялась.
Стас покосился на Арину. Та кивнула: да, сама с ней попозже поговорю, девчонка-то не просто соседка, а хорошая знакомая, ценная свидетельница. Даже если дело ясное, лишнее подтверждение не помешает.
– А зачем… осмотр? – спросила вдруг ценная свидетельница. – Полиция… Почему? Нина Игоревна разве… я думала… Что-то не так? Она не просто умерла?
– В общем, да, – подтвердил Стас. – Есть вопросы. Поэтому осмотр, поэтому и понятые. Вас зовут-то как?
– Лара… То есть Иллария… Иллария Александровна Лисина… – она судорожно вздохнула. – Я… я, наверное, должна, да?
Мишкин принялся мягко ей объяснять, что присутствовать на всем протяжении осмотра не обязательно, а если ей совсем тяжело, то он кого-нибудь другого найдет, например, вот отсюда – он мотнул головой в сторону двери справа. Но девушка, шмыгнув носом, неожиданно деловито сообщила:
– Там нет никого. Они недавно въехали, сейчас ремонт делают, а сами не живут.
Оставив опера объясняться с соседкой, Арина толкнула приоткрытую дверь, из-за которой доносились негромкие голоса – и судмедэксперт, и криминалист были уже на месте.
– Всем здравствуйте, – доложила она, остановившись на пороге просторной светлой комнаты.
– И тебе не хворать, – хрустально отозвалась Мирская, сидевшая на корточках под покосившейся люстрой, с крюка которой свисал веревочный хвост. Тела за Ярославой было почти не видно, только полная бледная нога торчала слева, да рыжеватые, явно крашеные кудряшки справа.
– Кто она?
– Хозяйка квартиры, Нина Игоревна Шульга, пятидесяти восьми лет, – сообщила через плечо судмедэксперт. – Вон там паспорт ее, можешь сама поглядеть. Паспортные фото, конечно, та еще картинка, да и вид у нашей дамы сейчас не очень презентабельный, но это она. И одета, видишь, по-домашнему. Ну и соседи опять же подтвердили.
– Привет, Вершина, – хмыкнул Лерыч. – Повезло нам, что отопительный сезон уже завершился. Не то и труп бы сварился, и парная тут была бы такая, что никаких следов не найдешь.
– Следов – чего? – тут же спросила Арина. – Есть сомнения?
– Да нет вроде, но ты ж опять будешь требовать, чтоб все до пылинки обследовали. Так-то дело ясное, сама гляди. Шнур-то еще участковый обрезал, подробности можешь сама спросить, у… как там тебя?
Маявшийся у двери дебелый сержант – Арина его не знала – обиженно засопел:
– Сидорчук я. Миша. Михаил то есть, помощник участкового. Мы с Алексеем Степанычем тут… это… Он-то, как вас дождался, ушел, дел много, меня на всякий случай оставил. Может, чего спросить понадобится. А только чего спрашивать, и так…
Тут Арина была, пожалуй, согласна. Все «и так» видно. Веревку с заранее завязанной петлей хозяйка забросила на крюк люстры, а нижний конец привязала к трубе батареи. Встала на стул, сунула голову в петлю и оттолкнулась. Через какое-то время труба не выдержала веса крупного тела, покривилась, треснула. Какая-то вода в системе еще оставалась, потекла, вон, ковер с той стороны еще мокрый.
– Полицию кто вызвал?
– В нижней квартире с потолка капать начало, – вместо сопящего Сидорчука ответил почему-то криминалист. – То есть не то чтобы прямо дождик, но пятно там имеется, я видел. Они сперва сюда принялись звонить, в дверь долбились, а хозяйка не открывает и на телефонные звонки не отвечает. У соседки ключей нет. Вызвали техника с участковым. Мало ли, бабушка довольно пожилая, подумали, воду по забывчивости не закрыла. Или с сердцем плохо стало. Вскрыли квартиру. А тут, видишь, какой натюрморт. Мы уж балкон приоткрыли, да не бойся, я дверь обработал, там нет ничего, а то в этой… атмосфере работать затруднительно.
– Да уж, даже в коровнике не так воняет, – сморщился брезгливо сержант. – Как будто обосрался кто-то.
– Неизвестно, какой ты сам будешь после смерти, – сурово, почти неприязненно заметила Мирская. – Расслабление сфинктеров – дело при умирании обыкновенное. А уж при асфиксии и вовсе почти обязательное. Ну и сам по себе труп тоже не фиалками благоухает. Так что ты бы язык-то свой придержал, товарищ сержант. И вообще, чего ты тут отираешься?
– Ну… так… положено, чтоб участковый… а Алексей Степаныч по делам пошел, меня оставил… Чего это я пойду?
– Тогда рот не разевай, ясно?
Почему Ярослава сердилась, Арине было ясно. Смерть требует как минимум уважения. И если иногда она кажется закономерной – среди крыс в гнилом подвале или в ободранной, типично «алкашной» комнате – то здесь смерть выглядела шокирующе неуместной.
На большом столе справа еще красовались остатки чаепития. Должно быть, того, про которое упоминала девушка-соседка. С любимыми пирожными… Последняя трапеза. Как перед казнью.
Ни о каких экзистенциальных кризисах, депрессии и прочем отчаянии обстановка не говорила. Уютная, обустроенная для удобной жизни комната.
Почти напротив двери, под выходящим на балкон окном, к стене был пристроен еще один стол – длинный, наподобие верстака. Часть его составляла ножная швейная машинка – на «зингер» похожа, подумала Арина – над которой нависала прикрученная слева лампа-гармошка, а перед ней мягкое «компьютерное» кресло. Еще левее, уже вдоль соседней стены, располагался стеллаж с многочисленными дверцами, открытыми полками и ящичками. Под «верстаком» тоже виднелись тумбы с ящиками. Правее «верстака» стоял еще один стеллаж, поменьше левого и не такой затейливый, состоящий только из полок. На двух нижних – пестрые бумажные корешки, не то детективы, не то дамские романы. Среднюю часть занимал плоский телевизор, две полки над ним были заставлены разноформатными и довольно потертыми книгами. К корешкам кое-где прислонялись фотографии в узких деревянных рамках, пейзажные и портретные – жанра «я и Эйфелева башня». Между «Карнавальными масками» и безымянным корешком, украшенным фотографиями вышитых и вязаных элементов, виднелся край еще одной. Арина подцепила его, вытащила снимок.
На фоне утопающего в зелени дачного домика улыбались трое. В женщине справа Арина узнала ту, над которой склонилась сейчас Мирская, только изрядно моложе, еще не грузную, а просто слегка полноватую. Женщина слева выглядела на ее фоне почти худышкой, светлые волосы торчали двумя задорными хвостиками. Мужчина в центре – круглолицый, крепко сбитый – обнимал своих спутниц за плечи, только худенькую, пожалуй, несколько крепче. По-хозяйски обнимал. Арина сразу решила, что перед ней супруги. Интересно, где они сейчас? Расспросить бы. Повесившаяся ночью хозяйка квартиры с ними явно дружила.
Арина сунула рамочку с неприлично радостной фотографией назад, пробежалась взглядом по книгам. Ни одной художественной, не то что внизу. «Справочник швейника», прочитала она на одном корешке. «Костюм разных времен и народов. Том 1» – на соседнем. «Батик» на третьем.
– Она портнихой, что ли, была?
– В театре работала, по костюмам, – сообщил присмиревший Сидорчук. – Эти сказали, которые нас вызвали.
– В котором из театров? – уточнила Арина. Театров в городе имелось не меньше десятка: драматический, оперный, юного зрителя, кукольный и какие-то студии и сцены, известные, что называется, в сугубо узких кругах. К делу это отношения не имело, да и делато никакого не было, но – спросила.
– В самом главном, в драматическом, – доложил Сидорчук.
Не зря спросила. Впрочем, самоубийство костюмерши вряд ли могло иметь отношение к скандальной пятничной эксгумации, да и скандал тот, как подумать, с собственно театром связан лишь опосредованно. Размышления прервал оклик криминалиста:
– Протокол-то будем писать, госпожа следователь? С чего начнешь, с тела или с обстановки?
– Давай с тела, – вздохнула Арина.
– Леди вперед, да? – фыркнул Зверев, впрочем, вполне беззлобно.
– Тело пожилой женщины расположено… – размеренно диктовала Мирская. – Узел простой… Лерыч, ты узел сфотографировал?
– Обижаешь!
– Ладно-ладно, я так. Узел за правым ухом, странгуляционная борозда слабо выраженная, косовосходящая, незамкнутая.
– Слав, а почему слабо? – Арина на мгновение перестала писать.
– Ну дама-то более чем рубенсовского сложения, а в жировой ткани сосудов мало. Ну и шнур довольно толстый, не струна какая-нибудь.
– Время смерти?
– Так, навскидку, суток двое, может, даже и трое.
– И мухи еще не успели развестись? – недоверчиво уточнила Арина.
– В закрытой со всех сторон квартире? Откуда бы им тут взяться, они ж не самозарождаются в трупах, кто-то должен прилететь и яйца отложить, а тут разве что из вентиляции, но это от дома зависит. Кое-какая энтомофауна имеется, конечно, но, с учетом всех обстоятельств, неудивительно, что скудная.
– Пятница?
– Пятница примерно, да, – кивнула Ярослава, почесав поднятым плечом ухо. – Может, суббота. Но скорее вечер пятницы.
Протокол осмотра тела оказался недлинным. Обстановка тоже, при всей Арининой дотошности, уложилась меньше чем в две странички.
– Записки нет?
– Не-а. Но ты ж знаешь, как бывает.
Арина знала. Не все, ох, не все самоубийцы оставляют прощальные послания. А эта тем более одинокая, кому последнее «прости» говорить?
– Арина Марковна, это снимаем?
– Ты про стул?
– Да ну! Стул я снял уже, как лежит, она ж на него вставала. Вот, возле стола. Может, сделать покрупнее?
На гладких досках виднелась царапина или скорее ссадина: не линия, а как будто сбитая чем-то полоска.
– Как будто она вместе со стулом двигалась?
– Ну… может, и двигалась. Поплохело, трудно было встать. Пожилая, грузная.
– Или стул сдвинулся, когда она на него встала. Или когда оттолкнула.
– Оттолкнула она его в другую сторону. И сама смотри, где след, а где она на стул вставала. И, кстати, не факт, что это вообще с самоубийством связано. Царапинки-то свежие, но вполне могли и днем-двумя раньше образоваться.
– Но на всякий случай щелкни, да.
– Шнур изымаешь?
– Изымаем, конечно. Не то чтобы… но это, как не крути, а орудие смерти.
– Жалко тетку, – криминалист покачал головой. – Не бомжиха, не алкоголичка, театральные костюмы… Может, ей нахамил кто? А она расчувствовалась и… Или врач что-то ужасное сказал…
– Почему ты так думаешь? – спросила Арина.
– Шнур-то новехонький. То есть что-то ее до такой степени расстроило, что она пошла и веревку купила.
– Может, и нахамили. Или врач, ты прав… А может, у нее любовь всей жизни имелась.
– Она ж одинокая вроде.
– Ну так, может, ее ненаглядный на другой женился, а о ней и не думал. А недавно помер, вот она и решила, что дальше жить сил нет.
– Зачем она, кстати, веревку к батарее привязывала? Почему не прямо к крюку?
– Ты на нее посмотри. Потолки четыре метра. Даже со стола трудно дотянуться, не то чтоб чего-то там завязывать. Дама все-таки пожилая, грузная, трудно ей было. Вот и сделала попроще: закинула веревку на крюк и свободный хвост привязала к трубе.
– Могла на одном конце веревки простую петлю завязать, ее забросить на крюк, а на другом конце скользящую. Батарея – это как-то…
– Как-то! – передразнила Арина. – Скажи ей за это спасибо. Если бы батарея вниз не протекла, когда бы даму еще нашли? Когда тело в желе превратилось бы и завоняло бы на весь подъезд?
– Так-то да… – Лерыч, казалось, смутился. – Может, на работе бы забеспокоились… – добавил он без особой уверенности.
– Это если театральный сезон еще не закончился, – отмахнулась Арина. – Ты же сам сказал: повезло нам тут. Чисто, светло, труп почти свежий.
– И не говори, – отозвалась Ярослава, поворачиваясь к Арине. – И, кстати, о театре. Если ты по своей дотошности надумаешь сослуживцев опрашивать, поинтересуйся, кто похоронами займется.
– Ладно. Мишкин, – скомандовала Арина, – зови понятых, подписываем протоколы осмотра, а после я с соседями поговорю.
– Так нижних-то, которые тревогу подняли, нету, хозяйка на работу усвистала, а сын в школе. Середина дня, в подъезде почти никого, только на пятом дядька нашелся, после ночной смены отсыпается. Он с этой дамой и не контачил, так, здоровались. И шкаф он ей однажды двигал, лет восемь назад.
– Ладно, зови этого… двигателя. И девушку слева. Как ее, Лару? С ней-то точно надо поговорить. Хотя дело и впрямь ясное.
– Ну да, – хмыкнул тот. – Это только в детективах труп в запертой комнате оказывается жертвой изощренного убийцы, а у нас попроще все.
– Кстати, о запертых комнатах. Когда ты эту Лару в понятые сватал, она что-то про ключи говорила. Вроде Жанка какая-то у нее ключи требовала…
– Так точно, мэм. Жанна – это как раз соседка снизу, на которую протекло. Она первым делом к Ларе ткнулась, люди же соседям запасные ключи частенько оставляют. Но не в этом случае.
– Запасные ключи, говоришь… – Арина нахмурилась.
– Вершина! О чем задумалась? – Стас помахал у нее перед носом растопыренной ладонью. – Увольняйся нафиг из следователей, иди на телевидение, писать сценарии для детективных сериалов. Даже если у девчонки запасные соседские ключи и имеются, это ничего не меняет. Когда квартиру костюмершину вскрывали, пришлось цепочку резать. Ферштейн? Иди с этой девицей побеседуй, и по домам пора, сколько тут колготиться-то?
Квартира слева была трехкомнатной и выглядела куда богаче обиталища театральной костюмерши. Вместо дощатого пола тут лежал паркет – не узорный, простыми плашками, но отлично ухоженный. Вместо открытой вешалки – аккуратные дверцы узкого, но вместительного шкафа с откидными обувными ящиками внизу. Квадратный пуфик между шкафом и дверью новизной не блистал, но его потертости неоспоримо свидетельствовали о своем натурально-кожаном происхождении.
Кухонный диванчик тоже был кожаный, а кофемашина стоила, должно быть, как вся обстановка соседской кухни.
Записав паспортные данные, Арина попросила воды: от «соседского» запаха у нее до сих пор першило в горле. Лара предложила вместо воды чаю:
– Или кофе, как хотите.
Арина выбрала кофе.
Кофемашина подмигнула огоньками, погудела, побулькала, наполняя толстые квадратные чашки темного стекла. Первую Лара поставила перед Ариной, вторую рядом. Присела, опять вскочила, выдернула с полки квадратный фарфоровый «сундук»:
– Вот, сахар. И… – сундучок оказался двухъярусным, донце выдвигалось, там, в фарфоровом «корытце», лежали крошечные ложечки. – Сливки достать?
– Нет-нет, спасибо, – остановила ее Арина. – Вы хорошо Нину Игоревну знали?
Лара замотала головой:
– Н-нет… Это м-мама с ней д-дружи-ила! – она всхлипнула.
– С ней можно поговорить? – спросила Арина и осеклась. Квартира большая, не одна же Лара тут живет. С момента обнаружения тела Нины Игоревны прошло чуть не полсуток. Однако ж мама, которая с соседкой «дружила», до сих пор не появилась… Она хотела спросить, не в отъезде ли мать Лары, как ей позвонить – но не успела. Девушка замотала головой, слезинки разлетелись во все стороны сверкающими брызгами – в окно за ее спиной лилось щедрое предзакатное солнце.
– Н-нельзя… н-нельзя с н-ней… п-поговорить! Она… они…
Арина схватила с полочки какую-то чашку, налила воды – прямо из-под крана. В столь благоустроенной кухне наверняка имелся кулер или что-то в этом роде, но где его искать? сплошные дверцы вокруг, сойдет и из-под крана.
Лара вцепилась в чашку так, что костяшки пальцев побелели. Застучала зубами о край, глотала жадно, вода текла по подбородку. Наконец она выговорила:
– Они разб-бились… н-насмерть… н-недавно.
– Лара, мне очень жаль….
– Перед моим днем рождения… Мне шестого мая двадцать лет исполнилось! Мы собирались… А они…
– Может быть, мы позже поговорим? Я очень вам сочувствую, но…
Лара сунула чашку на стол, сглотнула, подышала, повела плечами, словно расправляя их:
– Ничего, спрашивайте, я понимаю. Только я не знаю ничего, это мама с ней дружила, а я… Я только после… ну – после этого к тете Нине заходить начала. Она тоже переживала очень, они же с мамой были не разлей вода. Но я же не знала, что она… что она собирается…
– Да-да, я поняла, – перебила Арина, боясь, что девушка опять расплачется, но та прикусила губу, справилась. – Понятно, что Нина Игоревна тяжело переживала потерю близкой подруги. Но… быть может, еще что-то было? – Арине не верилось, что потеря друга, даже самого близкого, может толкнуть на самоубийство. Да хоть бы и любви всей жизни – если Нина Игоревна, к примеру, была и впрямь влюблена в Лариного отца. Двадцать-тридцать лет безнадежной любви приучают к терпению. Потеря ближайшей подруги? Будь Шульге двадцать лет – возможно. В юности отчаяние застилает весь мир, а то и вовсе рушит его вдребезги. Но в почти шестьдесят? При устроенной жизни и любимой, судя по книгам и домашней «мастерской», работе? Ей было чем отвлечься от своего горя. Должно быть что-то еще. – Здоровье ухудшилось, на работе неприятности?
– Ее на пенсию собирались уйти, а она не хотела.
– Это она вам рассказывала?
– Ну… да.
– Давно?
– На той неделе. В четверг или в пятницу… да, в пятницу, я после зачета к ней заглянула, мы чай пили.
– Это был последний раз, когда вы с ней виделись?
– После… – девушка запнулась, сглотнула. – Вы так страшно это спросили – последний раз. Последний… Она говорила, что умрет без работы. Но я же не знала, что она это взаправду!
Слезы опять хлынули градом. Да что ж это такое! Арина нашарила в кармане платок – вроде чистый – сунула девушке. Та похлюпала еще носом, попила воды, высморкалась – сильно, на платке даже кровь появилась: Лару это почему-то испугало:
– Ой, простите! Я постираю!
– Да ничего, что вы, – Арина убрала мокрый измятый платок с глаз подальше, только подумала мельком – зря убрала, может, еще понадобится, не искать же по всем шкафчикам салфетки. Хотя… вон над раковиной рулон бумажных полотенец в блестящем кожухе-держателе.
– Вы думаете, я истеричка?
– Ну что вы! Вам сейчас трудно.
– Знаете, как страшно, когда ты вдруг одна? И спросить некого! Но я смогу, я правда смогу!
– Конечно, вы сможете.
– А вы спрашивайте, что нужно.
– Родственники у Нины Игоревны есть?
Лара пожала плечами.
– Сестра вроде бы. Но далеко где-то. В Красноярске, кажется. Или в Краснодаре? Может, и не родная, а двоюродная или троюродная. Или не сестра, а тетка… или наоборот, племянница… А может, я перепутала, может, и нет у нее никого. Мама говорила, а я не прислушивалась… – она опять шмыгнула носом.
Арина покосилась на рулон над раковиной. Но девушка не заплакала. Вот и молодец.
– Еще друзья, знакомые были? Мне нужно поговорить с теми, кто ее хорошо знал. Может, навещал ее кто-то? С работы, быть может? Из театра. Вы не видели?
– Я не знаю. Из театра? Ну… парень этот заходил недавно.
– В каком смысле – этот? Вы его знаете?
– Да этот, по телевизору которого показывали. Скандал там какой-то с его отцом, что ли.
Вот так так! А еще говорят, что совпадений не бывает, подумала Арина. Впрочем, совпадение – это самоубийство театральной костюмерши во время театрального же скандала. А то, что Марат к ней заходил – в этом как раз ничего необыкновенного нет. Зато теперь появился лишний повод и с Маратом, и с прочей театральной публикой побеседовать. Про могилу-то ограбленную как спрашивать? Это, случайно, не вы гроб выкопали? Или, может, вы? А где вы изволили быть… кстати, когда? Не факт, что могилу раскапывали накануне эксгумации, даже скорее всего нет. И на какие дни – точнее, ночи – потенциальным гробокопателям требуется алиби? А в расспросах о костюмерше что-то, может, и проявится.
– Марат Гусев? – подсказала она.
– Да, точно, я забыла, – равнодушно кивнула Лара и вдруг спросила: – Ее разрежут, да?
– В случае насильственной смерти вскрытие обязательно.
– К-как – насильственной? – девушка как будто испугалась. – Разве она… не сама?
– Сама – это от инфаркта или там от старости. Да и то по-разному бывает. А Нине Игоревне лет-то было немного. Может, она болела тяжело?
– Вроде нет. Я… не знаю просто.
Кто бы сомневался. Арина и не ожидала, что девушка расскажет что-то про соседкино здоровье, поэтому просто закончила объяснение:
– Самоубийство же – смерть, безусловно, насильственная. И необходимо все проверить. Так полагается. В уголовном кодексе даже статья есть о доведении до самоубийства, – Арина не стала добавлять, что привлекают по этой статье крайне редко, ибо доказать состав почти невозможно.
– Д-да, простите, – Лара кивнула. – Я понимаю… наверное. Только страшно. Как будто… Не знаю… Страшно.
– Может быть, вам попросить кого-то у вас пожить? Подругу какую-нибудь? Друга? Или самой к кому-нибудь… пожить… ненадолго.
– Нет! – почти яростно воскликнула Лара. – Я никуда отсюда не уйду! Это мой дом!
– Конечно, это ваш дом. Я имела в виду – временно. Пока вы не успокоитесь, – мягко пояснила Арина, понимая, что раз Лара как-то пережила первое, самое тяжелое время после смерти родителей, значит, сейчас бежать из дома, где все о них напоминает, не станет. Друзья? То ли есть они, то ли нет. Бойфренда, судя по всему, не имеется. Но как-то – справилась, квартиру в чистоте поддерживает, учебу не запускает, про зачет упоминала. А соседка – что соседка? Страшно, конечно, но они ведь не были так уж близки.
От мелодичной трели дверного звонка Лара вздрогнула:
– Кто это? Я никого… – она растерянно поглядела на Арину.
– Не бойтесь. Я же здесь. Это, должно быть, за мной. Открывайте.
На пороге действительно стоял Мишкин:
– Арина Марковна, тебе долго еще? Я бы пока заправиться съездил.
– Уже все, иду. Лара, а вы все-таки подумайте, стоит ли вам сейчас одной оставаться.
Но та упрямо мотнула головой.
– Что это? Зачем? – она заметила ленту с печатями на соседской двери.
– Так положено, Лара, – повторила Арина универсальную формулу. – Если что-то вспомните, позвоните, – она протянула девушке визитку. – И, может, от вашей мамы остались какие-то, не знаю, записные книжки. Если бы вы смогли посмотреть – может, у Нины Игоревны родственники обнаружатся.
– Да, я посмотрю, – механически согласилась девушка, взглянула на Арину совершенно пустыми глазами и снова уставилась на соседскую дверь.
– Чего это она так переживает? – спросил вдруг Стас, когда они уселись в машину. – Прямо лица на ней нет, то краснеет, то бледнеет, то чуть не в слезы. Неужто дружила с соседкой? Вроде не по возрасту…
– С ней мама ее дружила. А мать с отцом недавно погибли. Вот девчонка и в нервах.
– Вон оно как… Тебя в контору забросить или домой сразу?
Прикусив губу, Арина помотала головой.
– А, понятно, – вздохнул Стас, но спрашивать ни о чем не стал. И минут через двадцать припарковался в знакомом тупичке за непонятного назначения одноэтажным кирпичным «сараем», единственная – железная! – дверь которого была украшена ржавой табличкой с черепом и молнией, а противоположная стена – разноцветным граффити с щенками, ромашками и почему-то взлетающей ракетой. Из окошка ракеты улыбался еще один щенок.
– Подождать тебя?
– Доберусь, – помотала головой Арина. – Спасибо, Стас.
– Ну… давай, – неуверенно и почти виновато улыбнулся тот.
Между стеной с ромашками и секцией больничного забора оставался небольшой прогал. Арина привычно в него протиснулась, привычно дернула плечами, словно отгоняя страх – тоже привычный, чтоб его! Ничего, ничего не было пугающего в скучном сером здании. Восемь этажей, просторные окна, то темные, то затянутые белым. Но все – чистые. Верхние, в которых сейчас отражалось закатное солнце, переливались, как жидкое золото. Красиво. Но страх накатывал тяжелой душной волной, сжимал горло, царапал глаза. Каждый раз. Два месяца и семь дней. Завтра будет два месяца и восемь дней. Нет! Так думать нельзя! Никаких двух месяцев, только сегодня! И если сосредоточиться, что все это – лишь сегодня, тогда завтра будет не так!
Наизусть знакомые лестницы и коридоры – как будто видишь их впервые. Синие бахилы в боковом кармане кожаного рюкзачка. Там же пакет с туго свернутым белым халатом. Из-за этого халата настрой «все это только сегодня» рассыпался, разлетался острыми горячими осколками, пальцы становились ледяными сосульками, а в горле опять принимался ворочаться колючий шерстяной комок.
Тихо. Тихо. Халат ничего не значит. Сегодня – это только сегодня.
Илья Зиновьевич, пробежавший мимо нее по коридору – маленький, худенький, носатый и совершенно седой, он всегда двигался стремительно, а Арина, пытаясь поймать его взгляд, смотрела с надеждой – не остановился, только кивнул, словно давая какое-то разрешение. С нее давно уже не требовали никаких… разрешений. Кто-то даже принимал ее за санитарку, она не возражала: отвечала на вопросы, говорила что-то ободряющее, улыбаясь неуверенно и виновато – как Стас сегодня. А ведь он-то точно ни в чем не виноват! И на ней тоже нет вины! Потому что, как говорят в Америке, shit happens. В смысле: жизнь – такая штука, что всего не предусмотришь, не учтешь, не проконтролируешь. Случается в ней… всякое. И виноватить себя – глупо и бессмысленно.
Все так. Если бы только не та безумная эсэмэска – «кто тебя просил лезть куда не просят»… Даже всесильный Левушка Оберсдорф не сумел отыскать отправителя, неведомый шутник, воспользовавшись симкой, тут же ее ликвидировал. Что это было? Жестокое совпадение? Чья-то злобная шутка? Или – не шутка и не совпадение? Да господи! Арина готова расплачиваться за неведомую вину десятикратно, стократно – но сама!
Раньше это называлось реанимацией, сейчас – палатой интенсивной терапии. ПИТ. И то сказать, какая реанимация третий месяц подряд? И терапия – куда уж интенсивнее: исхудавшее тело в трубках, катетерах и датчиках выглядело элементом непонятной сложной системы, серые, давно утратившие привычный загар ладони поверх простыни казались очень большими. Грудь женщины должна помещаться в ладони мужчины… Опомнись, Арина, какая, к преисподней, грудь?!
– Прости, задержалась, – деловито и немного виновато проговорила она, присаживаясь сбоку. Как будто Денис мог ее слышать. Впрочем, она-то была уверена, что – и мог, и слышал.
Через полчаса – а может, через две минуты, время здесь текло иначе, то летя стремительно, то застывая – за белой дверью послышались голоса. Илья Зиновьевич? Нет, у Зямы глубокий баритон, странный для такого невеликого тела, а там, за дверью спорят скорее женщины. Ай, да какая Арине разница! Но она все же поднялась – осторожно, стараясь ничем не стукнуть, не звякнуть, словно разбудить боялась, очень глупо – приоткрыла створку и выскользнула в белый коридор, увешанный там и сям детскими рисунками. Птички, цветочки, солнышки с растопыренными желтыми лучами – все яркое, радостное. Илья Зиновьевич считал, что эти «окошки» в настоящую живую жизнь если не утешают, то хотя бы отвлекают от белой безнадежности.
Справа от палаты Дениса по синим кучерявым волнам прыгали три белых кораблика. Слева на пронзительно зеленой лужайке, усеянной красными и желтыми цветочками, скакала пятнистая корова с восемью ногами и неправдоподобно большим выменем. Задранный к зениту хвост, чудовищная ухмылка от уха до уха. Несмотря на схематичность рисунка, было ясно, что корова танцует. И, похоже, не слишком трезва: желтокрасный веночек болтался на одном роге. Арина, хоть и видела корову уже бог знает сколько раз, невольно улыбнулась. Прав Илья Зиновьевич!
Суровая тетя Глаша в застегнутом, как обычно, всего на две пуговицы халате, стоявшая почти сразу за дверью, повернулась, глядя на Арину почти просительно. А за ней…
– Мама? Зачем ты здесь?
Еще дальше, почти в углу молча темнела фигура в священническом облачении и с какими-то блестящими штуками в руках. Лицо у фигуры было возвышенноотстраненным.
– Девочка моя! – Елизавета Владимировна порывисто обняла дочь, прижала, глаза мгновенно заблестели.
Вот только слез сейчас не хватало! Впрочем, мать всегда очень тонко чувствовала, где нужно остановиться. И что хуже всего – она ведь не играет в сочувствие. Она искренне сопереживает. Она всегда – искренне. Но почему, почему от этой поддержки как-то… хуже? Нет. Неловко? Тоже нет. Но хочется эту искреннюю любовь и нежность как-то… выключить. Или хотя бы притушить. Арина высвободилась – осторожно, ни в коем случае не резко. Не дай бог мамуля переключится в режим «за что ты со мной так».
– Мам. Что. Ты. Тут. Делаешь.
Та улыбнулась почти радостно:
– Отец Вениамин согласился провести молебен. Или… я путаюсь во всех этих обрядах. Он помолится за здравие Дениса.
Тетя Глаша, немного сдвинувшись, встала спиной к палатной двери с явным намерением никого туда не пускать, плечом к плечу с Ариной. От этого «плечом к плечу» стало как будто легче.
– Зачем? – повторила она.
– Ну как же! – недоумение на мамином лице было таким же искренним, как сочувствие.
– Что происходит? – Илья Зиновьевич появился как ниоткуда. Впрочем, сразу за поворотом из коротенького, на две палаты, тупичка располагалась невзрачная дверь на одну из внутренних лестниц, а дальше тянулся еще один коридор, куда обширнее этого закутка.
– Я просто хочу помочь! – Елизавета Владимировна прижала ладони к щекам, распахнутые глаза все еще блестели непролитыми слезами.
– Это моя мама, – обреченно объяснила Арина. – Она собирается провести молебен у одра болезни… или как там это называется.
Она надеялась, что Зяма сумеет доходчиво объяснить, что палата интенсивной терапии – не проходной двор, и лишние посетители, будь они хоть святые апостолы, там без надобности. Мамуля начнет его переубеждать, быть может, даже заплачет… Господи, как все это бессмысленно и безнадежно! Но Илья Зиновьевич заработал свой авторитет отнюдь не только хирургическими талантами. Одним коротким взглядом он оценил диспозицию и почти ласково предложил:
– Почему бы не помолиться в специально отведенном для этого месте? У нас отличная часовня, и я думаю, это можно будет устроить. Пойдемте, пойдемте, сейчас сестры придут проводить необходимые процедуры, не будем мешать.
Никаких плановых процедур в это время не проводилось. Но мамуля, слушая успокоительный баритон Зямы, пошла за ним, как завороженная. И тот, безмолвный, весь черный, двинулся следом.
Войдя в квартиру, Арина бессильно опустилась на пол. Даже запирать не стала, так и сползла по двери. И замерла, привалившись к ней спиной и прикрыв глаза. Почему у них не английский замок? Придется поднимать с пола размякшую тушку, запирать – и желательно сейчас, еще немного так посидеть – и забудешь, и останется дверь незапертой, мало ли… Нет бы оно все как-нибудь само… Как во дворце у хозяина аленького цветочка, где невидимые слуги и постель застилали, и на стол накрывали…
Дверь, кажется, подслушала ее мысли – замок едва слышно скрежетнул. Губ коснулся край кружки, ноздри защекотал умопомрачительный запах. Хотя, казалось бы, что такого умопомрачительного – ну чай, ну лимон, ну, может, еще капелька меда…
– Я сама, – прошептала Арина, поднимая правую руку. И чуть погодя, просто на всякий случай, левую. Кружка показалась невероятно тяжелой, но, как ни странно, сил удержать ее хватило. И чай оказался горячим, но не огненным – в самый раз, чтоб не обжечься.
Арина приоткрыла глаза. Сквозь ресницы было почти ничего не видно – хорошо бы ничего не видеть долго-долго! – и чуть справа клубилось бледнозеленое облачко в расплывающихся ромашках.
– У Дениса была? – прошелестело облачко.
Арина кивнула, пробормотав:
– Я, когда в пятницу к бабушке ездила, просила у нее – помоги. Глупо, да?
На обхватившие кружку ладони легла еще одна. И Арине вдруг показалось, что это не крошечная детская ладошка – хотя она уже не такая и крошечная – а другая, иссохшая, смуглая, в темных старческих пятнышках, но все еще удивительно красивая. Пальцы шевельнулись, сжимая Аринины. На мгновение, не больше – но ей хватило.
И глаза открылись на удивление легко. Таймыр, вздрагивая усами, укоризненно глядел на нее с подзеркальной тумбы: ты что же это, красавица, порядок нарушаешь? А где восторг и почтение к истинному хозяину дома? Я встречать вышел, а ты…
Майка сидела подле нее на корточках, глядя так, словно ей было не семь лет – ну да, ну да, почти восемь! – а все семьсот. Только выглядывающие из-под ромашковых штанин коленки – коротка уже пижамкато! – были совсем еще детские. Мосластые, тронутые первым весенним загаром…
– Где все? – тихо спросила Арина.
– Дядя Федор сказал, что у него дела, но, по-моему, у него новая девушка, от него вчера таки-ими духами пахло… новыми, в общем.
– Ну поглядим, – улыбнулась Арина. С девушками у Федьки как-то не слаживалось. И не из-за Майки: отец-одиночка – это вам не мать-одиночка, это скорее добавляет шарма. Хотя в каком-то смысле и из-за нее: похоже было, что Федька побаивается нарваться на «злую мачеху». Бог с ним! Сам не найдет, ему Майка подыщет, с нее станется. – А папа?
– Спят уже, – сообщила племянница и, предваряя висящий в воздухе вопрос, уточнила. – Марк Павлович в кабинет ушел, сказал, что у него работы вагон. Но…
– Понятно. Как он?
– Если физически, то вполне. Ничего такого… пугающего. Если про все остальное, то… – подвижная Майкина мордашка болезненно скривилась. – По-моему, он не рад, что Лиза вернулась.
– Он без нее жить не может.
– И с ней не может, – девочка вздохнула.
Рассказывать о сегодняшнем явлении Елизаветы Владимировны к палате Дениса Арина не стала. Обошлось же? Значит, проехали. Любопытно, как мать дома оказалась раньше нее самой, но – не настолько любопытно. Проехали – значит, проехали.
– Ладно, Май, поживем – увидим.
– Либо султан помрет, либо ишак?
– Тебе спать пора, душа моя.
– А тебе ужинать, – деловито уточнила та. – Я капусту потушила. С этими, как их, фрикадельками.
– Потом, Май. Когда тебя уложу.
– Обещаешь?
– Торжественно клянусь.
Заснула она быстро. Арина осторожно пристроила маленькую теплую ладошку на одеяло, спустилась с диагональной лесенки, ведущей на кровать-чердак, и тихонько прикрыла дверь Майкиной «берлоги» – бывшей кладовки.
На кухне черпанула прямо из глубокой, изрядно пожилой сковороды: ограничиться чаем было нельзя, обещала поесть, но – о количестве ничего же не говорилось! Однако после первой же отправленной в себя ложки она навалила себе полную миску. Из рыжеватой массы кое-где торчали серые «фрикадельки». Совсем недавно Майка серьезно объясняла: чтобы мозги соображали как следует, им нужен белок, а вовсе не какие-то там шоколадки! И где она такое вычитала? Нащипанные как попало кусочки фарша, пропитавшись капустным соком, стали… стали… Арина прижмурилась не хуже Таймыра…
И через минуту обнаружила себя стоящей возле Майкиной «берлоги». Да еще дверь приоткрыла – зачем? Спасибо сказать? Спросить – как это вышло? Завтра, все завтра – заснула племяшка и пусть спит.
– Куркума, – тихо прозвучало в темноте.
– Что?
– Ты пришла спросить, что с капустой. Куркумы я туда насыпала. Случайно, вместо паприки. Съедобно?
– Божественно! – выдохнула Арина. – Может, тебе в повара пойти? Школу ты терпеть не можешь.
– Во-первых, школа только началась, может, в следующих классах что-то толковое прорежется, – племяшкин голос звучал сонно, но внятно. – Во-вторых, органы опеки Федьке по башке дадут, если я школу брошу. А главное, за эти годы можно параллельно кучу интересных навыков освоить. Не считая тушеной капусты. Иди доедай, остынет.
– Что?
– Ты собиралась съесть только одну ложку, чтоб обещания не нарушать. Но передумала. И прибежала сказать спасибо. Иди ужинать.
– Спокойной ночи, маленькое чудовище.
– Спокойной ночи, да пребудет с тобой сила!
Ну Майка!
Вообще-то Арина собиралась, уложив племянницу, сразу лечь спать. Ну ладно, поужинать, но после – точно спать. Но вместо этого зачем-то разбудила ноутбук. Ау, гугл, ты, говорят, все знаешь?
Все не все, но писателя Рихарда Зоркого поисковая система знала. На Литресе красовалась целая череда обложек – все показались Арине несколько мрачноватыми, так же, как и обозначенный новинкой «Пепел». Она потыкала в несколько обложек: на одной петли из колючей проволоки впивались в пышное тело полураздетой красотки, с другой щерился неправдоподобного цвета труп с располосованным от уха до уха горлом – наподобие второй улыбки. Да еще и поверх рта нарисована такая же «джокерская» ухмылка. Но книжки были вполне настоящие. В смысле имелись не только в электронном, но и в бумажном формате. Купить, доставка… Ну по крайней мере не соврал настырный посетитель. Писатель он, конечно, не первого, даже не второго эшелона, тиражи-то убогонькие, но – да, писатель. А что производит странное впечатление, так, наверно, это просто «писательское». Такие тексты сочинять – надо башню слегка сдвинуть. А может, и не слегка. Ладно, леший с ним, с Зорким, будь он хоть новый Фолкнер, хоть все три Толстых в одном флаконе. Хотя рукопись прочитать все же надо будет. Если этот тип и впрямь раскусил кащеевскую историю после того ток-шоу, значит, наблюдать и делать выводы умеет. Или интуиция у него бешеная. А что странноватый – да и пусть. Психи, случается, демонстрируют невероятную для человека физическую силу или, чтобы поближе к мозгам, память – и почему бы у господина Зоркого не обнаружиться столь же необъяснимой интуиции? Так что пусть хоть вовсе сумасшедший, лишь бы с ножиком не бегал. Зато пользу принести может.
Иллария Александровна Лисина в области – а, может, и во всей стране – имелась всего одна. Родители – Александр Семенович и Валентина Максимовна – погибли совсем недавно в автомобильной аварии, зафиксированной в сводках областного ГИБДД. Панелевоз, слабые крепления и… Водитель к прибытию экстренных служб был уже мертв, сидевшая на пассажирском месте жена прожила еще около трех часов. Хорошо хоть, без сознания была. Безумное совпадение. Окажись машина Лисиных на несколько метров дальше или ближе – и бетонные плиты грохнулись бы с платформы панелевоза на дорожное полотно. Безобразие, но ничего страшного. Но машина Лисиных оказалась точно за этим проклятым грузовиком – их просто смяло. Действительно, shit happens, вот привязалосьто, второй раз за день вспоминается. Потому, должно быть, что оно действительно… случается.
И да, точно как с Денисом. Промальпинист, ежедневно рискующий жизнью – падает с платформы пригородной электрички! И ведь можно сказать – повезло парню. Тело отбросило под платформу, так что всех повреждений – три-четыре ссадины.
Почти всех.
Не считая закрытой черепно-мозговой травмы.
Удачная – если верить нейрохирургам – операция и… и ничего! Надо ждать.
Такой же бессмысленный удар судьбы, как и у Лисиных.
Если бы только не та эсэмэска про «лезть, куда не просят».
Нет, об этом сейчас лучше не думать.
Арина вернулась к поискам.
Ох ты ж, сколько про этого не то сына, не то не сына пишут-то! И наверняка девять десятых – журналистские домыслы. Словно мухи, тут и там ходят слухи по домам, и беззубые старухи их разносят по умам. Когда это Высоцкий сочинил? Сорок лет назад? Или даже пятьдесят? А ничего не изменилось. Только теперь не беззубые старухи волну разносят, а сверкающие голливудскими улыбками г-гос-спода ж-ж-журналис-сты. И блогеры, которые еще хуже. Что угодно, лишь бы быть «в струе». В последние же годы одна из самых модных тем – сличение ДНК.
Делить всю эту «эксклюзивную» информацию надо на десять. Ну да не впервой.
Марат Гусев, значит. Уж это-то, по крайней мере, правда. Он действительно Марат Гусев. И, кстати, Михайлович – тоже взаправду, по документам то есть. И по дате рождения расхождений между болтовней разных журналистов не наблюдается. Двадцать восемь лет мальчику. С образованием уже начинались нестыковки, версии разнились от школы при американской киноакадемии до частной студии актерского мастерства. В промежутке встречались и ГИТИС, и школа-студия МХАТ, и парочка институтов культуры. Впрочем, это как раз неважно. Разве что с точки зрения оценки достоверности источников. Если кто-то пишет наобум про ГИТИС или американскую киноакадемию (что, при ней правда школа имеется?) скорее всего, и прочие «факты» могут быть сняты с потолка. Хотя… могут и не быть.
В одном сходились все: три десятка лет назад мама Марата Гусева служила в том же театре, что и Шумилин. Сперва, очень и очень недолго, появлялась на подмостках, потом переключилась на заведование литературной частью. Потом родила сына и лет десять спустя из города уехала. Вернулись они, когда Шумилина уже не было в живых, а у Марата имелся свеженький актерский диплом.
Отслужив в областном драматическом театре пять лет, поднявшись от «кушать подано» к ролям второго, а иногда и первого плана и помелькав в нескольких не самых скверных сериалах, Марат вдруг оказался в центре внимания СМИ. Случилось это сразу после смерти его матушки и вроде бы само собой. Без его прямого то есть участия. Поначалу во всяком случае. Одна из областных газет к юбилею покойного Шумилина разразилась материалом об актерской династии, впервые назвав Марата Гусева наследником «настоящего артиста». Разумеется, «великого» и, столь же разумеется, «безвременно от нас ушедшего». Ушедшего, но не утраченного, восклицал автор и радостно сообщал, что сарказм про природу, отдыхающую на детях гениев – это не про Марата, который достойно продолжает, несет свет и прочее бла-бла-бла. Назвать смерть в семьдесят шесть лет безвременной – это было сильно. Ну а великими сейчас именуют всех хоть сколько-нибудь заметных. Хотя тут Арина готова была с автором согласиться: великий не великий, но актером Шумилин был большим. Настоящим. Насколько достойным «наследником таланта» был Марат, судить было трудно – точнее, рановато. Но не бездарным, отнюдь.
Автор той юбилейной публикации, с которой началась шумиха, именовался Вадимом Рьяновым. Фамилия показалась Арине странной, больше похожей на псевдоним. Писал же господин Рьянов немало, при некоторых публикациях имелись и фотографии. Вглядевшись, Арина узнала того стриженого дядьку, что на кладбище не отходил от Марата. Узнала без особого труда и уж тем более без удивления. Нашел мужик свою золотую жилу. Арина вспомнила питерскую Регину, которая ради сенсации готова была хоть в преисподнюю лезть. Потому что сенсация – это карьерный взлет. Ж-журналис-сты, прошипела Арина. У Рьянова на волне шумихи есть все шансы превратиться из мелкого регионального репортеришки в журналиста какого-нибудь центрального издания. Потому что историю он раскопал действительно… вкусную.
Материал, слегка переработанный, разошелся по нескольким сетевым изданиям, потом подтянулось телевидение – и молодой. только вчера никому почти не известный актер вдруг оказался практически нарасхват.
Семья Шумилина к новоявленному родственнику отнеслась, мягко говоря, прохладно, дочь Камилла в каждом интервью именовала Марата «пляшущим на костях самозванцем». Вдова Карина Георгиевна от интервью все больше отказывалась, а в ток-шоу появилась всего однажды, расщедрившись за всю программу хорошо если на десяток слов. Так что честь семьи защищала практически одна Камилла.
Вторник, 21 мая
Женщине было лет сорок, пожалуй. Но, может, и семьдесят. Впрочем, ты никогда не умел определять женский возраст. А уж с нынешними технологиями и вовсе не угадаешь. Вот стоит она перед тобой: подтянутая, сухощавая, глаза ясные, волосы блестящие, щеки нежные, шея стройная. И сколько ей? Двадцать пять или все шестьдесят? Любопытно, каким она видит – тебя?
– Проходите, устраивайтесь.
Эту улыбку – профессиональную – ты долго тренировал перед зеркалом. Давно это было, но навык никуда не делся. Мягко, не нарочито, не снисходительно, но и не заискивающе. Улыбка должна располагать к своему… носителю. Пробуждать доверие. И успокаивать, конечно. Все хорошо. Больше не нужно беспокоиться. Все хорошо… спокойно… спокойно…
Кресло под посетительницей было непростое. Очень мягкое, очень удобное, оно буквально заставляло расслабиться, отпустить все зажимы, размякнуть. Некоторые пациенты присаживались на краешек – неуверенность. Некоторые разваливались по-барски – я клиент, ты обслуга, давай, отрабатывай. Эта села, как сидят на торжественных приемах: не на краешке, как воробышек, но и не глубоко, спина прямая, плечи тоже, руки сложены на колене. Не скрученная пружина, но и не медуза бесформенная. Только пальцы… пальцыто подрагивают… Но голос не дрожит, ясный, почти спокойный. Почти.
– У вас на странице написано, что можно… анонимно.
– Разумеется. Но вы все-таки представьтесь. Нам же придется общаться, а вовсе без имен это делать не слишком удобно. Выберите какое-нибудь имя, – теперь нужно ободряюще улыбнуться, не нарочито, самым краешком губ. – Ну… Меня зовут…
– Меня зовут… – послушно повторила она и замялась ненадолго. – Меня зовут Карина.
Молодец какая, быстро себя в руки взяла. Или наоборот – отпустила. Приняла предложенные правила. Такую нетрудно будет вести куда следует. Хотя ты пока и сам не знаешь, куда это – куда следует. Ты и заметилто эту даму почти случайно. И вот она здесь, слава современным технологиям. Как устроена контекстная реклама – или как все это вот правильно называется? – ты понимал не слишком хорошо. Но – достаточно. Она здесь. И, как в том фильме, это может стать началом прекрасной дружбы. Посмотрим.
– Карина… – повторяешь ты, покатав имя на языке. Да, ей подходит.
– Можно я вас буду называть Михаил Михайлович?
Михаил Михайлович, значит? Это не просто «тепло, еще теплее», это уже почти «горячо». Но – ты ведь не только улыбку тренировал, голос тоже много значит, может, еще и больше, чем мимика. Сейчас он должен почти журчать, мягко, умиротворяюще:
– Разумеется. Если вам так удобнее и спокойнее, пожалуйста. Что вас тревожит?
– Почему… почему вы решили, что меня что-то тревожит? Я не сумасшедшая!
Ты смеешься. Мягко, дружелюбно, почти заговорщицки. Подумав про себя, что к этому смеху только подмигивания не хватало. Но подмигивать – это уже грубость. А грубость отталкивает.
– Помилуйте! Если человека ничего не тревожит, он, простите, покойник. Нет, ну бывают еще будды, но, по правде говоря, я в своей жизни ни одного не встречал. Каждого живого человека что-то да царапает. Это, собственно, основное свойство живых – беспокоиться. Только покойники потому так и называются, что им уже все равно.
– Да! – восклицание почти поднимает посетительницу из кресла, но его мягкие кожаные объятья сильнее, и она остается сидеть. – Если он беспокоится, значит, он жив!
Заявление звучало несколько странно, но… пусть так.
– Так что же вас тревожит?
– Не меня! Нет… то есть… меня, но… все так сложно… боюсь, я не умею объяснять.
– Ничего, мы ведь никуда не торопимся.
– Я раньше посещала другого специалиста, он всегда смотрел на часы. У него возле двери висели – громадные такие, мне их тоже было видно.
– Вам это мешало?
– Это было давно, – равнодушно говорит она. – Мешало? Не знаю. Вроде бы нет. Все же наладилось. Но сейчас… опять…
– Сейчас, вы же видите, никаких громадных часов возле вас нет. И не громадных тоже.
– Он мне тогда вроде бы помог. Хоть и смотрел на часы. Легче стало. А вы мне сможете помочь?
– Так что вас тревожит?
– Он мне снится каждую ночь!
Ясно было, что снится ей отнюдь не специалист с огромными часами. Кто? Да, видимо, Михаил Михайлович и снится, тоже мне, бином Ньютона. Но – осторожно, ни в коем случае не нажимать:
– И эти сны вам… мешают?
– Нет! Что вы! Он всегда мне снился, – она улыбнулась и стала похожа на девочку.
– Значит, что-то изменилось в ваших снах?
– Он просит, чтобы я ему помогла! А я… не могу.
– Это вас мучает?
– Это невыносимо!
Ты колеблешься. Сейчас очень легко ошибиться. Но никуда не денешься: останавливаться даже в точке равновесия опасно, а сейчас и вовсе. Так легко ошибиться…
– Вы хотели бы, чтобы эти сны прекратились? – ты сделал ударение на «хотели бы, а не на «прекратились», но она все равно вздрогнула, словно ты ее ударил. Лицо опять стало вдруг детским, но теперь его искажала горькая обида – как?! Да, как в детстве: обманули дурака на четыре кулака! Ничего, все еще можно исправить.
– Вам нравятся ваши сны?
– Конечно! – обида ушла, лицо стало почти мечтательным. – Только… – короткий вздох больше похож на всхлип, чем на вздох. – Я не могу так! Разве мне хочется чего-то дурного? Я всего лишь хотела, чтобы он был со мной!
– Ничего дурного в таком желании нет. Но вы можете научиться жить сейчас.
– Я не хочу! Как вы не понимаете?!
– Вы… не хотите жить?
– Я не хочу жить без него! Не могу и не хочу! Я просто хочу, чтобы он был со мной! Чтобы он вернулся! Чтобы он был со мной! Как вы не понимаете!
– Кажется, понимаю. Что ж, давайте работать.
– Вы… Вы мне поможете?
– Вы сами себе поможете.
Расплачиваясь за сеанс – ты берешь недешево – она глядела так, словно готова отдать еще в десять, в сто раз больше! В тысячу!
Любопытный экземпляр. Очень любопытный. Такие примиряли с поднадоевшей работой. Ну и деньги, конечно.
Зданию областного драмтеатра недавно исполнилось полтора века. Выстроенное в псевдорусском стиле оно смотрелось меньше, чем было на самом деле и смахивало на игрушечный теремок: красный кирпич, белые, ежегодно подновляемые карнизы, контрфорсы, пилястры и наличники, фигурные стрельчатые окошки – давай. Сивка-бурка, прыгай, только угадай, за каким – царевна. В общем, сплошное «В гостях у сказки». Арине иногда думалось, что такой веселый теремок больше подошел бы ТЮЗу, чем драмтеатру. Но областной ТЮЗ занимал как раз скучный серый «куб» эпохи советского конструктивизма, даже деревьев рядом не поместилось, слишком узкая улица, сплошной асфальт. Красно-белый же теремок был окружен небольшим сквериком. В июне тут проводились Пушкинские чтения, осенью фестивали юных художников и музыкантов. Сейчас в скверике мелькали лишь мамочки с колясками да два-три пацана на роликах и самокатах.
У служебного входа дремал дедок в овчинной жилетке, из-под которой сверкал ярко-синий «норвежский» свитер с ослепительно белыми оленями. Арина удивилась: как дедуле не жарко? Впрочем, изнутри театрального здания тянуло холодком. А вахтер сидит тут без движения, так, пожалуй, и в июльский полдень замерзнешь.
Бейджика у деда не имелось. Только на стене над столом – табличка «Ответственный дежурный». На вставленной в прорезь таблички картонке витиеватой, но разборчивой прописью значилось: Кузьма Демьянович Прутков. Арина сразу подумала, что в паспорте у дедули наверняка стоит что-нибудь вроде Петра Иваныча Кузнецова. Потому что не могут же живого человека – в двадцать первом веке! – звать Кузьмой Демьянычем, да еще и Прутковым! Наверное, завтра на картонке будет красоваться «Джордж Старк». Или вовсе «Гумберт Гумберт». Театр! И дедуля – не какой-то там вахтер, а страж храма искусств!
На Арину страж воззрился не столько сурово, сколько выжидающе. Следовательское удостоверение его удовлетворило абсолютно. Так и не проронив ни слова, дедуля мотнул головой – проходи, мол.
Коридор за его спиной казался не то пещерой людоеда, не то частью древнего замка: сумрачно и темные провалы во все стороны. Тут лестница, тут еще коридорчик, там опять лестница, только уже вниз. Поплутав немного по страшноватому лабиринту, Арина уже почти решила вернуться к служебному входу, потребовать у «Кузьмы Пруткова» хоть каких-нибудь инструкций на предмет обнаружения внутри театра живых людей. Остановил ее глас с небес. Ну, по крайней мере откуда-то сверху, с очередной боковой лесенки:
– И ходют, и ходют. Чего ходют, спрашивается? Тебе кого надо? – строго вопросила тетка в синем халате с ведром и шваброй наперевес Совершенно обыкновенная на первый взгляд, но кто их тут поймет. Сейчас стукнет шваброй, обернется злобным людоедом. Или прекрасной юной пленницей людоеда.
– Здравствуйте, – неуверенно поздоровалась Арина.
– Ну? – пленница людоеда смотрела требовательно.
Махать удостоверением Арина почему-то не стала, вместо этого сразу спросила:
– Вы тут давно работаете? – только в голос добавила следовательских ноток.
Тетка вдруг сразу поблекла, забормотала:
– Дык как на пенсию вышла, так и… Лет семь уж тому… Ой, да что ж это я говорю! – она неожиданно испугалась. – И не работаю я вовсе, так, помогаю по-человечески. Они ж тут все тонкие натуры, если не убирать, зарастут. Вот я и… помогаю.
Должно быть, пенсионерам работать не полагается, подумала Арина и улыбнулась:
– Да вы не пугайтесь, я ж не из какой-нибудь инспекции по труду или, боже упаси, налоговой. Мне бы как раз про тонкие натуры поговорить.
– Журналистка, что ли?
– Что-то в этом роде.
Тетка, вопреки ожиданиям, не погнала непрошенную «журналистку» прочь, а наоборот: как будто отмякла, оперлась на швабру, заговорила негромко, но охотно:
– Про Марата, небось, спрашивать будешь? А не скажу ничего плохого. Хороший мальчик. Сын там или не сын он, то дело темное, да и какая разница. А мальчик хороший, работящий. И нос не дерет, как некоторые. И в гримерке не свинячит, и бутылок по углам не копит. Только…
– Только – что?
– Да журналистская ваша братия. – вздохнув, тетка покрутила головой, не то укоризненно, не то сокрушаясь о чем-то. – Зря он вас привечает. Сын, не сын. Он же не сам это все начал, все журналисты. Михал Михалыча покойного годовщина подходила, явился этот, из областной газеты, говорит, юбилейный материал готовим. И к Маратику сразу. Уж откуда узнал, неведомо.
– Узнал – что?
– Ну так… – по моложавому, совсем не пенсионерскому лицу пробежала хитроватая усмешка. – Когда тот после института театрального на просмотр прибыл, все ахнули. Ведь один в один – Шумилин покойный. Только молодой… Рот, правда, материн. И брови, – добавила она с непонятным вздохом.
– Она ведь тоже в театре работала?
– Служила, – строго поправила уборщица. – Это на стройке работают. А в театре – служат.
– Как в армии?
Женщина, похоже, и не думала, что это шутка, ответила совершенно серьезно:
– Как в армии, как в милиции, как… да хоть как в церкви. И ничего смешного!
– Ладно-ладно, я же не спорю. Так она в театре служила?
– Служила. Только давно уже.
Арина поднажала слегка:
– То есть чисто теоретически Марат вполне мог оказаться сыном Шумилина?
– Ну свечку-то никто не держал, но ведь похож-то как! Шумилин-то покойный не монашествовал. Так ведь тут… – синяя, посветлее халата, перчатка сделала неопределенное движение, истолкованное Ариной как «обычное дело».
– А жена его как на это смотрела?
– Кто ее знает. Скандалов не устраивала, улыбалась. Да и Михал Михалыч старался, чтоб не на виду. Доподлинно-то кто знает? Его не спросишь, а дамы, – тетка со шваброй так и сказала – дамы! – молчат. Не то что как с некоторыми: в телевизор глянешь, ужас. Только похоронят, откуда ни возьмись то одна, то другая: у меня с ним любовь была! Нет, это у меня с ним любовь была, а ты брешешь, шалава подзаборная!
Тетка очень похоже изобразила героинь многочисленных ток-шоу, вполне регулярно скандалящих вокруг покойных знаменитостей. И чем знаменитее покойник, тем дольше продолжаются пляски вокруг него. Тянут прославленных покойников каждая к себе – как одеяло. Как будто славу можно присвоить. Как на фотографиях жанра «я и Эйфелева башня»: она крута, и раз я рядом – я тоже крут. Или дело не в знаменитости, а в потенциальном наследстве? Или еще в чем-то?
Но синяя тетка была права, и Арина согласно кивнула:
– И вправду, даже я помню, про Шумилина ведь никто не рвался откровенничать.
– А я так скажу, – сурово заявила вдруг уборщица. – Коли мужик погуливает – это полбеды, у них натура такая кобелиная, и ничего особенного. А вот если он бабам своим уважения внушить не может – тут-то самые кранты и есть. А Михал Михалыча все уважали. Потому и роток у каждой на замке. Негоже покойника туда-сюда перетягивать, меряться, кого больше любил. Он со своей Кариной всю жизнь прожил. Значит, ее и любил. И точка.
– Но Марат…
Тетка покачала головой:
– Он сперва тоже ни словечка, ни полсловечка. Хотя, говорят, когда еще мальцом был, Михал Михалыч его привечал. Признавал то есть. Но как Марата на службуто приняли, он… нет, ничего. У портрета-то в фойе, Михал Михалыч там почти в середке, стоял иногда, но ни про какое родство не заикался. Это уж после той статьи юбилейной понеслась звезда по кочкам. Как стали Марата всякие щелкоперы туда-сюда склонять, он и полетел без берегов. Признание ему понадобилось. Сын, дескать, и вся недолга. Скока лет не надобилось, а тут попала вожжа под хвост.
– Может, это потому, что он без отца рос? Вот мальчику теперь и хочется…
– Может, – вздохнула уборщица. – Только я думаю, не в матери ли дело? Пока жива была, он и не высовывался. Может, она ему перед смертью что-то рассказала?
Арина усмехнулась:
– А то он сам не задумывался? В малолетстве его Шумилин опекал, в зеркале опять же что Марат видит? Может, просто так совпало? Мать умерла, а тут этот журналист со своей юбилейной статьей.
– Может, и так. Марат-то хороший ведь мальчик, вот нынешняя дурь повыветрится, авось…
– У него с Ниной Игоревной какие отношения были?
– С Ниной? – уборщица посмотрела на Арину с подозрением и даже опаской. – Да никаких. Ну… по работе, конечно…
– Вы сами-то ее хорошо знаете? То есть… – Арина не договорила «то есть знали».
Но, должно быть, о смерти костюмерши тетка в синем халате была уже осведомлена, потому что вдруг заговорила свободнее:
– Это вы про то, что она руки на себя наложила? И вам теперь надо спросить тех, кто… знакомых, в общем.
– Вроде того, – кивнула Арина.
Подумав недолго, тетка махнула рукой:
– Кто я такая, чтоб хорошо ее знать. Подумаешь, уборщица. А она ж царица и королева! И то сказать, есть с чего нос задирать. Я тоже не пальцем деланная, понимаю, кто чего стоит.
– Она нос задирала?
– Да нет, простите, это я так. Ну накричит, бывало, так за дело же. Ей ведь тоже несладко приходилось. Вон как давеча ее Глеб-то Измайлович… – она прижала ладошкой рот, заозиралась испуганно.
– Молоточкин? Худрук? Ругал ее?
Уборщица еще раз огляделась, но никого не увидев, зашептала:
– Ой, ругал – не то слово, в пух и в щепки разнос устроил. Уволить грозился. Платье Нина подпалила. Не то отвлек кто-то, не то сама… голова-то уж не та, не молоденькая. А платье-то самой Марии Руденко! Молоточкин-то уж так радовался, когда она к нам сюда явилась. Родня у нее тут, что ли, или еще что, не знаю. На год приехала, так Глеб Измайлович прямо как по небу летал. «Старую даму» специально под нее поставил. Ну то есть возобновил. Раньше-то Карпова играла, а нынче и некому. Вот актриса! Ее и с Раневской сравнивали – и наша не хуже, все так говорили, хотите верьте, хотите нет.
– Почему ж не поверю, поверю, – Арина улыбнулась так, словно встретила старого знакомого. – Я ее видела. И не раз. Насчет Раневской – это, пожалуй, всего лишь попытка определить незнакомое через известное, сходства в них немного было. Но Любовь Сергеевна актриса была великая, это бесспорно.
– Ну тогда сама знаешь. Когда Любовь-то Сергеевна умерла, «Старую-то даму» с репертуара, конечно, сняли, потому как – ну кому Клару-то играть? Кишка тонка. А Руденко… ну она совсем другое играет, ну и помоложе она, вроде как Клара его еще любит даже, но тоже… сильно выходит.
Память наконец соизволила приоткрыть свои подвалы. Арина не слишком хорошо – скорее даже плохо – знала сегодняшний актерский топ, но Марию Руденко все-таки вспомнила. Что ж, действительно сильная актриса. Сколько ей? Сорок? Или уже под полтинник? Или наоборот – слегка за тридцать? Ай, неважно, главное – играть умеет.
– Не молода ли Руденко для Клары-то?
– Ну так грим-то на что? Это в семьдесят двадцатилетку нелегко изобразить, а наоборот, если умеешь, чего ж не сыграть.
– Так что там с ее платьем вышло?
– Подпалила его Нина. Пятно, что ли, какое выводила и передержала? Вот не скажу. Повредила, в общем. И Молоточкин ее прямо в пух и перья разнес. Уволить грозился. Ругается, а сам назад, где Марии Платоновне гримерку выделили, зырк да зырк. А там дверка тудасюда ворохается.
– Так это он для Руденко спектакль устраивал?
– А то! Неуж бы уволил Нину-то? Она ж сама иногда вздыхала – не пора ли на пенсию, возраст уже, а Глеб Измайлович мелким бесом рассыпался: «что вы, что вы, на вас вся костюмерия держится, и реквизит тоже».
– То есть про пенсию она не всерьез говорила?
– Какая пенсия! У нее ж тут вся жизнь была! А тут, вишь, какой пердимонокль!
– Она сильно расстроилась, когда Молоточкин ее ругал? – Арина спросила очевидное, просто чтоб показать – слушает, и даже сопереживает, рассказывайте дальше.
– А ты как думаешь? Валерьянкой я ее отпаивала, и давление у нее подскочило. Я даже домой ее хотела проводить, да она отказалась. Но позвонила, что добралась, только…
– Только?
– Звонила-то она Насте, это секретарь Глеб Измайлыча, та уж меня нашла, тоже сердилась: я вам не нанималась за всеми бегать.
– Почему так вдруг вышло?
– Потому что мы ж как теперь живем? Записных книжек нет, все в телефонной памяти. А Настин телефон, тот, что в приемной у Глеба Измайловича, единственный, который везде печатают. Нина ж звонила с городского, мобильный-то потеряла, а мой-то номер в нем, ну и все прочие, очень сокрушалась. Я опять ее давай успокаивать, говорю, найдется, наверняка же не на улице, а тут где-то забыла.
– Телефон потеряла?
– Да нашелся он, говорю же…
Про «нашелся» тетка ничего еще сказать не успела, но Арина оставила это без внимания: вот почему в костюмершиной квартире мобильного не нашли! А где еще искать потенциальных свидетелей, как не в телефонной памяти?
– И где он сейчас?
– Так у меня! Я вчера утром его нашла, думала, придет Нина, отдам, а тут вон как повернулось.
– Антонова! Лясы точим? – раздалось откуда-то сверху.
Опять прямо глас небесный, поежилась Арина.
Уборщица, подхватив свои инструменты, мгновенно исчезла в одном из боковых коридорчиков.
«Глас небесный» принадлежал стоящему на небольшой галерейке мужчине лет, пожалуй, пятидесяти, даже шестидесяти. Но даже злейший враг не назвал бы его «пожилым». Натуральная статуя Командора, подумала Арина, когда тот, как-то моментально оказавшись уже не наверху, а возле нее, зашагал вправо, одним коротким движением повелев следовать за ним.
И она пошла. Пошла, как крыса за дудочкой, ей-богу.
Через два поворота темноватый лабиринт вывел их в короткий, но просторный и светлый коридор. На двери в его торце скромно поблескивала табличка. Ну да, ну да, хмыкнула про себя Арина. Сам. В лицо она нынешнего худрука не знала, но по реакции уборщицы как-то сразу догадалась: вот он, Глеб Измайлович Молоточкин. Льняная рубашка под легким джемпером с подкатанными рукавами, светлые джинсы, кожаные мокасины. Резкие носогубные складки, чуть впалые щеки, глубоко посаженные глаза под тяжелыми надбровными дугами. Лицо не сказать чтобы красивое, но, что называется, породистое. Ничего общего с великим режиссером Лавровским, который главенствовал тут лет сорок, если не больше. Тот был маленький, шустрый, смешливый. И, хотя труппу держал крепко, совсем на вид был простой. Арина однажды видела, как он с охранником разговаривал – дедулька и дедулька, какой там «главный». Нынешний совсем другой. Лишней улыбки не дождешься. Натуральный Командор.
– Проходите, – довольно дружелюбно молвил Командор, открывая перед Ариной дверь с табличкой. – Настенька, нам чаю. Или вам кофе?
Арина только плечами пожала – мол, все равно.
В углу кабинета – небольшого и довольно захламленного – под наползающими друг на друга афишами и фотографиями с неразборчивыми автографами приютился журнальный столик с двумя потертыми креслами.
– Вы всех журналистов так привечаете? – довольно саркастически поинтересовалась Арина.
– Не всех, – равнодушно сообщил Командор. – Но вы-то не журналист.
– Вы так думаете?
– Я так вижу, – хозяин кабинета вдруг улыбнулся.
Лучше бы он этого не делал. Вышла не улыбка, а гримаса – мрачноватая, чуть ли не угрожающая.
– И что же вы видите? – ей в самом деле было интересно.
– Журналисты совсем иначе себя ведут. Пластика, интонации, мимика. Уверенность, если угодно, другая. Из другого источника, что ли. Так что нет, не журналистка. Но расспрашиваете, причем довольно въедливо. Значит, следователь или опер. И если взять опять же пластику, скорее первое.
В голосе худрука слышалась легчайшая досада – как можно не знать, сколько будет трижды семь? притворяешься, небось? – но обиды Арина не почувствовала. Потому что никакого высокомерия она не услышала, а досада относилась разве что к даром потраченному на объяснения времени. Объяснения, кстати, впечатляли. Так она и сказала:
– Лихо вы.
Он только плечом пренебрежительно повел – подумаешь, бином Ньютона.
– Я режиссер, мне положено. По какому поводу к нам?
– Вы так лихо… видите, может, сами догадаетесь.
– Даже не стану. Вариантов всего два. Скандал вокруг могилы Шумилина и самоубийство, – он вздохнул, – Нины Игоревны.
– Начнем со второго.
Суровый Командор как-то сразу обмяк, ссутулился в кресле, тяжело опираясь локтями в колени и сильно сжимая кружку с чаем, словно вдруг замерз. Помолчал, вздохнул глубоко, мотнул досадливо головой.
– Нину Игоревну жаль, конечно. Но мы не виноваты. Кто ж мог подумать, что она так к сердцу все примет. Я ведь как раз хотел с ней поговорить. Чтоб она, пока Руденко тут, на глаза не показывалась – ну вроде как и в самом деле уволили. На пенсию, в смысле, проводили. А после бы вернулась, как же мы без нее-то. Сколько там сезона-то осталось. Правда, Машенька собиралась еще и на следующий сезон у нас задержаться, но до осени уж разрулили бы как-нибудь. И Машенька уже отошла бы. Она вспыльчивая, как все они, но забывает быстро. Руденко – отличная актриса, может хоть садовую скамейку, хоть Папу Римского сыграть, но у нее ж корона отсюда до Полярной звезды! То есть, ну что ей костюмерша, пусть даже и главная? Попинала, удовлетворила величие свое – и гудбай. Господи! Да если бы я знал, что Нина так всерьез все это примет… Закрутился, даже не позвонил… А она… Э-эх! – он одним махом влил себя половину содержимого кружки. Как будто пил водку, а не чай.
– У Марата с ней какие были отношения?
Вопросу Молоточкин почему-то не удивился:
– Да как у всех. Хотя… Ну да, ну да. Было кое-что. Он хотел что-нибудь из шумилинских сценических костюмов отыскать. Ну там ДНК же. Только костюмы все вдова сразу после похорон забрала.
– Зачем? И – разве так можно?
– Зачем – не скажу, не ведаю. На память, должно быть. А можно ли… Костюмы-то у него ведь собственные были. Не наши то есть.
– Глеб Измайлович! – в дверь кабинета всунулась лохматая голова.
– Занят я, видишь?
– Да ладно, я быстро.
Худрук бросил быстрый взгляд на Арину – она повела плечом и слегка развела ладони, мол, дела есть дела. Да и ей самой полезно поглядеть на еще одного театрального персонажа. Оно, конечно, и не нужно: и кладбищенский скандал, и даже самоубийство костюмерши – это, в сущности, пустяки, ничего серьезного. Если, конечно, эти два эпизода не связаны. Но пока на такую связь ничто не указывает. Даже показания девушки-соседки: мало ли зачем молодой актер посещал Нину Игоревну. Но – информация лишней не бывает. Лучше пусть не пригодится, чем ускользнет что-то дельное.
Незваный гость был молод, не старше тридцати, и довольно симпатичен. Правда, линялый комбинезон с торчащими из карманов инструментами, проводами, шнурками и вовсе уж непонятными предметами был парню изрядно велик, а футболка под ним нуждалась в стирке, но вряд ли он грязнуля. Скорее рабочий сцены, понятно, почему такой замызганный. Вот после работы вымоется, переоденется, будет очень даже ничего.
– Заходи уже, чего ты через порог, – вздохнул Молоточкин. – Опять правая кулиса? Сколько…
Парень замотал головой, взметнув русые, чуть рыжеватые лохмы:
– Не, там я все наладил, само летает, – он поддернул свалившуюся с плеча лямку комбинезона.
– Что тогда? Не тяни кота за хвост.
Посетитель замялся, глядя куда-то в угол.
– Я… это… я про Гусева.
– Что – про Гусева?
– Ну он же один Берестова играет? Без дублера.
– И что?
– А сам вечно на съемках каких-то.
– Если у него хватает сил и времени совмещать, какие проблемы?
– Да вот застрянет где-нибудь, придется спектакль отменять.
– Пока никаких накладок не было.
– А если? – парень постепенно оживился, перестал горбиться, в глазах загорелся огонек.
– Ты это вообще к чему?
– Ну… я… это… я мог бы… подготовить… а после по очереди… я же могу, вы же знаете!
– Клюев! Ты единственный раз в жизни подменял заболевшего…
– Запившего! – возопил рекомый Клюев.
– Заболевшего, Коля! Редькин тогда с гнойным аппендицитом в больницу угодил…
– Да ой! – симпатичное лицо искривилось брезгливой гримасой. – Сунул кому-то из врачей, они ему и написали аппендицит. Да ладно, пусть. Но Михал Михалыч же меня на сцену выпустил? И я ничего не испортил, даже наоборот, хвалили.
Худрук вздохнул устало, как Сизиф, в очередной раз упустивший камень возле самой вершины и понимающий, что и завтра, и послезавтра, и сто лет спустя будет то же самое:
– И сколько раз ты после этого в театральный поступал?
– Да ладно! – поцарапанная ладонь взметнулась, отметая «пустяки». – Они там все только за своих, ежу понятно! Или уж денег им надо, а откуда у меня?
– Три раза, да? – терпеливо уточнил Молоточкин. – И даже до второго тура ни разу не дошел.
– Подумаешь! Михал Михалыч же тогда сказал, что я находка! Вот вас тогда не было, а это правда!
– Шумилин умер… – начал было худрук.
Договорить ему Клюев не дал:
– Типа король умер – да здравствует король? – симпатичное лицо исказила еще одна гримаса. – Потому что Гусев ваш везде растрезвонил, что он его сын, а я никто? Так, да? Рука руку моет?
– Клюев, ты берега-то держи, а? – совсем не сердито, а все так же устало, остановил его Молоточкин.
– Подумаешь! Еще наплачетесь с этим вашим… наследничком… – парень вылетел из кабинета, хлопнув дверью так, что заткнутые за одну из афиш разнокалиберные программки – тоже с автографами – разлетелись по всему полу. Арина кинулась на помощь, и они столкнулись с худруком лбами.
– Не сильно я вас ушиб? – участливо спросил тот, когда программки были водворены на место. Арина помотала головой, в которой, правда, гудело, но терпимо. – Видите, какое у нас веселье? А вы говорите…
Хотя она вовсе ничего и не говорила!
– Этот… юноша всегда такой?
– Время от времени. Видели, по телевизору иногда показывают мальчиков или девочек, которые что-то там в детстве-юности сыграли? Особенно если в полном метре засветились. На самом-то деле это не они сыграли, это режиссер из них вылепил тот образ, который ему требовался. И – все, прощайте. Многие на этом ломаются. А телевизионщикам – тема. Вытащат какого-нибудь Петю Сидоркина и давай вокруг него рыдать: глядите, во что превратилась звезда фильма «Восход в огне»! Какой восход, в каком огне, никто уже и не помнит, тем более не помнят пацана. Который успел уже и спиться, и половину зубов растерять.
– Да, плач по упавшей звезде – неважно, была ли реально звезда – тема модная, – согласилась Арина. – При том что звезды там, как правило, очень относительные.
– Да не как правило, а всегда. Не бывает такого, чтобы подлинный талант внезапно угас и потерялся. Ну… если сам не постарается, конечно. Но, знаете, подлинные, большие таланты даже спиваются отнюдь не после первой же яркой роли.
– И этот Клюев…
– С ним еще хуже. Лавровский тогда лечился, Шумилин его месяца два замещал, у него, к слову, отличные ведь режиссерские задатки были. И действительно, угодил один из актеров в больницу с аппендицитом. И дублера не было. А Клюев школу заканчивал, у нас на «подай-принеси» подрабатывал. Михал Михалыч и… поэкспериментировал. Петенька же…
– «Вишневый сад»? – догадалась Арина.
– Ну да. Восторженный юноша, Клюеву и играть-то особо ничего не надо было. Мизансцены с ним прошли, текст из школьной программы, ну и суфлером тогда еще Иван Ефремович служил, царство ему небесное!
– И что, действительно юноша находкой оказался?
– Да ну, какое там, не испортил – и ладно. Шумилин любил людям комплименты говорить… Вот и наговорил…
– И Клюев с тех пор считает, что он – прирожденный актер?
– Точно. А вокруг – сплошные враги, которые мальчика на сцену не пускают. И, кстати, вы еще и то, что Лия Сергеевна рассказывает, на восемь делите.
– Лия Сергеевна? – удивилась Арина, пытаясь сообразить, почему это вдруг «кстати».
– Антонова, с которой вы начали свои… изыскания. Плохого не скажу, она наблюдательная и не дура, но… Да не глядите так, словно у меня из ушей искры посыпались. Коля – племянник ее. Сестра лет десять назад умерла, вот Лия за ним и присматривает.
Странно, подумала Арина: Антоновой, раз она седьмой год на пенсии, за шестьдесят, сколько было ее сестре, раз остался такой молодой сын? Разве только сестра изрядно младше была или родила поздно. Да и какая, в сущности, разница? Поэтому вслух добродушно усмехнулась:
– У вас тут прямо сплошная семейственность.
– А у вас не так? А у врачей? А театр – это же еще и наркотик. Многие, у кого актерская карьера не задалась, идут в костюмеры, в осветители, да хоть в гардеробщики! Лишь бы при театре. Так что пусть Клюев мечты свои мечтает, вреда от него особого нет, а польза изрядная, он и впрямь мастер на все руки, и электрик, и с механикой на ты, и все прочее. И вспыхивает, как сегодня, не так уж часто.
Арина задала еще пару-тройку очевидных, но бессмысленных вопросов, получила столь же очевидные, не особенно информативные ответы и, попросив звонить «если что вспомнится», распрощалась.
Круглоглазая розовощекая Настя, приносившая им чай, а сейчас лихо штемпелевавшая какие-то бумажки, подняла на Арину рыжие, с зелеными крапинками глаза, в которых плескался вопрос: чем я тебе, дорогая гостья, еще могу помочь? Арина не отказалась бы от помощи в отыскании уборщицы, но вместо этого смущенно спросила:
– Где тут у вас…
– Как выйдете, сразу налево, а после, где ступеньки, направо и до конца, там увидите.
Инструкция показалась Арине несколько туманной, но, вопреки ожиданиям, она не заблудилась. И дверь туалетную искать не пришлось, та была приоткрыта. В щель слышался звук льющейся воды и виднелся кусок синего халата.
– Лия Сергеевна?
Та вздрогнула, громыхнув ведром, обернулась:
– Тьфу ты, напугала! Чуть раковину из-за тебя не разбила! Чего подкрадываешься?
– Я… я не подкрадываюсь.
– Ладно, я так. Ты сюда?
– Только вы не уходите, ладно?
– Чего это? – недовольно буркнула уборщица.
Но, когда Арина выскочила из кабинки, та была еще в предбаннике.
– И чего тебе?
– Вы говорили, что нашли телефон Нины Игоревны, а отдать не успели.
– Ну.
– И где он сейчас?
– У меня.
– У вас дома?
– Зачем дома? Туточки. А тебе зачем?
Пришлось предъявлять удостоверение.
Уборщица почему-то вовсе не испугалась, скорее наоборот: глаза заблестели живым интересом:
– Господи! Так Нина не сама, что ли? Убили?
– Вы как будто и не удивились.
– Да странно как-то. Это ж что должно случиться, чтоб человек собственной рукой себя жизни лишил?
– Ну так если, как вы сказали, у нее в работе вся жизнь была, то…
Антонова замотала головой:
– Да не должна была она поверить, что Глеб Измайлыч впрямь ее уволит! Да даже если бы, она ж мастер, к ней бы на дом ходили. Куда бы делась ее работа?
У Нины Игоревны были враги? Может, угрожал кто-то?
– Враги? – как будто удивилась Лия Сергеевна. – Вот чтобы прям… Нет, таких не было. Угрожать-то угрожали, тут всякое бывает, артисты ж все нервные. Руденко вон в унитазе утопить грозилась. Но не она же, в самом деле! Или вот когда Островского в позапрошлом сезоне возобновили, Миронычева тоже скандалила: платье ей в костюмерном цехе испортили! Село, видишь ли! Мало стало, а было в самую тютельку! А чего там село, когда жрать надо меньше. Так Нина-то тогда быстренько подпорола, что-то из швов выпустила, может, где клинышек вставила – и готово дело. А так, чтоб убить… – она помотала головой. – Да еще эдак…
– Телефон, – напомнила Арина.
– Сейчас-сейчас, он у меня в конурке.
Дверца – низенькая, неудобная – пряталась под очередной лестницей. Но «конурка» оказалась просторной, чистой, почти уютной. Даже кушеточка в углу имелась, покрытая неизбежным клетчатым пледом.
– Тут, кто из актеров если лишку хватит, бывалоча, тут и прикорнет, – кивнула на нее уборщица. – И, раз уж ты не журналистка, тебе можно сказать, Шумилин-то покойный тут… ну… ну типа свиданки тут устраивал.
– Почему же не в гримерке?
– Так в гримерку-то мало ли кто зайти может, даже если дверь замкнешь, стучать станут. А сюда кто полезет? И тихо тут, – она постучала по одной стене, по другой и заключила с непонятной гордостью. – Вот. В гримерках-то в одной чихнешь, отовсюду «будь здоров» отвечают, какие уж там обжимания. А тут, как в бомбоубежище. Вот он, телефон-то, я его в платочек завернула, чтоб не на виду.
На пристроенном возле кушеточки столике размером с табуретку Арина настрочила постановление об изъятии.
Телефон оказался простенький, кнопочный. Заряд, правда, почти на нуле, ну да ладно, с этим Оберсдорф разберется.
– Ну что, сама выберешься или проводить тебя, чтоб не заблудилась? – предложила уборщица, когда они вылезли из ее «конуры».
– Если вам не трудно, – благодарно улыбнулась Арина. – Тут у вас и вправду лабиринт. И, Лия Сергеевна, когда мы с Глебом Измайловичем беседовали, вдруг явился молодой человек в спецовке…
– Господи! – Антонова всплеснула руками, из-за громадных, до локтя светло-синих перчаток выглядевших жутковато, как лапы разбухшего утопленника. – Опять? Ну Колька, ну сколько ж можно-то? Давно вроде успокоился, так нет. Опять скандалил, чтоб ему роль дали?
– В дублеры к Марату просился. И так, знаете, настойчиво просился…
– Ой, да не слушайте его! Он хороший мальчик, но малость…
– Не в себе, что ли?
– Да не то чтоб прямо не в себе, но… Его ж сам Шумилин тогда похвалил! А Колька, глупый, не понимает, что Михал Михалыч всех подряд хвалил, и кого есть за что, и кто вовсе брось. Как девка на выданье, ей-богу. Еще приговорку приговаривал: пчелы, дескать, летят на мед, а не на уксус. Типа если ты к людям с добрым словом, они к тебе хорошо будут относиться.
– Разве это неправда?
– Правда-то правда, только недорого те добрые слова-то стоили. Он и мне мог сказать: ах, Лия, вы сегодня ослепительны – ну и всякое такое. Кольку он тогда похвалил, чтоб ободрить, на сцену-то страшно выходить, чтоб он не застыл там, как камень. Кабы один спектакль, а Редькин-то долго в больничке мурыжился, Коле за него дважды выходить пришлось. Ми-хал Михалыч и нахваливал, а мальчишка все взаправду принял.
– А потом?
– А потом Михал Михалыч, царство ему небесное, преставился. И Колька так ничего и не понял. Я ему уж и говорить перестала. Пока маленький был, еще слушал меня, а сейчас… – она махнула «лапой утопленника».
– Глеб Измайлович говорил, что вы родственники.
– Тетка я ему. Валюшка. сестренка моя младшая, померла, ему четырнадцать было.
– Вы его не усыновляли?
– Что ты! А! – воскликнула она с интонацией «эврика». – Он Клюев, а я Антонова? Валюшка по мужу Клюева была, сам-то вахтовиком все ездил, там как-то и сгинул. Колька все надеялся, что папаша объявится – и непременно олигарх окажется, раз в нефтянке работал. Какое уж там усыновление, спасибо, опеку дали оформить, не то в детдом бы определили. Он и так орал, что я с ним вожусь, чтоб Валюшкину квартиру себе захапать.