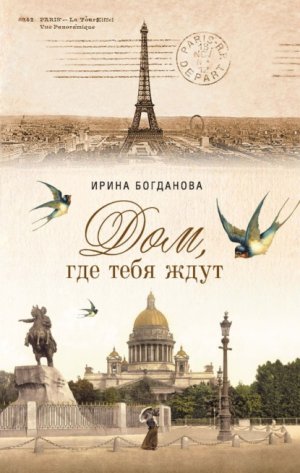
© Богданова И.А., текст, 2016
© Издательство Сибирская Благозвонница, оформление, 2016
Петроград, 1924 год
Письмо с надписью «строго конфиденциально» привезли с дипломатической почтой.
Инженер Французского посольства Макс Бове, в дореволюционном прошлом штабс-капитан Бовин, взял костяной нож для разрезания бумаги и выразительно посмотрел на секретаршу. Опершись рукой о письменный стол, мадам Лерой задумчиво блуждала взглядом по кабинету, обставленному с предельным аскетизмом – письменный стол, стул и деревянный диванчик. В отличие от воздушных парижанок, вечно сидящих на диете, уроженка Тулузы мадам Лерой обладала внушительными формами, сливовыми глазами и тенью усиков над верхней губой.
– Макс, если вы позволите, я могла бы добавить к вашему интерьеру чуточку женского тепла. – Во время паузы мадам Лерой непринужденно коснулась его плеча.
– Ценю ваше предложение, мой добрый Ангел. Но мне не терпится вскрыть почту, – месье Бове постарался не переборщить с любезностью, предпочитая кокетству иронию.
Все-таки он дал слабину, потому что на губы мадам Лерой наползла томная улыбка. Она покачнулась всем телом, с придыханием сообщив:
– Понимаю и исчезаю, но позже обязательно загляну, и мы продолжим волнующее обсуждение вашей мебели.
«Не было печали…» – по-русски пробормотал Максим Петрович, оставшись наедине с секретным письмом.
Из конверта выпал листок с поручением и половинка сторублевой банкноты «катеньки», оторванная, видно, второпях. Это становилось интересным. Пересев на диванчик, Максим Петрович закинул ногу на ногу и пробежал глазами по строчкам. Надлежало срочно выехать в Ленинград, дабы разыскать Фелицату Андреевну Горностаеву и передать ей инструкцию по побегу из Советской России.
Максим Петрович побарабанил пальцами по колену. Он уже не раз выполнял поручения подобного рода. Но Горностаева… Непостижимая женщина…
Он рассеянно посмотрел в окно, где плескались волны московских улиц, и в памяти возник петербургский сквер, который пересекала невысокая стройная женщина, одетая в лучшем стиле парижской моды. По темным бровям вразлет и алебастровому профилю угадывались капли восточной крови, придававшие ей особую прелесть. Дама была так хороша, что прохожие восторженно провожали ее глазами, а приятель, шедший рядом, изменив своей сдержанности, воскликнул:
– Макс, смотри, это Фелицата Андреевна, жена министра Горностаева! Та, которая подарила Русскому музею бюст работы древнегреческого мастера Кресила! Я имел честь быть приглашенным на вернисаж.
Голос Николая вибрировал от восторга. По тому, как зарделись щеки приятеля, Максим Петрович угадал, что Фелицата Андреевна успела сразить друга своей красотой.
Бродили слухи о происхождении Горностаевой от персидских ханов и о том, что министр без ее совета не предпринимает никаких действий. Она водила дружбу с поэтами и художниками, держала литературный салон и не гнушалась работать сестрой милосердия в больнице для нищих. Быть представленным Фелицате Андреевне в свете почиталось за честь.
Отложив письмо, Максим Петрович удивленно покачал головой: министр Горностаев давно расстрелян, а его вдова, значит, еще жива и все еще в Советской России. После кровавых лет революции это само по себе уже представлялось чудом.
Положив клочок банкноты в карман, он запер письмо в сейф, звучно щелкнувший кодированным замком. Оставалось известить начальство о двухдневной отлучке, и в Петроград. Тьфу ты, забыл, в Ленинград.
Поезд пришел в Ленинград под вечер, когда на вокзальную башню с часами опустились волглые сентябрьские сумерки. Разношерстная толпа с гомоном высыпала на перрон, вскипая пеной людских голов. Платки мешались со шляпами, картузами и заячьими треухами. Поперек дороги две бабы натужно волочили полосатый матрац, набитый чем-то тяжелым. Веселой стайкой шли стриженные под мальчиков комсомолки. Пожилой мужик с окурком в зубах, матерясь, выгружал ящики с живыми курицами. От их истошного кудахтанья пассажиры шарахались врассыпную.
Максим Петрович поскреб рукой небритый подбородок и закинул за спину рогожный мешок с картошкой, успев заметить подозрительно цепкий взгляд мальчишки-беспризорника. Здесь надо держать ухо востро. Максим Петрович незаметно показал мальчишке кукиш, получив в ответ скорченную рожу.
Чтобы избежать столкновения с носильщиком, Максиму Петровичу пришлось потеснить дамочку средних лет. Она зло ткнула его острым кулаком в бок:
– Куда прешь, дярёвня, ослеп, что ли?
Довольный, что его маскарад удался, Максим Петрович нарочито громко цыкнул через губу:
– Извиняй, тетка. Сами мы не местные.
– Я тетка? – дамочка задохнулась от негодования, но Максим Петрович уже успел пробить себе путь к выходу и с наслаждением вдохнул сырой петербургский воздух.
Если бы Бог одарил талантом, то городу своей юности он мог бы слагать оды и писать стансы. Недалеко от Варшавского вокзала Максим Петрович учился в военном училище, в парке Буфф встретил свою первую любовь, а в горячем восемнадцатом до последнего патрона отстреливался от матросского патруля и был ранен в руку.
Горностаева жила неподалеку от центра, в линиях Рождественских улиц. Свернув за угол, Максим Петрович прибавил шагу, подивившись, как быстро успела обнищать бывшая столица. На ум пришла сиятельная нищенка в лохмотьях из шелка и бархата, что ежедневно стояла недалеко от Красной площади, по дороге в посольство.
Из открытых дверей пивной слышались визгливые крики женщин. По мостовой молча и сосредоточенно прошагал отряд красноармейцев.
По привычке строевого офицера Максим Петрович осудил вольную выправку и помятую форму. Не та теперь стать у солдат, то ли дело в наше время. От нахлынувших мыслей об утраченном ему внезапно стало тошно, хоть криком кричи. Да что толку в воплях? Ускользающего времени не воротишь.
Пудовый мешок тяжело давил на плечо, и хотелось горячего чаю. Сахар в Советской России был в дефиците, поэтому Максим Петрович позаботился взять с собой в качестве презента упаковку отличного тростникового сахара из посольских запасов.
Под любопытными взглядами нескольких женщин во дворе он поднялся на третий этаж:
– Эй, хозяева, откройте! – гулким стуком кулак Максима Петровича прошелся по дубовой двери с потертой лакировкой. – Хозяева!
– Чего надо? – лицо ширококостной женщины, распахнувшей дверь, пылало яростью.
– Мне это, – Максим Петрович сделал вид, что припоминает имя, – Фелицату Андреевну. Она со мной сговорилась насчет картошки.
Он тряхнул мешком с резким запахом конского навоза – на улице специально чиркнул мешковиной по лошадиным клубешкам.
– Фу! – резко отшатнувшись, соседка освободила проход в длинный коридор, заставленный старой мебелью. – В конец иди, там твоя Фелицата обретается. Да смотри, не сопри чего-нибудь по дороге. Знаю я вас, прощелыг картофельных. – Она вытянула шею: – Эй, гражданка Горностаева, к тебе пришли!
Больше всего Максим Петрович боялся, что Фелицата Андреевна не поймет ситуацию и на всю квартиру начнет отнекиваться от знакомства, но возникшая в коридорной полутьме женщина сдержанно сказала:
– Прошу сюда, проходите в мою комнату.
На стук кирзовых сапог из двери напротив высунулась любопытная детская мордочка, в арочном проеме – наверно, там была кухня – маячил толстый мужчина в бязевых подштанниках и полотенцем через плечо. Максим Петрович едва удержался, чтобы не сделать ему «козу» в полуголый живот и не сказать: «Бууу».
Упреждая вопрос Горностаевой, Максим Петрович пробасил:
– Хозяйка, мы с вами давеча насчет картошки договаривались, так вот она, кормилица, только что с грядки. Пальчики оближете – рассыпушечка!
– Проходите.
Голос Фелицаты Андреевны звучал ровно, без тени удивления.
«Железная женщина», – восхитился про себя Максим Петрович, с облегчением захлопывая за собой дверь комнаты.
Он повернулся к Горностаевой, сразу обратив внимание на ее тусклую кожу, присущую людям с плохим питанием, и безнадежно спокойный взгляд темных глаз. Она была одета в серую сатиновую юбку и персиковую блузу навыпуск. Максим Петрович заметил тонкую полоску брюссельского кружева у ворота и подумал, что блузка помнит лучшие времена своей хозяйки.
Видимо, он застал Фелицату Андреевну за стиркой. Она вытерла о передник распаренные руки со стертыми костяшками, посмотрела на него и, ожидая объяснений, произнесла:
– Вы уверены, что пришли по адресу? Я ни с кем не договаривалась насчет картошки, да и платить мне нечем.
Горностаева указала на тесное пространство, где доминировал массивный шкаф, выпукло отсвечивающий резным кокошником. У окна стоял стол, рядом, по обеим сторонам от него, стояли обитая гобеленом кушетка и потертый кожаный диван. На диване сидела девочка-подросток.
– Фелицата Андреевна, я не продаю картошку.
– Нет? А кто же вы?
– Позвольте представиться. В прошлом штабс-капитан Бовин Максим Петрович, ныне французский гражданин Макс Бове. Я пришел предложить вам помощь от ваших друзей.
Сплетя пальцы, Фелицата Андреевна ждала продолжения. Максим Петрович опустил на пол мешок и покосился на девочку.
Хозяйка сделала успокоительный жест:
– Рекомендую, моя дочь Таня. У меня нет секретов от нее. В тяжелые времена дети взрослеют рано.
– Пожалуй, – немного поколебавшись, Максим Петрович решил сразу перейти к делу: – Я понимаю вашу настороженность, госпожа Горностаева, поэтому извольте взглянуть сюда.
Он достал из внутреннего кармана обрывок банкноты и спросил:
– Говорит ли вам о чем-нибудь этот знак?
От ее лица отхлынула кровь, сделав его мраморно-бледным, как у античной статуи. Она разомкнула губы:
– Танюша, поди встань у двери.
Порывистым движением девочка соскользнула с дивана и заняла место караульного у двери, прикрыв собой замочную скважину. Горностаева удовлетворенно кивнула головой и мимолетно приложила палец к губам в знак молчания.
Вся сцена происходила словно в немом кинематографе. Максим Петрович на миг почувствовал себя актером. Не отводя взгляда, он наблюдал, как Фелицата Петровна взяла со стола карманное издание Евангелия в жестяном переплете, отогнула скрепы обложки и достала оттуда клочок «катеньки».
Хотя она казалась внешне спокойной, на тонкой шее пульсировала голубая жилка.
– Давайте сложим, – предложила она.
Максим Петрович понимал ее напряжение, ведь окажись он провокатором… От тяжелого воспоминания сдавило виски и в уши плеснул отчаянный крик невесты, который преследовал его в кошмарных сновидениях:
– Отпустите Макса, он ни в чем не виноват! Макс! Нет!
Заломив ему руки за спину, двое красноармейцев волочили его по сугробам. Из разбитого рта на китель стекала тонкая алая струйка крови. Наденька, простоволосая, в домашнем платьице, бежала сзади. Она даже не успела переобуться, увязая в снегу ногами в тонких матерчатых туфельках.
Один из солдат развернулся, и его приклад с силой ударил Надю в грудь. Охнув от боли, она стала медленно падать на колени, и тогда в глубине двора появилась фигура человека, выдавшего Макса ЧК. Старый знакомый, друг юности веселой…
Господин Бове тряхнул головой, прогоняя наваждение, много лет не дававшее ему покоя.
Банкнота совпала идеально, и на щеки Горностаевой вернулся румянец.
Она предложила:
– Прошу вас, Максим Петрович, присаживайтесь. Я так понимаю, у нас мало времени. Наши соседи любопытны, и вряд ли покупка картошки может осуществляться в течение часа.
Как ни хотелось Максиму Петровичу напроситься на чай, пришлось согласиться с разумными доводами. Садиться он не стал, а подошел вплотную к Фелицате Петровне и дерзнул взять ее за руку. Поднеся к губам пальцы, грубо пахнущие хозяйственным мылом, произнес:
– Я уполномочен предложить вам побег из Советской России.
Идя с поручением, он предполагал увидеть радость на лице Горностаевой, потому что вырваться из кровавого месива мечтали многие, но в ее глазах отразилась боль.
– Я не могу!
Максим Петрович поразился:
– Как? Почему? Фелицата Андреевна, я отказываюсь вас понимать.
– Да что здесь понимать, мой милый. – Ее осанка вдруг снова стала царственной, как бывало в прежние времена. – Существуют люди, которые зависят от меня, и я не могу их подвести.
Такой поворот событий привел Максима Петровича в замешательство. Он горячо запротестовал:
– Но, Фелицата Андреевна, подумайте о дочери! Вы можете погибнуть сами и погубить ее. Разве вы не знаете, что детей репрессированных родителей отдают в детдом, где заставляют носить пионэрские галстуки и плевать в портрет Государя Императора!
Слова Фелицаты Андреевны прозвучали твердо и холодно:
– Я благодарна вам за труд и выслушаю инструкции, но не смогу дать ответ об отъезде без совета моего духовника. Как он скажет, так и будет. Я дам вам знать о моем окончательном решении.
Кусок ситного хлеба, чай с сахаром и толика душевного покоя – много ли человеку надо для счастья?
Уложив Таню и погасив свет, Фелицата Андреевна села на диван и стала на ощупь вязать носки, чтобы обдумать как следует предложение о побеге. Мерная работа упорядочивала мысли и не позволяла отвлекаться на эмоции. Уставшая от стирки спина удобно лежала на пуховой подушке, обтянутой телячьей кожей, – остаток прежней роскоши.
К вязанию Фелицату Андреевну пристрастила горничная Груша, сноровистая девушка из Таицкого имения матери. Фелицате тогда исполнилось десять лет. Вместе с Грушей они вязали куклам платья, а потом, когда началась мировая война, уже замужняя Фелицата Андреевна принялась вязать жилетки для солдат. Конечно, у них с мужем было достаточно денег, чтобы купить теплые вещи, но Фелицате Андреевне казалось нестерпимым бездельничать в трудную для страны годину.
Итак, побег… Она перебросила нитку через палец и подвела петлю. Побег…
Это опасно и рискованно. Если поймают, расстрел неизбежен. С дворянским происхождением и клеймом «бывшая» рассчитывать на революционное милосердие не приходится.
Остаться в России было равносильно самоубийству. Рано или поздно, но тюрьмы не избежать, и тогда Танюша останется беззащитной сиротой.
При мысли о дочери острая спица больно уколола палец. Фелицата Андреевна опустила вязание на колени, вспомнив, как они с матушкой ездили в пустыньку около Пскова к старцу Матфею.
Фелицате тогда было около тринадцати лет – нынче столько сравнялось Тане. День стоял серый, с редким моросящим дождиком. Сквозь прорехи в облаках дождевая пыль перемешивалась с солнцем, создавая удивительную картину разноцветного воздуха, подкрашенного золотистыми искринками. Не доезжая с километр, матушка попросила кучера остановить двуколку, дальше они пошли пешком, пачкая юбки в жирной грязи цвета малахита.
Над куполом кружевного зонтика матушки кружились мошки. С еловых веток осыпались прозрачные капли. На мощном сосновом стволе трудился красноголовый дятел. Пахло сыростью, лесом и… счастьем.
Старца они застали на полянке около скита. Подоткнув рукава подрясника, отец Матфей колол дрова. После каждого взмаха его дыхание становилось тяжелым и прерывистым, и он покорно опускал очи долу.
– Старый стал, матушки, сила уже не та, – сказал он, заметив подошедших.
Смуглое лицо старца было так сильно изрезано морщинами, что кожа казалась корой старого дерева, в глубине которой полыхали яркие молодые глаза.
Матушка поклонилась низко, поясно, и подтолкнула вперед Фелицату:
– Благословите дочь, батюшка.
Отец Матфей прищурился и протянул руку к Фелицатиному лицу, ощупав черты, как слепец.
– Хорошая барышня, сердечная, но благословлять не стану. – Он помолчал. – Она будет благословенна в своих потомках.
Резко отвернувшись, батюшка снова взялся за топор и принялся тесать щепу, приговаривая:
– Эх, люди-щепочки, полетят они по ветру, когда коренной лес рубить станут.
Тогда Фелицата Андреевна не поняла слова старца, но впоследствии память о визите с каждым днем наполнялась новым смыслом, где имела значение любая мелочь – и топор, занесенный вверх, и легкие щепы, и слова о потомстве, единственной веточкой которого была Таня.
Прервала размышления громкая возня в коридоре и протяжный пьяный вопль соседа:
– Нюся, щей наливай, муж пришел!
Ему ответил визгливый женский голос:
– У собутыльников столовайся. Шиш тебе, а не щи. Я к тебе стряпухой не нанималась.
Сосед громыхнул:
– У министерши спроси. Пусть поделится с рабочим классом, фифа дворянская.
Фелицата Андреевна вздохнула и щелкнула спицами. В темноте комнаты предметы меняли очертания, но, поднимая голову, Фелицата Андреевна то и дело смотрела в сторону стола, на котором лежало Евангелие с вложенной внутрь купюрой.
Максим Петрович не сообщил, кто именно хлопочет об их с Танюшей побеге, сказал вообще – друзья. Мысли беспорядочно заметались в догадках, не находя точку опоры. Конечно, друзей в эмиграции оказалось много, но они едва сводили концы с концами, а побег стоит немалых денег. По долетающим из-за рубежа слухам, княгиня Нарышкина мыла полы в музее, а граф Толстой перебивался случайными заработками и мечтал помириться с Советами.
В восемнадцатом году сторублевая купюра была поделена с сестрой Олей, чтобы иметь возможность узнать, от кого посланец. Но недавно Оля умерла в Швейцарии. По слухам, от инфлюэнции. Несколько лет назад Оля уже присылала нарочного, но тогда они с Таней отказались ехать. Танюша болела бронхитом, а кроме того, подумалось о нищенке, жившей только ее подаянием. И об отце Игнатии, которому надо помогать на приходе. И об обезумевшей профессорше Мизулиной, что бродила по дворам, стуча в сковородку, но каждый день заглядывала к ним с Таней попить чайку. За чашкой кипятка Мизулина сразу засыпала, и Танюша накрывала ее своим пальтецом.
Фелицата Андреевна повторила:
– Будешь благословенна в своих потомках.
Завтра с самого раннего утра надо пойти к отцу Игнатию и просить благословения на отъезд. Как он решит, так и будет. Времени в обрез: Максим Петрович сказал, что ровно через неделю надлежит быть в Архангельске, откуда отплывает французский пароход. А из Петрограда до Архангельска несколько дней пути, если посчастливится достать билет на поезд.
Отец Игнатий Никольский был сыном священника из маленького сельца Изсад в Ново-ладожском уезде. Роста он был среднего, очень худой, с вечно всклокоченной бородкой и глубокими серыми глазами, в которых часто мелькали мягкие смешинки.
Родился отец Игнатий в розвальнях, «чтоб по жизни быстро катилось», – шутил он иногда в дружеской компании. Мамушка на сносях ехала в соседнее село к родителям, да заплутала в снежной круговерти.
– Ахти, сколько страху натерпелась, – вспоминала она впоследствии, – буран, ни зги не видно, лошадь встала как вкопанная, ни тпру ни ну, вдали волки воют, а у меня дите на свет Божий просится. Едва не померла от страха и боли, да начала Господу молиться, а между схватками кричала слова Игнатия Богоносца: «Я – пшеница Божия. Пусть измелют меня зубы зверей, да сделаюсь чистым хлебом Христовым». И как мне на ум такое пришло? Сама не ведаю. Но когда пискнул младенчик тонким голосом, то лошадь стронулась с места и пошла прямо к дому. Игнатием и назвали мальчонку в честь Богоносца. Пусть слово Божие в мир несет.
Отроком отец Игнатий учился в школе для мальчиков в Новой Ладоге, потом была Санкт-Петербургская духовная семинария и назначение псаломщиком в Знаменскую церковь при кожевенном заводе. Настоятель церкви, отец Феофил, встретил новичка сурово. Отченька был человеком крутого нрава, неоправданно придирчивый. Порой и кочергой по спине охаживал. Много раз отец Игнатий слезами обливался, но ни разу не жаловался и плохого слова в адрес настоятеля не говорил, только усиливал пост и молитву, упрашивая поселить милость в душу отца Феофила.
На третий год служения отца Игнатия на заводе случилось несчастье: когда отец Феофил окроплял цеха святой водой, в огромный чан с дубильной кислотой случайно угодил мальчишка-подсобник. Заводской шум резанул острый, захлебнувшийся крик. Отец Феофил взмахнул кропилом и застыл, забыв опустить руку. С разных концов цеха к чану бежали рабочие, но отец Игнатий всех опередил. Не забыв перекреститься, он черной птицей взлетел по деревянной приставной лесенке и упал в вязкую жидкость с острым аммиачным запахом. Глаза и легкие моментально запалило, словно огнем. Задыхаясь от кашля, отец Игнатий подхватил мальчишку, который в безумном ужасе отбивался руками и ногами.
Ох, и тяжел был постреленок! Дрожа всем телом, отец Игнатий выпихнул мальчишку в протянутые руки и только затем сам перевалил через край чана.
– Воды! Воды! – гремели по цеху крики рабочих. – Несите ведра!
Откуда-то сзади на голову отца Игнатия хлынул поток воды. Едва устояв под напором, он посмотрел на спасенного. Тот лежал на полу, и его лицо из белого, как будто заиндевевшего, быстро становилось огненно-красным.
Смывая кислоту, на мальчишку потоком лились ведра воды. Отец Феофил громко молился за здравие.
Отец Игнатий крикнул:
– Ему надо в больницу!
Беглым взглядом он посмотрел на лица рабочих, стоявших кругом:
– Несите парня к выходу! – и повернулся к отцу Феофилу: – Дозвольте, отец Феофил…
Настоятель кивнул:
– Благословляю.
Расталкивая толпу руками, отец Игнатий помчался вперед к дороге, чтобы остановить извозчика. Позади него с гомоном и оханьем несколько рабочих тащили мальчишку.
Кожевенная фабрика в силу своей зловонности была расположена в глубине квартала и пряталась между двух проулков, куда редко заезжали извозчики. Рабочий люд на своих двоих ходит – чай не баре пролетки нанимать.
Отец Игнатий заметался от корпуса к корпусу. Отчаянно глядя на дорогу, он непрерывно причитал:
– Господи, помоги, не оставь раба Твоего!
Когда из-за поворота показался изящный дорогой экипаж, отец Игнатий почувствовал пустоту внутри: не остановится! Но все же пошел навстречу, крестообразно раскинув руки.
– Стой!
Под крик возницы: «Осади, зашибу!», коляска остановилась, и он увидел ясные глаза молодой дамы, смотрящие на него с немым вопросом.
Так отец Игнатий познакомился с Фелицатой Андреевной, тогда она еще не была замужем.
Спасенный мальчик ныне вырос и стал председателем рабочкома на кожевенной фабрике. Носит галифе, маузер в деревянной кобуре и грозится закрыть церкви за ненадобностью. И так бывает: все в воле Божией.
С того случая отец Феофил подобрел, будто шторм на Ладоге стих, даже помог отцу Игнатию выбрать невесту – дочку дьякона Вареньку.
Он влюбился в нее сразу, едва услышав рассыпчатый, звонкий смех, от которого на лицах окружающих расцветали улыбки. Варенька имела премиленький курносый носик, толстую русую косу и легкий характер, помогающий душе никогда не предаваться унынию. Первенца отец Игнатий с Варенькой ожидали с трепетом.
Мальчика собирались назвать Юрием, а девочке подобрали имя Евпраксия, – так захотела Варенька.
В день, когда отца Игнатия рукоположили в иереи, он одновременно стал и отцом и вдовцом. Горько оплакав молодую супругу, батюшка весь ушел в служение Церкви, не переставая твердить, что в этом мире есть только два пути: тот, что выбирает тебе Господь, и тот, что ты выбираешь сам. Он старался идти первой дорогой.
Рассвет застал Фелицату Андреевну одетой для выхода на улицу. Потрепанное пальтецо на тонкой подкладке почти не грело, а ботинки давно прохудились и в сырую погоду набирались воды. Купить другую одежду возможности не представлялось, потому что устроиться на работу было равносильно выигрышу в лотерею. Одно время Фелицате Андреевне посчастливилось получить место уборщицы в керосиновой лавке: хозяин предпочитал нанимать дворянок, объясняя, что они не воруют. Но лавка закрылась, и начались ежедневные хождения на биржу труда, куда стояли длинные молчаливые хвосты очереди. В народе так и говорилось: «пойти хвоститься».
– Мама, ты куда? Хвоститься? – Танюшин сонный голос был полон тепла и неги.
Фелицата Андреевна подошла к кушетке и погладила дочку по голове, путаясь пальцами в шелковых волосах.
– К отцу Игнатию. Мне надо посоветоваться.
– Мама! – откинутое одеяло полетело на пол. Танюша резво соскочила с кровати и состроила укоризненную мину. – Я тоже хочу к отцу Игнатию! Почему ты идешь одна?
– Танечка, это очень срочно, – начала оправдываться Фелицата Андреевна, но Таня ее не слушала, легким ветерком летая по комнате. Через голову натянула блузку, взметнула юбкой, побежала в кухню умываться, успев на ходу чмокнуть в щеку:
– Мамочка, без меня не уходи. Я одну минутку!
Ожидая Таню, Фелицата Андреевна присела на краешек стула. Как ни старалась она выглядеть спокойной, но руки выдавали волнение, то теребя носовой платок, то играя чайной ложечкой в сахарнице, наполненной подарком Максима Петровича – тростниковым сахаром.
Таня прибежала румяная, с влажными щеками и блестящими глазами:
– Я готова! Вот видишь, мамочка, я тебя совсем не задержала. Как ты думаешь, Юра будет дома?
– В семь утра, наверное, да. Тем более сейчас вакации и школа закрыта, – сказала Фелицата Андреевна, думая, что Таня совершенно не умеет скрывать свою детскую влюбленность в сына отца Игнатия. Юра был старше Танюши на три года, но в отрочестве три года – целая пропасть. Он – задумчивый шестнадцатилетний юноша со спокойными серыми глазами, а она – кудрявая болтушка, ни минуты не сидящая спокойно.
Чтобы не разбудить соседей, по коридору прошли совсем бесшумно, крадучись.
«Как тати в ночи», – плеснулась горькая мысль. Когда-то она проходила этим коридором, звонко щелкая каблуками и скидывая на руки горничной соболье манто.
Казалось, что так будет всегда, но Господь смирил.
На улице стоял осенний туман, картинно подкрашенный пятнами желтых листьев. Сквозь ажурную решетку ворот виднелась серая башенка дома, где до переворота жил военный министр Сухомлинов, проворовавшийся на взятках. Поговаривали, что он отравил свою вторую жену, чтобы жениться на Екатерине Бутович, которая моложе его на тридцать пять лет. Фелицата Андреевна поежилась – неприятная была семейка.
Танюша резвой козочкой бежала впереди. Глядя на дочь, Фелицата Андреевна обмирала от нежности и жалости. Из осеннего пальто Таня выросла, поэтому рукава едва доставали до запястья. В чем она будет ходить зимой, если отец Игнатий не благословит на отъезд? Сердце в груди сжималось в тревожном ожидании.
Отец Игнатий считал себя везучим, потому что жил в отдельной квартире, если можно назвать квартирой каморку возле лифта – три шага вдоль, три поперек, туалет за ширмой и узкое окно под потолком.
Прежде, при домовладельце купце Сотникове, в каморке наниматели оставляли вещи, которые не желали тащить с собой в квартиры, например велосипеды или детские санки. Там же для лифтеров были оборудованы туалет и водопровод.
За послереволюционное время каморка успела послужить дровяником, отхожим местом для окрестных забулдыг и складом всякой рухляди. При последнем назначении она едва не сгорела, и, чтобы соблюсти пожаробезопасность, управдом предложил поселиться туда отцу Игнатию. Вселяясь, отец Игнатий с Юрой вытащили к помойке поломанного гимнастического козла с тремя ногами и огромные напольные весы, на каких лавочники взвешивают мешки с крупой. Весы сразу подобрала чья-то хозяйственная рука, а козел все лето упрямо простоял у забора, пользуясь большой популярностью у голубей и котов.
Расчистив жилье от грязи, отец Игнатий навесил новую дверь и врезал замок, милостиво выданный управдомом. Протягивая связку медных ключей, тот уважительно сказал:
– Старинной работы замок, сносу не будет. Сейчас таких не делают.
Три ключа на проволочном колечке в тусклом оконном свете качались золотыми рыбками. После долгих мытарств семьи по чужим углам, ключи показались залогом надежного и долгого счастья. Чтобы удостовериться в реальности происходящего, Юра несколько раз открыл и закрыл замок, отзывающийся на действие мягким щелчком металлического язычка.
В крошечную комнату удалось втиснуть письменный стол, на угол которого встали примус, два стула и узкий диванчик отца Игнатия. Юра спал на парусиновой раскладушке, подсунув ноги под стол.
Заселившись в собственные хоромы, отец Игнатий вознес к Богу благодарственную молитву, всем сердцем чувствуя, как над ними с Юрой распростерлась Его благословляющая длань.
Когда ранним утром раздался стук в дверь, отец Игнатий варил на примусе овсяную кашу. Готовить он не особо любил, но со дня смерти жены взял себе за правило не отлынивать от домашней работы, принимая ее с прилежанием послушника. В доме всегда было чисто, а на столе стояло то, что Бог послал.
Вертикально воткнув ложку в кастрюлю, отец Игнатий кинул взгляд на крепко спящего сына. Юра зарылся в одеяло с головой, и разбудить его могла бы только пушечная стрельба каменными ядрами.
Запахнув подол подрясника, отец Игнатий боком протиснулся к двери и повернул ключ. Он никогда не спрашивал: «Кто там?» или, не приведи Господи: «Что надо?» Раз человек стучит в двери, значит, его направили по адресу высшие силы.
– Радость-то какая! Фелицата Андреевна, Танюша! – слова застыли на его губах, едва он увидел побледневшее лицо Горностаевой с тревожно-ищущими глазами. Хотя внешне она старалась держаться спокойно, покрасневшие веки выдавали бессонную ночь, пропитанную мятежным духом.
– Батюшка, отец Игнатий, мне надо с вами посоветоваться, – она припала к его руке, как ребенок в поисках родительской поддержки.
– А Юра спит? – мышонком пискнула Танюша.
Отец Игнатий удивился, что от звука ее голоска Юра подскочил, словно карась на крючке, недоуменно озираясь по сторонам.
– Таня, Фелицата Андреевна, папа.
Сидя на раскладушке в растянутой майке и трусиках, он непонимающе хлопал глазами, наливаясь пунцовым румянцем по мере осознания яви.
Фелицата Андреевна деликатно попятилась назад:
– Понимаю, мы с Танюшей не вовремя.
Отец Игнатий успокоил ее взмахом руки:
– Юра оденется моментально. А у меня, – он повел носом, – кажется, горит каша.
Ненадолго прикрыв дверь, отец Игнатий почти сразу распахнул ее снова. Полностью одетый Юра стоял посреди комнаты и лихорадочно приглаживал вихры ладонями.
Фелицата Андреевна вошла и села на диван:
– Юрочка, я прошу тебя, развлеки Танюшу, – она сделала паузу, предоставив Юре угадать, что хочет остаться с отцом Игнатием наедине.
Тот взял Таню за руку:
– Пойдем, прогуляемся.
Поблагодарив Юру взглядом, Фелицата Андреевна сплела пальцы, стиснув их добела.
– Отец Игнатий, мне вчера предложили побег за границу.
Медленно, как бы боясь спугнуть тишину, разбавленную пыхтеньем каши, отец Игнатий выключил примус и сел рядом с Фелицатой Андреевной. На лестнице слышались чьи-то шаркающие шаги, железной дробью капала вода из крана. Прежде чем начать разговор, отец Игнатий прикрыл глаза и стал читать про себя молитву: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного!»
Тысячи раз повторенные слова каплями падали в душу, наполняя ее словно иссохшую чашу. Порой во время молитвы отец Игнатий чувствовал такой трепет, что плакал от осознания своей ничтожности и от любви к Тому, Кто одаривает его Своими милостями.
Под окном прогрохотала телега и снова все смолкло.
Отец Игнатий повернулся к Фелицате Андреевне и посмотрел в ее глаза:
– Фелицата Андреевна, вам необходимо рискнуть.
Она подалась вперед, схватившись рукой за воротник пальто:
– Рискнуть остаться или рискнуть ехать?
– Ехать, конечно. Думаю, выбор у вас невелик, но всем сердцем чувствую, что Господь не оставит. А я буду за вас молиться.
– Но как же без меня друзья, вы с Юрой, старуха-профессорша? Ведь мы должны тронуться в путь немедленно, – ее лицо отразило муку сомнения. – Батюшка, если я уеду, то мы больше никогда не увидимся…
– Справимся, Фелицата Андреевна, не сомневайтесь. И с разлукой справимся, и с делами скорбными. Вам надо Танюшу спасать, верьте мне, сейчас это самое важное в вашей жизни.
– Значит, благословляете?
– Благословляю.
Взметнувшаяся в крестном знамении рука подвела черту под метаниями, колебаниями и страхом, которые взвалил на себя отец Игнатий.
– Батюшка, родной батюшка, спаси вас Господи!
Фелицате Андреевне стало тепло и спокойно.
«Как у Христа за пазухой», – выскочила из памяти старинная поговорка.
– Я должна сказать Тане о нашем решении, – приоткрыв дверь, она позвала: – Таня, Танюша, поди-ка сюда.
Сидевшая на подоконнике Таня живо соскочила вниз и потянула Юру за руку:
– Юра, пошли, я знаю, мама скажет нам что-то важное.
В отъезд из Ленинграда Таня не верила до той самой минуты, пока не показалась квадратная башня Московского вокзала.
Она схватила за руку Юру, который пошел их провожать, и поняла, что сейчас заплачет.
До этого происходящее казалось забавным приключением наподобие интересной книги. Начинаешь читать – таинственно и чудно. Закрыл книгу – и вокруг снова привычный мир коммунальной квартиры, где на кухне дерутся соседки, а по коридору плывет запах щей, сдобренных горелым салом. Отделаться от соседей Таня не возражала, но мысль о том, что прямо сейчас поезд навсегда увезет от друзей, от отца Игнатия и, главное, – от Юры, приводила ее в ужас.
Опасаясь, что Юра заметит ее настроение и рассмеется, Таня постаралась растянуть рот в беспечной улыбке, но с каждым шагом губы дрожали все больше и больше, пока она не поняла, что щеки мокры от слез.
Мама шла впереди с небольшим чемоданчиком в руке. Он был пуст, потому что инструкция, переданная господином Бовиным, предписывала вещей не брать – только документы и деньги. Но пассажир без багажа станет привлекать внимание, поэтому мама достала из-под кушетки кожаный чемодан с никелированными нашлепками на уголках.
– Когда приедем в Архангельск, оставим багаж в зале ожидания, – сказала мама. – Кто-нибудь подберет.
Чемодана Тане тоже было жалко. В нем хранились две куклы, Поля с Олей, и плюшевый мишка, подаренный покойным папой. Перед выходом из дома Таня уложила кукол и мишку на свою кровать и накрыла покрывалом. Хотела напоследок напоить их чаем из кукольного сервиза, но постеснялась мамы.
Украдкой от Юры она вытерла щеку тыльной стороной ладони. Но Юра заметил и посмотрел грустно-грустно, а потом крепче сжал Тане руку:
– Я буду скучать без тебя, Танюшка.
Таня почувствовала, что от рева ее нос стал как слива. Опустив голову, она сверлила взглядом чемоданчик, словно надеясь, что мама сейчас поставит его на землю, обернется и скажет: «Никуда мы не поедем, Танечка. Останемся в Петрограде. Чему бывать – того не миновать».
Но мама уверенно лавировала в толпе людей, пробираясь к кассам:
– Дети, подождите меня здесь.
Таня и Юра отошли в сторонку под навес парусинового козырька табачной лавки. На них подозрительно покосилась толстая лоточница с ящиком пирогов и на всякий случай прикрыла товар белой тряпицей.
– Хочешь пирожок? – спросил Юра.
Не дожидаясь ответа, он купил пирожок с повидлом, масляно отсвечивающий жареным боком.
Пирожки Таня любила. Она с благодарностью надкусила пушистое тесто и всхлипнула:
– Таких пирожков больше не будет. Я знаю, – она понизила голос, – там, куда мы едем, пирожки не пекут.
Таня жевала с таким безнадежным видом, что Юра не выдержал и легонько обнял ее за плечи.
Она почувствовала его легкую, теплую ладонь, на которую прежде всегда могла опереться, и пирожок показался ей горько-соленым.
Чтобы разрядить обстановку, Юра сказал:
– В этом году закончу школу и поступлю в летное училище. Стану летчиком и полечу на Северный полюс.
– Правда? – Таня перестала жевать. – Это ты замечательно придумал. Я тоже не отказалась бы стать летчицей или путешественницей. Представь: ночь, пустыня, а я в белом бурнусе еду верхом на верблюде. – Взмахом руки с пирожком она обрисовала контур верблюжьих горбов и истерически рассмеялась: – Но ты про это никогда не узнаешь, потому что я уезжаю, а ты остаешься. И когда я вырасту, то мне некуда будет приезжать, потому что нашу комнату конфискуют.
Таня говорила серьезно, как взрослая, блестя глазами, полными горячей влаги. Растрепавшиеся по плечам волосы лезли в глаза, она заложила прядь за ухо:
– Мама идет. Хоть бы она не купила билеты, хоть бы не купила!
Остановившись посреди вокзальной толчеи, Фелицата Андреевна подняла вверх руку с билетами:
– Таня, Юра, идите сюда.
– Купила, – убито прошептала Таня. – Никуда не поеду, сяду тут и буду сидеть, пока поезд не отправится.
– Надо ехать, Танюша, – Юра постарался воспроизвести те же интонации, с какими отец Игнатий благословлял Фелицату Андреевну, но голос дрогнул, и получилось неубедительно и жалко.
По мере продвижения к поезду, сутолока на платформе становилась все яростнее, перерастая в смерч из людей, вещей и паровозных гудков. Пожилая женщина, сложив руки рупором, хрипло кричала: «Маруся, где тебя окаянную носит?» Толпа теснила ее в сторону, но женщина расталкивала всех локтями и снова протяжно заводила: «Маруся! Маруся!»
Кто-то снизу схватил Таню за ногу. Едва не упав, она наткнулась на пухлощекого малыша на деревянной лошадке-палочке.
Паровоз на Архангельск ждал под парами, выплевывая в небо клубы черного дыма. В раскрытых дверях вагона стояли проводники, из окон смотрели пассажиры.
Фелицата Андреевна обернулась:
– Таня, поспеши, вот наш вагон. Прощайся с Юрой.
Легко наклонившись, Фелицата Андреевна поцеловала его в щеку, на миг прижавшись головой к Юриной груди в теплой суконной куртке.
– Спаси тебя Бог, Юрочка!
Тяня тоже хотела поцеловать Юру, но в последний момент застыдилась и деревянно застыла, вцепившись в дверной поручень. Простые слова прощания царапали горло, как осколки стекла. Руке передавалось дрожание поезда, готового к отправке. После длинного паровозного гудка провожающие закричали и стали махать платками.
Таня тоже напрягла голос, стараясь перекрыть общий шум:
– Юра, я приеду! Вот увидишь, приеду.
Поезд тронулся, и Юра сделал несколько шагов вслед за ними, а потом побежал, расталкивая людей. Таня испугалась, что он упадет на рельсы, но Юра рванул ворот куртки, одним движением сняв с шеи медный ключ на льняном шнурке:
– Таня, возьми, это тебе, чтобы было куда приехать!
Всю дорогу до Архангельска Таня сжимала медный ключ в кулаке, представляя, как однажды вернется в Петроград, пройдет по знакомым улицам и откроет дверь Юриной квартиры. Юра, конечно, удивится и пригласит ее выпить чаю. Она сядет за стол, возьмет в руки теплую чашку со щербинкой на краю и будет рассказывать, как они с мамой устроились на новом месте и как сильно скучают. На примусе будет тихонько бурчать чайник, а за окном чирикать воробьи, которым отец Игнатий привычно насыплет крошки на подоконник.
Хотя до Архангельска поезд шел почти пять дней, дорогу Таня запомнила плохо. Дни слились в одни сплошные сутки из нудной дремы и тягостного молчания, когда говорить совсем не хочется да вроде бы и не о чем. Все давно говорено-переговорено, а обсуждать соседей по вагону неинтересно и скучно.
Они с мамой спали на одной полке, поэтому было тесно и неудобно. Несколько раз мама разрешала Тане выйти на остановках, чтобы размять ноги и подышать воздухом. На одном полустанке поезд простоял несколько часов кряду, и за это время его осадили крестьянские женщины, продающие вареную картошку и соленые огурцы. От картошки шел вкусно пахнущий пар, и Таня посмотрела на маму так умоляюще, что та улыбнулась и купила три крупные картофелины и соленый огурчик размером с Танин палец. Забившись в уголок вагонной полки, Таня жевала картошку, хрустела огурцом и думала, что мама, наверно, сильно волнуется и поэтому ничего не ест. Мама сидела с книжкой на коленях, но не читала, а смотрела в окно и выглядела бледной и очень грустной.
– Душно, голова болит, – объяснила она Тане, потирая пальцами виски.
Вагон и вправду задыхался от табачного духа, поэтому на перроне в Архангельске порывистый ветер врезался в легкие свежо и колко.
Ставший ненужным чемодан мама оставила в зале ожидания под скамейкой и взяла Таню за руку, как маленькую.
– Танюша, сейчас шесть часов вечера, а ровно в восемь нам надо подойти к воротам порта. Ровно в восемь, минута в минуту. Там нас будут ждать.
– Кто? – не удержалась от вопроса Таня.
Мама легонько сжала губы:
– Не знаю. Но мы должны вести себя очень осторожно и не привлекать внимания. Поняла? Что бы ни случилось – молчи и не разговаривай.
Все это походило на увлекательный роман госпожи Чарской, и в Таниных мыслях тут же замелькали таинственные незнакомцы в черных масках и Наты Пинкертоны в клетчатых английских бриджах. Таня очень любила читать книги, с головой уходя в миры, придуманные сочинителями. Одно время она мечтала стать знаменитой писательницей, но, исписав полторы странички приключениями кота Кеши, поняла, что кот получается похожим на Айвенго из романа Вальтера Скотта, а отважные мыши ведут себя как три мушкетера.
Тротуары в городе были деревянными. Они с мамой прошли вдоль длинной улицы, застроенной купеческими домами. Кирпичные дома перемежались с деревенскими избами на высоких клетях. Кое-где у ворот остались дощатые настилы, заменяющие мостовую. Белокаменной свечой стояла колокольня приземистой церкви, построенной на манер древнерусской крепости. Цокая копытами по булыжной мостовой, лошади тянули повозки. Груженые в одном направлении, порожние в обратном.
«Там порт», – догадалась Таня. Со стороны реки Двины нещадно дул холодный ветер, и вскоре она продрогла до последней косточки. Стараясь согреться, Таня спрятала в карман руки, но теплее не стало. Теперь уже не думалось о приключениях, а мечталось только о том, чтобы забиться в теплую щель и выпить глоток горячего чая. Она попробовала немного поныть маме: вдруг та придумает, где согреть ребенка? Но мама резко оборвала:
– Потерпи, нам нельзя останавливаться, иначе нас могут запомнить.
Нахохлившись, Таня стала считать красноармейцев в буденовках, маршировавших посредине какой-то площади. Им хорошо, не холодно, а в казарме сытно накормят.
– Танюша, пора, – сказала мама, и Таня обрадовалась, что скоро окажется в тепле и безопасности.
Женщина с коромыслом, у которой мама спросила дорогу, звякнула пустыми ведрами:
– Идите до поворота, матушки, там увидите.
Теперь мама почти бежала. Таня не видела ее лица, но чувствовала, что мама напряжена, как скрипичная струна, которая, перед тем как лопнуть, издает резкий жалобный звук.
На подходе к воротам порта пришлось пробираться между телегами. Лошади тянули к ним морды и коротко ржали, провожая продолговатыми глазами, блестевшими в свете керосиновых фонарей.
Резко остановившись, мама подтолкнула Таню вперед:
– Танюша, иди первая, если заметишь что-то неладное, сразу прячься.
От маминых слов Тане стало не по себе, но она так замерзла, что холод вытеснял страх, оставляя только желание тепла и покоя.
Около входа в порт маму окликнул невысокий мужчина в потертой шинели до пят. Поднятый воротник заслонял лицо, оставляя открытым лоб под картузом.
– Мадам, я вынужден просить вас назвать свою фамилию.
– Горностаева, – шепотом сказала мама, оглядываясь по сторонам.
– Следуйте с девочкой прямо, до штабеля с бревнами. Там пирс. Сейчас подойдет шлюпка забрать запас пресной воды. Вы должны незаметно проскользнуть в шлюпку и лечь на дно. Помните – ни звука. Идите.
Выудив кисет с табаком, мужчина демонстративно отвернулся спиной и обратился к ближайшему извозчику:
– Браток, огоньку не найдется? А я с тобой самосадом поделюсь. Ох, и забористый!
Территория порта была заставлена штабелями ящиков. Темными рядами тянулись склады, насквозь пропитанные запахами рыбы. Хруст шагов раздавался в такт ударам сердца, которые заглушал плеск волн и гомон ветра.
Близость охранника Таня унюхала по крепкому табачному запаху. Отмеряя шаги, он ходил около застывших вагонеток и негромко насвистывал. Было видно, как в лунном свете блестит штык винтовки и двигаются ноги в белых обмотках.
Мама обняла Таню за плечи, и они медленно, прижавшись друг к другу, стали бесшумно двигаться в сторону пирса. Шаг, еще шаг. Со стороны Двины слышался стук весел и бурлящая французская речь. Обострившийся слух Тани ловил всплески смеха, которых перебивали восклицания «майна», «вира».
Из укрытия за бревнами силуэтами виднелись фигуры людей с помпонами на матросских шапках.
Мама мягко прикоснулась щекой к Таниной щеке:
– Пора, Танюша. Помни, велено сразу лечь на дно. Беги, милая.
Набрав в грудь воздуха, как перед прыжком в воду, Таня на носочках перебежала открытое пространство от бревен до пирса и быстро оказалась укрытой жесткой рогожей. Перегружавшие бочки матросы не сбавили темп работы, не оглянулись, не изменили тон разговора, словно бы и не заметили, как им под ноги клубком скатилась чужая девчонка.
Что случилось дальше, Таня не поняла, но матросы вдруг разом загомонили, сливая голоса в возмущенный гул, как будто там, наверху, происходило нечто жуткое.
В виски ударила страшная догадка: «Мама!»
– Мама!
Таня рывком откинула рогожу и вскочила на колени, успев ухватить взглядом качающиеся фонари в руках красноармейцев, блестящие дула винтовок, направленных на маму и громкий мужской голос, четко выговаривающий:
– Я сразу почуял, что в порту белогвардейская сволочь шастает! У меня на них собачий нюх. Подымай, гражданка, руки вверх, пойдем разбираться.
– Мама!! – захлебнувшись плачем, вскрикнула Таня, но крепкая рука жестко и больно зажала ей рот.
Чтобы поднятые вверх руки не дрожали, Фелицата Андреевна до крови закусила губу.
Набирая скорость, перед глазами вращались огни фонарей, и мир вокруг несся в страшной карусели, оставляя Таню где-то в стороне.
Коротко помолившись, дабы прийти в себя, Фелицата Андреевна повернулась к красноармейцам. Их было трое, и все они показались ей на одно лицо, точнее – без лица, со стесанными чертами деревянных идолов под суконными буденовками.
– Произошла ошибка. Я приезжая, шла по городу и заблудилась.
Краем глаза Фелицата Андреевна увидела, что лодка с французами отчалила от берега, увозя в своем чреве Таню. Осознание того, что ребенок в безопасности, придало сил. Выпрямив спину, она с ледяным спокойствием пошла посреди конвоя в небольшой домик охраны. В маленькой комнатке, с кумачовым знаменем на стене, было жарко натоплено и ядрено накурено. Под потолком тускло горела электрическая лампочка. Раскачиваясь на шнуре, она бросала свет на лысого человека, сидящего за изящным письменным столом на гнутых ножках. Стараясь разглядеть, кого привели, он разогнал рукой махорочный дым и тяжело посмотрел на красноармейцев красными, слезящимися глазами.
– Что за гражданка?
Вперед выступил юноша, почти мальчик с тонким, рвущимся голосом:
– Подозрительная личность, товарищ Матвеев. Отиралась у пристани и намеревалась вступить в преступный сговор с иностранной матросней.
– Ишь ты, матросня. Ты говори, да не заговаривайся, Кубышкин, – сурово цыкнул на него товарищ Матвеев, – я сам из матросов и никому не позволю проявлять неуважение к морскому делу.
Взяв со стола самокрутку, он затушил ее об угол стола, густо испещренный пятнами жженой лакировки.
Фелицата Андреевна смотрела на его рабочие руки с расплющенными кончиками пальцев, которые совершали над газетным обрывком сложный танец по закручиванию новой папиросы.
– Значит, говорите, по пирсу слонялась…
Высунув кончик языка, товарищ Матвеев провел им по краю бумаги и внезапно ударил по столу ребром ладони:
– Рассказывай, гражданка, что ты там высматривала?! Может, мужика своего искала? Загулял, небось? – он коротко хохотнул.
– Да, мужика, – ухватилась за идею Фелицата Андреевна, но тут же поняла, что поймать ее на лжи не представит никакой трудности, стоит только уточнить адрес, которого она не знает. – То есть нет, я приезжая, заблудилась. На улице темно, я в первый раз в Архангельске…
Она мучительно думала, как поступить правильно, охваченная единственным желанием отвести беду от Танюши. Господи, пусть французский корабль скорее унесет Таню прочь отсюда! Ради этого можно пройти через любую ложь, через любые муки.
Кивком головы Матвеев подозвал одного из красноармейцев и указал на ридикюль в руке Фелицаты Андреевны.
– Давай сюда сумку, проверим, что там.
Приняв ридикюль из рук красноармейца, товарищ Матвеев вывернул содержимое, беспорядочно вывалившееся на ореховую полировку.
Фелицата Андреевна помертвела: «Боже, там документы на Таню! Боже, Боже! Сейчас он спросит, где дочь, начнут дознаваться, поедут обыскивать французское судно, а там суд, мне расстрел, а Тане детский дом», – не успевая оформиться в слова, мысли вспыхивали и гасли огненными шутихами.
Собрав все силы, чтобы не сорваться на крик, она смотрела, как товарищ Матвеев послюнил палец и открыл ее паспорт:
– Так, значит, гражданка Горностаева, Фелицата Андреевна, – он нахмурил лоб, вздувшийся надбровными бугорками: – Горностаева, Горностаева. Министерша?
– Да, мой муж, Михаил Иосифович, был членом кабинета министров, – ровным голосом подтвердила Фелицата Андреевна.
Прежде равнодушное выражение лица товарища Матвеева внезапно исказил недобрый прищур. Побагровев, он резко вскочил:
– А это уже другой коленкор, барынька. Совсем другой, – сжав кулак, он звучно шлепнул им о ладонь. – Одно дело, когда простая бабенка в порту крутится, и совсем другое, если бывшая министерша к французикам подбирается. Это уже побег и государственная измена. А может, вас там целая шайка была?
Поскольку Фелицата Андреевна молчала, он развернулся к красноармейцам, застывшим у двери:
– Вот что, ребята. Берите пограничников, обыщите порт и гребите на иностранный корабль, проверьте, нет ли там других беглецов. А эту, – он повел подбородком в сторону Фелицаты Андреевны, – в кутузку до утра. Оттуда отправим в ГПУ для дознания.
Для Тани окружающее представлялось в кровавом тумане, откуда она пыталась вырваться. Помнится, она кричала, кусалась и брыкалась, а ее крепко держали мужские руки. Потом какой-то моряк тащил ее вверх по веревочному трапу. На палубе, не увидев рядом мамы, она снова начала кричать, пока ей в лицо не выплеснули стакан воды.
– Мадемуазель, вы обязаны немедленно замолчать, иначе погибнете сами и погубите нас. Мы очень рисковали, согласившись взять вас на борт, – раздельно сказал высокий мужчина в капитанской форме.
Таня вцепилась руками в поручень:
– Отвезите меня назад, там моя мама, я хочу к маме!
– Я не понимаю по-русски. Месье доктор, что она говорит? – спросил капитан невысокого мужчину с блестящей лысиной.
До Тани дошло, что до этого с ней разговаривали по-французски, и она тоже перешла на французский язык:
– Я не поеду без мамы! Я хочу к маме!
– Это невозможно, – сказал капитан, – мы должны немедленно вас спрятать.
Тот, которого капитан назвал доктором, накинул Тане на плечи плед и с мягким акцентом сказал:
– Пойдем, девочка, у нас очень мало времени.
Хотя Таня упиралась руками и ногами, он повел ее узкой лестницей в грохочущее нутро судна, где в полутемном пространстве жарко дышали раскаленные печи, а борта содрогались от всплесков волн.
– Сюда, быстрее!
От ужаса и горя Таня совсем перестала соображать, очнувшись в тесном железном ящике.
В абсолютной темноте она лежала как в гробу, с трудом шевеля руками и ногами. Чтобы не закричать, она нащупала в кармане ключ, подаренный Юрой, и крепко вцепилась в него зубами. Когда, наконец, ящик распахнулся, она была на грани помешательства. Веселый доктор протянул ей руку, помогая вылезти:
– Рад сообщить вам, барышня, что отныне вы в безопасности под защитой французского флага.
Но самое большое потрясение этого дня ожидало впереди.
Париж, 1930 год
Утреннее солнце проникало в мансарду на улице Мучеников со стороны церкви Нотр-Дам-де-Лорет. Отражаясь от зеркала на стене, лучи падали на рассыпанные по столу бусины, всплескивая крошечными разноцветными фонтанчиками. Перебрав несколько хрустальных шариков, Таня взяла дымчатый кабошон с зеленоватыми вкраплениями и прищурилась. Бьющий в глаза свет мешал вдевать нитку. Она встала и подошла к окну.
Весенний Париж, словно на волнах, качался в струях прозрачного воздуха. Облупившаяся штукатурка дома напротив казалась декоративной росписью под цепью узких балкончиков мансарды. В створе двух улиц проглядывал крошечный скверик из нескольких деревьев, еще не успевших покрыться зеленым пушком свежих почек. Но земля уже оттаяла, и какая-то женщина, встав на колени, неспешно сажала в клумбу растрепанные пучки герани. Пощелкивая педалями велосипеда, мимо проехал почтальон с толстой сумкой через плечо.
«Для меня там писем нет. Мне некому писать», – мелькнула и исчезла горькая мысль.
В распахнутом окне соседнего дома маячила голова старого месье Жиля. Заметив Таню, он прижал руку к сердцу и церемонно поклонился. Она засмеялась – это был их обыденный ритуал. Кроме как в окне, они с месье Жилем нигде не встречались, и только однажды Таня заметила старика на набережной Сены, где тот торговал всяким старьем, претендующим на гордое звание «антик».
Из двери булочной на первом этаже тянуло запахом свежей выпечки. Таня вспомнила, что еще не пила кофе. Домовладелица, мадам Форнье, запрещала арендаторам дешевых квартир пользоваться огнем, но Таня все равно приобрела спиртовку и варила себе кофе в отсутствие хозяйки. Она быстро привыкла обходиться без горячей пищи, питаясь салатами и бутербродами, но кофе предпочитала свежесваренным и горячим.
Прикрыв створку ставни, Таня посмотрела на часовую стрелку, застывшую около восьми часов, и решила, что вполне заслужила перерыв. Прихлебывая кофе с коричневой пенкой, она снова вернулась к столу, чтобы определиться с длиной бус. Владелица бутика обычно заказывала короткие нити, но почти готовое ожерелье из кварца просилось к наряду в стиле модерн. Таня бросила взгляд на рисунок, приколотый в простенке между кроватью и буфетом. Изображение томной дамы в зеленой шляпе, со впалыми щеками и перекрученной шеей ей досталось от смешного толстяка месье Дюбуа – повара кабаре «У шустрого кролика». Набросок подарили три года назад, когда Таня только переехала в Париж и искала работу. Тогда она часто ходила мимо кабаре, иногда останавливаясь, чтобы переброситься с месье Дюбуа парой слов, и как-то раз он предложил помочь его жене разобрать чердак в старом доме.
– Мы ожидаем прибавления семейства, – сообщил он, многозначительно похлопывая себя по круглому животу, словно сам лично собрался рожать. – Не хочешь ли, Таня, подзаработать пару монет и сытный ужин?
Как все французы, он сделал в ее имени ударение на букве «я».
Она двумя руками ухватилась за предложение месье Дюбуа, потому что оно позволяло дотянуть до конца недели без голодного обморока. Грязи на чердаке было хоть отбавляй, но Таня честно заработала свои деньги, не поленившись даже отодрать кусок бумаги со дна надтреснутой чугунной сковородки. Он оказался рисунком странной женщины с видом оплавленной свечи.
– Хочешь – возьми себе, а не хочешь – брось в печку, – сказала хозяйка. – Муж часто приносит из кабаре всякую дрянь, которой с ним расплачиваются нищие художники. Монмартр кишит ими, как голубями. У моего Франсуа большое сердце, и я чувствую, что его доброта однажды пустит нас по миру.
Говоря, она лукаво посмотрела на мужа, расправившего плечи под ее взглядом.
– Бери, бери, Таня, не стесняйся, – месье Дюбуа протянул рисунок и щелкнул пальцами, – кажется, художника, заплатившего рисунком за тарелку супа, звали Амадео Модильяни, и он итальянец.
Таня одним глотком допила остывший кофе и перевернула чашку на блюдце: если гуща растечется узором, то сделаю бусы короткими.
Дорожка кофейных крупинок вытянулась в прямую линию.
– Длинные, длинные – я была права, – сказал вслух Таня, представляя, что беседует с мамой. Мамуля осталась жить в Гавре, куда пристало французское судно после месячного плавания от архангельского порта.
Отгоняя волну страха, Таня сосредоточилась на перекрестье нитей. Жуть брала до сих пор, когда она вспоминала мамин рассказ о побеге от охраны порта. Невероятным выглядели все обстоятельства: и груда сетей, в которых мама сумела спрятаться, и подвернувшийся ялик с брошенными веслами, и неподобранный трап с борта судна.
На корабле маму успели спрятать в машинном отсеке за несколько минут до прихода пограничников. Боясь дышать, мокрая, с окровавленными руками, мама сидела заваленная углем и молила Бога, чтобы Он спас ее ради дочки.
Каждый год они с мамой ходят в церковь и заказывают молебен за избавление от беды. Кто организовал и оплатил побег из России, осталось неизвестным, потому что во Франции их никто не встретил.
Дымчатая бусина в центре композиции показалась Тане слишком крупной. Она распустила несколько вязок и взяла в руки щипчики для замочка. Сюда хорошо подойдет серебряный крючок с крупным кольцом.
Владелица бутика «Кружева и корона» мадам Нинон приложила к себе нитку бус, принесенных Таней, и вздохнула:
– Ах, милая Таня, я хочу закутаться в твои ожерелья с ног до головы.
Тощей как доска мадам недавно исполнилось сорок лет, и она цепко следила за веяниями моды, не упуская ни единой интересной новинки.
– Тогда бусы превратятся в кандалы, – сказала Таня.
– Пусть так, но это будут очень милые кандалы, в которые счастлива заковаться добрая половина парижанок. У тебя золотые руки и отменный вкус. Скажи, где ты берешь такие чудные камни?
Она щелкнула ногтем по черному агатовому кабошону в окружении старинных бусин муранского стекла.
Таня усмехнулась:
– На блошином рынке. Знали бы вы, какие груды отбросов мне приходится перерывать в поисках сокровищ.
– Представляю и ценю.
Мадам Нинон со вздохом отложила товар и открыла коробочку с деньгами. Несмотря на искреннюю симпатию к Тане, мадам Нинон была страшной скрягой и тряслась над каждым су, постоянно норовя занизить плату. Когда Таня принесла в бутик первые бусы, мадемуазель заплатила ей только за камни, практично полагая, что молодая особа должна быть благодарна за возможность выставить свои изделия в солидном магазине. Но бусы купили в тот же день и заказали еще одни. Следующая партия тоже разошлась с быстротой молнии, а «колье от Тани Горн» стали пользоваться такой популярностью, что Таня начала подумывать открыть мастерскую. Теперь, сделавшись мастером, появилась возможность зарабатывать на помощь маме, на квартиру в мансарде – седьмой этаж без лифта, на нормальное питание и на скромную одежду. Впрочем, как истинная парижанка, она умела быть изящной.
Чтобы любезно передать деньги, мадемуазель Нинон потребовалось сделать над собой усилие, и, только расставшись с суммой гонорара, она повеселела:
– Таня, у меня есть свежие бриоши. Надеюсь, ты попьешь со мной кофе.
Таня знала, что вместо заявленных булочек ей будет предложена единственная булочка на блюдце грубого фаянса с прелестной наивной росписью.
– Мерси, Нинон, но я сегодня спешу, – отказалась Таня, хотя на самом деле была совершенно свободна, просто не хотелось сидеть и слушать нескончаемую болтовню о клиентках, их детях, любовниках и домашней живности. Нинон любила находиться в центре событий.
Она уже отошла к двери, когда из пустой трескотни Нинон выскочило упоминание о некой Сокольниковой, скупившей добрую половину нарядов из бутика. Живя в Советской России, Таня заучила фамилии правительства наизусть, потому что газеты захлебывались отчетами и репортажами. Значит, пока в России люди живут впроголодь и сидят по тюрьмам, жена наркома ходит по парижским бутикам.
Так вот оно какое, хваленое равенство и братство. Вроде бы ничего особенного – есть у дамочки возможность приобщиться к парижской моде, она и ходит по бутикам. Но почему так противно? Правильно говорили в эмигрантских кругах: «Эти прохвосты рвутся во власть исключительно ради личного блага, а на народ им наплевать. Это не царь-батюшка, рожденный и воспитанный в любви к России».
Сунув сумочку под мышку, Таня пошла по улице Соль мимо кабаре «У шустрого кролика». Месье Дюбуа рассказывал, что прежний хозяин частенько выставлял у входа котел с супом, дабы бедные художники, обитавшие неподалеку, не умерли от голода.
Улицы были окаймлены аккуратно подрезанными деревьями. В оконных ящиках поднимали головки первые бутоны анютиных глазок и нежных фрезий. Около магазинчиков стояли ведра с нарциссами, сверкавшими ярко-желтыми звездочками в обрамлении белых лепестков. Выглянувший из дверей продавец в знак восхищения поцеловал кончики ее пальцев:
– Мадемуазель не хочет купить букетик фиалок?
– В другой раз.
С улицы Соль она свернула на улочку Корто, чтобы посидеть в сквере у памятника Сен-Дени.
Каменный Дионисий Парижский стоял на постаменте и держал в руках свою главу. По легенде, святой и его ученики мученически погибли на холме Монмартр и святой Дионисий нес отрубленную голову шесть километров, пока не упал бездыханно.
Погода была теплой, почти летней. Серебрились на солнце стволы платанов, теснившиеся вокруг нескольких скамеек. На одной из них сидела старушка с вязанием, а на другой молодая женщина с очень бледным лицом и иссиня-черными волосами. Ей шло красное шелковое платье и светлый жакет, контрастирующий с цветом волос.
Перекинув ногу на ногу, женщина положила голову на спинку скамейки, утомленно прикрыв глаза.
Выбирая, куда сесть, Таня хотела пройти мимо, но женщина открыла глаза и спросила по-русски:
– Ты русская?
Таня остановилась:
– Русская. Откуда вы знаете?
Женщина засмеялась низким, хриплым голосом заядлой курильщицы:
– Лицо у тебя доброе, не то что у этих стерв, – она кивнула головой на старушку, которая бросила вязать и, заслышав иностранную речь, поджала губы в тонкую линию.
– Да ладно тебе, – переходя на ты, сказала Таня, – французы тоже разные бывают.
– Все стервы, – убежденно сказала женщина, – и стервецы. Меня, кстати, Люда зовут. Я из Таганрога.
– А я Таня. Петроград.
– Теперь Ленинград, значит. Смешно. Город имени картавого человечка с липкими ручонками. Довелось его как-то видеть.
Щелкнув замком сумочки, Люда достала из портсигара сигарету и вставила ее в мундштук.
– Куришь?
– Нет.
– Правильно делаешь. Небось, и не пьешь?
Таня покраснела, поймав себя на мысли, что ей неудобно ответить «нет». Но она действительно не пила. Пиво казалось ей отвратительным на вкус, а от вина в голове становилось темно и звонко, как в железном ящике, где она пряталась от красноармейцев.
– Не пью.
– А я, знаешь, и пью, и курю. Тошно мне здесь. Всех ненавижу.
Глубоко затянувшись, Люда покрутила в пальцах мундштук:
– Давно из России?
– Семь лет. Мне тогда тринадцать лет исполнилось. А ты?
– А мы в девятнадцатом сбежали, сразу, как заваруха началась. Я двадцатилетней была, как ты сейчас. Мужа – артиллерийского поручика – большевики на воротах распяли. Грудной ребенок в Стамбуле умер от дизентерии. А я вот живу. Покупаю одежду, крашу волосы, ем шоколад.
В Людином голосе послышалось отвращение.
Таня не знала, что сказать, поэтому молчала, глядя, как парижский закат поливает краской мрамор статуи святого Дионисия.
Люда докурила сигарету и без всякой связи спросила:
– Домой в Россию тянет или уже здесь прижилась?
Много раз за последнее время Таня задавала себе этот вопрос, но каждый раз не находила ответа. Она пожала плечами:
– Трудно сказать. Обратно в коммуналку с пьяными соседями я не хочу, да и газеты пишут ужасное, – она закусила губу, вспомнив, что на связке ключей есть ключ от ленинградской квартиры Никольских. – Друг там остался… – она хотела назвать Юрино имя, но оно было слишком личным, сокровенным. Юре она часто писала письма и прятала их в шкатулку. – Отец Игнатий… Он нас с мамой на побег благословил.
– Убьют, если еще не убили, – убежденно произнесли Люда, – священников советская власть всех уничтожит. В России сейчас только Церковь противостоит красному дьяволу. Понимаешь, не нарисованному, с рогами и копытами, – указательными пальцами Люда соорудила над головой рожки, – а настоящему, который утаскивает души в ад и страхом заставляет людей врать, приспосабливаться, писать доносы. Взять хотя бы меня. Прежде, до переворота, я всех любила, а нынче осталась одна ненависть. Думаешь, от Бога это? Нет! От красного дьявола. – Легким движением Люда встала, и Таня удивилась гибкости ее фигуры. – Пора. Скоро на работу, танцевать в кабаре.
Заметив неодобрительный взгляд старушки, Люда подбоченилась и сделала несколько па каскада, взметнув ногой песчаную пыль.
– Да, кстати, – она наклонилась над Таней, обдав ее ароматом пряных духов. – Один знакомый коммерсант ищет переводчицу для поездки в Ленинград. Не желаешь острых ощущений?
Словно подброшенная тугой пружиной, Таня вскочила на ноги. От возможности увидеть Юру у нее перехватило горло. Она испугалась, что Люда уйдет, и вцепилась ей в локоть мертвой хваткой:
– Хочу поехать! Хочу! Хочу! Помоги, если можешь!
Коммерсант месье Тюран жил на Севастопольском бульваре недалеко от площади Шатле. Белый пятиэтажный дом, украшенный витыми балкончиками, важно свидетельствовал о солидном достатке жильцов. Просторный лифт с зеркальной стеной мягко и бесшумно поднял Таню на пятый этаж, высадив у двери с красной лакировкой. Прежде чем позвонить, она достала карманное зеркальце и поправила прическу, чтобы понравится нанимателям.
Характеризуя Тюранов, Люда сообщила, что месье – жуткий зануда, а его жена – сущая мегера. Люда ехидно скривила рот:
– Не удивлюсь, если по ночам Тюраниха сушит пауков и разъезжает вдоль Сены в крысиной повозке.
Открывшая дверь горничная в кружевном фартуке провела Таню в прихожую:
– Подождите здесь, я сообщу о вас мадам.
– А месье?
Горничная выразительно глянула исподлобья, ясно давая понять, кто в доме хозяин.
С интересом осмотревшись, Таня обратила внимание на помпезный светильник с бронзовым основанием в виде женской фигурки. Двумя руками женщина вздымала над головой матовый шар, освещающий гнутую вешалку, стойку с зонтиками и высокий столик с серебряным подносом, на котором грудой лежали визитные карточки. Верхняя визитка была от мадемуазель Лотан – известной в Париже шансонетки. По всей видимости, карточку заботливо клали на видное место как предмет особой гордости.
Бесшумно возникшая горничная указала рукой на дверь:
– Пройдите, мадемуазель, мадам вас ждет.
Мадам Тюран приняла ее, полулежа на софе с высокой спинкой из стеганого атласа. Выглядела она лет на сорок. Она была довольно худощавой женщиной с тонкими губами и неожиданно тяжелым подбородком, переходящим в сухую шею.
Присесть мадам Тюран не предложила, и Таня осталась стоять посреди комнаты.
Темные глаза мадам Тюран изучающе осмотрели ее с ног до головы.
– Вы эмигрантка?
– Да, мадам, меня зовут Таня Горн. Мне сообщили, что вы ищете переводчицу с русского.
Мадам оживилась:
– Вы сказали, Таня Горн? Очень интересно, буквально вчера я купила колье от Тани Горн. Говорят, она тоже русская. Похоже, что вся Франция запружена Танями Горн из России.
– Вообще-то, моя фамилия Горностаева, – объяснила Таня, – но для французов это слишком сложно.
– Ты права, – одобрительно кивнула мадам Тюран, – русский – ужасный язык. Когда вы говорите, мне кажется, что крякают утки.
Мадам Тюран рывком сбросила ноги с софы и выпрямилась, надменно поведя головой с модной стрижкой. Закрывающий уши каскад волос на миг взметнулся, приоткрыв ухо с бриллиантовой серьгой. Одним пальцем мадам поправила прядку у виска.
Ее голос стал жестким:
– Мой муж, месье Мишель Тюран, представляет фирму по производству судовых двигателей, которая решила наладить связи с Советской Россией. Нам срочно требуется выехать на судостроительный завод в Ленинград.
По Таниной спине проскользнул холодок. Она подумала, что должна получить это место любой ценой.
– Мы действительно подыскиваем переводчицу, но я хотела бы видеть женщину, – мадам Тюран покрутила рукой в воздухе, – более опытную. Поэтому я найму вас лишь при одном условии: вы должны скромно одеваться, зачесать волосы назад и держаться как можно незаметнее. Скажу прямо: наилучшее для вас – выглядеть дурнушкой. Согласитесь, что это разумно.
Тане стало смешно. Похоже, месье Тюран ходит на коротком поводке и получает косточку лишь за отменное поведение. Дурнушкой так дурнушкой. Даже забавно.
Пытаясь сдержать смех, она опустила глаза в пол из наборной доски, натертый до состояния зеркала:
– Да, мадам. Я согласна на ваши условия.
– Вижу, вы умная девушка. Я знаю, что эмигранты очень бедны, поэтому если будете стараться, то получите хорошую рекомендацию. Кстати, там, в России, кем был ваш отец?
На миг лицо мадам Тюран вспыхнуло жадным любопытством. Знакомые эмигранты рассказывали, что нувориши любят греть самолюбие, нанимая на работу русских аристократов.
– Мой папа был поваром, – сказала Таня первое, что пришло в голову.
С долей разочарования в голосе, мадам спросила:
– Наверное, вы умеете хорошо готовить?
– Увы. Большее, на что я способна, это сделать омлет.
По мере приближения к границе СССР Тане стало невмоготу находиться в замкнутом пространстве купе. Тюраны расположились отдельно, а она ехала вдвоем со старухой-полькой, которая всю дорогу показывала ей фотографии дочери и многочисленных собачек комнатных пород. Старуха сошла в Кракове, подарив Тане на память открытку с левреткой в гофрированном воротничке. Судя по всему, собачек бабуля любила больше дочки и внуков.
Накинув кофту, Таня выскочила в проход и встала у полуоткрытого окна, вбирая в себя влажный воздух, пахнущий лесом и паровозным дымом. Шелковыми лоскутами по небу летели клочья облаков. Качала ветвями рябиновая роща. По камышовому озерцу плавали утки. Счастливые! Птицам не нужен паспорт, чтобы перелететь из страны в страну. Научился летать – и весь мир в твоем распоряжении, пока не собьет выстрел охотника.
От желания скорее ступить на родную землю у Тани кружилась голова и замирало дыхание. Странно, но прежде она не предполагала, что так трепетно любит Россию. Казалось бы, по обе стороны границы в окна вагона стучит серый июльский дождик, вдоль колеи построились одинаковые березки, тот же глянец мокрой травы с запутавшимися головками белых ромашек, но здесь – чужая Польша, а там Родина, любимая до последнего камушка на дороге.
В последний раз на мамины именины Таня подарила ей ожерелье из иранской бирюзы, ярко отливающее небесной голубизной. Мама была в восторге, но потом загрустила и сказала, что самыми драгоценными камнями считает булыжники на мостовой перед петербургским домом.
Надо будет обязательно найти время и подобрать для мамы камень с Рождественской улицы. Таня представила, как удивится мама, когда узнает о поездке в Россию. Она не решилась признаться ей в своей авантюре, чтобы излишне не волновать.
Позвякивая стаканами чая на подносе, мимо прошел проводник в синей отутюженной форме. Он щеголял густыми усами, компенсирующими обширную лысину на голове.
– Не простудитесь, товарищ девушка, а лучше попейте чайку с лимончиком.
– Спасибо, не хочется.
Поезд скинул скорость на повороте, и стаканы звонко задрожали в подстаканниках.
– Товарищи и господа, поезд приближается к пограничному пункту, просьба всем занять свои места, – зычно выкрикнул проводник.
Как по команде двери купе захлопали, и из них стали выглядывать встревоженные пассажиры.
– Это граница? – спросил Таню молодой немец в клетчатом пиджаке. Он посмотрел на нее с долей жалости, как обычно смотрят на страшилку, которой суждено остаться старой девой без перспектив на замужество.
– Да, – Таня кивнула, – нас попросили не покидать купе.
Указательным пальцем Таня поправила очки в роговой оправе (она купила их на блошином рынке) и пригладила туго зачесанные назад волосы, свернутые на затылке в плоский узел. Мешковатое платье, уродующее фигуру, удачно довершало облик серой мыши из породы мелких клерков, презираемых в респектабельном обществе.
Постучав, она вошла в купе к Тюранам.
Мадам Тюран спала, прикрыв лицо носовым платком. От ее дыхания платок трепетал и вздымался могучей рябью. Месье Тюран читал газету. Он был мелким мужчинкой с суетливыми движениями и липким взглядом записного гуляки. «Жук еще тот, – охарактеризовала его Таня при первом знакомстве, – неудивительно, что мадам Тюран следит за ним, как кошка за воробьем».
– Мадам, месье, скоро граница. Готовьте документы.
Таня села на краешек полки подле месье Тюрана, ожидая, когда понадобятся ее услуги.
Мадам откинула платок и непонимающе моргнула глазами:
– Мадемуазель Таня, что вы делаете рядом с моим мужем?
От ее вопроса месье Тюран лихорадочно свернул газету и отпрянул в угол, едва не сбив локтем лампу на столике.
– Мадам, я пришла помочь вам при прохождении паспортного контроля. Сейчас будет пограничный пункт.
– Неужели я так долго спала? – одернув на груди блузку, мадам приняла вертикальное положение и достала сумочку. – Ну что ж, посмотрим, каковы на вид русские военные.
– Советские, – мягко поправила Таня.
– Ах, для меня, истинной француженки, эта территория всегда будет русской, как бы она ни называлась.
«Резонно», – подумала Таня, глядя, как мадам Тюран вынула из несессера тюбик помады и одним движением накрасила губы карминовым цветом. Следом за помадой из сумочки на свет появились бусы, которые Таня назвала для себя «Бежин луг» – зеленое стекло вперемежку с каплями прозрачного бисера.
Надо признать, что гардероб мадам был подобран с отменным вкусом. Перехватив Танин взгляд, мадам Тюран медленно провела пальцем по ожерелью:
– Может быть, в будущем и вы позволите себе купить нечто подобное. Как знать…
Дверь в купе приоткрылась:
– Паспортный контроль.
Два пограничника вошли в купе, перегородив собой выход. Один рыжеволосый, с веселым веснушчатым лицом, другой – гибкий и стройный, с огненно-черными глазами.
– Паспорта, пожалуйста.
Они говорили на плохом, но вполне понятном английском.
– Вы можете говорить по-русски, – сказала Таня, – я переведу.
Принимая паспорт из рук месье Тюрана, рыжий бросил на нее косой взгляд.
– Мы не нуждаемся в переводчике, – отрезал черноглазый, – ждите своей очереди.
Сделав отметку в паспорте мадам, он повернулся к Тане:
– Ваши документы.
– Вот, пожалуйста.
Держа раскрытый паспорт на ладони, пограничник пальцем перелистал несколько страниц:
– Татьяна Горностаева, французская подданная, – его лицо стало враждебным. Он закрыл паспорт и сунул его себе в нагрудный карман. – Предъявите ваши вещи.
Таня встала:
– Я еду в другом купе. Пройдемте. Вы не найдете у меня ничего интересного.
Зря она стала вступать в пререкания с пограничником, потому что вещи в чемодане он перерывал с особым рвением. Наверное, если бы мог, то с удовольствием потоптал бы их сапогами. Судя по брезгливому виду, маленький флакончик духов в форме сердца вызвал у него отвращение своей буржуазностью. Досмотр остановился, дойдя до стопки трусиков и шелкового бюстгальтера с кружевной полосой. Под ними, перевязанные бечевкой, лежали письма для Юры. Их было ровно семь, потому что раз в год Таня писала Юре поздравление на день Ангела.
– Что в конвертах?
– Письма, – сказала Таня и злорадно добавила: – Любовные.
Пограничник оскорбленно задышал и протянул паспорт:
– Можете следовать дальше, гражданка Франции.
Хлестко и жестко в коридоре прозвучали его слова, сказанные напарнику:
– Ненавижу белогвардейских недобитков. Руки чешутся отправить их на стройки социализма.
– Да ладно тебе, Черемисин, – раздался в ответ голос с примирительной интонацией. – Что ты всех в беляки записываешь?
– Знаю, у них ненависть к коммунистам на лице написана.
– Дурак несчастный! – громко сказала вслед Таня, хотя ее уже не могли слышать.
Ленинград, 1930 год
По России ехали больше суток, и все это время Таня не отрывалась от окна. С жадностью разлученного влюбленного она всматривалась в деревенские избы с покосившимися заборами, в стада коров на полях, в повозки, пережидающие поезд у железнодорожных путей. Вослед поезду с косогора махали руками ребятишки, и машинист всегда подавал им короткий гудок.
После французских предместий с аккуратными домиками Россия показалась ей сумрачной и таинственной. И только когда стали переезжать какую-то реку, выглянуло солнце, словно на землю высыпалось ведро золотого песка. Из глади воды вдруг выплыли купы деревьев, стелящиеся долу, зеленый луг, который переходил в синее небо, и церковь, как белая лебедушка, готовая вот-вот взлететь над землей. Впуская в себя дух Родины, Таня задохнулась от красоты и больше уже не чувствовала себя иностранкой, случайно оказавшейся в восточном экспрессе.
В Ленинграде поезд прибыл на Варшавский вокзал. Был поздний вечер. Серые сумерки мягко затушевывали очертания домов и улиц, перечерченных мостами и каналами. Мягко покачиваясь, машина везла их в гостиницу «Англетер» на Исаакиевской площади. Месье Тюран утомленно дремал на переднем сиденье, мадам Тюран, рассеянно глядя по сторонам, перебирала бусы на шее.
Таня узнавала и не узнавала город, в котором родилась и росла. По сумрачному Петрограду ее детства ходили патрули в матросских шинелях и вились очереди за хлебом, а в городе, который теперь называется Ленинградом, горели фонари и смеялись женщины. По сравнению с Парижем, в глаза бросилась бедная одежда прохожих и убогие витрины магазинов, выдержанные в неброских тонах, словно оформители боялись яркой краской нарушить скорбный покой большого кладбища. На дорогах было много телег. У здания с надписью «Культурфильм» толпилась молодежь. Посередине улицы вереницей катили краснобокие трамваи.
«Город, от которого у меня есть ключ», – подумала Таня.
На площади около Исаакиевского собора водитель заложил лихой вираж и, упруго выскочив, распахнул дверцу машины:
– Приехали, господа.
Коричневое четырехэтажное здание гостиницы, одной стороной выходящее на громаду собора, купалось в электрическом свете множества окон.
– А здесь почти как в Париже, – заметила мужу мадам Тюран.
Месье что-то невнятно промычал в ответ. Поблуждав по фасаду, его взгляд остановился на входе в ресторан:
– Надеюсь, я успею получить приличный бифштекс и бокал вина?
– Здесь написано, что открыто круглосуточно, – перевела Таня.
Часы над стойкой портье показывали половину одиннадцатого. Месье Тюран приказал быть готовой к семи утра, и она нетерпеливо подумала, что ее ждет впереди целая ночь вдвоем с городом.
Дешевый номер, снятый Тюранами для переводчицы, располагался на последнем этаже гостиницы и был наполнен мягким серым туманом белой ночи. Не зажигая свет, Таня сдернула с носа уродливые очки и отпустила на волю волну волос, упавших на плечи тугими локонами. К их темному цвету с легкой ржавчинкой очень шло зеленое. Она перехватила пряди зеленой лентой. Пачка писем вместе с медным ключом легла в кожаную сумочку на цепочке. Сердце в груди стучало звонким колоколом. Тане было и чудно, и страшно, словно в преддверии перехода в перевернутый мир. Прежде чем взяться за ручку двери, она напомнила себе о спокойствии, до которого, казалось, далеко, как пешком до луны.
Теперь надо было ухитриться тайно выбраться наружу. В эмигрантской среде ходили слухи, что за каждым иностранцем НКВД приставляет секретного агента, чтобы проследить его связи. Все портье, горничные и официанты имеют офицерские звания и служат в разведке. Очень может быть.
Стремительно сбежав вниз по пустой лестнице, Таня юркнула за угол и оказалась перед дверью пожарного выхода. Если замок заперт, то все пропало! Но дверь легко подалась вперед.
Следующие несколько пролетов Таня проехалась по перилам. Еще одна дверь, теперь на улицу, и снова удача.
Она так спешила, что едва не сломала каблук, застрявший в люке. Куда там смотреть под ноги, если вокруг лежит город, тысячи раз поднимавшийся с самого дна ее снов.
Впереди блестела темная вода реки Мойки. Гранитная набережная была окутана ажурной шалью чугунных решеток. Над мраморной глыбой Исаакиевского собора парили темные тени Ангелов. Воздух Петрограда-Ленинграда кружил голову.
Почти бегом Таня пересекла полосу света из ресторана и погрузилась в темноту спящих домов. Звук шагов на пустынной мостовой отзывался негромким шелестом. До дома отца Игнатия и Юры надо было пройти по Вознесенскому проспекту и свернуть в один из переулков за Максимилиановской лечебницей.
Живут ли они еще там? Живы ли?
Дома, стоящие вплотную, сливались в анфиладу из колонн, портиков, эркеров и навесных балконов. Над головой гулко открылась и закрылась форточка. Кошки у помойки затеяли возню, клубком выкатившись под ноги. Пестрая кошка осталась сидеть на месте, а черная с мяуканьем перебежала дорогу.
В памяти возникали спокойные, распахнутые глаза Юры и добрые руки отца Игнатия, когда он в детстве гладил ее по голове. От нахлынувших чувств Таня зажмурилась.
Сейчас ей двадцать, а Юре двадцать три. Наверное, он стал еще симпатичнее, чем был прежде.
Она не заметила мужчину, возникшего из подворотни.
В темноте маячила его светлая рубаха и белело лицо с растянутыми в улыбке губами:
– Эй, красавица, не спеши! Давай познакомимся поближе.
Хотя мужчина не предпринимал попыток к действию, остаток пути Таня пронеслась вихрем, словно за ней гналась свора туземцев с целью перекусить вкусненьким.
Унимая колики в боку, она была вынуждена остановиться и перевести дыхание. Удивительно, но на столбах по-прежнему висели качели, на которых она любила качаться, поджидая маму. От умиления у Тани задрожал подбородок.
В окнах Никольских не было света. Конечно, спят – ведь почти три часа ночи. Таня поколебалась, будить их или просто подсунуть письма для Юры под дверь. А вдруг Никольские переехали и письма попадут в чужие руки? А если просто уйти, то отец Игнатий наверняка огорчится.
Набравшись решимости, Таня вошла в подъезд. Отсюда они ушли с благословением на отъезд. Все эти годы она была твердо уверена, что если бы не молитвы отца Игнатия, то мама ни за что не вырвалась бы от охраны порта и не осталась бы в живых, а сама она скиталась бы по французским приютам, никому не нужная и всеми презираемая сирота-эмигрантка.
Звонка не было, и Таня просто постучала в дверь, прислушиваясь к тишине в запертой квартире. Никто не открывал. Она постучала еще раз, а потом достала свой ключ.
«Юра сказал, что ключ для того, чтоб я всегда могла вернуться», – подбодрила она себя.
Два щелчка в замке выстрелами разлетелись по гулкой лестнице, и Таня на миг ослепла от темноты, в которой выделялся серый прямоугольник окна.
– Отец Игнатий… Юра… Это я, Таня Горностаева.
Спотыкаясь о стулья, она прошла к столу и включила настольную лампу.
За семь прошедших лет здесь ничего не изменилось: тот же старый диванчик с продавленными пружинами – во время визитов к Никольским мама всегда садилась с правого краю, – тот же письменный стол с бронзовой настольной лампой со стеклянным абажуром в форме шара. Книжная полка под потолком, в углу иконостас. Она остановила взгляд на фотографии отца Игнатия посредине стены. Ее прежде не было. Таня подошла ближе. Отец Игнатий, молодой и веселый, стоял на берегу реки, придерживая рукой развевающуюся рясу.
Таня понимала, что должна уходить, но все же не двигалась с места, не зная, сможет ли выбраться сюда еще раз. В этой комнате жили воспоминания, от которых она не могла оторваться. Сюда, к отцу Игнатию, они с мамой прибежали, узнав о смерти отца. Здесь они оплакали погибшую крестную. Здесь встречали Рождество и Пасху. Здесь она впервые заметила, как глубок и светел взгляд Юры.
Внезапно задрожавшими руками Таня достала из сумочки пачку писем и положила прямо под лампу – это будет первое, что заметят Юра или отец Игнатий, когда зажгут свет. В письмах все сказано. Они прочитают и поймут.
Ровно в семь утра, как велел месье Тюран, Таня ожидала его в вестибюле отеля.
Пару часов она успела поспать, и ей снились Юра, отец Игнатий и белые березы, встречавшие поезд за пограничной чертой.
Телега, на которой Юрий добирался от колхоза до станции, застряла в грязи, поэтому он опоздал на пригородный поезд и ночевал на вокзале, скорчившись на короткой лавке. Сатиновая косоворотка совершенно не грела, и, несмотря на летнюю ночь, Юрий успел основательно озябнуть.
Он работал слесарем на заводе «Красный Путиловец» и был направлен в колхоз отремонтировать трактор в порядке шефской помощи, то есть бесплатно. Трактор «Фордзон-Путиловец» он мог собрать и разобрать с закрытыми глазами: руки сами знали, что делать, порой упреждая сознание.
Ужас, сотворенный с машиной колхозными умельцами, не поддавался описанию.
Спасибо, что не догадались прикрутить к мотору парочку самоваров для быстроты хода и глубины вспашки.
Поступить в институт, как мечталось в школе, не удалось – подкачало происхождение из духовенства. В советской стране чуждым элементам высшее образование было противопоказано. Пришлось сначала получать рабочий стаж. Прийти в вуз в качестве уже рабочего не возбранялось.
Пролетарий – это тебе не поповский или дворянский сын, у которого все помыслы о вредительстве молодой Советской республике. Пролетарий – он молотом, да по цепям, по цепям.
Впрочем, Юрий не роптал: завод так завод. Он не стал перебирать профессии, а пошел туда, где постоянно требовались рабочие. Самая большая текучка была на «Красном Путиловце» – бывшем Путиловском заводе.
Пожилой рабочий в отделе кадров дружески посоветовал:
– Зря, паря, сюда идешь горбатиться. Сунься лучше на Ижорский. Там в горячем цеху жалованье не в пример выше.
Юрий пожал плечами:
– Мне все равно, я за деньгами не гонюсь.
С головой окунувшись в работу, он быстро стал высококвалифицированным рабочим, одним из тех, кого бросают на самые сложные участки работы. На шефскую помощь в колхоз он напросился сам, потому что на заводе намечался очередной митинг в поддержку рабочих Германии, а митингов Юрий терпеть не мог.
Грязный, усталый, охрипший от ругани с трактористами, он ввалился в квартиру ранним утром, когда дворник Ахмет сделал первый взмах метлой по асфальту. На лысой голове Ахмета чудом держалась пестрая тюбетейка, подчеркивая торчащие уши и загорелую, тощую шею. Ахмет достался дому с царских времен и наперечет знал всех жильцов.
– А, Юра, домой торопишься? Гулял? – дворник почтительно склонил голову, расплываясь в редкозубой улыбке.
Юра знал, что пользуется особым уважением Ахмета как сын священника. Отца Игнатия Ахмет называл святым человеком.
– Какое там гулял, Ахмет, трактор ремонтировал. Посмотри на мои руки.
Ахмет поцокал языком в знак сочувствия и посоветовал:
– Угольком потри, я вчера доски жег, вон, возьми в бочке.
– Отмою как-нибудь, не привыкать.
Надежда успеть до работы перехватить хотя бы тарелку каши таяла льдинкой на выхлопной трубе. Не зажигая света, Юрий поставил на стол бутылку льняного масла, подаренного председателем колхоза, и подумал, что хлебушек с маслицем тоже неплохо, особенно после того, как во рту сутки не было ни крошки. Продовольственные карточки были давно отоварены: хлеб из расчета двести граммов в день, полкило макарон и пятьдесят граммов чая в месяц.
Кипятить чай времени не оставалось. Он полил маслом хлеб, круто посолил и поспешил на работу, успев на ходу переменить рубаху и вместо сапог насунуть старые отцовские штиблеты.
Днем в цеху случился аврал. Партия тракторов для Вологды поступила с браком: была испорчена головка блока цилиндров.
Страна гнала первую пятилетку в четыре года. В заводских цехах гремели лозунги о социалистическом соревновании и о том, что враг не дремлет. Сорвать государственный заказ – значило подписать себе смертный приговор.
Главный инженер с посеревшим от переживаний лицом перехватил Юрия в проходной:
– Никольский, выручай, на тебя вся надежда.
Глаза главного инженера глядели с неизбывной тоской, в которой уже просматривались очертания тюремной решетки. Наверное, он вспоминал, что прошлой зимой побоялся подписать Юрию характеристику в вуз и мямлил что-то невразумительно про пролетарское сознание и рабочее происхождение.
Хотелось, ох, хотелось, сказать инженеру пару ласковых, но, вспомнив папино добросердечие, не стал «добивать»:
– Сделаю, что могу. Надо так надо.
Домой он явился на следующий день к вечеру.
Прошедшие сутки звенели в ушах лязганьем инструмента и непрерывным ревом моторов. Мечты были об одном: опустить на кровать усталую спину и крепко заснуть. Сразу и без сновидений, выматывающих душу невозможностью вмешаться в события прошлого.
Устало опустившись на стул у письменного стола, Юрий, не глядя, включил настольную лампу. Взгляд уперся в стопку писем, аккуратно перевязанных красной бечевкой.
Бред! Совсем заработался. Сгоняя морок, он крепко растер лицо и снова взглянул на освещенный островок поверхности стола. Письма не исчезли.
Верхний конверт был адресован Юрию Никольскому.
С неприятным холодком внутри Юрий сунул руку в карман и вытащил связку ключей. Пропажи не было. Ключи оказались на месте – один его, один папин. Зажатые в кулаке, они царапнули пальцы острыми бородками, и Юрий вдруг вспомнил, что существует третий ключ.
Таня?! Здесь? Откуда?
Ему стало душно. Прежде чем взяться за письмо, он встал и распахнул форточку. Ночная прохлада приятно освежила застоявшийся воздух.
«Дорогой Юра!
Хочу поздравить тебя с днем Ангела, – летели по бумаге наивные строки, выведенные изящными прописными буквами. – Пусть у твоего Ангела будет мало печали и много радости.
Помнишь, в прошлый день Ангела моя мама испекла для тебя пирог с картошкой и грибами, а я подарила букет из засушенных роз? Потом мы с тобой пошли кататься на коньках на Неву.
Я потеряла варежку, и ты дал мне свою. Ты всегда поступал со мной как старший брат.
Сегодня вместо букета я нарисую для тебя картинку французской улочки. На ней расположена аптека, где мама развешивает порошки. Ей повезло найти приработок благодаря своим знаниям латыни. Когда аптекарь сказал, что нанимает ее, мама заплакала от радости и сказала, что в гимназии латынь ненавидела и что Господь нас смиряет через наше упрямство и глупости. Теперь, когда мама поступила на службу, мы можем позволить себе маленькие радости в виде свежих булочек (до этого покупали черствые, так дешевле). Помнишь, как ты угощал меня пирожком на вокзале?
Ах, Юра, если бы ты знал, с какими приключениями нам удалось добраться до Гавра!
Я уверена, что, если бы не благословение отца Игнатия, мы с мамой обе сейчас лежали бы в могиле.
Мне хочется так много рассказать тебе, что мысли путаются, и я молюсь, чтобы когда-нибудь состоялась наша встреча.
Еще раз поздравляю тебя и желаю счастья. Ключик, который ты дал мне на прощание, висит у меня на шее как память о Петрограде и о тебе. Я верю, что он обязательно пригодится.
Кланяйся от нас с мамой отцу Игнатию.
Твоя Таня».
Таня, Танюша, озорница с кудрявыми волосами и бедовыми глазами. Он не мог представить ее взрослой девушкой.
Юрий опустил письмо на колени и долго сидел, уставившись на косую тень из окна, пересекающую письменный стол.
«Да здравствует XVI съезд ВКП (б)!» – гласил алый лозунг у входа на верфи. При порывах ветра лозунг закрывало красное полотнище флага с надписью «Даешь подъем сельского хозяйства!» и получалось «Даешь подъем сельского хозяйства ВКП (б)».
«Тоже неплохо, – подумала Таня, – пусть бы лучше это, чем за честными гражданами охотиться». Ночная прогулка еще будоражила нервы ощущением опасности.
Вылезая из машины, месье Тюран как бы невзначай прикоснулся к Таниному локтю влажными пальцами:
– Таня, скажите, почему ваши соотечественники так любят красное?
В отсутствие мадам он постоянно распускал руки, и его ухаживания были отвратительны.
– Не знаю, месье Тюран, я предпочитаю зеленый цвет.
Стараясь соблюдать дистанцию с любвеобильным месье Тюраном, Таня пошла вперед, навстречу молодому инженеру Владимиру Александровичу, приставленному для работы с иностранным коммерсантом.
Он улыбнулся ей как доброй знакомой:
– Добрый день, Татьяна Михайловна. Бонжур, месье Тюран.
На счастье, Владимир Александрович прекрасно владел французским, помощь переводчика совершенно не требовалась.
С позволения месье Тюрана во время переговоров Таня смогла ненадолго покинуть накуренное помещение кабинета, чтобы подышать воздухом.
Послав благодарный взгляд Владимиру Александровичу, она пошла на скамейку под окнами заводоуправления, укрытую тенистым кустом сирени. Сквозь прорехи в листьях на платье падали солнечные пятна. Таня поймала их ладонью, думая, что русское солнце хоть и не такое теплое, как французское, но более нежное и лучистое.
В контору заводоуправления то и дело проходили мужчины с чертежами под мышкой, пробегали девушки в красных косынках (действительно, почему им так импонирует красный цвет?), группами по нескольку человек шли рабочие, подкатывали автомобили.
По бедной одежде людей было заметно, что стране тяжело. Одевшись Золушкой, по просьбе мадам, Таня не предполагала, что на общем фоне ее уродливое платье выглядит почти роскошным. Яркий, дешевый шик в женских нарядах царил лишь вокруг гостиницы, но «ночные бабочки» и в Париже не отличались высоким вкусом.
Она смотрела на кипящую вокруг жизнь и гадала, сможет ли она сегодня ночью снова сбежать из отеля и прочитал ли Юра ее письма. Она постоянно мысленно возвращалась в каморку Никольских, ища Юрия в каждом молодом человеке.
Пересекая площадку между корпусами, двое молодых парней волокли бухту кабеля. Один из них, светловолосый, чем-то напомнил Юру Никольского. Таня напряженно привстала. Юра? Но парень повернул к ней широкое лицо с отметками оспин, и она разочарованно опустилась назад на скамью.
Она оставила письма позавчера, а прошлой ночью, как ни старалась, не смогла улизнуть из своей комфортабельной тюрьмы: портье за стойкой регистрации сидел как приклеенный, а у двери соседнего номера дежурила женщина с подозрительным взглядом и военной выправкой.
Мечта о новом побеге кружила голову духом шального авантюризма. Если сегодняшняя встреча предопределена, то она обязательно состоится. Ведь не зря же на жизненном пути подвернулась поездка в Россию. Значит, так для чего-то надо.
Переговоры месье Тюрана шли трудно. После встречи в заводоуправлении он ехал в машине хмурый, словно поел несвежих продуктов. Шофер повез их Конногвардейским бульваром мимо особняка Кочубея. Когда-то его называли «Дом с маврами».
Вечер зажигал первые звезды, в свете которых листва на деревьях выглядела сотканной из бархата, а мраморные братья Диоскуры около Манежа казались живыми гигантами, выскочившими на минутку, чтобы завести коней в конюшню.
Мадам ожидала мужа в номере. Увидев стоящую за его спиной Таню, кисло улыбнулась:
– Сегодня вы очень поздно. Если бы мы находились не в Советской России, то я могла предположить, что вы проводите время в кабаре.
– Здесь нет кабаре, мон шер, – заметил месье Тюран, – хотя бокал хорошего вина мне не повредит.
– Я успела проголодаться и прочитать целый роман, – попеняла мадам Тюран, пропуская мужа в номер. Она скользнула взглядом по Таниному лицу. – Думаю, переводчица нам сегодня не понадобится.
От радости Таня едва не послала мадам воздушный поцелуй.
– Мерси, мадам Тюран. Я с удовольствием посплю лишний час-другой.
Охватившее Таню лихорадочное состояние требовало движения. В ожидании ночи она не могла усидеть на месте и без устали металась по комнате из угла в угол. Из рук все валилось, а фразы в книге теряли свое значение, превращаясь в набор бессмысленных знаков. Наконец, когда в коридоре стихли шаги постояльцев, она тенью выскользнула на лестницу. Знакомая дверь на черный ход была приоткрыта, и цепочка рабочих несла на верхний этаж какие-то короба. Погрузкой дирижировала полная женщина в синем ситцевом платье и сбитой набок косынке. Мельком взглянув на Таню, она кивнула ей, как старой знакомой, и тут же повернулась к рабочим, резко вскрикнув:
– Васька, паразит, будь ты неладен, разгрохаешь посуду, а мне отвечай!
Прижавшись спиной к стене, чтобы не помешать грузчикам, Таня сбежала на первый этаж. Загораживая обзор с площади, у входа стоял грузовик. От такой немыслимой удачи у Тани словно выросли крылья. Несколько шагов в сторону, и она ловко пристроилась к стайке девушек, бурлящей взрывами смеха.
Под их прикрытием Таня прошла в узкий переулок за Мариинским дворцом, а потом стремглав побежала вперед, не чувствуя земли под ногами.
На улице было очень тихо и безветренно. Над крышами домов качался диск луны, стертым краем задевая за печные трубы. Навстречу шли редкие прохожие. На ступеньках пивной в обнимку сидели двое мужчин в рабочей одежде. Старушка в шляпке вела на поводке маленькую собачку.
«Юра, Юра, Юра», – отзывалась мостовая на ее легкий бег. Остановившись перевести дыхание, Таня поправила растрепавшиеся волосы и нащупала в кармане ключ.
Танины письма Юрий читал всю ночь. Семь писем – по одному письму в год. Юрий разложил конверты веером на столе, гадая о том, придет ли Таня еще раз. Он не сомневался в том, что письма оставлены именно ею.
Весь день на работе он нервничал, поглядывая то и дело на часы, а когда окончился рабочий день, бегом рванул на трамвай, чувствуя, как сердце молотом стучит в ребра.
Он так торопился, что не успел купить чего-нибудь съестного, довольствуясь засохшим куском хлеба с кислым яблочным повидлом. Повидло, похожее на тавот, продавали в лавке на углу, заворачивая в грубую, серую бумагу. Страна жила скудно и голодно. Изобилие наблюдалось только в Торгсинах – специальных магазинах, торговавших за валюту или драгоценности. Соседка с верхнего этажа, бывшая купчиха Бочкарева, на днях посетовала, что сдала в Торгсин последние серебряные чайные ложки и золотое обручальное кольцо.
На роль золота у Юрия годилась разве что связка медных ключей, и то если ее начистить зубным порошком.
Но в следующие сутки Таня не пришла. Юрий перечитал письма еще несколько раз, забывшись под утро коротким сном. Несладко Горностаевым пришлось в эмиграции, но там над ними хотя бы не витал ужас ареста и страшной, бессмысленной смерти, когда свои убивают своих.
Ему снилась кудрявая девочка, бредущая по кромке моря с серыми волнами. Если бы он мог остаться дома и ждать ее, как в детстве! Выбегать из подворотни, чтобы высмотреть за поворотом знакомые фигуры женщины с девочкой, переспрашивать у папы, который час и собиралась ли заглянуть к ним Фелицата Андреевна с Танюшей, слоняться по двору, делая вид, что его интересует только игра с друзьями, а не кареглазая вертушка с косичками.
Сейчас был второй день пятидневки, и до выходного оставалось еще три дня. За год, прошедший со времени нововведения – пять дней рабочих, шестой выходной, – время спрессовалось в единый монолит, вытеснив из оборота нормальную неделю.
На работу Юрий пошел с тяжелым сердцем, а вернувшись в пустую квартиру, пережил оглушительное разочарование, потому что никаких следов Тани не обнаружил, лишь посредине стола сиротливо белела оставленная для нее записка.
Забивая тоску, Юрий нагрел чаю и стал пролистывать томик Гюго на французском языке, чтобы хоть немного почувствовать дух Франции, откуда прибыла пачка писем. Он сам не заметил, как увлекся описанием Парижа. Со страниц книги город представал мрачным, грязным, но величественным. Наверное, иностранцам таким кажется сейчас бывший имперский Петербург, скрытый под скорлупой областного Ленинграда.
Бывший! Это горькое слово ходило по пятам как опасный преступник, который помышляет об убийстве. «Бывшие люди», или «лишенцы», из дворянского и духовного сословия были лишены права голоса, пенсии, продовольственных карточек. Их детей не принимали на учебу и отказывали в работе.
Покончив со страданиями Квазимодо, Юрий отложил книгу и посмотрел сквозь окно. По черному полотну неба чередой плыли серые тучи, чуть подсвеченные изнутри лунным светом.
Он подумал, что небо у человека не может отнять никакая власть. Оно, как и любовь, неподвластно земному притяжению, оно вне времени и вне пространства.
Стрелка часов подползала к часу ночи. Обострившийся слух поймал звук легких шагов на лестнице, звучавших в тишине особенно четко. И вдруг, как чудо, поворот ключа в замке и стройный силуэт, заслонивший дверной проем.
– Таня!
– Юра!
Одновременно с хлопком закрывшейся двери, они кинулись друг к другу, говоря что-то неразборчивое и нежное, как журчанье летнего ливня под крышей старого дома.
Танины ноги оторвались от пола, а в щеку кольнули колючие щетинки.
– Танюшка, милая!
– Юра! Это ты! Я знала, что сегодня обязательно увижу тебя! Я утром помолилась о встрече. Правда, правда.
Обняв его за шею, Таня боялась, что если разомкнет руки, то Юра исчезнет и она окажется в пустой комнате, с непрочитанной стопкой писем на столе.
– Таня, дай посмотреть на тебя! Как ты выросла! – слегка отстранившись, Юрий нетерпеливо взглянул ей в лицо глубокими серыми глазами, почти черными в тусклом свете лампы.
– Конечно, выросла! – Таня засмеялась. – Ты тоже вырос. Если бы я увидела тебя на улице, то…
– Не узнала бы?
– Нет, – она оборвала его фразу и перешла на шепот, – узнала бы. Я тебя с закрытыми глазами узнаю.
Он засмеялся счастливым смехом:
– Танечка, скажи, откуда ты? Я, когда увидел письма, чуть с ума не сошел, все читал, читал, пока наизусть не выучил. Теперь знаю, как вы жили, что ты чувствовала. Знаю даже, что ты теперь ювелир. Я так боялся, что ты больше не появишься, а я не смогу тебя разыскать.
– Но я появилась.
Она, наконец, смогла оторваться от Юрия и несколько раз прошлась по комнате. Увидела свои письма, раскинутые веером под лампой, погладила пальцами спинку венского стула – как-то раз, забравшись на него с ногами, она декламировала Никольским стихи Пушкина, – остановилась перед фотографией отца Игнатия.
– Юра, а где отец Игнатий? – уже договаривая, Таня замерла от внезапного предчувствия страшного ответа. Проскользнувший по шее холодок ознобил тело. Обхватив плечи руками, она смотрела, как деревенеет улыбка на Юриных губах.
Он сел на диван и посадил ее рядом с собой.
– Танечка, папа погиб пять лет назад. Расстрелян.
Чтобы не закричать, Таня прижала ко рту задрожавшие пальцы. Ей не хватало воздуха, и перед глазами поплыла чернота.
Смерть отца Игнатия казалась немыслимой, непостижимой.
– Юра, за что? Почему? Он самый добрый… Самый лучший…
Таня понимала, что знает ответ, лепеча глупости, и что ее слова причиняют Юре боль, но ничего не могла с собой сделать. Страшная новость вдребезги разнесла радость от встречи и застряла в горле острым осколком.
Разглядев сквозь пелену слез, что Юра протягивает ей стакан воды, она жадно сделала несколько больших глотков. Смотрящие на нее глаза были полны сострадания. Это добило ее окончательно. Таня кинулась Юре на грудь и зарыдала.
– Танечка, милая, – легким касанием он гладил ее вздрагивающие плечи, – ну, перестань. Слезами горю не поможешь. Надо жить. Жить и помнить.
Его ласка баюкала, успокаивала, и Танины рыдания понемногу затихли. Рядом с Юрой ей стало хорошо и спокойно, словно она, как дерево, врастала в него всеми клеточками души и тела так, что оторвать невозможно.
– Юра, – она подняла на него залитое слезами лицо, и он нежно поцеловал ее в мокрые глаза. – Расскажи, как погиб отец Игнатий. Мне надо знать. И маме тоже. Я выдержу. Обещаю.
– Я понимаю, – голос Юры звучал глуховато, но ровно. – Папу арестовали как раз накануне его пятидесятилетия. Была мартовская ночь. На крыше истошно кричали коты, не давая уснуть. Потом по мостовой прогремела повозка. Я услышал, как папа встал, подлил масла в лампадку и стал тихонько молиться. Под монотонное бормотание я задремал, но тут загрохотали кулаки в дверь. «Отец Игнатий, откройте», – закричал дворник Ахмет. Я вскочил и открыл дверь. Ахмет был очень испуган, а позади него стояли два красноармейца с винтовками и один офицер в кожанке и с пистолетом. «Вот ордер на арест и обыск», – сказал офицер. Ахмет вскрикнул и схватился за живот. Его так сильно трясло, что папа подошел, чтобы утешить. Ахмет схватил его за руку и хотел что-то сказать. «Не сметь общаться с арестованным», – приказал офицер, а красноармейцы так и стояли истуканами.
Чекист начал обыск с большим рвением. Зачем-то распорол ножом подушку, разорвал две книги, даже заглянул в чайник. Но брать у нас было решительно нечего.
– Понимаю, – кивнула Таня, – у нас тоже, кроме моих кукол, было пусто.
Она поднялась с дивана и встала напротив фотографической карточки отца Игнатия, воссоздавая в уме Юрин рассказ. С карточки отец Игнатий смотрел на нее беспечно и весело. Знал ли он, что его ждет?
– Потом папу увели, – сказал Юра, – и сколько я ни ходил в тюрьму, свидания не разрешали. Правда, передачи брали, и это давало надежду на справедливый суд. Хотя о какой справедливости может идти речь, если людей преследуют за одну лишь сословную принадлежность или веру в Бога?
Он поднялся и встал рядом с Таней, возвышаясь над ней на полголовы.
– Я повесил фотографию пятнадцатого апреля, в тот день, когда папы не стало. Утром я, как обычно, принес передачу, а мне сказали, что Игнатий Никольский приговорен к высшей мере социальной защиты и приговор приведен в исполнение.
Не глядя, Таня нашла руку Юры и крепко стиснула пальцы:
– Даю тебе слово, что пятнадцатого апреля мы с мамой всегда будем поминать отца Игнатия, где бы мы ни были.
Она резко развернулась лицом к Юрию:
– Юра, у нас с тобой есть всего несколько часов, чтобы рассказать друг другу многое, и, может быть, мы больше никогда не увидимся.
Таня попыталась улыбнуться, но губы не слушались.
Лампочка два раза мигнула и погасла. В замкнутом пространстве тесной комнаты слышалось только дыхание Юры, сливавшееся с ее дыханием.
«Мы навсегда будем вместе, – подумала Таня, – даже если он будет далеко от меня. Кроме того, я храню ключ от квартиры».
Они спохватились только под утро, когда лучи зари за окном упали на портрет отца Игнатия.
Похолодев, Таня кинулась к двери. Она едва не плакала:
– Юра, мне давно пора быть в отеле!
Она заметалась в поисках скинутых с ног туфель. Встав на колени, Юра лихорадочно шарил руками под диваном.
– Вот одна!
Вторая отыскалась у двери. Туфли надевались уже на ходу. Звякали ключи в кармане. Торопясь, Юра даже не запер замок. Взявшись за руки, они бежали, не замечая прохожих. Юра вел ее прямым путем, пересекая проходные дворы, о которых Таня даже не подозревала. За спиной крыльями хлопали двери сквозных подъездов, а впереди в лазоревых лучах парил купол Исаакиевского собора.
– Я не уйду, пока не увижу тебя в окне, – с отчаянием в голосе сказал Юра. – Я встану возле памятника и буду следить за окнами.
Как Таня и боялась, черный ход оказался закрытым. Переждав, чтобы восстановилось дыхание, она стянула узлом взлохмаченные волосы:
– Пойду через холл. Уходи.
– Ты первая, – сказал Юра.
– Нет, ты! Ты старше, – она нашла в себе силы пошутить и двинулась к центральному входу. Тоненькая, стройная, с решительным выражением лица.
Глядя на нее, Юрий подумал, что сейчас провалится сквозь землю от любви, нежности и тревоги.
За время Таниного отсутствия в вестибюле гостиницы «Англетер» появился плакат с толстенным попом, который крестом бьет по голове босоногого мальчонку. Лицо мальчонки выражало ужас, а зверский оскал попа был нарисован с особым тщанием.
– Что, гражданочка иностранка, выбросим опиум для народа на свалку истории? – спросил ее один из рабочих с молотком в руках.
Вспомнив об отце Игнатии, Таню передернуло от его вопроса, и она сделала вид, что не понимает. Кроме новоявленного плаката ничего не изменилось: за стойкой дремал дежурный, а близ колонны сидел незаметный человечек в сером костюме, с лицом, изжеванным бессонной ночью. При виде Тани человечек опустил газету и его глаза стали круглыми от удивления. Видимо, собираясь что-то спросить, он открыл рот, но его опередил портье. Встрепенувшись, подобно рыбе на крючке рыболова, портье вцепился руками в стойку:
– Мадемуазель Горностаева, вы откуда?
Его недоуменный взгляд перескакивал с Тани на дверь, на человечка в кресле и обратно.
В ответ она мило улыбнулась:
– Как? Я полчаса назад на ваших глазах вышла полюбоваться утренним Ленинградом. Вы, наверное, спали, раз не видели. Вот и гражданин подтвердит, – Таня смело указала на человечка в сером, с удовольствием отметив, что тот явно растерялся.
Уголки рта портье вымученно поползли вверх.
– Да, да, конечно. Я не спал, я видел вас. Просто позабыл, много дел.
Положив руку на трубку телефонного аппарата, он то поднимал ее, то опускал на место, видимо, не зная, что предпринять.
Победоносно вскинув голову, Таня прошествовала через вестибюль с видом королевы, милующей подданных, но, оказавшись вне зоны видимости, заметила, что нервно сжимает ключ в кулаке.
До встречи с месье Тюраном оставалось ровно пятнадцать минут. Подбежав к окну в своем номере, она рывком одернула штору, чтоб Юра смог ее увидеть. Тот стоял посреди площади у постамента памятника Николаю Первому работы Огюста Монферрана. Цоколь красного гранита вздымал над площадью конный монумент императора, озиравшего город с бронзовой невозмутимостью. Здесь они когда-то гуляли с мамой, и мама восхищенно рассказывала, что памятник самодержцу является техническим чудом, потому что конь имеет только две точки опоры.
Рядом с памятником Юра казался совсем крошечным. Прежде чем уйти на работу, Таня трижды перекрестила его на счастье. Она была твердо уверена, что сегодня ночью снова сумеет сбежать из-под стражи, тем более что дорожка уже проторена.
– Таня, вы очень бледны, – заметила ей мадам Тюран. Она спустилась к завтраку в красном платье и с ярко-красной помадой на губах. На шее сверкала нитка Таниных бус из черного гагата с серебристым стеклярусом.
Месье Тюран неуклюже пошутил:
– Не удивительно, ведь здешние официанты очень красивы.
Кивком головы он указал на молодого человека, разливавшего кофе у стойки буфета.
– Меня не интересуют здешние официанты, – сухо сказала Таня.
Мадам Тюран подхватила:
– И правильно, милочка, к чему связывать себя с русскими, если можно подыскать приличного молодого человека во Франции?
– Вы забываете, что я тоже русская. И когда-то французы считали за честь послужить русскому царю. Лично у меня была гувернантка-француженка.
– Гувернантка? У вас? – накрашенный рот мадам Тюран сложился в букву «о». – Вы же сообщили, что ваш отец повар!
– Он был поваром в очень богатом доме, – нашлась Таня. – И лучше всех в Петербурге умел выпекать птифуры.
– Ой ля-ля, – потрясенная мадам надолго замолчала, переваривая информацию, и Таня испугалась, что ее могут попросить поделиться рецептом птифура, о котором она имела весьма смутное представление.
Этот день Таня провела как в тумане. Они с месье Тюраном ездили на верфи и долго шли по заводской территории вдоль остовов кораблей, китовыми тушами вытащенных на берег. Она что-то механически переводила, потом перекусывала в полутемной столовой. Запомнилась пожилая буфетчица, которая с яростью истребляла мух свернутой газетой. Перед глазами мелькали люди, машины, катера. Витали разговоры, плыл табачный дым. Время до встречи с Юрой тянулось корабельным канатом.
Но когда, наконец, наступил вечер и Тюраны ушли спать, Таня обнаружила, что черный ход крепко заперт, а в вестибюле дежурят целых три соглядатая. Причем один из них с унылым видом курсирует по улице, инспектируя вход и выход.
Юры у памятника не было, чтобы хоть издали махнуть ему рукой.
Сидеть дома, поджидая Таню, оказалось слишком невыносимо. Радость, бурлившая в жилах, требовала движения, а еще лучше – полета. Глянув в зеркало, Юрий пригладил волосы, нашел их слишком прилизанными и снова разлохматил, хотя короткая стрижка оставляла мало возможности для маневра. Чтобы скоротать время, попытался читать, но буквы отказывались складываться в слоги. Несмотря на то что рабочий день был изнурительным, есть, пить и спать не хотелось. Наверное, мысли о Тане могут избавить его от сна навсегда.
Она сказала, что сможет прийти только после полуночи и запретила встречать, чтобы не разминуться. Но, в конце концов, у нее есть ключ от его дома. Вечер застал Юрия на набережной Мойки.
Как бы невзначай проходя мимо «Англетера», он обратил внимание на трех мужчин в одинаковых серых костюмах не первой свежести. Один из них маячил у входа. Заложив руки за спину, тот делал вид, что любуется панорамой улиц с центром у Мариинского дворца. И хотя выражение лица мужчины хранило равнодушие, глаза цепко ощупывали каждого пешехода на Исаакиевской площади.
Двое других агентов сидели лицом к лестнице. Их напряженные плечи, подбитые ватой пиджака, выдавали шпиков, не имеющих отношения к постояльцам отеля.
«В царской охранке соглядатаев называли топтунами», – вспомнил Юрий.
Немного постояв у табачного ларька на Малой Морской, он вернулся тем же маршрутом, проверяя первое впечатление. Серая троица была на месте, и каким-то шестым чувством Юрий угадал, что они караулят Таню. Он не мог отделаться от нарастающего чувства тревоги и снова прошелся вдоль гостиницы, благо подступающий вечер скрадывал черты лица и делал людей похожими друг на друга.
Порывом ветра с Невы трепало листву деревьев. Тени от колонн Исаакиевского собора длинными языками лизали каменные ступени, сбегавшие к мостовой. От каменных фигур двенадцати апостолов на фронтонах веяло торжеством над вечностью.
Еще раз попасть на глаза гэпэушникам Юрий не рискнул, а обошел здание с другой стороны и вошел во внутренний дворик. Справа у глухой стены стояли мусорные баки, обсиженные кошками, а слева тянулась поленница дров высотой метра на два. Несколько бревен около козел ждали распилки. Из приоткрытой двери кухни ресторана густо пахло жареным мясом и луком.
Спрятавшись за поленницу с дровами, Юрий сунул руку в карман с месячным жалованием. Он взял с собой деньги, не задумываясь зачем, просто так, на всякий случай.
Звон посуды из открытого окна прерывал гомон разговоров и крики официантов. В любую секунду его мог кто-нибудь заметить и вызвать милицию. Юрий задел плечом сучок на большом полене и медленно отступил за прислоненные бревна.
Если вдруг во двор войдет милиционер, это будет означать неизбежный арест до выяснения обстоятельств и возможный расстрел как шпиона. Но он был готов заплатить цену жизни, чтобы предостеречь Таню от опасности. Только бы Господь послал на пути доброго человека. Только бы послал.
Сначала Юрий услышал звон ведра и тяжелое шлепанье ног, а потом увидел женщину, которая несла к помойке ведро с очистками. Она была очень полной и похожей на снежную бабу, для потехи обряженную в синюю юбку и коричневую кофту навыпуск. Из-под косынки на широкий нос падала прядь седых волос.
Медлить было нельзя, и Юрий отделился от поленницы, перегородив женщине дорогу. Она шарахнулась от неожиданности и крепко выругалась:
– А ну, марш отсюда, чего здесь шляешься? Сейчас позову охрану.
Ее маленькие глазки недобро нахмурились.
– Пожалуйста, выслушайте меня и помогите. Я вам хорошо заплачу.
– Ишь ты, богач какой нашелся, – она быстро глянула по сторонам, – небось, хочешь, чтобы я тебе шмат мяса под подолом вынесла? Много вас здесь таких отирается. Так и знай, ничего тебе не отколется, я своим местом дорожу, а то пнут, как собачонку, а мне детей подымать. Убирайся восвояси, пока я добрая.
Он ухватился за последнее слово.
– Если вы добрая, то помогите. А мяса мне не надо. Мне ничего от вас не надо, кроме подсказки. Вот, возьмите, – он сунул ей в руку скатку денег, – здесь сто двадцать рублей.
– Григорьевна, ты с кем там балакаешь? – резанул из окна веселый оклик. – Нешто кавалера завела?
– Сосед это. Ключи мне принес, – отмахнулась женщина, и то, что она не прогнала и не выдала, показалось Юрию хорошим знаком.
Он понизил голос до шепота:
– Понимаете, у меня в гостинице девушка.
– Горничная, что ль?
– Нет, постоялица. И мне очень надо передать ей пару слов на прощание. Очень. А родные не выпускают ее из номера, – он не мог сказать правду и лихорадочно думал, что бы еще завернуть этакое, чтобы Григорьевну проняло до печенок. – Я влюбился в нее с первого взгляда еще в школе, а ее увезли из города. И если я сейчас не смогу с ней проститься, то хоть в петлю лезь…
Он безнадежно махнул рукой, потому что последние слова выскочили у него с искренним отчаянием.
Женщина глубоко вздохнула и в раздумьях пожевала губами. Юрий замер – или она сейчас согласится передать Тане предостережение, или он пойдет на середину площади и станет орать на всю ивановскую, пока его на Таниных глазах не уведет милиция. Танечка умница, она поймет, что к чему.
Видимо, приняв решение, Григорьевна прищурилась:
– Ты в Бога веруешь?
– Верую!
– Целуй крест, что ты не ворюга, а идешь к зазнобе. И еще поклянись, что и на дыбе про меня не проговоришься.
Рука Юры скользнула за ворот:
– Богом клянусь!
– Тогда слушай. Мне по этажам ни к чему бегать. Чай не девочка. Тебе надо – ты и иди. Я сейчас вернусь обратно в кухню, а ты за мной мышкой шмыгай. И сразу направо. Там кладовка. Надень робу, возьми ящик с инструментом, вроде как рабочий. И иди куда надо. Спросят – скажешь, что подмастерье Ваньки Лукьянова, идешь кран чинить.
Задохнувшись от нежданной удачи, Юрий не удержался чмокнуть Григорьевну в щеку, оказавшуюся тугой и гладкой, как яблоко.
– Фу ты, бешеный, – увернувшись, она по-деревенски закрылась рукавом и смущенно хихикнула, – пошли, что ль, жених.
…Когда раздался стук в дверь, Таня сидела у окна и держала в руках кружку с остывшим чаем, но не пила, понимая, что не сможет сделать ни глотка. Кружка была тонкого фарфора с надписью золотом «Англетер». Время от времени ставила ее на подоконник, но тотчас снова брала, не смея отвести взгляд от площади. Она была уверена, что стоит отвернуться, и Юра незамеченный пройдет мимо. А в том, что он обязательно будет ее ждать, Таня не сомневалась.
И зачем только она поехала в Россию? Чтобы найти Юру и так же сокрушительно его потерять?
Стук в дверь отозвался в голове противным металлическим звоном. С усилием оторвавшись от окна, Таня сделала несколько шагов до двери, чувствуя себя столетней старухой.
– Месье Тюран? Мадам?
Ответа не было, и она просто распахнула дверь, собираясь высказать семейке Тюранов все, что о них думает.
– Юра?!
Потрясение оказалось таким сильным, что пол под ногами дал крен в сторону.
Одной рукой Юра захлопнул дверь, а другой крепко обхватил Таню за талию, чтобы она не упала.
– Танечка, милая, я должен тебя предупредить…
– Предупреди, – она, не отрываясь, смотрела ему в лицо глазами, в которых плавились золотые искорки. – Юра, почему ты меня не поцелуешь?
– Танечка, я не смею.
– Ты понимаешь, что, возможно, мы с тобой видимся последний раз в жизни?
Танино лицо стало бледным, с горящими на щеках пятнами лихорадочного румянца. Она первая прильнула губами к его губам, переступая черту пространства и времени. В их распоряжении была только одна ночь, а на следующий день месье Тюран подписал контракт с заводом и они спешно выехали из гостиницы, чтобы успеть на трехчасовой поезд.
Всю дорогу до Парижа Таня просидела у окна, перебирая в уме каждую секунду встречи с Юрой. Она чувствовала себя разрубленной напополам, больной и несчастной. От невозможности соединить их жизни хотелось открыть окно и побежать назад с надеждой, что телесная боль пересилит душевную. Глядя на свои руки, она думала, что совсем недавно их касались Юрины пальцы, а по губам скользили его губы.
Перед тем как расстаться, она встала перед ним на колени. Юра сидел в кресле и смотрел на нее полными любви и слез глазами.
– Юра, умоляю, ты должен выехать из России. Мы что-нибудь придумаем, будем искать выход. А здесь ты погибнешь. Мы должны быть вместе.
Он опустился на пол рядом с ней и легонько привлек ее к себе:
– Мы оба знаем, что это невозможно.
– Но почему? – Таня сплела его пальцы со своими пальцами. – Мы же с мамой убежали. Знаешь, когда меня на судне прятали в железном ящике с углем, то я держала в руке твой ключ, чтобы избавиться от страха.
– Пусть ключ будет у тебя, чтобы ты смогла вернуться, – повторил он фразу, сказанную семь лет назад при расставании. Она прозвучала как ответ на просьбу о бегстве, и Таня заплакала горько и безнадежно.
Когда Юра уходил, она стояла, прижав руки к горлу, словно пытаясь задавить рвущийся наружу крик простой русской бабы, провожающий на смерть своего ладушку.
Париж, 1931 год
Первые цветы появлялись в Париже в начале марта, едва земля начинала прогреваться после зимней мозглости. Первыми пробивали себе дорогу нежные крокусы с лепестками, похожими на костяной фарфор, за ними на клумбах зацветали примулы, нарциссы и фрезии, а к середине апреля город уже тонул в цветочном половодье. Казалось, что парижанки пережили зиму исключительно ради того, чтобы весной купить себе скромный букетик фиалок или высадить в цветочный горшок композицию из анютиных глазок.
– Мадам, купите цветы, – приставали к прохожим девочки-разносчицы.
Продавцы постарше пытались взять лестью:
– Мадам, без этого тюльпана ваше платье не будет совершенно.
Стряхивая с себя зимнее оцепенение, Париж бурлил и благоухал.
Пятнадцатого апреля, когда на площади Пигаль зацвели каштаны, Таня родила здоровую девочку весом в три килограмма.
Было раннее утро, и лучи солнца просачивались сквозь ставни на желтое больничное покрывало, медленно подползая к ребенку, которого только что принесла акушерка.
– Чудесный ребенок, мадам! Ваш муж будет очень счастлив!
У Вареньки были Юрины серые глаза и темный пушок на головенке, который густотой обещал превратиться в Танины кудри.
Услышав детский крик и возглас: «Девочка!», Фелицата Андреевна, всю ночь просидевшая около палаты, встала и перекрестилась:
– Господи Милосердный, слава Тебе!
Из кармана выпала книжица, в которую она вчера записала по памяти слова старца Варсонофия Оптинского: «Вся жизнь есть дивная тайна, известная только одному Богу. Нет в жизни случайных сцеплений обстоятельств – все промыслительно. Мы не понимаем значения того или другого обстоятельства. Перед нами – множество шкатулок, а ключей нет… Замечайте события вашей жизни. Во всем есть глубокий смысл. Сейчас вам непонятны они, а впоследствии многое откроется…»
Один ключ уже пригодился, чтобы Танюша смогла открыть квартиру Никольских. То, что у них с отцом Игнатием общая внучка, и то, что Варенька родилась в день памяти отца Игнатия, наполняло Фелицату Андреевну священным трепетом высшей воли. Девочка, внучка отца Игнатия, должна обязательно вырасти замечательным человеком, иначе и быть не может!
– Мадам, вы можете пройти, – разрешила акушерка с плоским лицом, выражавшим крайнюю степень собственной значимости.
– Мерси!
У Фелицаты Андреевны отяжелели ноги, словно она собиралась прикоснуться к величайшему из чудес мира.
Усталая Танюша полусидела в кровати, прижимая к себе белоснежный сверток. На безымянном пальце блестело тонкое обручальное кольцо. Таня купила его сразу по приезде из России и больше не снимала.
– Мама, Варя похожа на Юру.
Впервые за девять месяцев Фелицата Андреевна заметила, что Танины глаза ожили. Она так отчаянно тосковала о Юре, что одно время Фелицата Андреевна опасалась за ее здоровье. И если бы Танюша не почувствовала в себе зарождение новой жизни – Бог знает, чем бы закончилась ее разлука с любимым.
Фелицата Андреевна умирала от желания взять внучку на руки и прижать к груди, ощутив непередаваемо теплый запах ребенка, от которого хочется сладко плакать.
– Варя, Варенька, солнышко наше!
С именем определились давно – Варварой звали Юрину маму. Мальчика назвали бы Игнатом. Заглянув в красное личико новорожденной с круглыми щечками, Фелицата Андреевна погладила Таню по голове, влажной от пота, и присела на краешек кровати.
– Вот я и стала бабушкой.
Таня улыбнулась сухими губами, искусанными до крови:
– Мамочка, ты самая красивая бабушка на свете.
Она осторожно покачала на руках дочку:
– Мама, необходимо сообщить Юре. Я не знаю как, но необходимо.
Фелицата Андреевна ждала и боялась этого вопроса:
– Танечка, а стоит ли? Подумай сама. Юра – человек чести. Узнав, что стал отцом, он будет рваться к вам, рисковать, совершать отчаянные поступки, которые могут стоить ему жизни. Давай подождем, Господь все устроит. Посмотри – сегодня день поминовения отца Игнатия. И для Юры, и для нас – это особенная дата, и в этот день мы всегда мысленно будем вместе, даже ничего не зная друг о друге. Варенька появилась нам как утешение и надежда в память отца Игнатия. Верь, он не оставит ее без помощи.
– Я тоже про это подумала, – медленно сказала Таня. Она посмотрела на Фелицату Андреевну, а потом перевела глаза на спящую дочь. – Ведь по срокам Варя должна была родиться больше недели назад.
Таня выглядела совсем обессилевшей, и Фелицата Андреевна протянула руки:
– Давай мне Вареньку, а сама поспи, у тебя глаза закрываются.
Извечным женским движением она уложила ребенка на сгиб локтя с ощущением глубокого покоя, словно в вышине над ними парили Ангелы.
– Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных ради молитв Пречистой Матери Твоей.
Она ходила вдоль коридора и качала внучку, бесконечно повторяя слова молитвы. В этот момент она на грани реальности видела, как неподалеку стоит отец Игнатий, одной рукой придерживая от ветра истрепанную рясу.
Ленинград, 1931 год
В ночь на пятнадцатое апреля в Ленинграде зазвенела первая капель. Срываясь с сосулек, капли дробно звякали по жестяному подоконнику, будоража кровь предчувствием весны.
Юрий нашел глазами квадрат окна. Летом сквозь стекло смотрели глаза Тани. Она была здесь в июле, девять месяцев назад. Девять месяцев! Он почувствовал толчок в сердце.
Как это много – целая вечность. За девять месяцев может родиться новый человек. Вот если бы у них с Таней был сын. Нет, лучше дочка. Смешная пухленькая малышка с Таниными волосами цвета темного шоколада. Она могла бы родиться как раз сегодня, в день папиной памяти. И назвали бы мы ее Варей, в честь мамы, потому что Фелицата Андреевна, слава Богу, жива и здорова.
Взглянув на циферблат часов, он обнаружил, что сейчас три часа ночи. Лежать в кровати, ворочаясь с боку на бок, казалось невыносимым. Юрий встал, выпил стакан остывшей воды из чайника, натянул брюки и взял в руки рубашку. Палец прошелся по ниткам от оторванной пуговицы. Каждое утро он напоминал себе, что пуговицу надо пришить, но к вечеру забывал. Рубах у него было всего две – рабочая и выходная. Хотелось выбраться из тесноты комнатенки, и он вышел на улицу.
В печных трубах выл ветер, раздувая молочные облака по мутному небу. Он поднял воротник куртки, но в шею все равно дуло. Еще не оттаявший от зимы тротуар лопался под ногами хрустящими льдинками. Громады домов слепо смотрели темными окнами. По фасаду Максимилиановской лечебницы гулко хлопал огромный лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
Идя притихшими улицами, Юрий думал, что в такую же прозрачную, звонкую ночь расстреляли папу – молодого, красивого, умного и доброго. Его руки с сильными и нежными пальцами всегда тонко и сладко пахли ладаном. Когда папа давал благословение на день, его лицо становилось светлым и торжественным. Такое резкое преображение личного папы в общего батюшку неизменно приводило Юрия в трепет.
Казнь отца Игнатия он представлял так живо, словно сам стоял под пулями красноармейцев.
Воображение рисовало видение квадратного двора, освещенного фарами полуторки и двух рядов людей, стоящих друг против друга – жертв и палачей. Слава Богу, что папа сподобился оказаться в ряду мучеников. Участь тех, кто пусть не по своей воле, но стал убийцей, заставляла Юрия содрогаться. Он сострадал им, как сострадал бы пораженным ужасной болезнью, чья зараза будет поколениями передаваться от рода к роду.
«Где, на каком этапе жизни должно что-то сломаться в человеке, чтобы он пошел убивать своих? Действия грабителя иногда можно объяснить – грабители одержимы бесом наживы и убивают из самосохранения. А зачем убивать беззащитных людей, с которых нечего взять? Причем убивать десятками, сотнями, тысячами: стариков, женщин, почти детей? Как надо каяться, как умолять Господа о прощении, – думал он, – чтобы искупить страшную вину душегубства и не оставить этот грех своим детям и внукам?!»
Правы утверждающие, что Господь всегда оставляет свидетелей. Через пару лет после гибели папы Юрию довелось побывать на ремонтной тракторной станции в пригородном хозяйстве. Весь день он занимался наладкой двигателя, а на ночлег его определили в избу к свинарке тетке Матрене.
– Прошу любить и жаловать – мастер по тракторам Юрий Игнатьевич Никольский, – представил бригадир.
От Юрия не ускользнуло, что тетка Матрена нервно обтерла рот уголком платка и как-то по-особому поспешно пригласила его в избу, словно боялась, что он откажется.
Все время поглядывая на гостя, тетка Матрена выставила из печи чугун вареной картошки и сковородку с жареными карасями. Юрий заметил, как дрожат ее руки с трещинками от тяжелой работы. Тетка Матрена то порывалась выскочить в сени и принести пареной клюквы, то бежала без надобности шерудить кочергой давно потухшие угли в печке. Наконец, видимо, немного успокоившись, она села на табурет, и ее круглый подбородок дрогнул:
– Юрий Игнатьевич, вы меня помните?
Испуганно глядя на него, она с видимым напряжением ждала ответа.
Юрий покачал головой:
– Извините, не припоминаю. А где мы с вами встречались?
– В церкви. Вы ведь сын отца Игнатия?
– Да.
– Ну вот, а я один год помогала просвирне в церкви. Вы тогда были вот такусенький, – она показала: вровень со столешницей. – У меня муж умер в одночасье, а отец Игнатий приютил.
Матрена схватила клубок грубой пряжи и принялась его яростно перематывать.
Юрий ждал, что будет дальше. Сделав несколько витков, Матрена отложила клубок и подняла голову вверх. Глаза ее смотрели отчаянно.
– В общем, – Матренин голос перешел в сипение, словно ее душили, – я видела, как расстреляли вашего батюшку. Своими собственными глазами смотрела, – указательным пальцем она ткнула в направлении глаза и зажмурилась.
– Расскажите, – Юрий не узнал своего голоса.
Матрена всхлипнула:
– Да что рассказывать – горе одно. Сколь времени с тех пор прошло, а я ни спать, ни есть не могу, такой грех на душе лежит. Верите, Юрий Игнатьевич, даже руки на себя наложить хотела. Да ваш батюшка не разрешил. Приснилось мне, что он предо мной стоит в кровавой рясе и головой качает: не дури, мол, Матрена. Я его ослушаться не посмела.
Судорожно вздохнув, Матрена отпила большой глоток чая, выплескав на пол несколько капель:
– Дело было так. В ту пору, как отца Игнатия арестовали, я в тюрьме работала. Навроде истопницей, а в самом деле на побегушках: поди сюда, сбегай туда. При советской власти все равно: что мужик, что баба. Вот однажды несу ведро с водой в женскую камеру пол замыть, смотрю, а в дверь выводят отца Игнатия. Я сразу поняла, что на расстрел, потому что у нас всегда по ночам приговоры в исполнение приводили. Вместе с отцом Игнатием еще нескольких мужчин вели и двух женщин из шестой камеры. Он тоже меня узнал и ласково так улыбнулся, вроде бы ободрил. Я от неожиданности ведром об стену как звякну, а командир взвода охраны меня возьми да и спроси: «Знакомый, что ли?» А я сказала: «Нет». Отреклась, значит, как Иуда. А ведь если бы «да» сказала, мне бы ничего не было, а отцу Игнатию хоть толика радости перед смертью.
Побагровев лицом, Матрена вскинула на стол сплетенные руки, уткнулась в них головой и завыла по-кладбищенски безнадежно.
Тогда он нашел в себе силы сказать то, что наверняка сказал бы Матрене папа:
– Бог простит, и я прощаю!
Вспоминая о рассказе Матрены, Юрий убыстрял и убыстрял шаг, пока не заметил, что дошел до гостиницы «Англетер». Отбрасывая круги света, около входа горели два фонаря, и сияли огнями окна ресторана. Отступив к памятнику Николаю Первому, Юрий взглянул на погруженные в темноту верхние этажи.
Здесь на один краткий миг они вместе с Таней были счастливы и растерянны. С тех пор прошло девять месяцев. Проскользнувший по спине холодок снова оставил в душе тень сомнения. Папа говорил, что ничего в жизни не бывает бессмысленно. И если сегодня на ум постоянно приходит эта цифра, то…
Ему внезапно стало жарко и радостно, словно бы откуда-то сверху прозвучал далекий голос Тани:
– В тот день мы всегда будем вместе, чтобы ни случилось.
Париж, 1939 год
– Нет, нет, и еще раз – нет! – яростно размахивая огромным ножом, провозгласил хозяин мясной лавки месье Мишо. Тесак в его руках угрожающе блеснул. – Франция никогда не будет оккупирована Гитлером! Боши не посмеют сунуться через линию Мажино. Во французском сердце есть отвага, Париж не сдастся.
«Париж сдавался всегда, во все войны, вместе с музыкой и шлюхами, – подумала Таня. – Это тебе не Россия, привыкшая сражаться до последней капли крови».
С того момента, как Франция объявила войну Германии, Танина жизнь стала отмерять часы от сводки новостей до сводки новостей. Ни у нее, ни у Фелицаты Андреевны не было сомнений, что Франция и Польша – только начало и война скоро перевалит через границу России, именно там став самой кровавой и разрушительной.
Она посмотрела на Варю, в очередной раз поразившись, насколько дочка похожа на Юру. От папы Варе достался спокойный взгляд серых глаз, опушенных длинными ресницами, и милая улыбка, которая заливала лицо теплом светом. Таниными у Вари были только слегка вьющиеся волосы, сколотые бисерной заколкой с двумя красными бусинами посредине.
Смешно, но на заколку обращали внимание, а однажды в парке пожилая мадам то ли с восхищением, то ли с осуждением заметила:
– Надо же, у вашей девочки заколка от самой Тани Горн!
За прошедшие годы Таня упрочила свое положение ювелира и, хотя до титула законодательницы мод ей было далеко, заработок получался стабильный, «на хлеб с маслом» – как сформулировала Фелицата Андреевна. В прошлом году Таня сняла приличную квартиру в том же доме, но этажом ниже, и переманила маму к себе.
Когда подошла очередь к прилавку, месье Мишо с размаху шмякнул на весы кусок грудинки:
– Не бойтесь, мадам Таня, двери лавочки папаши Мишо всегда будут открыты для вас, вашей очаровательной маман и для мадемуазель Барбары.
Заворачивая мясо, он с истинно французской галантностью не забыл послать улыбку в сторону Вари.
– Виват, Франция! – тонким голосом выкрикнул парнишка в конце очереди.
Варя, уже сделавшая шаг к двери, наклонила голову и бегло скользнула по нему взглядом. Заметив ее внимание, парнишка свекольно покраснел. Его звали Марк, он жил на соседней улице и ходил с Варей в одну школу, классом младше. Однажды Варя видела, что к Марку подъехал сверкающий черный лимузин, за рулем которого сидел широкоплечий шофер в черной форме. Встретив Марка, шофер вышел из машины, распахнув заднюю дверь, словно Марк был не мальчиком из обычной школы, а наследным принцем. Самым удивительным оказалось то, что Марк нисколько не смутился, а с достоинством кивнул шоферу, как будто всю жизнь только и делал, что раскатывал на лимузинах. Одноклассница Мадлен шепнула, что дядя Марка богатый банкир, и когда Марк вырастет, то наверняка тоже станет банкиром.
Чтобы выбраться из тесной лавчонки месье Мишо, Варе с мамой пришлось протискиваться в дверь едва ли не боком. Обогнув пышнотелую мадам в шляпке, Варя оказалась нос к носу с Марком. Быстрым движением он спрятал за спину плетеную корзину с бутылкой молока:
– До свидания, Барбара!
Прежде Марк ни разу не обращался к Варе, и в иное время она бы не обратила на него внимания, но сейчас война, и мама с бабушкой говорят, что в трудную минуту люди должны держаться вместе.
Варя решила, что стоит ответить ему официально, как взрослому:
– До свидания, месье Марк!
Марк покраснел еще больше, пока его уши не превратились в маленькие пылающие костерки в окружении черных волос, остриженных чуть длиннее, чем полагалось в их школе.
Что такое война, Варя себе не представляла. Она не понимала, зачем мама все время слушает радио и почему ее пальцы, нанизывающие бусы, начинают дрожать.
«Странная какая-то война, – решила для себя Варя, проходя с мамой мимо кафе, забитых посетителями, – на войне воюют, а не пьют кофе и не покупают фиалки».
Парижане тоже называли свою войну «странной» или «сидячей». Судя по сводкам, войска Германии и Франции закрепились друг против друга на линиях Мажино и Зигфрида, не предпринимая боевых действий. И хотя в воздухе носились флюиды тревоги, французы продолжали веселиться и посещать кафе, а француженки по-прежнему тщательно следили за модой.
В день объявления войны с Германией владелица бутика мадам Нинон встретила Таню в черном платье, изящно украшенном красной брошью.
– Таня, ты слышала, мы объявили немцам войну? Какой ужас! Я решила, что для сегодняшнего случая отлично подойдет траур, немножко разбавленный цветом крови. Ведь война – это всегда потери, – мадам Нинон закатила глаза, – но мы все будем молиться, чтобы жертв оказалось совсем чуть-чуть. Вот столько.
Взяв со стола портновский метр, ногтем большого пальца она отмерила пару сантиметров.
– Это все равно человеческие жизни, – сказала Таня.
Нинон пафосно воздела руки к потолку:
– Неужели ты думаешь, что я этого не понимаю. Не забывай, мы народ, который сумел взять Бастилию! Мы встанем все, как один. Кстати, – Нинон лукаво сощурилась, – берусь угадать, что патриотичные ожерелья цвета французского флага будут пользоваться большим спросом. Я возьму их у тебя большую партию. Найми парочку помощниц.
– Если работу растиражировать, то она перестанет быть эксклюзивом, – возразила Таня.
– Пожалуй, ты права. Работницы фабрик в твоих ожерельях могут скомпрометировать респектабельных дам.
Нинон подошла к кофейнику и налила себе чашечку кофе:
– Но, вообще, я тебе так скажу: если есть возможность уехать от войны – надо ехать. Лично я собираю документы для поездки в Америку. Подумай, вдруг ты захочешь купить мой бутик?
После сообщения мадам Нинон о бегстве из Франции Таня уже не удивилась, увидев, как складывает вещи месье Дюбуа, подаривший ей картинку дамы в зеленой шляпе. За прошедшее время повар «Шустрого кролика» очень растолстел, и его круглое лицо напоминало футбольный мяч с веселыми маслиновыми глазами.
– Уезжаем, Таня. Наша семья решила перебраться в Швецию. У жены в Стокгольме живет тетка. Там холодно, конечно, но лучше быть холодным, чем убитым, – изображая шведские морозы, месье Дюбуа обхватил себя руками и артистично задрожал. – А еще, говорят, по Стокгольму бродят лоси и поддевают людей на рога.
– Боюсь, без вас «Шустрый кролик» утратит свою прыть, – грустно пошутила Таня, увидев, как влажно заблестели ресницы месье Дюбуа.
Он звучно хлюпнул носом:
– Проклятые боши. Мало им Великой войны, после которой пала Россия. Теперь они хотят поставить на колени Францию. Верь мне, Таня, если бы не семья, повар Дюбуа стоял бы в первых рядах защитников и бил проклятых тварей своей поварешкой.
В отчаянных жестах месье Дюбуа мешались комизм и трагизм. Таня подошла и поцеловала его в щеку, соленую от слез:
– Счастливого пути, месье Дюбуа. Я буду скучать без вас.
Почти через год, кружным путем, до Тани дошли слухи, что судно, на котором семья Дюбуа плыла в Швецию, потопила немецкая подводная лодка.
«10 мая 1940 года Германия начала атаку на Западную Европу, напав на страны Бенилюкса и Францию», – как механическая шарманка, талдычило радио. Эту новость Таня слушала уже почти месяц, но до Парижа отзвуки боев пока не долетали. Надолго ли?
Щелкнув тумблером, Таня погрузила квартиру в сонную тишину.
Она любила начало ночи, когда мама с Варей уже спят, а на подоконнике качается полоса света от кованого фонаря дома напротив. День прожит, дневные заботы остались позади и можно позволить себе мысленно побыть вдвоем с Юрой. Иногда она ощущала его присутствие так близко, что начинала с ним тихонько разговаривать.
Сегодня хотелось сказать ему, чтобы он не беспокоился: хотя война идет фактически с сентября до нынешнего июня, в Париже тихо. На улицах не стреляют, и бои идут где-то далеко, словно бы и не на этой планете.
Конечно, она понимала, что своим рассказом заглушает собственное чувство тревоги за Варю, за маму, за Францию и, главное, за него, Юру, любимого и далекого.
Длинной тонкой иглой Таня подкатила к себе три бусинки – красную, белую и синюю – цвета французского флага. Если сложить их в другом порядке, то получится российский триколор, который гордо реял над Россией в момент ее рождения. Вернутся ли когда-нибудь благословенные времена, когда Ленинград был Санкт-Петербургом, церкви незыблемо осеняли землю крестами, а люди не боялись ходить по улицам и обсуждать с друзьями все на свете?
Рассортировав бусины, Таня посмотрела на пару настенных часов, висевших рядом, бок о бок. Одни показывали время в Париже, другие в Ленинграде. У Юры сейчас полночь. Спит ли он? Думает ли о ней?
Склонив голову над работой, она вспоминала, как Юра вел ее к гостинице гулкими проходными дворами, где стук шагов отдавался в ушах боем барабанных палочек. Подобно бусам, Таня перебирала каждое мгновение, когда они были вместе.
– Юра, Юрочка, знаешь ли ты про Вареньку? Конечно, знаешь. Отец Игнатий обязательно найдет способ сообщить тебе о твоей дочери. Сейчас она уже большая, скоро десять лет. Мы крестили ее в маленькой кладбищенской церкви, где купола похожи на весеннее небо. Когда мы вышли из церкви, к нам под ноги опустился белый голубь, и мама сказала, что это душа отца Игнатия.
Мелькали пальцы, путались мысли, бусинка за бусинкой выкладывался затейливый узор ожерелья.
Чтобы дать отдых спине, Таня встала и неслышно прошлась по комнате, на ходу наводя порядок: сложила плед, брошенный на диване, на столе у окна поправила салфетку под вазой, прикрыла дверку зеркального шкафа, мельком глянув на свое отражение. Некоторые знакомые считали, что она красива, но Таня не находила в своем лице особой привлекательности. Обыкновенная женщина под тридцать лет. Да, высокая, да стройная, да, большеглазая. Но и только. Распущенные волосы шелковой волной лежали на плечах. Таня заколола их двумя шпильками и снова села низать бусы.
Все ее шедевры рождались в ночной тиши. Вдохновение не терпит суеты шумного дня.
Сначала она услышала низкий вой, похожий на тяжелый вздох. Он шел волной со стороны улицы, постепенно набирая силу. Казалось, где-то далеко волна с размаху бьется о гранитные камни. Подчиняясь силе звука, в окнах мелко задрожали стекла. Погас свет. В спальне вскрикнула Варя:
– Мама, что это?
Рассыпая бусы по полу, Таня вскочила из-за стола. Ища ручной фонарик, она натыкалась руками то на стул, то на угол шкафа.
Варя снова вскрикнула, и на этот раз в ее голосе звучали слезы.
Таня, наконец, нашла фонарик и яростно закрутила ручку динамо. Свет выхватил полуодетую маму, которая подавала Варе одежду:
– Успокойся, Варя. Это воздушная тревога. Мы должны быстро собраться и спуститься в бомбоубежище.
– Нас будут бомбить? – страх в Вариных глазах сменился любопытством.
– Будем надеяться, что нет.
Не ожидая, пока Варя окончательно проснется, Таня натянула ей на голову платье.
Варя вывернулась:
– Там сзади надо застегнуть пуговки.
– Потом, потом пуговки. На, бери кофту, побежали. Мама, ты готова?
– Конечно, Танюша.
Как хорошо, что мама рядом!
Таня не переставала зажигать луч фонарика, замечая, что в соседских окнах тоже неровно пляшут по стеклам световые вспышки. Над головой, из квартиры этажом выше, слышался топот ног. Там жила семья с тремя маленькими детьми.
– Скорее, скорее!
По крутой лестнице один за другим сбегали жильцы. Внизу, в вестибюле, то и дело хлопали двери, пока консьержка не догадалась подпереть их шваброй. Электричество везде погасло, но сквозь сиреневую июньскую мглу было видно каждый дом. Тротуар был запружен людьми, которые бежали по направлению к метро. Гомонили женщины, плакали дети. Седая старуха с собачонкой под мышкой, остановившись посреди улицы, грозила небу тростью, похожей на рапиру дуэлянта.
Домовладелица мадам Форнье стояла у проема в подвал и громко зазывала своих жильцов пройти в бомбоубежище. Чужих она не пускала, и случайные прохожие, наткнувшись на суровой отказ, бежали дальше.
Варю толкнула в спину какая-то женщина:
– Прочь с дороги!
Падая на мостовую, Варя успела увидеть шикарное платье от кутюр с вышитой канвой по низу юбки.
Женщина переступила через нее, словно через бревно на дороге. Мама и бабушка тут же пришли на помощь, но она успела увидеть, что женщина тащит за собой Марка, а он оглядывается на нее и едва не плачет.
Уже сидя в бомбоубежище, Варя услышала, как бабушка тихо сказала маме:
– Эта дама, что сбила с ног Варю, мадам Брюль, сестра банкира, очень неприятная особа. Хотя мы вместе с ней посещаем одного стоматолога, она никогда не здоровается и везде лезет без очереди.
На длинной деревянной лавке, сколоченной явно второпях, Варя сидела затиснутая в самый уголок. Ранку на ободранной коленке противно дергало. Чтобы приглушить боль, она послюнила палец и приложила его к ранке. Морщась от боли, Варя подумала, что война – это очень неприятно, и еще вспомнила про папу Юру. Жаль, что он далеко и не может защитить их от врага. Она была уверена, что ее папа не бежал бы в убежище, как тот месье в разных ботинках, что сидит позади бабушки и прижимает к себе пузатый портфель. Папа Юра взял бы ружье или пушку и разил врага на всех фронтах. И еще она подумала, что будет молиться, чтобы война не докатилась до России и папе Юре пушка не понадобилась.
Отбой воздушной тревоги прозвучал под утро, когда по Сене заплясали первые солнечные блики. Река сверкала и искрилась, как будто бы в утешение парижанам за первую по-настоящему военную ночь.
На следующий день после бомбежки Париж впал в безумие. Казалось, все, что могло перемещаться, в одночасье стремилось прочь из города.
«Наверное, в Средневековье так убегали от чумы», – подумала Таня.
Испуганные люди были похожи на перелетных птиц, сбившихся в стаи, чтобы обрести спокойный приют, пусть и на другом конце света.
Выйдя за молоком, Фелицата Андреевна увидела растрепанную мадам Форнье, которая лихорадочно выносила из дверей большие тюки. Из одного тюка торчал край шелковой блузки, а из другого выпирал серебряный носик кофейника.
У подъезда стояло авто, доверху набитое коробками и корзинками. Шофер колотил ладонью по крыше и надсадно орал:
– Скорее, скорее, кроме вас у меня есть другие заказчики!
Его фуражка сползла с макушки и висела на одном ухе, грозя упасть под колеса.
В расширенных глазах мадам Форнье метался ужас. При виде Фелицаты Андреевны она едва кивнула, на ходу выпалив:
– Мадам Горн, за домом временно будет присматривать месье Перрен. Все вопросы к нему.
Фелицата Андреевна хотела спросить, в чем дело, но мадам Форнье вытянула шею и истерически закричала в глубину подъезда:
– Кот! Где мой кот? Не забудьте взять корзинку с котом!
Красное, как помидор, лицо мадам Форнье полыхало таким жаром, что казалось, ткни в щеку пальцем, и вверх брызнет фонтан густого сока.
Из дома на противоположной стороне тоже тащили тюки и коробки. Двое мужчин пытались взгромоздить на телегу двуспальный матрац, обитый по краям кокетливой атласной лентой, на углах завязанной бантами.
Фелицате Андреевне стало неловко, словно она случайно заглянула в супружескую спальню.
Богатая семья, занимавшая целый этаж, тоскливо стояла у края тротуара, а глава семьи пытался остановить такси.
– Три тысячи франков, кто довезет нас до Орлеана! Только до Орлеана!
Его жена была в полуобморочном состоянии, и двое дочерей поддерживали ее под руки.
Замедляя скорость, чтобы не задавить человека, машины ехали мимо, забитые пассажирами и разномастными пожитками.
Навстречу потоку беженцев с подвываниями неслась соседка с первого этажа, которую звали Орлетта:
– Мы пропали! Мы все пропали!
Всплекивая руками, Орлетта трубно прорыдала, что ворота всех вокзалов закрыты и оцеплены войсками, толпа попыталась сломать решетки, но их отогнали прикладами.
Фелицата Андреевна споткнулась о брошенную на тротуаре шляпную коробку и подумала, что нынешний Париж напоминает ей Ростов двадцатых годов, когда при наступлении Красной Армии люди в панике метались по улицам, не зная, куда бежать.
Тогда им с Танечкой повезло сесть на последний поезд до Киева, и оттуда они почти два месяца добирались домой в Петроград. На последнем полустанке перед Петроградом она узнала, что стала вдовой. Помнится, секретарь мужа предложил ей вступить в брак, чтобы вместе уехать за границу. У него были связи в иностранном посольстве.
Окна молочной лавки были плотно закрыты ставнями, а на двери висел замок. Ветер гонял по тротуару обрывки бумаг. Посредине клумбы с красной геранью валялась желтая целлулоидная уточка. Фелицата Андреевна аккуратно выловила ее из цветочного озерца и поставила на подоконник.
Снова война. Четвертая война в ее не такой уж длинной жизни. Будет ли этому конец? Когда люди опомнятся?
На площади Фий-дю-Кальвер стоял шарманщик и крутил ручку пестрого ящика. Над открытым пространством улиц дробно рассыпались звуки «Прелестной Катерины» – Scharmante Katharine, давшей название инструменту.
Достав из кошелька несколько су, Фелицата Андреевна подошла к шарманщику:
– Почему вы не бежите?
Ветер облачком раздувал седые волосы старика, потрепанная бархатная куртка, наверное, помнила еще прошлый век.
Он поднял на нее красные глаза:
– Мадам, я старый солдат и знаю, что кто-то обязательно должен оставаться на посту, даже если в город войдет вся вражеская рать. Париж останется Парижем до тех пор, пока на его улицах будут играть шарманки. Верьте мне, мадам, войны проходят, а шарманки остаются.
Доведя мелодию до конца, он взял протянутые деньги и спрятал в карман:
– А вы почему не бежите?
Фелицата Андреевна вспомнила бегство из России и горько усмехнулась:
– Некуда, да и хватит бегать. Я тоже останусь на посту. И, кроме того, я русская.
– О, это многое объясняет! Русские – великий народ. Тогда, мадам, я сыграю только для вас!
По-птичьи наклонив голову к плечу, он закрутил ручку, и, торжествуя над царящим хаосом, шарманка снова завела свою мелодию.
Задержавшись у газетного киоска (странно, но он работал), Фелицата Андреевна успела увидеть в окне дома напротив худенькое мальчишеское личико, носом прижавшееся к стеклу. Кажется, этого мальчика зовут Марк – сын пре-неприятнейшей банкирши Брюль.
– Мадам, свежую газету?
Продавщица просунула в окошко руку в митенке из потрепанного кружева и подала номер «Пари-Суар».
Фелицата Андреевна сдержанно кивнула:
– Да, мерси. Только боюсь, что за прошедшую ночь новости успели устареть.
– Что вы хотите? Война, – вложив в голос презрение, сказала продавщица. – Помяните мое слово, скоро в номер пойдет сообщение о капитуляции. Я ни на грош не верю нашему трусливому правительству Петена, которое предает доблестную французскую армию.
Пророчество «пифии» из газетного киоска сбылось через пару недель, когда стало известно, что Франция заключила с Германией перемирие, условием которого стала немецкая оккупация северной части страны и установление на юге коллаборационистского режима, правительство которого расположилось в городе Виши.
Старуха в черном, которую Фелицата Андреевна перевела через улицу, стукнула палкой по золоченой решетке особняка в глубине парка и зло захохотала:
– Францию разломили, как засохший багет!
К осени Париж запестрел свастиками всех размеров, от мала до велика. Казалось, будто город облепила стая отвратительных пауков с переломанными лапами.
Огромное черное полотнище с корявым фашистским крестом полоскалось на здании Гранд-опера, журналы печатали портреты Гитлера на фоне Эйфелевой башни, по Елисейским Полям маршировали колонны гитлеровцев, а на улице Ларистон расположилось гестапо. Город жил по берлинским законам и с немецкими вывесками.
Тане было так тошно ходить по оккупированному Парижу, что она старалась не поднимать головы. Но два немецких офицера впереди говорили о России, и она ускорила шаг. Сначала прозвучало слово «Москва», потом «Ленинград».
Каждый раз, когда кто-то упоминал о родном городе, Танино сердце срывалось из грудной клетки и пинг-понгом подпрыгивало к горлу, перекрывая дыхание. В памяти возникали звук шагов по брусчатке и малюсенькая квартирка, ключ от которой хранился внутри иконостаса.
«Юра, Юрочка, родной мой, муж мой! Я никогда не перестану тосковать о тебе».
Она перевела на офицеров ненавидящий взгляд, словно хотела проткнуть их шпагой.
Черные мундиры сидели на них с небрежным шиком, подчеркивая классический профиль одного и крутой подбородок другого.
– Ленинград должен быть уничтожен! Фюрер определил, что он не интересен стратегически и его население будет обузой для рейха, – горячо рассуждал первый офицер. Судя по привычке гордо вскидывать голову, он знал, что красив и не гнушался лишний раз утвердить свое превосходство.
– Вольфганг, ты всегда судишь слишком резко, – рассмеялся другой, – пока фюрер не отдал приказ армии атаковать Россию. Он ведет переговоры со Сталиным, и, может быть, немецким солдатам пока не придется щупать русских девок.
Красавец поморщился:
– Вечно у тебя на уме одни девки. Посмотри кругом, нашим солдатам вполне хватит француженок. К тому же они умеют прелестно танцевать канкан. Русским никогда не научиться так игриво вздергивать ножку.
– Не скажи. Я помню, с каким трудом моей матери удалось купить билеты на великую Анну Павлову.
– Павлова не танцует канкан, – отрезал тот, которого назвали Вольфгангом, – но я буду рад увидеть, как русские балерины выступают в дешевых немецких кабаках.
«Если бы у меня был маузер, я бы их застрелила», – подумала Таня, сама испугавшись своей ярости. Потоками кипятка ненависть захлестнула ее с ног до головы.
Она поймала себя на том, что хладнокровно выбирает место прицеливания, куда лучше послать пулю, чтобы наверняка.
– Господи, Господи, пошли мне силы остаться человеком и не лишиться разума!
Должно быть, она произнесла это вслух, потому что офицер с квадратным подбородком резко повернулся в ее сторону и по-французски спросил:
– Вы что-то сказали, мадам?
Она придержала рукой серую юбку в складку, которую колоколом раздувал ветер. Таня знала, что ей к лицу белая жакетка и сколотые набок волосы. Ей стало досадно от того, что она хорошо выглядит и в глазах врага сквозит нескрываемое восхищение.
Она сжала кулаки так, что ногти впились в ладони. Ответить фашисту хотя бы полусловом оказалось выше ее сил, и Таня с вызовом посмотрела немцу прямо в глаза с жесткой щеточкой рыжеватых ресниц.
– Так что же, мадам? – казалось, ситуация его забавляла.
Кляня себя за неосторожность, за то, что не может смириться, и за то, что рискует оставить сиротой Варю, Таня с ненавистью выпалила:
– Я не желаю с вами разговаривать!
Когда она, ускоряя шаг, прошла вперед, сумочка на сгибе локтя повисла чугунной гирей, а руки и ноги непослушно задеревенели. Сейчас ее больше всего заботило сохранить достоинство, не дрогнуть, не упасть, не споткнуться. Идти вперед, только вперед.
Проводив ее взглядом, офицер прищелкнул языком:
– Какая красавица! В ней чувствуется дух истинного Парижа. Я буквально вижу ее привязанной к столбу на Гревской площади, где в старину сжигали ведьм.
Его спутник вскинул бровь:
– Неужели наш неприступный ас люфтваффе влюбился в первую встречную? Это так не похоже на тебя, Курт.
– Я встречаю эту женщину на улице Мучеников уже третий раз. Кажется, она живет в доме на углу. А в условиях войны трех встреч вполне достаточно для близкого знакомства.
Таня смогла расслабить спину, только свернув за поворот. Осколком прошлого, мирного Парижа впереди маячил сквер Сен-Дени со спасительными скамейками в густой тени деревьев. Она буквально рухнула на ближайшую скамейку, тупо уставившись на старушку с вязанием. «По-моему, бабуля сидит тут уже второе десятилетие и так же вечна, как памятник святому Дионисию с отрубленной головой в руках».
– Таня! Рада тебе видеть!
Люда возникла рядом внезапно, словно караулила в кустах.
Они были знакомы почти десять лет, с того самого дня, когда Люда подсказала Тане устроиться переводчицей к месье Тюрану. Время от времени они выкраивали минутку попить кофе где-нибудь на Монмартре и раз в год, на Пасху, ходили вместе в русскую церковь к отцу Лазарю.
Хотя Люде перевалило за сорок, на ней было надеты легкомысленное сиреневое платье с оборкой и бежевый жакет в крупных горохах. Она по-прежнему работала танцовщицей в кабаре, хотя и постоянно твердила, что пора перестать трясти ногами и придумать себе более достойное занятие.
– Я тоже рада, мне сейчас необходимо поговорить с кем-нибудь, – Таня подобрала слово, – родным, кому можно поплакаться в жилетку и знать, что тебя поймут правильно.
Выразительно подняв брови, подрисованные ровными дугами, Люда понимающе спросила:
– На фашистов нарвалась?
– Да. Идут, гады, такие гладкие, откормленные, наглые, как у себя дома, – в Тане все еще клокотала ненависть, и она перевела дух. – Понимаешь, они про нас говорили – про Москву и Ленинград.
– Про нас… – Людино лицо искривилось болезненной гримасой, отразившей глубокую муку. – Я когда из России вырвалась, то думала, что никогда, – она подняла вверх палец, – никогда не буду причислять себя к СССР. Хотелось забыть прошлое, переболеть революцией, как черной оспой, и начать жизнь сначала. Я десять лет кровавые струпья с души отковыривала. Десять лет! А сейчас бегом бы побежала, взяла винтовку и встала на границе с Польшей, чтобы не пропустить в Россию эту фашистскую погань, – она закусила губу, оставив на зубах след помады.
– Люда, надо что-то делать, – сказала Таня, – мы не должны сидеть сложа руки и любоваться, как фашисты устанавливают свои порядки. Меня тошнит от вида свастики. На фронт хочу, чтобы лицом к лицу, как наши предки. Ведь мы же русские. Русские!
Она взяла Люду за руку с худыми, нервными пальцами и посмотрела ей в глаза. Люда отвела взгляд:
– Представь, подружка, а я перед ними еще и танцую. Вчера вдоволь налюбовалась, как они, налившись вином, орут мне «браво». Рожи красные, воротнички у рубах расстегнуты. У меня отец был охотником, так мне фашисты диких кабанов напомнили. Таких, знаешь, огромных, грязных, с желтыми клыками в пасти. Танцевала и думала, что больше всего хочу швырнуть в зал гранату, чтоб клочья их шкур до потолка полетели.
Люда резко выпрямилась, и ее глаза сузились.
– Бедная, – Таня с сочувствием погладила Людину руку, – воображаю, как отвратительно танцевать перед толпой пьяных немцев, – она содрогнулась, – я, к счастью, избавлена от их внимания. Могу выходить из дома только по необходимости, – она кисло сощурилась, – но чувствую, скоро и эта необходимость отпадет. Кому нужны бусы во время войны?
Скользнув по скамейке, Люда придвинулась поближе, шепча почти в самое ухо:
– Как раз об этом мне и поручено с тобой поговорить.
– Поручено? Кем?
Людино лицо ожесточилось, сразу сделавшись старым и угловатым:
– Теми, кто не собирается сдаваться немцам.
От Людиных слов Таня едва не подпрыгнула. Расширившимися зрачками она впилась Люде в глаза:
– Повтори, что ты сказала!
– Что слышала, – Таня никогда не видела Люду такой серьезной. – Есть верные друзья, которые хотят бороться с немцами. И им надо иметь место для связи. Почтовый ящик, понимаешь?
– Понимаю, – одними губами сказала Таня. Ее щеки горели, а руки стали холодны как лед. Она приложила к щеке тыльную сторону ладони, удивившись, что та не зашипела.
Вдалеке улицу пересекал взвод немецких солдат в грязно-зеленой армейской форме. Они шли в вольном строю, чуть враскачку, как будто под их ногами была не земля, а корабельная палуба. Один солдат лихо свистнул вслед молодой француженке, и из середины колонны раздалась трель губной гармоники.
Люда проводила их взглядом и развернулась к Тане:
– Ты говорила, что хозяйка бутика предложила тебе купить магазинчик? Это должна сделать я.
– Но почему ты? – поразилась Таня. – Зачем тебе бутик?
– Потому, что в бутике будет место для связи, глупенькая, – Люда объясняла ей, как маленькой, – а деньги для покупки мне соберут. Пустят шапку по кругу.
– Люда, но ты же не знаешь клиентов, не имеешь связей с модными домами и с поставщиками. Твоя торговля начнет прогорать, и ты вызовешь подозрение.
– Ну и что? – Люда тряхнула огненными кудрями. – Зато я одна и плакать по мне будет некому. – Она крепко взяла Таню на руку: – Так поможешь?
Таня ответила прямым взглядом и твердо сказала:
– Помогу, но бутик должна купить я. Это ни у кого не вызовет удивления.
– Нет! У тебя ребенок и мама!
Но Таня была непреклонна:
– Только я. Тебя поймают на первой же сделке. Ты даже не отличишь клиента от провокатора.
– Таня, – Люда достала из кармана носовой платок и стала скатывать его в трубочку. – Таня, дорогая, я не знаю, что сказать.
– Скажи «да». Все равно у тебя нет другого выбора.
Вместо ответа Люда порывисто притянула Таню к себе, нечаянно царапнув ногтями по запястью.
Таня улыбнулась:
– Если ты меня покалечишь, то наш маленький отряд понесет потери.
Перешучиваясь, Таня отодвигала от себя тревогу за сложный выбор. Конечно, можно было сослаться на семью, помочь Люде купить бутик и после всю жизнь считать себя борцом и героем, но как тогда быть с совестью?
В ее голове уже складывался план действий, которые необходимо предпринять в ближайшее время. Надо узнать, сколько потребуется денег, какие документы надлежит оформить, в какой немецкий комиссариат обратиться за разрешением. Наверное, придется попросить Нинон обождать с продажей пару дней.
Люда встала:
– Завтра, на этом же месте, я познакомлю тебя с нужными людьми. Да, кстати, – голос Люды звучал небрежно, но Таня поняла, что она хочет сказать нечто важное. – Помнишь, в нашу первую встречу я сказала, что ненавижу Францию и французов?
Таня кивнула.
– Так вот, теперь я готова отдать за них жизнь, хотя ненавижу по-прежнему.
В ноябре Париж продувался сырыми ветрами, белыми птицами, кружащими над базиликой Сакре-Кер. Отталкиваясь от куполов Святого Сердца, потоки холодного воздуха стекали на Монмартр, чтобы заблудиться в его узких улочках. Уныло, серо и холодно.
Несмотря на войну, Танин бутик, удачно выкупленный у мадам Нинон, продолжал приносить прибыль, хотя и совсем маленькую. Как считали француженки: «Война не повод забыть о моде».
Чтобы свести концы с концами, приходилось самой служить и продавцом, и бухгалтером, и уборщицей – всем тем, чем в мирное время обычно занимается штат сотрудников. Но à la guerre comme à la guerre, или, говоря по-русски: на войне как на войне. В деле конспирации лишние глаза и уши совсем ни к чему. Ради Вареньки и мамы нельзя допустить к себе и тени подозрения.
Пока Танины функции подпольщицы ограничивались лишь передачей записок и сбором денег. Она понимала, что ее берегут, и была благодарна друзьям, не ставившим под удар маму и Вареньку.
Таня поправила соскользнувшую с вешалки шаль и подумала, что с того момента, как она участвует в Сопротивлении, почва под ногами стала твердой и устойчивой. Так бывает, когда в шторм болтаешься в море, не видя перед собой спасительного берега, а потом вдруг обнаруживаешь, что земля совсем рядом, надо только не побояться броситься в волны и плыть.
Повернувшись на звук дверного колокольчика, Таня увидела двух дам средних лет. Одна из них, Луиза, была постоянной заказчицей. За подвижность и миниатюрность ее часто называли «крошка Луиза». Впрочем, Луиза воспринимала свое прозвище с юмором.
Во второй женщине Таня с легким удивлением узнала мадам Тюран.
За десять лет она обрюзгла и постарела, но выглядела по-прежнему высокомерной и неприступной.
– Добрый день! – оставив вешалку, Таня пошла навстречу посетительницам, с надеждой, что визит не затянется.
Луиза засияла:
– О, Таня, прекрасно выглядишь! – швырнув сумочку в кресло, она прикоснулась щекой к Таниной щеке, изобразив поцелуй легким чмоканьем над ухом. – Как только до меня дошли слухи, что бутик мадам Нинон принадлежит тебе, я поспешила с поздравлениями. Надеюсь, мои прежние скидки останутся в силе? Кроме того, я привела с собой подругу.
Наманикюренным пальчиком крошка Луиза указала на мадам Тюран, которая вцепилась взглядом в бобину брюссельских кружев.
Отмотав несколько десятков сантиметров, мадам перевела взгляд на Таню.
– Я хотела бы узнать цену.
Таня подошла ближе и нажала кнопку настольной лампы, выгодно освещающей тонкие завитки, похожие на ледяной узор по стеклу:
– Конечно, мадам Тюран.
– Мы знакомы? Я вас не припоминаю.
Близоруко сощурившись, мадам Тюран замерла, сосредоточенно копаясь в своей памяти.
Таня улыбнулась. Между скромной переводчицей в уродливых очках и владелицей бутика лежала пропасть. Сегодня Таня была одета в палевый костюм из плотного шелка, красиво гармонирующий с темным шоколадом пышных волос.
Она мягко подсказала:
– Мы ездили в Ленинград в начале тридцатых годов, я была переводчицей месье Тюрана.
По лицу мадам Тюран прокатилась гамма чувств от недоумения до злости.
– Ну, конечно. У меня прекрасная память, – отрубила она после паузы, – я даже помню, что вас зовут Таня Горн, так же как известного дизайнера.
Стоящая рядом Луиза издала горловой клекот и шутливо хлопнула себя перчатками по ладони:
– Жюли, ты несносна. Это и есть та самая Таня Горн, которой ты всегда восхищалась.
Мадам Тюран начала медленно краснеть вверх от шеи, украшенной черным ожерельем. Она дала волю гневу:
– Значит, нанимаясь переводчицей, вы водили меня за нос? Может быть, вы хотели заполучить себе месье Тюрана?
– Ни в коем случае! Месье Тюран – исключительно ваша безраздельная собственность. Если вы помните, я родом из Петербурга и очень хотела повидать родной город. Кроме того, месье Тюрану я предпочитаю другого мужчину и у нас есть дочь, – разряжая обстановку, Таня подошла к чайнику, заменившему кофейник мадам Ни-нон. – Чаю, медам? К сожалению, кофе в Париже теперь не достать.
Жестом она пригласила Луизу и мадам Тюран присесть, украдкой посмотрев на часы, потому что ожидала особого посетителя.
Крошка Луиза стрекотала, как швейная машинка в мастерской бутика, где властвовали две опытные портнихи. Мадам Тюран отхлебывала чай с надутым видом, и было заметно, что она с трудом пытается переварить полученную информацию.
«Хоть бы связной запоздал», – твердила про себя Таня, в ускоренном темпе рассказывая посетительницам о новинках сезона. Когда те, наконец, ушли, она почувствовала себя гребцом на галерах и подумала, что пара глотков чая вернет ее к жизни. Дотянуться до чайника она не успела, потому что колокольчик дернулся, и дверной проем заслонила фигура в черном.
Вошедший в бутик офицер имел квадратный подбородок, который иногда называют боксерским, и пронзительные голубые глаза, окруженные еле заметной паутинкой морщинок. Ему было лет сорок, и он носил чин майора, если судить по желтым петлицам на форме офицера люфтваффе.
– Добрый день, мадам!
Вспыхнув, Таня узнала в нем немца, заговорившего с ней на улице.
Счетчик в мозгу, отсчитывающий секунды до прихода связника, закрутился с бешеной скоростью.
Глаза офицера окинули Танину фигуру с ног до головы так, что она ощутила себя раздетой. Она знобко повела плечом, жалея о том, что рядом нет тулупа до пят или, на худой конец, пальто. Холодная вежливость давалась ей с трудом, потому что немец неотрывно смотрел ей в лицо:
– Месье хочет выбрать подарок даме?
– Подарок? Пожалуй. Неплохая мысль.
Несмотря на хромовые сапоги, он двигался бесшумно, подобно большому хищнику.
В два шага одолев крошечное помещение бутика, немец подошел к манекену, на котором цветным потоком висели бусы, и небрежно перебрал тяжелые связки.
– Красиво, очень красиво, – похвалил он. – Передайте мои комплименты вашему мастеру. Но знаете что… – Таню обжег его быстрый взгляд сквозь ресницы, – мне кажется, создатель этих украшений не француз. Слишком уж, – щелчком пальцев он помог себе подобрать эпитет, – слишком гармонично и непостижимо, словно северное сияние. Я однажды видел его в районе Архангельска, есть такой город на Белом море.
– Я слышала об Архангельске, но не предполагаю, что там могут делать немецкие летчики.
Майор жестко улыбнулся, и Таня прикусила язык, подумав: «Еще пара реплик, и ты в гестапо, милочка».
Это помогло ей сдержать нервную дрожь. Отвечать она не стала, а молча встала у окна, ожидая, когда он сделает выбор.
Немец не торопясь прошелся вдоль стойки с вещами и одним пальцем прокрутил бобину с кружевом, которыми восторгалась мадам Тюран.
– Недурно, весьма недурно, мадам… – он сделал паузу, ожидая продолжения.
– Мадам Горн, – сказала Таня.
Со щелчком каблуков немец наклонил голову:
– Майор Курт Эккель, – он развернулся к манекену с бусами. – Я хочу приобрести вот эту вещицу.
В хорошем вкусе майору Эккелю было трудно отказать. Он выбрал ожерелье под названием «Пустыня Аравии», где теплые сердоликовые цвета плавно перетекали в черненое золото венецианского стекла, чуть подкрашенное редкими бликами иранской бирюзы.
Стараясь не выдать нетерпения, Таня запаковала ожерелье в длинный футляр с фирменной надписью, оставшейся еще от мадам Нинон.
– Прошу вас.
Он фасонно поднес два пальца к козырьку:
– Это для вас, мадам Горн.
– Но я не принимаю подарки!
– И тем не менее.
Таня скорее почувствовала, чем услышала, что в бутике появился новый посетитель. Он вошел так тихо, что колокольчик не звякнул.
«Связной», – поняла она и похолодела.
Пожилой мужчина в потертой кепке на лысой голове просительно топтался в дверях, едва доставая головой до плеча Курта Эккеля.
При виде немецкого офицера он стащил с головы кепку и стал нервно запихивать ее в карман пальто. Кепка не влезала, и человечек едва не плакал.
– Мадам, месье, – он переводил большие влажные глаза с Тани на немца и обратно, – нет ли у мадам для меня работы? Я очень, очень голоден.
Его худое лицо осталось неподвижным, но из глаз вылились две крупные слезы и покатились по щекам, теряясь в морщинах.
Неуловимым движением фокусника он выхватил из кармана кепку и всем корпусом развернулся к немцу:
– Герр офицер, подайте нищему старику пару рейхсмарок.
Не говоря ни слова, тот бросил купюру в подставленную кепку и кивнул Тане:
– Мадам, я вынужден проститься, еще увидимся.
Хлопок двери за спиной Эккеля показался молодой женщине райской музыкой. Она глубоко вздохнула, словно от ухода немца воздух в помещении стал чище.
– Месье, примите помощь и от меня.
Пока она копалась в кошельке, старик приблизился и произнес пароль:
– На кладбище Монмартра нет свежих могил.
– Оно очень старое, – машинально ответила Таня условленным отзывом.
Старик усмехнулся, и его только что плачущие глаза радостно засияли, а когда он заговорил, Таня поразилась, какой у него глубокий и теплый голос.
– Вот и славно, Татьяна Михайловна, возьмите этот конвертик для передачи.
Звуки русской речи показались гласом с небес.
– Так вы русский? Вы меня знаете?
– Скорее вашу матушку, – с отеческой интонацией сказал связной. – Надеюсь, она в добром здравии?
– Да, но кто вы? От кого мне передать ей привет? Прежде я вас никогда не встречала.
Он вздохнул:
– Милая Татьяна Михайловна, в условиях войны при меньших знаниях увеличивается возможность уцелеть. Называйте меня месье Пьер.
Но я обещаю, что при первой же возможности открою свое инкогнито.
Когда немец ушел, Таня взяла оставленный им футляр и с размаху зашвырнула его в мусорное ведро, словно ядовитую змею.
Звонок в дверь прозвучал после ужина, когда Варя собиралась спать.
Фелицата Андреевна вязала, а Таня мыла посуду и думала, что с каждым днем доставать продукты в Париже все труднее и труднее. Хорошо, что русские неприхотливы. Из картофельного пюре можно сделать замечательные котлеты, а из одной куриной ножки сварить суп и сделать чудное второе блюдо. Еще подумалось, что чай в бутике с каждым днем становится все жиже и жиже, а тарелочка с печеньем незаметно исчезает из привычного обихода.
Выставляя тарелки в сушилку, она прислушалась:
– Мама, звонят.
Опустив вязание, Фелицата Андреевна встала и медленно пошла к двери, отсчитывая про себя шаги. Страх имеет власть над временем, растягивая или сокращая его по своему усмотрению. Она боялась увидеть черные немецкие мундиры. В последние дни немцы и местные полицаи особо усердствовали с проверками.
Заметив, что сутулится, Фелицата Андреевна гордо выпрямилась, потому что на задворках памяти мелькнула огромная зала, наполненная маленькими девочками, и как она будто услыхала голос репетитора танцев, повторяющий с монотонной интонацией:
– Держите спину, мадемуазель. Что бы ни случилось – всегда держите спину.
С того момента, как она догадалась, что Таня участвует в Сопротивлении, каждый день превращался в тревожное ожидание ареста, тем более что слухи о работе гестапо исподволь ползли по городу, обрастая всяческими подробностями, от обыденных до невероятных.
У Фелицаты Андреевны чаще стало болеть сердце, а сон превратился в рваный лоскут, состоящих из коротких промежутков дремоты и яви. Маясь бессонницей, она заходила в спальню к Варе и смотрела, как спит ее внучка. Во сне сходство с Таней почти совсем исчезало и в лице проступали черты отца Игнатия и Юры. Танюша рассказывала, что умоляла Юру бежать во Францию, но он отказался.
Звонок снова тренькнул и замолк.
«Отец Игнатий, помоги!» – мысленно воззвала Фелицата Андреевна, прежде чем сделала поворот ключа.
Поскольку в военное время лестничная площадка освещалась только ночным светом из окна, она не сразу рассмотрела стоящую у перил женщину, а сперва услышала тяжелое дыхание со свистящими нотками.
– Вы к нам?
Женщина вступила в полосу света, и Фелицата Андреевна узнала сестру банкира мадам Брюль. Рядом стоял растерянный Марк с маленьким, почти игрушечным кофром в руке.
– К вам.
– Проходите.
Фелицата Андреевна пригласила банкиршу войти, заметив, что от прежней высокомерной мадам осталось, пожалуй, только пальто, сшитое у дорогого кутюрье. Страдальческое выражение на ее мертвенно-бледном лице казалось восковой маской. Собираясь с духом, мадам Брюль остановила мятущийся взгляд на подошедшей Тане. Ее глаза казались безумными, а в голосе пробивалась дрожь:
– Мадам Горн, вы ведь русские? Скажите, вы русские? – она стиснула руки, сплетя пальцы. – Когда Марк мне сказал, что вы из России, я подумала, что только вы…
Не поворачиваясь, она нашла рукой сына и легонько вытолкнула его вперед.
– Мы вас не понимаем, мадам Брюль, – сказала Таня, – давайте сядем и спокойно поговорим. Чтобы вы пришли в себя, я могу предложить вам чашку чаю.
В ответ мадам Брюль почти вскрикнула:
– Нет-нет. Если я войду и задержусь здесь хоть на полчаса, я не смогу отдать вам сына.
В ее быстрой, возбужденной речи явственно слышался жесткий немецкий акцент. Вскинув руки на плечи Марка, она сжала пальцы с такой силой, что мальчик непроизвольно вскрикнул.
Таня с Фелицатой Андреевной озадаченно переглянулись.
– Кого вы хотите нам отдать?
Фелицата Андреевна подумала, что мадам Брюль нездорова и заговаривается, но та вдруг с коротким всхлипом стала сползать вниз, явно собираясь встать на колени.
Марк заплакал:
– Мама! Мамочка! Не надо!
Упавший со стуком кофр покатился по полу, когда Марк стал тянуть вверх мадам Брюль. Не обращая внимания на сына, она поползла на коленях в сторону Тани, повторяя как заведенная:
– Помогите, только вы. Больше никто. Вы знаете, вы понимаете. Русские все понимают. Мы уже бежали из Австрии, а теперь фашисты добрались до Парижа. В Европе больше нет места таким, как мы. Завтра за нами с братом придет полиция, нас отправят в лагерь и убьют, как евреев. Я знаю это. Возьмите Марка, спрячьте! У него с собой деньги, много денег, – она ткнула пальцем в сторону кофра. – Вам хватит пережить войну. Я отдам все, только возьмите Марка.
Бормоча и причитая, мадам Брюль стала отстегивать серьги, кроваво отсвечивающие бордовыми рубинами. Замочек не поддавался, и она просто выдернула их из ушей.
Марк рыдал в голос. Из глубины квартиры его плач подхватила проснувшаяся Варя. В одной ночной рубашке она брела из спальни и дрожала всем телом.
Первой опомнилась Фелицата Андреевна. Одной рукой она обняла Марка, а другой Варю.
– Мадам Брюль, конечно мы возьмем Марка, хотя я уверена, что все уладится. Пусть он побудет у нас, сколько потребуется, пока вы не придете за ним.
Дернувшись всем телом, мадам Брюль уткнулась лбом в колени, оставшись сидеть на полу сломанной куклой.
– Правда возьмете?
– Конечно правда, – подтвердила Таня, – если это необходимо.
Она помогла мадам Брюль встать на ноги, и та стояла, опираясь на ее руки как тяжелобольная. Не глядя на Марка, мадам Брюль попятилась к двери, покуда ни уткнулась спиной в косяк.
– Благослови вас Бог, – обессиленным голосом проговорила она, прежде чем исчезнуть в темном пролете лестницы.
С тех пор как Марк поселился у Горностаевых, прошло больше месяца. Ему запретили выходить из квартиры и смотреть в окно, а при звонке в дверь сказали прятаться в гардеробе. Чтобы создать удобное пристанище, Варя устроила в шкафу удобное гнездо из старых одеял и положила подушку. Но Марку, кажется, было все равно. Он пил, ел, делал с Фелицатой Андреевной задания, которые Варя приносила из школы, но не проявлял интереса ни к чему. Кофр с ценностями, оставленный мадам Брюль, Таня с Фелицатой Андреевной так и не открыли.
Через несколько дней после того, как Марк остался у них, всезнающая жена бакалейщика шепнула, что семью Брюлей арестовали, но мальчика не нашли. Думают, что банкиры успели переправить сына в Испанию, потому что у них куча денег.
Таня обычно шла в бутик к девяти утра, чтобы успеть приготовить магазин к открытию и не торопясь выпить первую чашечку чаю. Но сегодняшний день, похоже, не задался, а началось все с помады, исчезнувшей в неизвестном направлении. Пока она искала помаду, зацепилась коленкой за носик зонтика и у шелкового чулка поползла стрелка. Потом оказалось, что ключи остались в белой сумочке, а сегодня необходимо взять красную.
Помада нашлась на полочке с гуталином, наверно, вывалилась из портмоне.
Стоя перед зеркалом, Таня тщательно подвела губы и накрутила на голову тюрбан из шарфа. Нынче все парижанки помешались на тюрбанах, а ей не хотелось выделяться из толпы. Лицо в обрамлении золотистого шелка выглядело молодым и свежим. Так и надо. Все окружающие должны быть уверены, что дела мадам Тани идут блестяще и ее хорошенькая головка не занята ничем другим, кроме моды.
Сегодня предстояло передать товарищу из подполья пачку прокламаций и взамен получить от него сводки для месье Пьера.
На пороге она послала маме и Марку воздушный поцелуй:
– Не скучайте без меня!
Варя уже была в школе.
Три лестничных пролета вниз Таня пробежала, дробно стуча каблучками по деревянной лестнице. Ей нравилось слышать отзвук своих шагов, рассыпающийся по лестнице легкими горошинами.
На ходу она застегнула верхнюю пуговку плаща, думая, что в этом году март теплом не радует. Консьержка, конечно, как всегда, просматривает свежую газету, а мадам Форнье маячит около входа и обсуждает с соседями последние парижские новости. Мадам не успела эвакуироваться и теперь всем рассказывает, что осталась, дабы мужественно переносить страдания, выпавшие на долю героического французского народа. Надо не забыть передать ей квартирную плату.
Но вместо мадам Форнье у двери вестибюля стоял немец в черной форме и закуривал сигарету. Серебряный портсигар в его руках поймал лучик солнца. Солнечный зайчик, отскочив от начищенной дверной ручки, прыгнул ей под ноги, и немец обернулся.
Даже не глядя ему в лицо, Таня уже знала, что перед ней Курт Эккель собственной ненавистной персоной.
– О, мадам Горн, рад приветствовать!
Она заметила, что за зиму в Париже в его речи появились чисто французские интонации.
Сухо произнося в ответ дежурную фразу, Таня хотела пройти мимо, но Эккель не спешил уступить дорогу, хотя и сделал небольшой шажок в сторону.
– Теперь мы с вами будем часто видеться, ведь я ваш новый сосед.
Немец стоял перед ней гладковыбритый, лощеный, улыбающийся, а там, наверху, в ее квартире, корчился от горя ребенок с глазами, в которые было невозможно взглянуть. Она с трудом подавила желание с размаху съездить фашисту по физиономии и бить, бить, уничтожать гадину, пока достанет силы.
– Позвольте пройти, герр офицер.
– Курт, – почти нежно напомнил он, – Курт Эккель.
– Я запомню.
Буря, бушевавшая внутри Тани, рвалась наружу. Она чувствовала, как щеки заливает жар, а сердце подкатывает комом к горлу.
В ярости она рванула на себя дверь, услышав за спиной легкий смешок:
– Кстати, мадам Горн, вы носите ожерелье, которое я вам презентовал?
Не ответить на реплику было свыше ее сил. Обернувшись, она испепелила его взглядом:
– Я выбросила ваш подарок!
Он поднял бровь:
– О, прекрасно! Тогда у меня есть повод зайти в ваш очаровательный бутик за новым ожерельем.
«Боже, дай мне сил!» – Таня не вышла, а выбежала на улицу и первую половину пути проделала со скоростью чемпиона по спортивной ходьбе. Мостовая горела под ногами, и она почти физически чувствовала, что ноги ступают по раскаленным камням.
Чтобы успокоиться, она стала придумывать в уме письмо Юре. Не изменяя традиции, она писала ему раз в год на его именины. Десять писем – десять лет жизни, разорванной напополам. Кто-то из эмигрантов, кажется князь Гагарин, говорил, что в Советском Союзе осужденных приговаривают к десяти годам лишения свободы без права переписки. Выдумать такое мог только садист.
Юрочке труднее – он один-одинешенек, а она вместе с Варей и мамой.
Таня поймала себя на мысли, что ей безразлично, есть ли возле Юры другая женщина. Пусть она смотрит в его глаза, гладит его щеки, чувствует его руки – пусть! Только бы он был здоров и счастлив. В какой-то момент она поняла, что была бы даже благодарна той неизвестной женщине, что поддержала Юру в трудную минуту.
Из большого окна на втором этаже на улицу смотрел портрет Гитлера с мерзкой волосатой гусеницей усиков над верхней губой. На флагштоке дома напротив полоскался флаг со свастикой. А тут еще и этот фашистский летчик навязался…
На следующий день майор Эккель снова караулил ее в подъезде. На этот раз Таня не стала здороваться, а просто прошла мимо, подчеркнуто не замечая его ищущего взгляда. Она почему-то была уверена, что он не причинит ей вреда, хотя за себя боялась меньше всего. Мелькнувшая мысль подыскать маме и детям другую квартиру была отброшена как несостоятельная, потому что немцы наладили в Париже скрупулезный учет населения и Эккель мог бы разыскать их семью в пять минут.
Их мимолетные встречи в подъезде продолжались весь апрель и начало мая.
Когда Таня рассказала о фашисте Люде, та звонко прихлопнула ладонью по коленке, затянутой в шелковый чулок:
– И не ликвидируешь ведь заразу – сразу заложников расстреляют.
Весь Париж знал, что людей, задержанных во время комендантского часа, сутки держат как заложников. И если в городе произойдет нападение на немца, то заложников расстреляют.
О смерти Эккеля Таня не задумывалась, и на миг ей стало не по себе, что решение о жизни или смерти человека может приниматься вот так, за дружеской беседой на скамеечке.
По обыкновению, Таня с Людой тогда сидели в сквере Сен-Дени, напротив вечной старушки с вязанием в руках. Время шло к вечеру, и памятник святому Дионисию медленно уходил в сумерки. С тех пор как Таня узнала о гибели отца Игнатия, Сен-Дени стал для нее местом, где мысли шли каким-то особенным кругом, переходящим от земного бытия в небесные сферы.
Приближался комендантский час, поэтому с Людой общались накоротке, только по делу. Обсуждались вопросы доставки в Париж партизанской газеты «Комба» и изготовления фальшивых ярлыков для посылок в лагеря одиноким военнопленным. По правилам, каждый военнопленный имел право на посылку с воли, но для этого он должен был выслать родным ярлык-разрешение. Один ярлык – одна посылка. Семейные могли перебиваться с продуктами, а одиноким было неоткуда ждать помощи, кроме как от волонтеров.
Таня взялась достать краску, и Люда удовлетворенно кивнула:
– Хорошо, что ты купила бутик: пользуясь такой ширмой, легко приобретать всякие мелочи без тени подозрения.
Майор Эккель исчез в середине мая, когда Таня уже потеряла надежду спокойно выйти на улицу. В первый момент, не увидев внизу знакомый до тошноты силуэт человека в черном, она даже растерялась. Но на следующий день его снова не было, и Таня осторожно поинтересовалась у мадам Форнье, не съехал ли герр офицер? Но мадам Форнье не знала, почему в квартире постояльца по вечерам не горит свет.
Немец появился на лестнице двадцать второго июня, когда Таня забежала домой в неурочное время.
Не церемонясь, Эккель поймал Таню за руку и развернул лицом к себе.
Его лицо с квадратным подбородком горело лихорадочным торжеством пьяницы, предвкушающего обильную выпивку.
– Мадам Горн, Таня…
Прежде он никогда не называл ее по имени, и Таня даже думала, что он его не знает.
Большие руки с перстнем на пальце в виде львиной головы крепко легли на ее плечи, больно упираясь в кожу.
Она попыталась вырваться:
– Что вы себе позволяете, герр офицер?! Немедленно отпустите меня!
Обращаться к нему по имени было противно.
Он крепче сжал пальцы.
– Выслушайте меня, Таня. Вы ведь русская. Я знаю, русская! Вы не похожи на них, – Эккель неопределенно махнул головой в сторону улицы, явно намекая на французских женщин. – Француженки холодные, расчетливые, а у вас внутри горит огонь. Он может согреть или сжечь.
– Вы бредите!
– Нет, Таня, нет! Послушайте! Не пропустите великую новость! Этот день войдет в историю! – внезапно отпустив ее плечи, он резко выпрямился, вскинув руку в нацистском приветствии. – Сегодня армия вермахта перешла советскую границу и атаковала позиции Красной Армии. Скоро Россия будет освобождена от коммунистов и снова станет свободной! Не этого ли вы хотели, когда бежали в чужую страну? Разве не об этом мечтали, оказавшись в изгнании? Таня! Я люблю вас, Таня. Я буду сражаться ради вас.
– Нет! – Таня не сразу поняла, чей пронзительный крик раздается в ушах, отдаваясь от высоких сводов старого дома. – Нет! Неправда! Гитлер не может напасть на СССР, у него договор о ненападении!
Тане показалось, что она попала под бомбежку, а над ее головой раскалывается крыша и с грохотом рушатся вниз балки.
– Да, Таня, да!
С блуждающей улыбкой Эккель шел прямо на нее. Необыкновенно четко она видела, как над правым карманом его мундира шевелятся серебряные крылья эмблемы люфтваффе – орла, несущего в лапах изувеченный крест.
Собрав все силы, Таня хотела двумя руками ударить по орлу, словно намереваясь разбить его вдребезги, и опомнилась только в последнюю секунду, когда уже занесла кулак для удара. На войне побеждает тот, кто сумеет сохранить хладнокровие. От судороги на лице болью свело скулы.
– Мне надо идти. Спасибо за известие.
Удивительно, оказывается, она еще не забыла французский язык и в состоянии связно произносить слова.
Курт не пошел за ней, оставшись стоять внизу и пытаясь дрожащими руками раскрыть портсигар. Непостижимая, прекрасная женщина, недосягаемая, как звезда в небесах. Курт, наконец, смог сунуть в рот сигарету, но сжал ее зубами так сильно, что сломал. В последнее время он слишком много курит. Глупость, но рядом с Таней он чувствовал себя курсантом, впервые севшим за штурвал самолета.
Не став затягиваться, он отшвырнул сигарету на пол и посмотрел на часы: пора в полк, и, майн Гот, пусть найдется тот, кто скажет, что майор Курт Эккель не дерется как лев!
Пока Таня медленно поднималась по лестнице, перед ее глазами колыхалось черно-красное зарево пожарищ, в эпицентре которого был Юра. За то, чтобы оказаться сейчас в России, она, не задумываясь, отдала бы свою жизнь. На последней ступеньке она села и обхватила руками голову, пытаясь втиснуть в душу страшное известие о войне в СССР. Обрушившаяся беда пригибала к полу, выкручивая узлом внутренности. От страшного спазма в животе на глазах выступили слезы.
Глядя, как в окне качаются ветки каштана, она думала, что по сравнению с Россией война во Франции покажется миру потешными боями на масленицу, когда дерутся не всерьез, а до первой крови из носу. Оккупированная Франция нахохлилась, поскучнела, побледнела, но в целом продолжала жить своей вполне благополучной жизнью. Работали кафе и ресторанчики, по вечерам в районе площади Пигаль слышалась веселая музыка и звучал смех. Люди ходили в гости, следили за модой. Постоянная клиентка бутика, живущая в фешенебельном районе парка Монсо, хвасталась, что назло фашистам два раза в неделю ездит на велосипеде в бассейн. Отличный способ борьбы! Интересно, сколько ленинградцев сможет похвалиться чем-то подобным?
Нет, безусловно, французы были патриотами Франции, но большинством населения фашисты не воспринимались как лютые враги, подлежащие немедленному уничтожению, пусть даже ценой собственной жизни. Несмотря на оккупационный режим, подспудно немцы считались «своими», к которым пусть с презрением, скрепя сердце, но можно притерпеться.
Покорить Францию – это значит занять ее территорию и установить свои порядки, а покорить Россию – значит убить почти всех русских, потому что русские никогда не сложат оружие перед вторжением иноплеменных. Они будут биться до последнего патрона, оставленного для себя. Сейчас, как никогда, Таня чувствовала, что связана с Родиной самой крепкой, смертной связью, идущей от колыбели до могилы.
– Юра, Юрочка, где ты? – на остатках дыхания, по-бабьи провыла она в сложенные ковшиком ладони.
Подняться со ступенек и пойти домой рассказать маме о начавшейся войне не хватало духа. Где-то внизу хлопнула дверь. Веселым стаккато по лестнице протопали ножки соседской девочки. Резкий голос мадам Форнье громко распекал консьержку за неубранный с пола окурок.
«Наверное, Эккель бросил», – вяло подумала Таня.
Она снова ощутила себя запертой в железном ящике, одинокой и опустошенной. Господи, тогда в руке был ключ от Юриной квартиры. Таня зачем-то сунула руку в сумочку, хотя знала, что медный ключ висит в гостиной на гвоздике рядом с портретом дамы в зеленой шляпе.
Значит, немцам будет война до победного конца или до смерти. Другого русским не дано по праву рождения.
В следующие пару месяцев Курт Эккель в подъезде не появлялся. Таня сменила туфли с бесшумной каучуковой подошвой на обычные лодочки и уже смело спускалась с лестницы, не боясь, что стук каблуков приманит ненавистного немца. Вспоминая его дикое объяснение в любви, она содрогалась от омерзения и ужаса.
Сейчас его руки, наверное, держат штурвал самолета, убивающего ее Родину, дорогую Россию, любимую до последней березки в поле, до ржавой болотной лужицы в весеннюю распутицу. Она всей душой желала, чтобы самолет Эккеля был сбит советским летчиком, прежде чем смертоносный груз упадет на головы безвинных людей.
В первые же дни войны с Россией, «настоящей войны», как определила Фелицата Андреевна, Таня стала выходить из дома на час раньше, чтобы успеть забежать к Люде и узнать последние новости с фронта. Сама она, имея двух детей, не могла позволить себе слушать запрещенные радиопередачи. В дверях Люда торопливо совала ей листок бумаги, исписанный бисерным почерком, и шла спать, потому что сводки новостей Би-би-си передавало глубокой ночью и Люда уже успела забыть про нормальный сон с вечера до утра.
Единственным достоверным источником новостей являлась программа английского радио на французском языке для лагерей военнопленных.
Однажды Таня нарочно осталась ночевать у Люды, чтобы лично услышать позывные – начальные ноты Пятой симфонии Бетховена, и затем слова: «Говорит Лондон». Сквозь радиопомехи они казались звуками, долетавшими из другой галактики.
Все было плохо: Киев взят, под Москвой фашисты, армия вермахта скоро зажмет Ленинград в стальные клещи и уничтожит.
За словами сводки Таня почти воочию представляла мертвых солдат на поле боя и сожженные деревни с закопченными трубами, внутри которых с жутким свистом воет черный ветер. На душе было тошно и тягостно. Каждую ночь снился Юра со спокойным взглядом серых глаз, как у отца Игнатия и Варюхи. Не дотянуться до него, не достать ни взглядом, ни голосом. Кто постирает ему портянки и пришьет пуговицу к гимнастерке? Кто, заливаясь слезами, будет бежать за ним до военкомата? Кто перекрестит на прощание и скажет: «Вернись живым, я буду ждать»?
От любви и бессилия хотелось биться головой о стену. Таня срывалась с кровати и становилась на колени перед иконами.
– Господи, спаси и помилуй!
Ее безмолвный крик птицей колотился в окна, уносясь в темное парижское небо, осененное куполами базилики Сакре-Кер на Монмартрском холме. Закрывая глаза, Таня представляла вместо него громаду Исаакиевского собора с розоватыми колоннами, поддерживающими фронтон с надписью «Храм Мой храм молитвы наречется».
Наверное, мимо Исаакия по Конногвардейскому бульвару сейчас идут войска в сторону фронта. Ряд за рядом, с винтовками за плечами и с хмурыми лицами, каждое из которых сейчас казалось родным до боли.
Чаще всего почему-то вспоминался тот пограничник, Черемисин, который обозвал ее на границе белогвардейским недобитком. За него Таня тоже горячо молилась, упрашивая, чтобы ее молитва смогла уберечь всех: и верующих, и неверующих, и даже завзятых коммунистов, которые сейчас защищают Святую Русь.
Белоруссия, 1941 год
Когда немецкие танки откатили за завесу дыма и затихли одиночные выстрелы, Черемисин понял, что из всего взвода в живых остался он один. Рядом лежал политрук Милютин. Его голова была разворочена взрывом, и мертвые пальцы успели закостенеть на рукояти пистолета. Перебирая руками по краю траншеи, Черемисин сделал несколько неверных шагов вперед и тяжело сполз вниз по сухому песку с примесью суглинка. На краю окопа перед глазами качалась сломанная береза. Наверное, он уцелел потому, что деревце приняло на себя его снаряд. По щеке текло что-то мокрое и липкое.