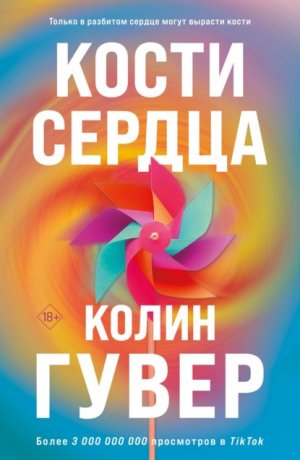
© Романова Е., перевод на русский язык, 2023
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023
Келли Гарсиа, посвящаю эту книгу тебе и твоему мужу.
Живите долго и счастливо!
1
Лето 2015-го
У нас в гостиной висит портрет матери Терезы – ровно на том месте, где у людей обычно красуется телевизор. Мы не можем себе позволить ни плоский телик, какие обычно вешают на стену, ни даже дом с нормальными стенами, которые выдержали бы подобную тяжесть.
Стены в трейлере совсем не такие, как в обычных домах. Поскребешь их ногтем – посыплется белая пыль, будто они сделаны из мела.
Однажды я спросила свою мать Жанин, почему у нас в гостиной висит портрет матери Терезы.
– Эта тварь всех провела, – ответила она.
Ее слова. Не мои.
По-моему, дурной человек невольно ищет в людях дурное. Это такой защитный механизм, или, если хотите, тактика выживания: исследовать темную сторону чужой души в попытке скрыть истинный оттенок собственной. Моя мать посвятила этому всю жизнь. Она искала в людях изъяны. Даже в родной дочери.
Даже в матери Терезе.
Жанин лежит на диване ровно в той же позе, что и восемь часов назад, когда я уходила на работу в «Макдоналдс». Она уставилась на портрет матери Терезы, но на самом деле ничего не видит. Ее глазные яблоки больше не шевелятся.
Не воспринимают мир.
Жанин – зависимая. Я догадалась об этом, когда мне было лет девять, хотя в ту пору она налегала только на спиртное, азартные игры и секс.
С годами ее пристрастия становились заметнее и пагубнее. В свои четырнадцать я впервые застала ее за употреблением мета. Когда человек подсаживается на мет, продолжительность его жизни резко сокращается. Однажды я зашла в школьную библиотеку и погуглила: «Сколько можно прожить с тяжелой наркозависимостью?»
Шесть-семь лет, ответил Интернет.
С тех пор я не раз находила мать в полной отключке. Но эта отключка другая. Окончательная, что ли.
– Жанин?
Голос у меня мог бы задрожать, сорваться или вовсе пропасть, но он, на удивление, ровный. Даже как-то неловко за свое спокойствие в такую минуту.
Я роняю сумку к ногам и, не сходя с места, внимательно разглядываю мамино лицо. На улице дождь, а я еще не закрыла дверь, поэтому меня до сих пор поливает. Глядя, как Жанин пялится на мать Терезу, я меньше всего думаю о том, чтобы спрятать спину от дождя.
Одна рука Жанин лежит на животе, другая свисает с дивана. Кончики пальцев едва касаются потертого ковролина. Она немного отекла и оттого кажется моложе. Не моложе своих лет – ей всего тридцать девять, – а моложе, чем обычно: щеки не такие впалые, кожа вокруг губ, покрывшаяся в последние годы глубокими морщинами, разгладилась, как от ботокса.
– Жанин?
Нет ответа.
Рот слегка приоткрыт, отчего видны сколотые края гнилых желтых зубов. Как будто смерть застала ее на полуслове.
Я уже давно представляла, как это произойдет. Когда всей душой ненавидишь человека, ночами порой не дает покоя мысль: какой станет жизнь без него?
В моих фантазиях все было иначе. Куда драматичнее.
Я еще секунду-другую гляжу на Жанин – хочу убедиться, что та не впала в какой-нибудь транс. Делаю несколько шагов и замираю, увидев иглу, торчащую из вены на внутреннем сгибе локтя.
При виде этой иглы до меня наконец доходит, что случилось. Все тело будто облепляет пленка слизи, к горлу подкатывает тошнота. Я разворачиваюсь, вылетаю на улицу и перегибаюсь через трухлявые перила крыльца. Стараюсь не слишком на них налегать – чего доброго, проломятся.
Как только меня выворачивает, приходит облегчение: вот это уже нормальная реакция на переломный момент в жизни. Пусть я не бьюсь в истерике, как положено дочери, но хоть что-то чувствую.
Отерев рот рукавом форменной рубашки и не обращая внимания на дождь, который все еще льется на меня с бессердечного вечернего неба, я сажусь на ступеньку крыльца.
Волосы и одежда промокли насквозь. По лицу тоже градом бежит вода. Не слезы, нет. Только дождь.
Глаза мокрые, а на сердце сухо.
Я зажмуриваюсь и прячу лицо в ладонях, пытаясь понять, чем объясняется мое равнодушие. Воспитанием? Или я такой родилась?
Интересно, какое воспитание все же губительнее – когда человека с детства окружают любовью и он до последнего не догадывается, как жесток мир, а потом просто не успевает развить необходимые для выживания навыки, или когда человек растет вот в такой семье, самой кошмарной из возможных, где его только и учат, что выживать?
В детстве, когда я еще не могла сама зарабатывать себе на хлеб, по ночам меня часто мучил голод. Однажды Жанин рассказала, что урчание, доносящееся из моего желудка, – это крик прожорливой кошки, которая поселилась у меня внутри и громко орет, если ее не накормить. С тех пор я начала представлять, как эта кошка рыщет по моему нутру в поисках съестного. А вдруг она ничего не найдет и с голодухи начнет пожирать мои внутренности? Со страху я набивала живот чем попало – и не только едой.
Как-то раз мать оставила меня одну так надолго, что я поужинала кожурой от банана и яичной скорлупой. Пыталась закусить набивкой дивана, но не сумела ее проглотить. Почти все детство я боролась с этим страхом – что меня медленно пожирает изнутри голодная кошка.
Вряд ли мать оставляла меня дольше чем на день, но для одинокого ребенка время тянется ужасно медленно.
Помню, как она вваливалась в дом, падала на диван и часами лежала в отключке. Я засыпала рядом, свернувшись клубком в другом углу дивана, потому что боялась от нее отойти.
Утром после таких загулов меня обычно будил запах еды: Жанин готовила завтрак. Не всегда завтрак в привычном понимании слова – это мог быть зеленый горошек, яйца или просто разогретый куриный бульон из банки.
Примерно в возрасте шести лет я начала обращать внимание на то, как работает плита – чтобы знать, как с ней управляться, если мать опять исчезнет.
Многим ли шестилеткам приходится учиться пользоваться плитой из страха, что их сожрет изнутри голодная кошка?
Наверное, я просто вытянула несчастливый билет. Большинству детей достаются такие родители, по которым можно скучать, когда те умрут. Остальным везет меньше: их родители своей смертью оказывают детям услугу.
Пожалуй, больше всего я признательна матери именно за то, что она умерла.
Баз разрешил посидеть в патрульной машине, пока будут выносить тело, – чтобы я не мокла под дождем и не торчала дома. Вот мать уложили на каталку, накрыли белой простыней и закатили в труповозку – даже «Скорую» вызывать не стали. А смысл? В нашем городке люди младше пятидесяти умирают исключительно от зависимости.
Не важно, от какой именно. В конечном счете любая зависимость смертельна.
Я прижимаюсь щекой к стеклу и смотрю на небо. Звезд сегодня нет. Даже луны не видно. То и дело вспыхивают молнии, освещая скопления черных туч.
Погодка под стать случаю.
Баз открывает дверь и нагибается. Дождь сменился моросью, поэтому лицо у него слегка влажное, будто покрыто испариной.
– Подвезти тебя куда-нибудь? – спрашивает он.
Я мотаю головой.
– Если позвонить надо – не стесняйся, бери мой мобильник.
Опять мотаю головой:
– Все нормально. Домой уже можно?
Не знаю, так ли я хочу обратно в трейлер, где недавно испустила дух моя мать, но более заманчивых альтернатив на горизонте что-то не видно.
Баз отходит в сторонку и раскрывает передо мной зонтик, хотя на улице уже не льет, а я все равно промокла насквозь. Иду к дому, Баз с зонтиком шагает сзади.
Вообще-то я не очень хорошо знаю База. Зато с Дакотой, его сыном, знакома очень близко – настолько близко, что сама не рада.
Интересно, Баз осознает, какого вырастил сына? С виду Баз – человек порядочный, и к нам с мамой он всегда относился нормально. Иногда, патрулируя улицы, он проезжает через трейлерный парк и заглядывает к нам – справляется, как дела. В такие минуты он будто ждет, что я зарыдаю и попрошу забрать меня отсюда. Разумеется, я не рыдаю. И не прошу. Такие, как я, отлично умеют изображать благополучие. Я улыбаюсь, говорю, мол, дела замечательно, и тогда он облегченно вздыхает, радуясь, что я не дала ему повода для звонка в опеку.
Очутившись в гостиной, я не могу отвести глаз от дивана. Он теперь выглядит иначе. Как будто на нем кто-то умер.
– Все нормально? Ночь впереди…
Я оборачиваюсь: Баз стоит за дверью под зонтом и смотрит на меня. Взгляд добрый, сочувственный, но я-то знаю, что в мыслях он представляет гору бумаг, которые ему придется заполнить по нашей милости.
– Да, все хорошо.
– Завтра загляни в бюро ритуальных услуг – надо устроить похороны. Они сказали, что ждут тебя в любое время после десяти.
Я киваю, но он не уходит. Только стоит на крыльце, переминаясь с ноги на ногу. Потом закрывает зонт на улице – неужто верит в плохие приметы? – и шагает через порог.
– Знаешь, – говорит Баз и так морщит лоб, что даже плешь идет складками. – Если ты не доберешься до ритуальщиков, они похоронят ее безвозмездно. Никакой церемонии не будет, зато и платить не придется.
Ему явно очень неловко говорить об этом. Он невольно косится на портрет матери Терезы и виновато опускает глаза, будто та его пожурила.
– Спасибо.
Устрой я похороны, на них все равно никто не пришел бы. Печально, но факт: моя мать была совершенно одинока. Конечно, она с кем-то общалась в местном баре, куда ходила последние лет двадцать, но тех людей не назовешь ее друзьями. Это просто такие же доходяги, которые идут в бар, чтобы сходить с ума от одиночества вместе.
Да и та компания в последние годы сильно поредела: наркотики выкосили полгорода. А чудом уцелевшие алкаши все равно не из тех, кто захочет пойти на похороны. На большинство выписаны действующие ордера на арест, и они избегают любых общественных мероприятий – на тот случай, если полиция решит устроить облаву.
– Отцу позвонишь? – спрашивает Баз.
Я молчу, сознавая, что рано или поздно мне придется это сделать. Но лучше поздно, чем рано.
– Бэйя. – Он опять произносит мое имя неправильно – через «э».
– Правильно «Бейя», через «е».
Не знаю, зачем его поправила. Сколько себя помню, Баз всегда называл меня Бэйей, и раньше я не поправляла.
– Бейя… Это не мое дело, но… Тебе надо уезжать. Сама знаешь, что здесь происходит с такими… – Он осекается, боясь меня обидеть.
Заканчиваю за него:
– С такими, как я?
Теперь у него еще более пристыженное лицо, хотя он не имел в виду ничего плохого. Он говорил в общем смысле. «Такие, как я» – это люди с такими матерями, как моя. Малоимущие. Люди, у которых нет возможности уехать из города. Люди, которые устраиваются официантами в закусочные и пашут там до одури, и когда повар предлагает им закинуться чем-нибудь для бодрости, чтобы скоротать остаток смены, они соглашаются, а потом глазом моргнуть не успеют, как уже не представляют жизни без дозы и ради нее готовы жертвовать чем угодно, даже безопасностью собственного ребенка. Скоро они начинают колоться – и умирают от передоза, глядя на портрет матери Терезы на стене, а ведь им всего-то хотелось ненадолго сбежать от паршивой реальности.
В моем доме Базу явно не по себе. Скорей бы он ушел. Почему-то его мне жаль даже больше, чем себя, а ведь это я только что обнаружила на диване труп родной матери.
– Я незнаком с твоим отцом, но знаю, что он платил за трейлер с того дня, как ты родилась. Уже по одной этой причине тебе лучше поехать к нему, чем оставаться здесь. Если можешь уехать – дерзай. Так жить нельзя, ты достойна большего.
Подумать только, эти добрые слова – в жизни не слышала ничего приятнее – мне говорит не кто-нибудь, а отец Дакоты!
Секунду-другую он смотрит на меня, словно хочет что-то добавить. Или ждет ответа. Но мы оба молчим, и наконец он кивает и уходит.
Я вновь поворачиваюсь к дивану. Смотрю на него так долго, что все происходящее начинает казаться сном. Удивительно, как быстро может поменяться жизнь человека – в считаные часы между пробуждением и отходом ко сну.
Не хочется это признавать, но Баз, конечно, прав. Оставаться здесь нельзя. Я и не собиралась, просто до сегодняшнего дня думала, что у меня есть лето на подготовку к побегу.
Весь год я вкалывала как проклятая, чтобы наконец уехать отсюда, и в августе планировала сесть на автобус до Пенсильвании.
Я поступила в Пенстейт – Университет штата Пенсильвания, – получила там волейбольную стипендию. В августе я навсегда распрощаюсь с этой жизнью. Ни заслуги матери, ни деньги отца тут ни при чем. Я сделаю это сама.
Это будет моя победа.
Я намерена всего в жизни добиться сама. Мои успехи будут только моими.
Если в будущем меня ждет что-то хорошее, я отказываюсь благодарить за это Жанин. Я не рассказывала ей про стипендию. Никому не рассказывала. Даже с тренера взяла клятву хранить молчание, не стала позировать для школьного альбома и не разрешила написать об этом в школьной газете.
Отец тоже ничего не знает о стипендии. По-моему, он даже не в курсе, что я играю в волейбол. Тренеры позаботились, чтобы у меня было все необходимое для занятий: экипировка, форма и так далее. Они решили, что финансовые трудности не должны помешать мне играть, – вот насколько им хотелось видеть меня в команде.
Родители не купили мне ни единой волейбольной вещи. Мне не пришлось их просить.
Странно даже называть их родителями. Они дали мне жизнь, но это практически единственное, чем я им обязана.
Видите ли, я – дитя случайной связи. Отец жил тогда в штате Вашингтон, а в Кентукки приехал по работе. Познакомился с Жанин, однако знать не знал, что она залетела – мне было уже три месяца, когда она потребовала у него алименты на содержание ребенка.
Пока мне не исполнилось четыре, он исправно навещал меня раз в год. А потом я стала летать к нему в Вашингтон. Тоже раз в год.
Ему ничего не известно о моей жизни в Кентукки. Ничего не известно о пристрастиях матери. Ничего не известно обо мне – за исключением тех крох, что я изредка ему скармливаю.
Я очень скрытна. Тайны – моя единственная валюта.
Отцу я не рассказывала про волейбол по той же причине, что и матери. Не хочу, чтобы он гордился дочкой, которая сумела чего-то добиться. Он не имеет права гордиться ребенком, для которого и пальца о палец не ударил. Пусть не думает, что ежемесячный чек и редкие звонки мне на работу могут загладить вину за то, что мы практически не знакомы.
Он даже не воскресный папа. Он – мой отец на две недели в году.
Как бы ему ни хотелось в это верить, огромное расстояние, что нас разделяет, – вовсе не уважительная причина для его отсутствия в моей жизни. Если раньше я приезжала к нему хотя бы на пару недель, то в последние три года мы не виделись вовсе.
В шестнадцать меня взяли в университетскую команду, тренировки стали занимать львиную часть дня, и я начала придумывать все новые и новые предлоги, чтобы не ездить к отцу.
Он каждый раз делает вид, что ужасно расстроен.
Я делаю вид, что мне совестно и что я безумно занята.
Извини, Брайан, ежемесячный чек говорит лишь о том, что ты ответственный человек. Он не делает тебя отцом.
Внезапный стук в дверь выводит меня из оцепенения – от неожиданности я даже вскрикиваю. Резко оборачиваюсь и сквозь окно вижу на крыльце Гэри Шелби. Обычно я ему не открываю, но сейчас этот номер не пройдет. Во-первых, он знает, что я не сплю: пришлось звонить от него в полицию. Кроме того, мне нужно поскорее разобраться с этим диваном. Не хочу, чтобы он здесь стоял.
Когда я открываю дверь, Гэри вручает мне конверт и сразу вламывается в дом, прячась от дождя.
– Что это?
– Извещение о выселении.
Не будь это Гэри Шелби, я удивилась бы, но от этого гада всего можно ожидать.
– Слушай, она же в буквальном смысле еще остыть не успела. Ты не мог подождать?
– Она задолжала мне за три месяца, а кроме того, я не сдаю жилье подросткам. Тебе ведь еще нет двадцати одного? Значит, придется съехать.
– Погоди, за трейлер отец платит. Какие еще три месяца?!
– Твоя мать сказала, что он больше не присылает чеки. Мистер Ренальдо хотел домик попросторней, вот я и предложу ему…
– Ну и сволочь ты, Гэри Шелби.
Он пожимает плечами:
– Бизнес есть бизнес. Я уже дважды высылал ей предупреждения. Тебе наверняка есть куда пойти. Одна ты все равно жить не можешь, тебе шестнадцать.
– Девятнадцать. На прошлой неделе исполнилось.
– До двадцати одного все равно не дотягивает, а по условиям договора аренды должно быть именно столько. Не говоря о том, что надо исправно платить.
Конечно, он не может просто так меня выселить – наверняка необходимо какое-то решение суда, да что толку с ним бодаться, если жить я здесь все равно не собираюсь?
– Сколько дашь времени?
– Неделю.
Неделю?! Податься мне некуда, а за душой – двадцать семь долларов.
– Можно два месяца? В августе я уезжаю учиться.
– Если бы не трехмесячная задолженность, я, может, еще пошел бы тебе навстречу. Но три плюс два выходит пять – почти полгода бесплатного проживания. Столько денег тратить на благотворительность я не могу, уж извини.
– Вот сволочь!.. – бормочу я себе под нос.
– Да, это я уже слышал.
Пытаюсь сообразить, кто из друзей мог бы приютить меня на два месяца. Натали уехала в колледж прямо в день выпускного – решила сперва походить там на курсы летней подготовки. Остальные либо бросили школу еще раньше и уверенно шли по стопам Жанин, либо обзавелись семьями – словом, им не до меня.
Есть Бекка, но у нее такой мерзкий отчим, что я и на милю к нему не подойду – лучше уж жить с Гэри, честное слово.
Осталась последняя надежда.
– Мне надо позвонить.
– Поздновато, – говорит Гэри. – Завтра позвонишь.
Отпихнув его в сторону, выхожу на улицу.
– Тогда нечего было выселять меня сегодня!
Иду под дождем прямиком к его дому – стационарный телефон в нашем парке есть только у Гэри. Поскольку большинство местных не могут позволить себе мобильную связь, все ходят звонить к нему. Кроме тех, конечно, кто задолжал.
Прошел почти год с тех пор, как я последний раз звонила отцу, однако его телефон я еще помню. У него уже восемь лет этот номер. Примерно раз в месяц он звонит мне на работу, однако я стараюсь избегать разговоров – о чем говорить с человеком, которого едва знаешь? Лучше уж вовсе не общаться, чем кормить его враньем в духе: «У мамы все хорошо. В школе все хорошо. На работе все хорошо. И вообще все хорошо».
Проглотив гордость – плотный и вязкий ком, – я набираю номер отца. К счастью, он не отключил телефон на ночь и снимает трубку со второго гудка.
– Брайан Грим.
Голос хриплый. Разбудила, значит.
Откашливаюсь.
– Кхм, привет, пап.
– Бейя? – Он тут же просыпается: мой звонок среди ночи не на шутку его встревожил. – В чем дело? Что-то случилось?
С языка так и рвется: «Жанин умерла», но слова застревают в горле. Он почти не знал мою мать, а в Кентукки последний раз приезжал давным-давно, когда она еще неплохо выглядела, – по крайней мере, не напоминала ходячий скелет.
– Да нет, все нормально.
Как-то странно сообщать такую новость по телефону. Уж лучше при встрече.
– Почему ты звонишь так поздно? Что случилось?
– Я сегодня в ночную. Днем к телефону не подойти.
– Потому я и выслал тебе мобильник.
Он выслал мне мобильник? Даже спрашивать не буду. Мать наверняка его загнала – и, возможно, купила на эти деньги ту самую дозу, что сейчас гниет в ее венах.
– Слушай, – говорю, – мы давно не виделись, я хотела тебя проведать, пока не началась учеба.
– Да, конечно, давай, – без промедления отвечает отец. – Назови дату. Билеты я куплю.
Кошусь на Гэри: тот стоит рядом и пялится на мою грудь.
– Я надеялась приехать уже завтра.
В трубке повисает тишина – слышно, как отец встает с кровати.
– Завтра? У тебя точно все хорошо, Бейя?
Я запрокидываю голову, зажмуриваюсь и опять вру:
– Да, да. Просто Жанин… Короче, мне надо сменить обстановку. И я соскучилась.
Нет, не соскучилась. Мы едва знакомы. Но сейчас мне нужно отсюда свинтить – и желательно побыстрей.
В трубке раздается клацанье клавиатуры – видимо, отец сел за компьютер. Он начинает бормотать себе под нос названия авиакомпаний и часы вылета.
– Так, смотри. Можешь добраться самолетом «Юнайтед», он вылетает в Хьюстон рано утром. В аэропорту надо быть через пять часов. Когда обратно?
– В Хьюстон? Почему в Хьюстон?
– Я переехал в Техас. Полтора года назад.
Н-да, пожалуй, дочери положено такое знать. Хорошо хоть номер мобильного не сменил!
– Ах да, запамятовала. – Хватаю себя за шею. – Можешь пока не покупать обратный? Может, побуду у тебя подольше.
– Хорошо, покупаю в один конец. Утром в аэропорту найдешь стойку «Юнайтед», возьмешь там посадочный. Встречу тебя на выдаче багажа.
– Спасибо!
Быстро вешаю трубку, пока он не успел задать еще какой-нибудь вопрос. Когда я оборачиваюсь, Гэри указывает пальцем на дверь.
– Если хочешь, подвезу тебя до аэропорта, – говорит он. – Не бесплатно, разумеется.
От его ухмылки меня передергивает. Предлагая женщине услугу, Гэри Шелби ждет получить за нее вовсе не деньги.
Лучше попрошу Дакоту – его, конечно, тоже придется отблагодарить, но он хотя бы не Гэри.
Как бы я ни презирала Дакоту, к нему я уже привыкла. И на него всегда можно положиться.
Вновь снимаю трубку и набираю Дакоту. Отец сказал, что вылет только через пять часов, но потом может быть поздно: если Дакота уснет, звонком его не разбудишь. Лучше приеду в аэропорт пораньше.
К счастью, Дакота подходит к телефону.
– Да? – слышится в трубке его заспанный голос.
– Привет. Нужна помощь.
Секундная тишина, затем:
– Серьезно? Бейя, ночь на дворе!
Он даже не спрашивает, что мне нужно и все ли у меня хорошо. Просто сразу начинает беситься. Напрасно я вообще с ним связалась – надо было обрубить все на корню.
– Отвези меня, пожалуйста, в аэропорт.
В трубке слышится раздраженный вздох – мол, от тебя одни неприятности, Бейя. Хотя я прекрасно знаю, что это не так. Пусть нас связывают скорее деловые отношения, ему бывает со мной хорошо. Очень хорошо.
Скрип кровати: Дакота встает.
– Ладно, дай мне полчаса.
Он вешает трубку. Я тоже.
Прохожу мимо Гэри и на прощание погромче хлопаю дверью.
С годами я научилась не доверять мужчинам. Все они – по большей части – такие, как Гэри Шелби. Баз вроде неплохой, и все же нельзя закрывать глаза на то, что он – отец Дакоты. А Дакота – тот же Гэри, только моложе и смазливее.
И хотя время от времени кто-нибудь рассказывает мне о хороших и добрых мужчинах, я начинаю думать, что это миф. Раньше мне казалось, что Дакота как раз из хороших. Снаружи они все такие, однако я-то знаю: под слоями эпидермиса и подкожного жира прячется червоточина.
Дома я окидываю взглядом спальню – хочу ли я взять что-то с собой? Нет. Мне и собирать толком нечего, если не считать сменной одежды, расчески и зубной щетки. Складываю вещи в полиэтиленовые мешки, а потом уже в рюкзак, чтобы не намокли, если опять попаду под дождь.
Прежде чем выйти на улицу – ждать Дакоту, – снимаю со стены портрет матери Терезы. Пытаюсь запихнуть его в рюкзак, но он не влезает. Тогда я просто беру еще один пакет, кладу туда портрет и с ним выхожу из дома.
2
Одна умершая от передоза мать, одна пересадка в Орландо, несколько задержек в связи с нелетной погодой – и вот я на месте.
В Техасе.
Как только я выхожу из самолета в телетрап, меня окутывает полуденный зной: кожа моментально начинает плавиться и скворчать, будто я кусок сливочного масла на сковородке.
Вяло, без особых надежд я бреду по указателям к зоне выдачи багажа, где меня ждет отец, моя плоть и кровь и при этом совершенно чужой человек.
Вообще говоря, плохих воспоминаний об отце у меня нет. Наоборот, я с теплом вспоминаю те летние дни, что мы проводили вместе, – пожалуй, это мои единственные хорошие воспоминания о детстве. Весь мой негатив к отцу вызван не общением с ним, а отсутствием общения. Чем старше я становлюсь, тем ясней понимаю, как мало он сделал для того, чтобы стать частью моей жизни. Иногда я гадаю, как все сложилось бы, проводи я больше времени с ним, чем с Жанин.
Выросла бы я таким же недоверчивым, замкнутым, скрытным циником, если бы на мою долю выпало больше хорошего, чем плохого?
Может, да. А может, нет. Порой мне кажется, что страдания и жестокость оставляют на душе куда более глубокий отпечаток, чем доброта.
Доброта не проникает так глубоко под кожу, не наносит такого урона, как жестокость. Боль марает душу, и эти пятна уже ничем не отмыть: они остаются на виду. Иногда я думаю, что все мои травмы видно с первого взгляда.
Вероятно, моя жизнь сложилась бы иначе, если бы в детстве я сталкивалась с добром и злом в равной мере. Увы, это не так. Те разы, когда кто-то делал для меня что-то хорошее, можно пересчитать по пальцам. Чтобы сосчитать плохое, не хватит пальцев на руках всех людей в аэропорту.
Потребовалось немало времени, чтобы стать невосприимчивой к урону. Воздвигнуть стену, которая защищает меня и мое сердце от людей вроде матери. От мужчин вроде Дакоты.
Теперь я сделана из стали. Давай, мир, налетай. Мне ничего не будет – я непробиваемая.
Поворачиваю за угол и замечаю отца за стеклянной стенкой, разделяющей здание аэропорта на открытую и закрытую зоны. Секунду-другую медлю: осматриваю его ноги.
Обе.
Школьный выпускной был две недели назад, и, конечно, я не ждала, что отец приедет. Не ждала – и все же крошечная надежда у меня теплилась. Однако за неделю до выпускного он позвонил мне на работу и попросил передать, что сломал ногу и не сможет прилететь в Кентукки.
А сейчас я смотрю и вижу, что с ногами у него полный порядок.
Хорошо быть непробиваемой – такая ложь могла бы причинить немало боли.
Он расхаживает туда-сюда вдоль багажной ленты, при этом костылей у него нет, и он ни капельки не хромает. Я не врач, но даже мне известно, что кость не может полностью срастись за три недели. А если бы и могла, все равно перелом должен как-нибудь отразиться на походке.
Я уже жалею, что приехала. А ведь отец еще даже меня не увидел.
В последние сутки события разворачивались так стремительно, что я и очухаться не успевала. Мать умерла, я навсегда уехала из Кентукки и теперь должна провести несколько недель с человеком, с которым за всю свою жизнь провела меньше двухсот дней.
Но ничего, я справлюсь.
Никуда не денусь.
Я вхожу в зал выдачи багажа как раз в ту секунду, когда отец поднимает глаза. Он останавливается, однако руки из карманов брюк не достает – явно нервничает. Мне это по душе. Хочу, чтобы он помучился, чтобы ему стало стыдно за то, как мало участия он принимал в моей жизни.
Этим летом условия диктую я. Не представляю, каково жить рядом с человеком, который пытается наверстать упущенное время гиперопекой. Хорошо бы просто делать вид, что отца не существует, и даже не разговаривать с ним до самого отъезда в Пенсильванию. Так нам обоим было бы проще.
Мы идем навстречу друг другу. Он сделал первый шаг – значит, я сделаю последний. Мы не обнимаемся, потому что руки у меня заняты рюкзаком, сумкой и портретом матери Терезы. Я вообще не любитель обнимашек. Улыбки, крепкие объятия и прочие телячьи нежности не входили в мою повестку дня.
Мы неловко киваем друг другу в знак приветствия. Ясно же, что мы абсолютно чужие люди. Объединяет нас только фамилия и некоторое количество общих генов.
– Ух ты, – говорит отец, окидывая меня потрясенным взглядом и качая головой. – Ты выросла. И стала красавицей. Такая высокая… и…
Я выдавливаю улыбку.
– А ты стал… старше.
В черных волосах отца появилась проседь, лицо немного округлилось. Я всегда думала, что он красивый, но так думают про своих отцов большинство маленьких девочек. Теперь я повзрослела и вижу, что он действительно хорош собой.
Даже никчемные отцы могут выглядеть привлекательно.
В нем что-то изменилось – не могу понять что, но возраст тут ни при чем. И я не уверена, что перемены мне нравятся.
Он показывает пальцем на багажную ленту.
– Сколько у тебя чемоданов?
– Три.
Ложь срывается с губ сама собой – даже подумать не успеваю. Иногда прямо диву даюсь, как легко у меня получается врать. Очередной навык, необходимый для выживания с Жанин.
– Три больших красных чемодана. Я взяла все, что было, на случай, если решу остаться на несколько не-дель.
Раздается гудок, и багажная карусель приходит в движение. Отец встает у дыры в стене, откуда начинают выезжать чемоданы. Я закидываю за спину рюкзак – рюкзак, в который поместились все мои нехитрые пожитки.
У меня и одного чемодана нет, не то что трех. Просто я подумала: если аэропорт потеряет мой багаж, может, отец предложит купить мне новые вещи взамен утерянных?
Да, да, это наглая ложь. Знаю. Но и у него ноги целы, так что мы квиты.
Ложь за ложь.
Несколько минут мы ждем моего несуществующего багажа. Обоим ужасно неловко.
Наконец я говорю, что хочу умыться, и минут на десять ухожу в туалет. Перед посадкой в самолет я успела снять рабочую форму и надеть летний сарафан, который и так помялся в рюкзаке, а после моих скитаний по аэропортам и долгих часов в самолете стал выглядеть еще хуже.
Судя по отражению в зеркале, я не похожа на отца. Мамины русые волосы, тусклые и безжизненные, папины зеленые глаза. А еще его губы. У мамы были не губы, а почти невидимая ниточка, так что от отца мне все же досталась не только фамилия. И хотя внешне я отчасти похожа на родителей, я никогда не чувствовала себя их дочерью. Такое ощущение, что в раннем детстве я удочерила саму себя и с тех пор живу одна. Встреча с отцом кажется… просто встречей. Нет чувства, что я наконец вернулась домой. Или чувства, что я этот дом покидала.
Дом – некое мифическое место, которое я искала всю жизнь.
Когда я выхожу из туалета, остальные пассажиры уже ушли, а папа у стойки заполняет бумаги о пропаже багажа.
– На этот билет багаж не зарегистрирован, – говорит агент авиакомпании моему отцу. – У вас есть багажная квитанция? Ее обычно прицепляют к билету.
Отец вопросительно смотрит на меня. Пожимаю плечами:
– Я опаздывала, поэтому мама сдала чемоданы позже, когда мне уже выдали посадочный.
Я отхожу от стойки, якобы заинтересовавшись плакатом на стене. Агент говорит отцу, что нам обязательно позвонят, если чемоданы найдутся.
Отец подходит и указывает мне на дверь.
– Машина там.
Едем домой. Аэропорт остался в десяти милях, а до дома, если верить навигатору, еще шестьдесят три. В машине пахнет лосьоном после бритья и солью.
– Когда устроишься, Сара может сходить с тобой по магазинам – купите самое необходимое.
– Сара? Это кто?
Отец смотрит на меня недоуменно – пытается понять, шучу я или нет.
– Сара. Дочь Аланы.
– Аланы?
Он переводит взгляд на дорогу, самую малость поджав губы.
– Моей жены. Прошлым летом я посылал тебе приглашение на свадьбу. Ты сказала, что тебе не вырваться с работы.
А! Теперь понятно, что за Алана. Я ничего о ней не знаю – кроме того, что было написано в приглашении.
– Не думала, что у нее есть дочь.
– Ясно. Ну да, в этом году мы с тобой почти не общались.
У него такой тон, будто он и сам затаил на меня обиду.
Надеюсь, это не так, потому что я совершенно не понимаю, как и за что он вообще может на меня обижаться. Я – плод его неправильных решений и плохой контрацепции.
– Нам многое нужно друг другу рассказать, – добавляет он.
О да, еще бы!
– Сара – единственный ребенок?
Господи, надеюсь! Весть о том, что придется провести лето с кем-то помимо отца, и так стала для меня серьезным ударом. Еще одного моя бедная нервная система просто не выдержит.
– Единственный. Она чуть старше тебя, только поступила в колледж, сейчас дома на каникулах. Тебе она понравится.
Это мы еще посмотрим. «Золушку» я читала.
Он протягивает руку к вентиляционной решетке.
– Тебе не жарко? Не холодно?
– Все нормально.
Хоть бы музыку включил, что ли. Не представляю, о чем с ним можно поговорить.
– Как дела у мамы?
Теряю дар речи.
– Она…
И вот как ему сообщить? Я слишком долго тянула, а теперь, наверное, уже поздно – надо было сказать еще вчера, по телефону. Или когда мы встретились в аэропорту, на худой конец. А сейчас это наверняка покажется отцу странным. Вдобавок я соврала ему при агенте, что на самолет меня посадила мама.
– У нее все хорошо. Впервые за долгое время.
Тянусь к рычагу сбоку, чтобы откинуть сиденье, вместо рычага нащупываю кнопки и жму все подряд, пока спинка не начинает опускаться.
– Разбудишь, когда приедем?
Отец кивает, и да, на душе у меня немного скребут кошки. Но ехать-то еще долго, а мне сейчас хочется одного: закрыть глаза, уснуть и больше не отвечать на неудобные вопросы.
3
Просыпаюсь от сильной встряски: голова мотается туда-сюда по подголовнику, все тело вздрагивает. Распахиваю глаза.
– Паром, – поясняет отец. – Извини, тут всегда трясет – заезд неровный.
Я в смятении оглядываюсь по сторонам, непонимающе смотрю на отца… Наконец потихоньку восстанавливаю картину происходящего.
Вчера умерла моя мать.
Отец по-прежнему не в курсе.
У меня есть мачеха и сводная сестра.
Выглядываю в окно, но за плотными рядами ничего не видно.
– А почему мы на пароме?
– Навигатор предупредил о пробке на Восемьдесят седьмом шоссе, поездка удлинилась на два часа. Авария, наверное. Я решил, что в это время дня быстрее добраться до Боливара на пароме.
– Куда-куда добраться?
– На полуостров Боливар. Там у Аланы летний дом. Отличное место, тебе понравится!
– Летний, говоришь? – Я вскидываю одну бровь. – У твоей жены по дому на каждое время года?
Отец смеется, а ведь я и не думала шутить.
Когда я последний раз приезжала к нему в Вашингтон, он жил в дешевой однокомнатной квартире, и спала я на диване. А теперь у него несколько домов?
Я секунду-другую разглядываю его лицо. До меня дошло, что в нем изменилось. Возраст тут ни при чем. Это деньги.
Он никогда не был богат. Даже близко. Ему хватало на выплату алиментов и аренду однокомнатной, но он был из тех папаш, что экономят на всем – вплоть до того, что сами стригутся. И несколько раз пользуются одним пластиковым стаканчиком.
А теперь я гляжу на него и вижу, в чем причина этих едва заметных перемен, – конечно же, в деньгах. Он стал стричься в парикмахерской. Носить брендовую одежду. А в его машине вместо рычагов – кнопки.
Я кошусь на руль и замечаю посередине сверкающую эмблему: дикая кошка в прыжке.
Мой отец ездит на «Ягуаре».
Мое лицо кривится от отвращения, и я быстренько отворачиваюсь к окну, пока отец не заметил.
– Так ты теперь богач?
Он снова прыскает. С души воротит от его смеха – такой снисходительный, хуже не придумаешь.
– Ну, пару лет назад меня повысили в должности, однако прибавка там была не такая, чтобы я смог позволить себе летний дом. Алане после развода досталась кое-какая недвижимость плюс она стоматолог – очень хорошо зарабатывает.
Стоматолог.
Это катастрофа.
Я росла в трейлере с матерью-наркоманкой, а теперь должна провести лето в доме на пляже, под одной крышей с богатенькой мачехой-стоматологом и ее дочкой – наверняка заносчивой избалованной девицей, с которой у нас нет и не может быть ничего общего.
Лучше бы я осталась в Кентукки.
Мне надо на воздух. Хоть минутку побыть одной.
Приподнимаюсь на сиденье и высматриваю вокруг людей – можно ли тут выходить из машины? Я никогда не видела океан и не плавала на пароме. Мой отец большую часть жизни прожил в Спокане, вдали от моря. Кентукки и Вашингтон – единственные штаты, в которых я пока что была.
– Выйти можно?
– Ага, – отвечает отец. – Наверху есть обзорная площадка. У нас еще минут пятнадцать.
– Ты пойдешь?
Он мотает головой и берется за телефон.
– Надо сделать несколько звонков.
Я выхожу из машины и смотрю назад – там толпятся семьи с детьми, кормят хлебом чаек. В передней части парома и на обзорной площадке тоже куча народу, поэтому я просто иду прочь, пока не скрываюсь у отца из виду. На другой стороне парома никого нет, и я пробираюсь туда, петляя между машинами.
Подойдя к ограждению, я хватаюсь за него руками, чуть подаюсь вперед – и вот он, мой первый в жизни океан.
Если у чистоты есть запах, она должна пахнуть так.
Я совершенно уверена, что никогда еще не дышала столь чистым воздухом. Закрываю глаза и пытаюсь надышаться впрок. Кажется, что этот соленый воздух, разбавляя затхлый кентуккский, все еще липнущий к стенкам легких, преображает меня изнутри.
Ветер треплет волосы, поэтому я собираю их руками и стягиваю резинкой, которую весь день таскала на запястье.
Смотрю на запад. Солнце вот-вот зайдет, и небо расцвечено розовыми, оранжевыми и алыми вихрями. Я видела множество закатов, но еще ни разу не видела солнце вот так – когда между нами лишь океан и тоненькая полоска земли. В небе словно парит громадный огненный шар.
Закат пробирает меня до глубины души – со мной это впервые. От такой красоты на глаза наворачиваются слезы.
И как это меня характеризует? По матери ни единой слезинки не пролила, зато расчувствовалась при виде заурядного природного явления.
И все же я ничего не могу с собой поделать – зрелище действительно меня трогает. В небе смешалось столько красок, что кажется, будто земля пишет облаками стихи, воздавая хвалу тем, кто о ней заботится.
Я делаю еще один глубокий вдох, стараясь хорошенько запомнить это чувство, запахи и крики чаек над водой – на случай, если со временем острота ощущений притупится. Меня всегда интересовало, как жители морских побережий воспринимают окружающую их красоту. Ценят ли они ее меньше, чем те, у кого окна выходят на крыльцо убогого хозяйского дома?
Я оглядываюсь по сторонам, гадая, что сейчас испытывают другие пассажиры. Принимают ли они этот вид как данность? Кое-кто любуется закатом, но большинство не вылезают из машин.
Если я проведу все лето под этим небом, рядом с этим морем, неужели я тоже стану принимать его как данность?
С хвоста парома раздается крик: «Дельфины!» Очень хочется увидеть дельфинов, тем не менее перспектива оказаться подальше от толпы манит еще сильней. Пассажиры дружно устремляются на корму, как мотыльки на свет.
А я, недолго думая, перехожу на нос. Теперь здесь никого, да и машины стоят подальше.
Замечаю на палубе полбуханки хлеба «Санбим» – дети только что кормили им чаек. Наверное, кто-то так торопился увидеть дельфинов, что случайно его обронил.
Живот тут же принимается урчать, напоминая мне, что я голодаю почти сутки: если не считать пачки крендельков в самолете, последний раз я ела вчера за обедом, на работе. Ну, как ела – перекусила картошкой фри.
Прислоняюсь к ограждению и, отрывая помаленьку от куска хлеба, начинаю медленно его жевать.
Я всегда ем хлеб именно так. Не спеша.
Это заблуждение – по крайней мере, в моем случае, – что нищие жадно набрасываются на еду. Наоборот, я всегда ее смакую. Кто знает, когда снова представится возможность поесть? В детстве, добравшись до горбушки, я могла растянуть этот последний кусочек на весь день.
Скоро мне придется избавиться от этой привычки, особенно если новая жена моего отца готовит. Они, наверное, и ужинают всей семьей.
Это будет так странно.
Печально, что мне кажется странным иметь постоянный доступ к еде.
Я закидываю в рот еще кусочек хлеба и оборачиваюсь, чтобы получше рассмотреть наш паром. На боку верхней палубы большими белыми буквами выведено: «Роберт Х. Дедмэн [1]».
Ну и названьице для парома! Не очень-то обнадеживает.
Люди стали понемногу возвращаться на нос. Видимо, дельфины уплыли.
Взгляд ненароком падает на какого-то парня с фотоаппаратом. Он держит камеру непринужденно, словно сущую безделицу, даже ремешок на запястье не накинул. Будто дома у него целая куча запасных камер на случай, если эта упадет и разобьется.
Объектив нацелен прямо на меня.
Я бросаю взгляд за спину, однако ничего интересного там не вижу, – значит, он в самом деле фотографирует меня, больше-то некого.
Когда я вновь к нему поворачиваюсь, он по-прежнему целится в меня из фотоаппарата. Хотя он далеко, на верхней палубе, внутри моментально срабатывают защитные механизмы. Так всегда бывает, стоит мне увидеть симпатичного парня.
Чем-то он напоминает наших кентуккских ребят, что целое лето вкалывали на ферме под палящим солнцем и возвращались в школу вот такими же загорелыми. Лицо смуглое, в волосах много выгоревших на солнце прядей.
Интересно, какого цвета у него глаза?
Нет. Неинтересно. Плевать. Сначала тебя к кому-то влечет, потом ты начнешь ему доверять, а там и до любви недалеко. Все это мне совершенно ни к чему. Я давно научилась выключать эмоции: парень может разонравиться мне так же быстро, как понравиться. Только что меня влекло к человеку – щелк! – и я уже смотреть на него не могу.
Снизу не разглядеть, какое у него выражение лица. Я не очень-то умею читать выражения лиц своих сверстников, потому что у меня никогда толком не было друзей, – и тем более не умею читать лица богатых сверстников.
Опускаю глаза на свою одежду – мятый выцветший сарафан и старенькие шлепанцы (уже два года их ношу). В руке до сих пор кусок хлеба.
Перевожу взгляд на парня с камерой. Объектив по-прежнему нацелен на меня. И тут мне становится неловко.
Давно он меня фотографирует?
Видел ли, как я подобрала с пола чужой хлеб? Снял ли, как я его ела?
Может, планирует запостить снимок в соцсетях, чтобы он тоже завирусился, как тот мерзкий проект «Люди Уолмарта»?
Доверие, любовь, влечение, разочарование – от всего этого я давно научилась защищаться, а вот со стыдом, похоже, еще работать и работать. Меня с ног до головы обдает волной жара.
Растерянно оглядываюсь по сторонам, вспоминая, что на пароме есть и другие люди. Отдыхающие на джипах – в шлепанцах, обмазанные кремом от солнца. Бизнесмены в деловых костюмах (те так и сидят в своих машинах).
И я. Девчонка, которой не по карману ни отпуск, ни автомобиль.
Мне не место на этом пароме, среди шикарных тачек, полных шикарных людей, которым не жалко уронить в море фотоаппарат.
Оглядываюсь на парня. Он все еще пялится. Наверное, гадает, что тут забыла такая, как я – в задрипанном сарафане, с грязными ногтями, секущимися кончиками и темным прошлым.
Прямо передо мной – дверь, ведущая куда-то вглубь парома. Недолго думая, забегаю в нее. Справа уборная. Захожу в нее и запираюсь.
Разглядываю свое отражение в зеркале. Лицо красное – не знаю, от стыда или от техасского зноя и палящего солнца.
Распускаю стянутые резинкой спутанные волосы и пытаюсь немного расчесать их пальцами.
Поверить не могу, что собралась знакомиться с новой семьей отца в таком виде. Они-то наверняка из тех, кто ходит на стрижку и «ноготочки» в салоны красоты, а от морщин и прочих несовершенств их избавляют специальные врачи. Такие женщины источают аромат гардении, а еще у них грамотная речь и богатый словарный запас.
Я вся потная и бледная как поганка, воняю плесенью и прогорклым фритюром.
Выбрасываю остаток хлеба в урну.
В зеркале – самая жалкая и неприглядная версия меня. Возможно, смерть матери подкосила меня куда сильнее, чем я готова признать. И с приездом к отцу я поторопилась. Я не хочу тут быть.
Но и там я быть не хочу.
В данный момент мне вообще трудно быть.
Точка.
Снова убираю волосы в хвост и, вздохнув, открываю дверь. Она тяжелая, из толстой стали, и затворяется за моей спиной с громким хлопком. Не успеваю я сделать и пары шагов, как от стены тесного коридорчика отделяется мужской силуэт. Кто-то преграждает мне выход на палубу.
Я гляжу прямо в непроницаемые глаза того самого фотографа. Он смотрит на меня так, будто догадался, куда я пошла, и нарочно подкарауливал меня у выхода.
Теперь, когда он рядом, я вижу, что он не совсем мой ровесник – скорее, на пару-тройку лет старше. А может, богатство прибавляет ему лет? От него веет самоуверенностью и – готова поклясться! – деньгами.
Я ничего не знаю об этом человеке, но он уже меня бесит.
Он и все ему подобные. Этот подлец думает, что имеет право подлавливать нищих людей в неловкие моменты, фотографировать их, когда им плохо, да еще так гнусно и небрежно держать при этом камеру!
Я пытаюсь обойти его, а он делает шаг в сторону и преграждает мне путь.
Он стоит невыносимо близко. Его глаза (увы – светло-голубые, невероятные) внимательно изучают мое лицо. Бросив взгляд за спину и убедившись, что мы одни, он осторожно вкладывает мне что-то в ладонь. Я опускаю глаза и вижу сложенную двадцатку.
Ну, приехали. Все ясно. Мы ведь стоим возле туалета. И он, конечно, понял, что я бедная.
Думает, у меня все настолько плохо, что я затащу его в туалет и по-быстрому отработаю предложенные деньги?
Не понимаю, что заставляет мужчин так думать? Неужели у меня на лице написано, что я готова перепихнуться за деньги?
В бешенстве комкаю двадцатку и швыряю в парня. Целюсь вообще-то в лицо, но он ловкий и без труда уворачивается.
Тогда я выхватываю у него камеру. Верчу ее в руках в поисках слота для карты памяти, наконец нахожу, вытаскиваю карту и бросаю камеру обратно. Поймать он не успевает. Камера с грохотом падает на пол, и от нее что-то отлетает – прямо к моим ногам.
– Ты чего?!
Парень нагибается за камерой.
Воспользовавшись моментом, я хочу сбежать… и натыкаюсь на другого. Черт, сперва один подстерег меня в коридоре и предложил отсосать за двадцатку, а теперь их двое?! Второй не такой высокий, но пахнет от них одинаково. Гольфом. У гольфа есть запах? Должен быть. Его надо разливать по флаконам и продавать таким вот придуркам, как эти двое.
На втором черная футболка с надписью «Hispanic» на груди, причем слово разделено на два, написанных разными шрифтами: «His» и «panic». Получилось «Его паника». Успев оценить оригинальность задумки, прилипаю к стене.
– Прости, Маркус, – говорит фотограф, пытаясь приладить отвалившуюся от камеры часть.
– Что случилось?
Может, парень по имени Маркус заметил неладное и поспешил мне на помощь? Нет. Его куда больше волнует разбитый фотоаппарат, чем я. Теперь мне немного неловко за свой поступок – камера явно принадлежала Маркусу, а не тому, кто ею пользовался.
Я вжимаюсь в стену, надеясь незаметно просочиться мимо.
– Мы с этой девушкой случайно столкнулись в коридоре, и камера упала, – говорит фотограф, беспечно махнув рукой в мою сторону.
Маркус переводит взгляд с меня на Голубоглазого Гада. Такой, знаете, понимающий, выразительный взгляд – они словно беседуют друг с дружкой на неизвестном мне безмолвном языке.
Маркус протискивается мимо и заходит в туалет.
– Встретимся в машине, мы уже почти на месте.
Я опять остаюсь наедине с фотографом. Хочется одного – поскорей сбежать отсюда и вернуться в машину отца. Парень крутит в руках камеру, пытаясь ее починить, и говорит:
– Я ничего плохого не имел в виду, просто заметил, как ты подобрала хлеб, и решил помочь.
Я склоняю голову набок и, прищурившись, изучаю его лицо в поисках какого-нибудь намека на ложь. Даже не знаю, что обиднее: домогательства или жалость?
Хочется съязвить или сострить – в общем, хоть как-то ответить, – но я только стою и смотрю на фотографа. Что-то в нем есть такое… Он будто впивается в меня своей когтистой аурой.
За ясными глазами скрыто что-то тяжелое и мрачное. Я думала, так бывает только у людей вроде меня. Что такого ужасного могло случиться с этим парнем? Неспроста ведь я сразу разглядела в нем что-то… ущербное.
Да. Ущербный ущербного видит издалека. Это вроде клуба, членами которого никто не хочет становиться.
– Вернешь мне карту? – просит он, протягивая руку.
Ну нет, ни за что не отдам ему фотографии, сделанные без моего согласия! Подбираю с пола двадцатку и сую ему в ладонь.
– Вот, держи двадцать баксов. Купишь новую.
С этими словами я разворачиваюсь и выбегаю в дверь. Крепко стискивая в ладони карту памяти, пробираюсь сквозь ряды машин к отцовской.
Прыгаю в салон и тихо прикрываю за собой дверцу: отец еще разговаривает по телефону. Тянусь к своему рюкзаку на заднем сиденье и прячу карту в боковой карман. Когда я снова поворачиваюсь вперед, те парни уже выходят на палубу.
Маркус болтает по телефону, а фотограф разглядывает камеру и по-прежнему пытается ее починить. Они пробираются к стоящей неподалеку от нас машине. Я вжимаюсь в сиденье, надеясь остаться незамеченной.
Их «БМВ» стоит в двух рядах от нас, со стороны отца. Они садятся в салон.
Папа заканчивает звонок и заводит машину ровно в ту минуту, когда паром пристает к берегу. В небе осталась только половинка солнца: вторую половину проглотили земля и море. Ловлю себя на мысли, что хочу оказаться на ее месте.
– Сара очень ждет вашей встречи, – говорит отец, заведя двигатель. – У нее тут парень, но кроме него на полуострове почти нет сверстников, которые жили бы здесь постоянно, – народ в основном приезжает на выходные. Большинство домов сдаются на AirBnb и Vrbo, такая текучка! Так что она очень рада, что у нее появится подруга.
Машины начинают ряд за рядом съезжать на сушу. Не знаю зачем, гляжу в папино окно на проползающий мимо «БМВ» и вижу, что с пассажирского сиденья на меня смотрит фотограф.
Замираю на месте.
Мы встречаемся взглядами. Он и не думает отводить глаза. Мне совсем не по душе, как отзывается на его взгляд мое тело, поэтому я отворачиваюсь первой.
– А как зовут парня Сары?
Ох, только бы не Маркус и не Голубоглазый Гад!
– Маркус.
Ну, разумеется.
4
Дом оказался вовсе не таким роскошным, как я думала, но и в подобных домах мне еще бывать не доводилось.
Он двухэтажный и стоит на высоких сваях, как и все остальные дома в округе. Чтобы попасть на первый этаж, приходится одолеть два лестничных пролета.
Наверху я ненадолго останавливаюсь.
Оглядываюсь по сторонам. Такое чувство, что впереди – огромная стена из воды и песка. Она тянется в обе стороны, насколько хватает глаз. Вода будто живая – вздымается, дышит. Это величественное и одновременно пугающее зрелище.
Интересно, моя мать хоть раз видела океан? Она родилась и выросла в Кентукки, в том же городке, где вчера умерла. Не помню, чтобы она рассказывала мне о каких-нибудь путешествиях или показывала фотографии из семейных поездок на море. Это грустно. Я не знала, что океан произведет на меня такое впечатление, но теперь, когда я его увидела, думаю, каждый обязан испытать это хотя бы раз в жизни.
Это почти так же важно, как иметь еду на столе или крышу над головой. Я даже не удивлюсь, если на свете существует благотворительный фонд, единственная цель которого – устраивать людям поездки на побережье. Такие поездки надо внести в список основных человеческих прав или товаров первой необходимости.
Океан – это несколько лет психотерапии в одной картинке.
– Бейя?
Я оборачиваюсь и вижу в гостиной женщину – именно такую я себе и представляла. Яркая и блестящая, как фруктовое эскимо, с белыми зубами, розовым маникюром и очень ухоженными светлыми волосами.
С моих губ срывается стон. Вообще-то он не предназначался для чужих ушей, но женщина сразу склоняет голову набок – видимо, услышала. И все равно улыбается.
Я готовлюсь отражать непрошеные объятия: обеими руками крепко прижимаю к себе портрет матери Терезы и рюкзак с вещами.
– Здравствуйте.
Вхожу в дом. Пахнет свежим постельным бельем и… беконом. Странное сочетание. Впрочем, белье/бекон пахнут куда приятней, чем плесень и сигаретный дым, которыми провонял наш трейлер.
Алана немного растеряна – не знает, как лучше поступить, раз уж обнять меня нельзя. Отец бросает ключи на каминную полку.
– Где Сара?
– Бегу!!!
Истошный вопль сопровождается топотом ног по лестнице. В гостиную сбегает юная копия Аланы. Зубы у нее даже белее, чем у матери. А еще она – клянусь! – скачет на месте, хлопает в ладоши и повизгивает от радости. Это так ужасно, что я теряю дар речи.
Порхнув ко мне, Сара хватает меня за руку.
– О боже, какая ты хорошенькая! Идем, покажу комнату!
Я и слова не успеваю вымолвить. Иду за Сарой, не сводя глаз с ее задорного хвостика. Она в джинсовых шортах и без футболки, в одном верхе от купальника. Источает аромат кокосового масла.
– Ужин через полчаса! – кричит нам вдогонку Алана.
Наверху Сара отпускает мою руку и распахивает первую же дверь.
Я осматриваю свою новую комнату. Стены успокаивающего светло-голубого оттенка – точь-в-точь как глаза у фотографа с парома. На кровати лежит белоснежное покрывало с гигантским голубым осьминогом. В изголовье – неприличное количество подушек.
Все такое чистое и так хорошо пахнет, что и трогать-то страшно. Впрочем, Сара без всякой задней мысли шлепается на кровать и оттуда наблюдает, как я осматриваю комнату – огромную, в три раза больше моей спальни в трейлере.
– Я буду прямо напротив.
Сара кивает на открытую дверь, в которую мы только что вошли, а потом небрежно показывает на двойные стеклянные двери, выходящие на балкон с видом на пляж.
– Из твоей комнаты самый классный вид!
Странно. Раз из этой спальни открывается лучший вид, почему никто в ней не живет? Должен быть какой-то подвох. Может, по утрам на пляже слишком людно и в этой комнате шумнее всего?
Сара соскакивает с кровати и открывает очередную дверь: за ней ванная комната. Она включает там свет.
– Ванны нет, зато отличная душевая кабина.
Сара распахивает еще одну дверь.
– А здесь гардероб. Осталось немного моих тряпок, я на неделе все уберу.
Она закрывает гардероб, подходит к комоду и выдвигает нижний ящик. Он забит вещами.
– Тут всякое барахло, а остальные три ящика я освободила. – Сара садится обратно на кровать. – Ну, как тебе? Нравится?
Киваю.
– Я рада. Не знаю, в каком доме ты живешь, но, надеюсь, здесь не намного хуже. – Она берет с прикроватной тумбочки пульт дистанционного управления. – Что душе угодно: «Нетфликс», «Хулу», «Прайм». Можешь пользоваться нашими аккаунтами, все уже настроено.
Она понятия не имеет, что разговаривает с человеком, у которого никогда не было телевизора. С тех пор, как мы вошли в комнату, я и слова не вымолвила. Сара прекрасно справляется за двоих. Я едва успеваю вставить «Спасибо».
– Ты к нам надолго? – спрашивает она.
– Не знаю. Может, на все лето.
– Ух! Просто супер-р!
Поджимаю губы и киваю:
– Ага. Супер.
Сара, похоже, не улавливает сарказма. На ее лице вновь расцветает улыбка.
– Ну, что стоишь столбом? Кидай вещи!
Я подхожу к комоду и кладу на него свой пакет. Рюкзак бросаю на пол.
– А где чемоданы? – спрашивает Сара.
– В аэропорту все потеряли.
– О боже! – восклицает она. Н-да, с сочувствием явно переборщила. – Давай я тебе принесу что-нибудь на первое время, а затем и по магазинам прошвырнемся.
Сара вскакивает с кровати и выходит из комнаты.
Не могу понять, искренне ли она улыбается. От этого мне еще больше не по себе. Она вызвала бы у меня куда больше доверия, если бы держалась холодно или даже оказалась стервой.
Таких девчонок из моей школы я окрестила «королевами раздевалки». В зале, перед тренером, они милые и добренькие. А в раздевалке сразу меняются.
– Какой у тебя размер? – кричит Сара из своей комнаты.
Я подхожу к двери и вижу, что она копается в комоде.
– Второй вроде? Или четвертый [2]?
Она на миг замирает. Бросает на меня долгий взгляд, словно мой ответ ее насторожил.
Я худышка, но вовсе к этому не стремлюсь. Моя жизнь – постоянная битва за калории. Для игры в волейбол нужно много сил, однако, в отличие от большинства людей, я не могу питаться регулярно. Надеюсь, к концу лета удастся здесь отъесться и набрать нужный вес.
– Ну, я покрупнее буду, – говорит Сара, возвращаясь в мою комнату. – Раза в три. Вот, здесь несколько футболок и два платья. – Она вручает мне стопку одежды. – Великоваты, но на первое время сойдет – пока твой багаж не отыщут.
– Спасибо.
– Сидишь на диетах? – спрашивает Сара, осматривая меня с головы до ног. – Или всегда была такой худышкой?
Не понимаю, это искренний интерес или она хочет меня поддеть? С одной стороны, она ведь не знает, почему я такая худая, так что и обижаться нечего. Впрочем, разговор пора заканчивать. Я молча качаю головой. Мне надо принять душ, переодеться и немного побыть одной. Сара трещит без умолку с первой минуты нашей встречи, сколько можно?!
Она не уходит. Опять садится на кровать, плюхается на бок и кладет руку под голову.
– Парень есть?
– Нет.
Я уношу вещи в гардеробную.
– О, супер! Познакомлю. Думаю, он тебе понравится. Зовут Самсон. Наш сосед.
Подмывает сказать ей, чтобы не утруждалась, что все мужчины – сволочи, но у Сары, пожалуй, нет такого богатого опыта общения с противоположным полом, как у меня. Дакота не стал бы предлагать такой девушке деньги. Он подкатил бы к ней просто так.
Сара сползает с кровати и подходит к стене, полностью закрытой плотными шторами. Отодвигает одну.
– Вон дом Самсона, – говорит она, показывая пальцем в окно. – Он супербогатый, отец в нефтяном бизнесе, что ли… Боже, иди скорей! Гляди!
Я подхожу и смотрю в окно. Дом у Самсона еще больше, чем этот. Свет горит только внизу, на кухне. Сара показывает именно туда.
– Смотри! Он с девчонкой!
Я вижу парня, который стоит между ног у сидящей на кухонном острове девушки. Они целуются. Когда они наконец отлипают друг от друга, я невольно ахаю.
Самсон – это Голубоглазый Гад! Тот самый, что пытался затащить меня в туалет и предлагал за это двадцать баксов!
Фу.
А вообще, надо отдать ему должное. Какой прыткий! Он ведь приехал на пароме вместе со мной, то есть минут десять как дома. Интересно, этой девчонке он тоже двадцатку предлагал?
– Ты с ним меня хотела познакомить? – спрашиваю я.
Мы наблюдаем, как он страстно облизывает шею девушки.
– Ага, – непринужденно отвечает Сара.
– Так он вроде занят.
Сара смеется.
– Нет, что ты! Она скоро уедет. Самсон мутит только с теми девчонками, которые приезжают сюда на уик-энд.
– Звучит ужасно.
– Ага, типичный избалованный мажор.
Я растерянно смотрю на Сару.
– И ты хочешь нас свести?
– Ну, он симпатичный. – Сара пожимает плечами. – И к тому же друг моего парня. Было бы круто, если бы вы тоже стали парочкой. Сможем вместе что-нибудь делать. Самсон иногда чувствует себя третьим лишним.
Покачав головой, отхожу от окна.
– Не интересует.
– Ага, он тоже так сказал, когда я ему сообщила, что ко мне на лето приезжает сводная сестра. Но вдруг ты передумаешь?
Мы уже знакомы. И он меня не интересует.
– Мне сейчас не до парней.
– Ой, брось! Я не про то, – говорит Сара. – Не про отношения. Замутишь с ним… ну, на лето. Курортный роман, типа. Ладно, ладно, я поняла. – Она вздыхает, будто в самом деле расстроилась.
Сейчас мне хочется одного: чтобы Сара поскорей ушла. Она разглядывает меня и явно пытается придумать, что еще сказать или спросить.
– Родители не будут нас тиранить, мы ведь уже не школьницы. Они просто хотят знать, где мы. А мы всегда тусуемся на пляже – то есть во дворе, по сути. Каждый вечер разжигаем костер и сидим там.
Мне приходит в голову, что Сара знает о моем отце – и его родительских замашках – больше, чем я. До сих пор я об этом как-то не задумывалась. Мне известно только, что его зовут Брайан, он специалист по финансовому планированию и ноги у него целы. Это все.
– Завтра надо поехать по магазинам, куда хочешь заглянуть? Придется тащиться в Хьюстон, здесь есть только «Уолмарт».
– «Уолмарт» меня вполне устроит.
Сара смеется и тут же осекается, увидев, что я не шучу.
– Ой. Ты серьезно…
Она откашливается. Ей явно не по себе: наверное, в этот момент до нее наконец доходит, что мы совершенно разные.
Не знаю, как я проведу целое лето в компании девушки, которая считает «Уолмарт» поводом для шуток. Я всю жизнь покупала одежду в секондах и на гаражных распродажах. «Уолмарт» мне был не по карману.
Хочется плакать – сама не знаю почему.
К горлу стремительно подкатывают слезы. И вдруг я понимаю, как мне не хватает своего прежнего дома, матери-наркоманки и пустого холодильника. Я даже по запаху табачного дыма соскучилась – никогда бы не подумала, что такое возможно. По крайней мере, это честный запах.
А здесь пахнет комфортом, изысканностью и богатством. Такие запахи врут.
Я показываю пальцем на ванную.
– Пойду душ приму.
Сара переводит взгляд с двери ванной на меня. До нее доходит, что это намек.
– Только недолго, ладно? Маме нравится по выходным ужинать всей семьей. – На последнем слове она закатывает глаза, а потом выходит и закрывает за собой дверь.
Я остаюсь одна посреди незнакомой комнаты и чувствую себя ужасно подавленной.
Не знаю, было ли мне хоть раз в жизни так одиноко. Дома с мамой я хотя бы ощущала себя на своем месте. Мы были совершенно разными людьми, но с годами научились как-то сосуществовать, обходить друг друга стороной. А здесь… не уверена, что смогу обходить стороной этих людей. Они как кирпичные стены, в которые я буду врезаться на каждом повороте.
Похоже, у меня клаустрофобия.
Подхожу к дверям на балкон, открываю одну створку и выхожу. Ветер ударяет в лицо, и я сразу начинаю плакать. Не молча – рыдаю в голос. Плач с опозданием на сутки.
Уперевшись локтями в перила, я прячу лицо в ладонях и пытаюсь успокоиться. Не хватало еще, чтобы Сара решила вновь наведаться в мою комнату и застала меня в таком виде. Или того хуже – отец.
Бесполезно. Я реву и реву. Проходит минут пять, а я все стою на балконе и сквозь мутную пелену слез смотрю на воду.
Надо рассказать отцу о том, что случилось вчера вечером.
Делаю несколько глубоких вдохов, вытираю глаза и собираю в кулак всю волю. Эмоции зашкаливают, но я должна с ними совладать. Из-за слез я толком не видела залитого лунным светом океана – а теперь наконец увидела.
Девушка, которую только что целовал на кухне Самсон, одолела песчаную гряду между двумя домами и присоединилась к компании друзей, собравшихся вокруг костра. Им всем лет по восемнадцать-двадцать, и все они, должно быть, богаты, беспечны и самоуверенны. Наверняка это друзья Сары, и она тоже каждый вечер выходит к ним.
К людям, с которыми у меня опять же нет ничего общего.
Они не должны видеть меня в слезах. Резко разворачиваюсь, иду к двери…
И замираю на месте.
Самсон стоит один на балконе своего дома и буравит меня непроницаемым взглядом.
Пару секунд смотрю на него, а затем ухожу в комнату и закрываю за собой дверь.
Сначала он увидел, как я ем чужой хлеб на палубе парома. Сунул мне двадцатку, и я до сих пор не знаю, чем он при этом руководствовался. Дальше выяснилось, что он – мой новый сосед на ближайшие несколько недель.
И наконец он становится свидетелем моей первой истерики за много, много лет.
Отлично.
К черту это лето.
К черту этих людей.
К черту такую жизнь.
5
Мой первый поцелуй случился, когда мне было двенадцать.
Субботним утром я стояла у плиты и готовила яичницу-болтунью. Ночью я не слышала, как вернулась мать, и считала, что дома, кроме меня, никого нет. Только я разбила в сковородку два яйца, как открылась дверь маминой спальни.
Оттуда вывалился незнакомый тип с рабочими ботинками в руках. И замер, увидев меня у плиты.
Я видела его впервые в жизни. Мать всегда была либо влюблена, либо раздавлена очередным расставанием. В обоих случаях это был такой накал страстей, что я старалась держаться подальше.
Никогда не забуду, как на меня пялился тот тип. Медленным плотоядным взглядом, будто на аппетитный кусок мяса. В то утро я впервые поймала на себе такой взгляд. Волосы на руках встали дыбом, и я сразу уткнулась глазами в сковородку.
– Даже не поздороваешься? – спросил он.
Я пропустила эти слова мимо ушей – надеялась отвадить его грубостью. Но он не ушел, а встал рядом и прислонился к кухонному столу. Я продолжала сосредоточенно помешивать яйца.
– Накормишь?
Я помотала головой:
– У нас больше нет яиц. Эти два последние.
– А мне и двух хватит. Умираю с голоду!
Он сел за стол и принялся зашнуровывать ботинки. Когда он закончил, яичница была уже готова. Я не знала, что делать. Мне очень хотелось есть, яиц больше не было, а этот тип с наглой рожей сидел за столом и явно ждал завтрака.
Я выложила яйца на тарелку, схватила вилку и хотела быстро прошмыгнуть в комнату. В коридоре он меня нагнал, поймал за руку и прижал к стене.
– Разве так принимают гостей?
Он схватил меня за подбородок и поцеловал.
Я пыталась вырваться. Изо рта у него несло тухлятиной, щетина больно кололась. Я как могла стискивала зубы, но он все сильнее давил мне на подбородок, пытаясь разжать челюсть. В конце концов я огрела его тарелкой по голове.
Он отпрянул и наотмашь ударил меня по лицу.
А потом ушел.
Больше я его не видела. Даже не узнала, как его зовут. Несколько часов спустя мать проснулась и наорала на меня за разбитую тарелку и найденные в мусорке яйца. Она разозлилась, что я выбросила последние два яйца.
С того дня я не ем яиц.
Зато сколько пощечин я с тех пор раздала маминым хахалям – не счесть!
Все это я к чему? Когда я выхожу из душа, в нос ударяет запах яичницы. Очень сильный.
Меня тут же начинает мутить.
Когда я заканчиваю одеваться, в дверь стучат. В комнату заглядывает Сара.
– Совместная трапеза через пять минут! – объявляет она.
Понятия не имею, что это значит. Может, у них какая-то суперрелигиозная семья?
– Что еще за трапеза?
– Каждое воскресенье с нами ужинают Маркус и Самсон. Так мы отмечаем конец наплыва туристов. Вместе едим и говорим всем понаехавшим «прощай». – Она открывает дверь чуть шире. – А тебе идет платье! Хочешь, я тебя накрашу?
– К ужину?
– Ну да. Придет Самсон.
Она расплывается в улыбке, и я вдруг понимаю, как это мерзко – когда тебя пытаются с кем-то свести. Я хочу объяснить Саре, что уже знакома с Самсоном, но в последний момент закрываю рот и отправляю эту тайну в кучу к остальным.
– Нет, краситься не буду. Я скоро спущусь.
Сара явно расстраивается, однако уходит. Ладно, хоть намеки понимает – уже радость.
Несколько секунд спустя снизу доносятся мужские голоса.
Я опускаю глаза на свой мятый сарафан, в котором проходила весь день. Он лежит комком на полу. Подбираю его и надеваю вместо Сариного платья. Еще не хватало произвести на кого-то хорошее впечатление. Лучше произведу плохое.
Отец первым видит меня на лестнице. Я спускаюсь и иду на кухню.
– Ты посвежела, – говорит он. – Комната понравилась?
Поджав губы, киваю.
Тут Сара замечает мой старый сарафан. В ее глазах мелькает недоумение, но она тут же его прячет – и очень умело. Маркус стоит рядом, наливает себе холодный чай. Наконец он поднимает на меня взгляд и широко распахивает глаза – явно не ожидал увидеть за ужином ту странную девчонку с парома.
Значит, Самсон не рассказал ему про то, как я рыдала на балконе.
И кстати, Самсон единственный, кто сейчас на меня не смотрит. Он копается в холодильнике, когда Сара, махнув рукой в мою сторону, говорит:
– Маркус, это моя сводная сестра Бейя. Бейя, это мой парень Маркус. – Она небрежно показывает большим пальцем за спину. – А это Самсон, наш любимый сосед и вечный третий лишний.
Он оборачивается и секунду-другую разглядывает меня, потом невозмутимо открывает баночку содовой. Когда он прижимает к ней губы, чтобы сделать глоток, я могу думать лишь об одном – как этими губами он только что целовал шею другой девушки.
– Добро пожаловать в Техас, Бейя, – говорит Маркус, делая вид, что видит меня впервые.
– Спасибо, – бормочу я и вхожу в кухню, гадая, что делать дальше.
Мне неловко, я не могу просто попросить у них воды или взять тарелку. Поэтому стою на месте и смотрю, как они непринужденно ходят по кухне.
Я очень голодна, но этот ужин наводит на меня тоску. Не знаю, почему люди пытаются разрядить обстановку за столом дурацкими вопросами, ответы на которые никому не нужны. У меня есть предчувствие, что именно так и пройдет наша сегодняшняя «трапеза». Все будут забрасывать меня вопросами, а я совсем не хочу на них отвечать – я хочу взять себе еды, отнести тарелку в комнату, поесть в тишине и уснуть.
Желательно на два месяца.
– Надеюсь, ты любишь завтракать, Бейя, – говорит Алана, ставя на стол блюдо с печеньем. – Мы иногда устраиваем себе завтрак вместо ужина.
Отец приносит сковородку с яичницей-болтуньей. Горы блинчиков и жареного бекона уже на столе. Все начинают рассаживаться, и я следую их примеру. Сара занимает место между Маркусом и матерью, а значит, мне остается сесть с отцом. Самсон подходит к столу последним и на секунду замирает, сообразив, что ему придется сидеть рядом со мной. Неохотно садится. Может, мне только кажется, но он будто сознательно пытается переключить свое внимание с меня на что-то еще.
Все начинают передавать друг другу тарелки с едой. Хотя яичницу, разумеется, я не беру, ее запах перебивает все остальные. Только я принимаюсь за блинчик, как отец уже задает первый вопрос:
– Что делала после выпускного?
Я проглатываю кусок и отвечаю:
– Работала, спала, и так по кругу.
– Чем занимаешься? – спрашивает Сара. Вопрос для богатых: не «где работаешь?», а именно «чем занимаешься?» – будто речь о какой-нибудь сложной интересной профессии.
– Работаю на кассе в «Макдоналдсе».
Прямо видно, как ее шокирует мой ответ.
– О, – говорит она, – прикольно!
– По-моему, это здорово, что ты начала работать уже в старших классах, – говорит Алана.
– Мне пришлось. Чтобы не умереть с голоду.
Алана откашливается. До меня доходит, что мой честный ответ ее покоробил. Если даже такая ерунда ей против шерсти, как она отнесется к тому, что Жанин умерла от передоза?
Отец пытается сменить тему:
– Так ты решила не ходить на летние курсы, начнешь учебу осенью?
Вопрос застает меня врасплох.
– Да я и не записывалась на курсы…
– Хм. Твоя мама сказала, что тебе нужна дополнительная подготовка, а ей курсы не по карману – и я перевел всю сумму.
Отец оплатил мои курсы?!
Какой бред. Я поступила в университет сама и буду учиться бесплатно.
И часто, интересно, отец переводил матери деньги? Конечно, я ничего о них не знала – как не знала о мобильном телефоне, который он мне недавно выслал. На образование ей всегда было плевать, она никогда даже не интересовалась моей учебой, зато деньги выпрашивать на нее не постыдилась.
– Ах да… – Пытаюсь придумать какое-то оправдание, почему я здесь, а не на летних курсах. – Я поздно спохватилась, все группы уже были набраны.
Аппетит пропал. С трудом проглатываю второй кусок блинчика.
Мама не думала отправлять меня в колледж, однако это не помешало ей выклянчить у отца денег на мою учебу, которые она пропила, спустила на наркотики или проиграла в автоматах. И ведь он без вопросов все перевел. Если бы он спросил меня о планах на будущее, я соврала бы, что поступаю в местный техникум. Но оставаться в городе я не собиралась – хотела уехать подальше от матери.
Пожалуй, это желание сбылось.
Я опускаю вилку. К горлу подкатывает тошнота.
Сара тоже перестает есть. Она потягивает чай и внимательно наблюдает за мной.
– Специальность уже выбрала? – спрашивает Алана.
Качаю головой и вновь берусь за вилку – лучше делать вид, что еда меня интересует. Сара повторяет за мной.
Я ковыряю блинчик, однако есть ничего не ем. Сара тоже.
Откладываю вилку. Сара тоже.
За столом продолжается какой-то разговор, но я в нем почти не участвую. От меня не ускользнуло, что сестра повторяет каждое мое движение – причем старается делать это незаметно.
Теперь все лето придется об этом помнить. Наверное, надо дать ей понять, что она должна есть столько, сколько захочется, и в вопросах питания ни в коем случае не ориентироваться на меня.
Заставляю себя что-то проглотить, хотя от нервов и тошноты кусок в горло не лезет.
К счастью, эта мука продолжается недолго. Ужинаем мы от силы минут двадцать. Самсон за все это время не вымолвил ни слова. Впрочем, остальных это вроде не волнует. Надеюсь, он всегда такой тихий. Будет легче обращать на него меньше внимания.
– Бейе нужно заехать в «Уолмарт», – говорит Сара. – Можно мы сегодня сгоняем?
Ну нет, сегодня я никуда не поеду. Хочу спать.
Отец достает из бумажника несколько стодолларовых банкнот и протягивает мне.
Так, я передумала. Теперь я хочу в «Уолмарт»!
– Вам лучше подождать до завтра и съездить в Хьюстон, там есть приличные магазины, – предлагает Алана.
– Меня и «Уолмарт» устроит, – говорю я. – Мне много не надо.
– Кстати, возьми заодно предоплаченный мобильник, – вставляет отец и отстегивает еще пару купюр.
Вот это да. Никогда в жизни не держала в руках столько денег. Здесь по меньшей мере шестьсот долларов!
– Отвезешь нас? – спрашивает Сара Маркуса.
– Конечно.
Так, желание ехать снова отпало – с нами потащатся Маркус и Самсон.
– Я не поеду, – говорит Самсон, вставая и унося свою тарелку в раковину. – Устал что-то.
– Брось, это невежливо. Ты с нами! – объявляет Сара.
– Да-да, ты с нами, – кивает Маркус.
Замечаю, что Самсон украдкой косится на меня. Хорошо хоть я ему так же неинтересна, как он мне. Сара уже идет к двери.
– Ага, я только обуюсь, – бормочу я и ухожу наверх.
Выясняется, что на полуострове Боливар нет своего «Уолмарта», а значит, нужно переправиться на пароме в Галвестон. Бред какой-то: чтобы пройтись по магазинам, надо плыть с материка на остров! Странное все же место.
Переправа заняла примерно двадцать минут. Как только Маркус припарковался, все вышли из машины. Сара заметила, что я не открыла свою дверцу, и услужливо распахнула ее сама.
– Пойдем на верхнюю палубу!
Это даже не приглашение – приказ.
Не успели мы пробыть наверху и пяти минут, как Сара с Маркусом испарились, оставив нас с Самсоном наедине. Уже довольно поздно, где-то половина десятого, и на пароме, кроме нас, почти никого. Мы оба молча глазеем на воду, делая вид, что никакой неловкости между нами нет. Но она есть, и я понятия не имею, что говорить. У меня с этим парнем ничего общего. А у него ничего общего со мной. За последние несколько часов мы встречались уже дважды, и приятными эти встречи не назовешь. Лично я предпочла бы вовсе обойтись без них.
– У меня такое чувство, что нас пытаются свести, – вдруг говорит Самсон.
Я смотрю на него, он глядит вперед, на воду.
– Это не чувство. Так и есть.
Молча кивает. Не знаю, зачем он поднял эту тему. Может, хочет все прояснить. Или идея друзей пришлась ему по душе?
– Сразу скажу: мне это неинтересно, – говорю. – Причем «неинтересно» в данном случае не означает, что я люблю играть в игры и втайне мечтаю, чтобы ты все равно ко мне подкатил. Я серьезно, понял? Дело не в тебе, меня вообще люди не очень интересуют.
Он усмехается и по-прежнему не глядит в мою сторону. Похоже, решил не удостаивать меня даже взглядом.
– Не помню, чтобы я проявлял к тебе интерес.
– Верно, не проявлял. Я просто хотела внести ясность. Чтобы у тебя уж точно не осталось никаких сомнений.
Он медленно поворачивает ко мне голову. Смотрит в глаза.
– Ладно, спасибо, что прояснила и без того очевидное.
Как же он все-таки хорош собой! Даже когда ведет себя по-свински.
Щеки так и горят. Я быстро отворачиваюсь, не понимая, как выкрутиться из этой ситуации. Опять чувствую себя униженной – почему это происходит всякий раз, когда мы с ним общаемся? Кто виноват – он или я?
Наверное, все-таки я. Разве может быть стыдно перед тем, на чье мнение тебе плевать с высокой колокольни? Значит, в глубине души мне все-таки не плевать.
Самсон убирает руки с перил и выпрямляется. Вообще-то рост у меня выше среднего, пять футов десять дюймов, но рядом с ним я кажусь себе мелкой. В нем не меньше шести футов трех дюймов.
– Тогда будем друзьями, – говорит он, засовывая руки в карманы.
У меня невольно вырывается усмешка.
– Такие, как ты, не могут дружить с такими, как я.
Он слегка наклоняет голову набок.
– А ты высокого о себе мнения!
– Говорит парень, который принял меня за бездомную.
– Ты ела хлеб с пола.
– Я очень проголодалась. Богачу не понять.
Самсон слегка сощуривает глаза, потом вновь переводит взгляд на океан. Так на него смотрит, словно надеется найти в нем ответы на все волнующие его вопросы.
В конце концов он отворачивается и от воды, и от меня.
– Я в машину.
Провожаю его взглядом.
Не знаю, почему я такая ершистая рядом с ним, зачем все время пытаюсь держать оборону. Допустим, он действительно принял меня за бездомную и попытался помочь. Даже денег предложил. Значит, у человека есть душа.
А бездушная в этой ситуации как раз я.
6
Сказать, что мне стало легче, когда по приезде в «Уолмарт» Самсон и Маркус от нас отделились, – ничего не сказать. Я в Техасе считаные часы, а от Самсона меня уже просто воротит.
– Тебе кроме одежды что-то нужно? – спрашивает Сара, когда мы заходим в отдел косметики.
– Да почти все, – отвечаю. – Шампунь, кондиционер, дезодорант, зубную щетку, пасту – короче, все, что я по субботам воровала с тележек горничных.
Сара замирает и изумленно смотрит на меня.
– Это шутка? Я пока не знаю, как у тебя с чувством юмора…
Качаю головой.
– Все это нам было не по карману. Даже самое необходимое. – Не знаю, с какой стати я так разоткровенничалась. – Если ты нищий, приходится иногда включать смекалку.
Я сворачиваю в следующий проход. Сара догоняет меня не сразу.
– Разве Брайан не платил твоей маме алименты?
– Моя мать была наркоманкой. Я тех денег и не видела.
Сара теперь шагает рядом. Пытаюсь не смотреть на нее – больно видеть, как от моих откровений с нее слетают розовые очки. Хотя, пожалуй, доза реальности ей не повредит.
– А отцу ты про это говорила?
– Нет. Он последний раз видел мать, когда мне было четыре. Она еще не наркоманила.
– Значит, надо было ему рассказать. Он помог бы.
Я бросаю в тележку дезодорант.
– Никогда не считала своим долгом рассказывать ему об условиях, в которых мне приходится жить. Отец должен и сам знать, что творится в жизни его ребенка.
Сразу видно, что мои слова заставляют Сару задуматься. У нее в голове, очевидно, сложился совсем иной образ моего отца. Как знать, возможно, одного-единственного семени сомнения окажется достаточно, чтобы открыть ей глаза на мир за пределами ее уютного защитного пузыря, в котором у всех людей есть летние домики на пляже.
– Пойдем искать мне одежду, – меняю тему я.
Пока мы бродим вдоль полок с тряпками, она молчит. Я беру несколько вещей на примерку, но, если честно, понятия не имею, что мне подойдет. Наконец идем в примерочную.
– Обязательно возьми купальник, – советует Сара. – А лучше два. Мы почти все время проводим на пляже.
Стойка с купальниками находится рядом с примерочной. Взяв парочку, я ухожу в кабинку – примерять все, что набрала.
– Как переоденешься, покажись, ладно? Хочу посмотреть, хорошо ли сидит, – говорит Сара.
Наверное, так делают все подруги, когда вместе ходят по магазинам? Показывают друг дружке наряды?
Сначала примеряю бикини. Топ великоват в груди, но я слышала, что первым делом, когда набираешь вес, увеличивается грудь, а я этим летом точно поправлюсь. Выхожу из кабинки и встаю перед зеркалом. Сара сидит на скамеечке и что-то читает в телефоне. Подняв голову, она изумленно распахивает глаза.
– Вау! Можно даже на размер меньше взять.
– Нет, я планирую набрать вес.
– Зачем? Убить готова за такое тело, как у тебя!
Ее слова задевают меня за живое.
У Сары какой-то загнанный взгляд. Наверное, она сейчас мысленно сравнивает наши тела и подмечает в своем то, что считает недостатками.
– У тебя даже ляжки не соединяются! – чуть ли не с завистью шепчет она. – Всегда мечтала о таком просвете между бедрами!
Я качаю головой и возвращаюсь в кабинку. Надеваю второй купальник и сверху джинсовые шорты – убедиться, что они мне по размеру. Когда выхожу, Сара издает громкий стон.
– Господи, да тебе все к лицу, надевай что хочешь!
Она встает рядом и разглядывает наши отражения в зеркале. На самом деле Сара тоже не коротышка, всего на пару дюймов ниже меня. Она поворачивается боком и кладет ладонь себе на живот.
– Сколько ты весишь?
– Не знаю.
Вообще-то знаю, но не хочу задавать ей планку, к которой совершенно незачем стремиться.
Сара вздыхает. Явно расстроена.
– Мне до поставленной на лето цели еще двадцать фунтов надо скинуть. Пора браться за дело. Расскажи, в чем твой секрет?
Мой секрет?
Смеюсь, глядя на себя в зеркало и проводя рукой по впалому животу.
– Я всю жизнь голодала. Не у всех людей дома есть еда.
Смотрю прямо на Сару. Она поднимает на меня взгляд, который я затрудняюсь прочесть. Наконец, поморгав, она переводит глаза на телефон. Откашливается.
– Это правда?
– Ага.
Сара задумчиво прикусывает щеку.
– Тогда почему ты сегодня ничего не ела за ужином?
– Потому что это были худшие двадцать четыре часа в моей жизни, я оказалась за одним столом с пятью совершенно чужими мне людьми, на другом конце страны и в чужом доме. Иногда и у голодных аппетит пропадает.
Сара не поднимает головы. Не знаю, смутила ли ее моя неожиданная откровенность или она просто пытается осознать факт, что у нас настолько разная жизнь. Подмывает спросить о ее странном поведении за ужином: глядя на меня, она тоже почти не ела. Тем не менее я молчу. На сегодня с нее хватит потрясений. В конце концов, мы только познакомились.
– Есть хочешь? – спрашиваю. – Лично я готова съесть слона.
Сара робко улыбается, и я впервые ощущаю, как между нами зарождается какая-то связь, намек на что-то общее.
– Ага. Жрать хочется – просто мрак!
Я так и покатываюсь.
– Значит, нас двое!
Ухожу в кабинку и снова надеваю сарафан. Переодевшись, хватаю Сару за руку и тащу к продуктовым рядам.
– Куда мы?
– К еде!
Первым делом подходим к полкам с хлебом. Я останавливаю тележку возле коробок и пакетов со сладкой выпечкой.
– Что ты любишь больше всего?
Сара показывает пальцем на белый пакет с шоколадными мини-пончиками.
Я беру их с полки и вскрываю пакет. Достаю один пончик, засовываю в рот, а остальное отдаю Саре.
– Теперь бы молока, – говорю с набитым ртом.
Сара смотрит на меня, как на сумасшедшую, но все же идет со мной за молоком. Достав с полки два пакета шоколадного, я показываю пальцем на укромное местечко возле яиц. Откатываю туда тележку и плюхаюсь прямо на пол, прислоняясь спиной к длинному напольному холодильнику с яйцами.
Она с опаской оглядывается по сторонам и медленно присаживается рядом. Вручаю ей молоко.
Вскрыв свой пакет, делаю глоток и беру из упаковки еще один пончик.
– Ты больная! – шепчет Сара, наконец доставая пончик и себе.
Пожимаю плечами.
– От голодной до больной – один шаг.
Сара отпивает молоко и облегченно запрокидывает голову, прислоняя ее к стенке холодильника.
– Господи, кайф-то какой!
Она вытягивает перед собой ноги, и минуту-другую мы просто сидим, молча жуем пончики и ловим на себе подозрительные взгляды покупателей.
– Слушай, ты извини, если я тебя обидела – ну, насчет веса, – наконец произносит Сара.
– Не обидела. Я просто не хочу, чтобы ты сравнивала себя со мной.
– Трудно не сравнивать. Тем более я все лето проведу на пляже. Знаешь, я себя сравниваю со всеми девчонками в купальниках.
– Вот и зря! Но вообще я тебя понимаю. Странно, да? Людям должно быть наплевать, сколько у тебя жира под кожей и насколько плотно она обтягивает кости.
Запихиваю в рот еще один пончик и умолкаю.
Сара бормочет «аминь» и делает еще один большой глоток шоколадного молока.
Проходящий мимо сотрудник ненадолго притормаживает возле нас, увидев, что мы сидим на полу и едим неоплаченные продукты.
– Все оплатим, не волнуйтесь! – отмахиваюсь от него я.
Покачав головой, он уходит.
После минутного молчания Сара вдруг признается:
– Знаешь, я очень волновалась перед нашей встречей – боялась, что не понравлюсь тебе.
– До сегодняшнего дня я даже не знала о твоем существовании! – смеюсь я.
Похоже, мои слова задели Сару за живое.
– Разве отец никогда про меня не рассказывал?
Качаю головой.
– Ты не думай, он не пытался утаить, что вы у него есть. Просто… ну, мы не общаемся. Вообще. С тех пор, как он женился, мы ни разу не разговаривали. Я вообще забыла про его женитьбу!
Сара хочет что-то сказать, но нас прерывают.
– У вас все хорошо? – спрашивает Маркус.
Они с Самсоном стоят напротив и удивленно глазеют на нас.
Сара поднимает свое шоколадное молоко.
– Бейя сказала, что нельзя так загоняться из-за веса, и теперь кормит меня всякой дрянью!
Маркус со смехом запускает руку в пакет с пончиками.
– Бейя права. Ты само совершенство!
Самсон молча пялится на меня. Он никогда не улыбается – в отличие от Маркуса, с лица которого, похоже, улыбка вообще не сходит.
Сара встает с пола и помогает мне подняться.
– Ну, идем.
7
Мы закинули в багажник все покупки, кроме предоплаченного мобильника. Я пытаюсь разобраться, как им пользоваться, но в темноте салона инструкцию не прочитать. Как его хоть включить?!
Заметив мою возню, Самсон предлагает помощь:
– Давай сюда.
Я кошусь на него и вижу, что он протянул руку. Даю ему упаковку, и он, включив фонарик на своем телефоне, читает инструкцию.
К тому времени Маркус уже паркуется на пароме. Сара выходит на улицу и спрашивает меня:
– Идешь?
Я показываю на телефон в руках Самсона.
– Ага, пару сек. Только настроим.
Сара с улыбкой захлопывает дверцу – видимо, решила, что теперь я точно не устою перед Самсоном. Честно говоря, ее упорство меня подбешивает. Я его не интересую, так с какой стати он должен интересовать меня?
Чтобы закончить настройку, Самсон куда-то звонит, и там ему сообщают, что телефон будет активирован через две минуты.
По моим ощущениям, ожидание тянется целую вечность. Я выглядываю в окно, пытаясь не обращать внимания на напряженную атмосферу. Тишина настолько гнетущая, что уже через десять секунд мне хочется, чтобы Самсон что-нибудь сказал.
Спустя двадцать секунд я начинаю нервничать, лихорадочно искать темы для разговора и брякаю первое, что приходит на ум:
– Зачем ты фотографировал меня на пароме?
Самсон сидит, уперевшись локтем в стык между стеклом и дверью, и трогает пальцами нижнюю губу, а в следующий миг ловит мой пытливый взгляд, стискивает руку в кулак и легонько ударяет им по стеклу.
– Заметил, как ты смотрела на океан.
Его слова мягкой лентой обвивают мой позвоночник.
– И как же?
– Будто видела его впервые.
Неловко ерзаю в кресле. Голос Самсона льнет ко мне, как шелк, и мне это не нравится.
– Ты их уже просмотрела?
– Что?
– Фотографии.
Качаю головой.
– Что ж, когда посмотришь, можешь удалить все, что не понравится, только верни, пожалуйста, карту. Там есть снимки, которые я хотел бы оставить на память.
Киваю.
– Что еще ты фотографируешь – помимо девушек на паромах?
Самсон улыбается:
– В основном природу. Океан. Рассветы. Закаты.
Я вспоминаю, что Самсон сфотографировал меня на фоне заходящего солнца. Надо будет в ближайшее время попросить у Сары компьютер и просмотреть содержимое карты. Даже любопытно, что там.
– Закат был чудесный.
– Погоди, ты еще не видела рассвет со своего балкона!
– Вряд ли я так рано встану, – смеюсь я.
Самсон опускает глаза на мобильник. Очередной звонок – и настройка завершена.
– Хочешь, забью в контакты все наши номера?
Он открывает на своем телефоне номер Сары.
– Да, давай.
Самсон добавляет номер Сары, затем Маркуса и, наконец, свой. Нажимает еще пару кнопок и возвращает телефон мне.
– Показать, как им пользоваться?
Мотаю головой.
– У одного моего приятеля дома был такой же. Разберусь сама.
– А «дома» – это где?
Вопрос простой, но щеки у меня так и вспыхивают. Подобные вопросы задают человеку, которого хотят узнать поближе.
Я откашливаюсь.
– В Кентукки. А ты откуда?
Он молча смотрит на меня, задерживает взгляд, а затем поспешно открывает дверцу – как будто уже пожалел, что завел со мной разговор.
– Пойду подышу.
С этими словами Самсон выбирается из машины, захлопывает дверцу и уходит.
Наверное, его странная реакция должна была меня обидеть, но нет, наоборот, я испытываю облегчение. Лучше пусть я и дальше его не интересую. А он – меня.
По крайней мере, я приложу все силы, чтобы не заинтересоваться.
Опускаю глаза на телефон и добавляю в контакты номер Натали. Она – одна из немногих моих подруг в Кентукки, и я давно хотела с ней поболтать. Наверное, ей уже рассказали про смерть моей матери, и теперь Натали места себе не находит, потеряла меня. С тех пор, как она уехала в колледж, мы почти не поддерживали связь – у меня ведь нет телефона. Вот, кстати, еще одна причина, почему у меня не так много друзей. Сложно оставаться на связи, когда для этого нет даже технической возможности.
Выхожу из машины и нахожу безлюдное местечко на пароме, чтобы позвонить. Глядя на океан, набираю номер и слушаю гудки.
– Алло.
У меня вырывается облегченный вздох. Наконец-то родной голос!
– Привет!
– Бейя?! Черт, я так волновалась! Мне рассказали про твою маму. Какой кошмар!
У нее ужасно громкий голос. Я пытаюсь разобраться, как выключить громкую связь, однако на экране одни цифры. Оглядываюсь по сторонам – людей вокруг вроде нет, – и просто немного прикрываю динамик ладонью, чтобы никого случайно не побеспокоить.
– Бейя? Алло?
– Да, я тут, прости.
– Ты где?
– В Техасе.
– Что ты там забыла?!
– Мой отец сюда переехал. Решила провести лето у него. Как Нью-Йорк?
– Тут все по-другому. В хорошем смысле. – Она на секунду умолкает. – Господи, поверить не могу, что Жанин умерла! Ты как, держишься?
– Ага. Один раз только поплакала… Не знаю, может, со мной что-то не так?
– Да брось, все с тобой так. Она была худшей матерью на свете.
Вот за что я люблю Натали – за прямоту. Далеко не все люди говорят, что думают.
– А отец что? Вы же давно не виделись, я правильно помню? Тебе, наверное, неловко?
– Есть такое. Ничего, я ведь теперь взрослая. Зато у него дом прямо на пляже. А еще новая жена. И падчерица.
– Дом на пляже – супер, а остальное не очень. Сводная сестра? И сколько ей?
– Примерно на год меня старше. Зовут Сара.
– Чую, блондинка и красавица.
– В точку.
– И как она тебе?
Я на секунду задумываюсь.
– Пока не очень поняла. Есть подозрение, что она из королев раздевалки.
– Фу, ужасно! А симпатичные парни на горизонте есть?
Когда Натали задает этот вопрос, я краем глаза замечаю сбоку какое-то движение. Поворачиваю голову и вижу, что ко мне идет Самсон. Взгляд у него такой, будто он подслушал конец нашего с Натали разговора. Я стискиваю зубы.
– Нет. Симпатичных парней нет. Ладно, мне надо идти, сохрани мой номер!
– Хорошо, до связи!
Я нажимаю «отбой» и покрепче стискиваю телефон в ладони. Вечно он появляется в самый неподходящий момент.
Самсон делает еще два шага и встает рядом. Щурит глаза и с любопытством ко мне присматривается.
– Кто такие «королевы раздевалки»?
Черт, услышал! Не понимаю, с какой стати я это ляпнула – Сара ведь мне нравится.
Я со вздохом прислоняюсь спиной к перилам.
– Так я называла злобных и двуличных одноклассниц.
Самсон задумчиво кивает, переваривая услышанное.
– Знаешь… когда Сара узнала, что ты приедешь, она сразу переехала в гостевую спальню. Хотела, чтобы тебе досталась лучшая комната в доме. – С этими словами он отталкивается от перил, обходит меня и направляется к машине.
Закрыв лицо ладонями, я испускаю отчаянный стон.
Еще никогда и ни перед кем я не выставляла себя такой дурой. А ведь мы с Самсоном знакомы всего полдня!
8
Возвращаемся мы поздно, поэтому я просто убираю все покупки в гардеробную. Последние двадцать четыре часа, мягко говоря, меня вымотали. Я выжата как лимон. Да и горе, наверное, наконец дает о себе знать. Вдобавок я все еще голодна, хоть мы с Сарой и умяли на двоих целый пакет шоколадных пончиков.
Иду на кухню и вижу: за столом за ноутбуком сидит отец, вокруг лежат открытые книги. Услышав меня, он поднимает голову и выпрямляется.
– О, привет!
– Привет. – Показываю пальцем на кладовку. – Я за перекусом.
Открываю дверь, хватаю с полки пакет чипсов и хочу быстренько прошмыгнуть обратно в комнату, но у отца явно другие планы.
– Бейя, – говорит он, как только я ставлю ногу на первую ступеньку лестницы. – Есть минутка?
Неохотно киваю, подхожу к столу и сажусь напротив. Одну ногу задираю на стул и вообще стараюсь вести себя непринужденно. Отец откидывается на спинку стула и потирает подбородок, словно беседа нам предстоит не из легких.
Может, узнал про мать? У них вроде не было общих знакомых, так что узнать ему неоткуда.
– Прости, что не приехал на твой выпускной.
А! Так это не про мою мать, про него. Ну ладно. Я вскрываю упаковку чипсов. Пожимаю плечами.
– Ничего страшного. Далековато ехать, особенно со сломанной ногой.
Он поджимает губы и, подавшись вперед, ставит локти на стол.
– Насчет этого…
– Да мне все равно, пап. Серьезно. Так уж мы все устроены – если не хотим чего-то делать, начинаем врать.
– Дело не в том, что мне не хотелось приезжать, – говорит он. – Просто… я чувствовал, что этого не хочешь ты.
– Почему же?
– У меня сложилось впечатление, что последние пару лет ты меня избегаешь. И я могу это понять. Я был не лучшим отцом.
Заглядываю в пакет с чипсами и встряхиваю их.
– Не спорю.
Невзначай отправляю в рот чипсину – будто не выдала только что самую обидную фразу, какую ребенок может сказать родителю.
Отец мрачнеет и открывает рот, чтобы что-то сказать, но тут в кухню влетает Сара. Боже, у человека не должно быть столько энергии в такое время суток!
– Бейя, надевай купальник – мы идем на пляж.
Отец как будто даже рад, что нас прервали. Он снова переводит взгляд на экран. Я встаю и закидываю в рот еще одну чипсину.
– А что будет на пляже?
Сара смеется.
– На пляже будет пляж! Поверь, этого достаточно.
Она уже в купальнике и шортах.
– Слушай, я без сил…
Она закатывает глаза.
– Да мы всего на час! А потом можно и баиньки.
Когда мы перебираемся через песчаную гряду, я сдуваюсь. Думала, на пляже будет народ и я смогу раствориться в толпе, но к этому времени почти все разошлись: на берегу только Самсон и Маркус, плюс еще двое плещутся в воде неподалеку.
Маркус сидит у костра, а Самсон чуть поодаль, один. Смотрит на темный океан. Он явно слышит наши шаги и все же не оборачивается: то ли глубоко задумался, то ли всеми силами пытается меня игнорировать.
Так, если он все лето будет где-то поблизости, надо во что бы то ни стало научиться чувствовать себя более раскованно в его присутствии.
Вокруг костра стоят шесть стульев, но два заняты полотенцами и открытыми бутылками пива. Сара садится рядом с Маркусом, а я – на последний из двух свободных стульев.
Она бросает взгляд на воду.
– Там Каденс и Бо плавают?
– Угу, – безучастно отвечает Маркус. – Похоже, она сегодня отчаливает.
Сара закатывает глаза.
– Наконец-то! А Бо забрать с собой не хочет?
Не знаю, кто такие Бо и Каденс, однако Сара и Маркус от них явно не в восторге.
Самсон сидит футах в десяти от нас, обняв руками колени, и смотрит, как волны набегают на песок. Вопреки собственной воле принимаюсь гадать, о чем он сейчас думает. О чем-то он ведь думает? Так всегда бывает, когда долго смотришь на воду. В голову лезут мысли. Много мыслей.
– Давайте поплаваем, – предлагает Сара, вставая и стягивая с себя шорты. – Пойдешь? – Она вопросительно смотрит на меня.
Мотаю головой:
– Нет, я сегодня уже приняла душ.
Сара хватает Маркуса за руку и стаскивает его со стула. Он подхватывает ее на руки и бежит к воде. Визг Сары вырывает Самсона из забытья: он встает, стряхивает песок с шорт и направляется к костру. Увидев, что я сижу там одна, на долю секунды замирает.
Я не свожу глаз с Сары и Маркуса. Смотреть особо больше не на что – не на Самсона же пялиться, пока он сюда идет. Мне все еще неловко за тот разговор с Натали, который он подслушал. Не хочу, чтобы он думал, будто Сара мне не нравится, – это не так. Просто я еще не успела толком ее узнать.
Самсон тихо садится на свое место и глядит на огонь – даже не пытается со мной заговорить. Я озираюсь по сторонам. На пляже столько свободного места, столько воздуха, почему же у меня ощущение, что я задыхаюсь?