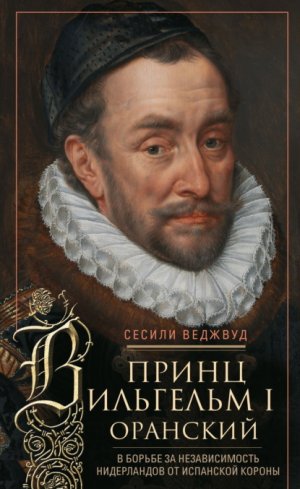
C.V. WEDGWOOD
WILLIAM THE SILENT
WILLIAM OF NASSAU, PRINCE OF ORANGE
1533–1584
© Перевод, ЗАО «Центрполиграф», 2024
© Художественное оформление, ЗАО «Центрполиграф», 2024
Глава 1
Сияющее утро
1533–1559
1
Вильгельму, графу Нассау-Дилленбургу, было сорок шесть лет, когда родился его первый сын. В первом браке он мог похвастаться лишь двумя дочерьми и потому женился во второй раз на своей родственнице, опекуном которой когда-то был, – Юлиане фон Штольберг, красивой вдове, которая в двадцать шесть лет была матерью четырех прекрасных детей. В четверг, 24 апреля 1533 года граф собственной рукой записал: «Высокородная Юлиана фон Штольберг, графиня и госпожа Нассау, между двумя и тремя часами утра, но ближе к трем, в замке Дилленбург, родила младенца мужского пола, и его имя будет Вильгельм». Как решил отец мальчика, так и сделали. Ребенок вскоре был крещен с большой пышностью в присутствии множества гостей; крестили по обряду католической церкви, а через несколько месяцев и отец и мать отказались от католической веры.
Преувеличенная забота, которую уже достигший среднего возраста отец, возможно, проявлял к своему долгожданному наследнику, вскоре уменьшилась до разумных пределов, потому что Юлиана, которую ее современники одобрительно называли «изумительно плодовитой» княгиней, в положенные сроки произвела на свет одного за другим еще одиннадцать детей, в числе которых было еще четыре мальчика.
Граф Нассау-Дилленбург не был богат. Его земли находились в красивой поросшей лесом местности вдоль одного из притоков реки Лан, а их центром было процветающее селение Дилленбург, расположенное вокруг его старомодного замка с коническими башенками, верхушки которых поднимались над окружавшими замок деревьями. На солнечных берегах речки Дил росли виноградные лозы, в долине в садах цвели сливы и качались под легкими ветерками вишни, в соседних лесах были великолепные охотничьи угодья. Здесь редко слышался гром пушек и топот шагов марширующих солдат: граф старательно заботился, чтобы этих звуков не было, потому что был небогат и укрепления его замка устарели. Граф Нассау-Дилленбург не был честолюбивым, но обладал сразу твердостью воли и осторожностью, которые помогали ему держаться в стороне от религиозных войн, бушевавших тогда в Германии, не жертвуя ради этого ни своей независимостью, ни своей честностью. Главными его интересами были совершенствование сельского хозяйства и создание школ. Даже в делах религии он правил своим небольшим владением как заботливый отец: когда в 1534 году официально сменил веру и «реформировал» церкви Нассау-Дилленбурга, он проявил при этом умеренность и не вызвал серьезных протестов. Его лютеранство было подлинным и личным чувством, хотя его и нельзя назвать пылким.
Четвертое десятилетие шестнадцатого века было бурным временем, нелегким для того, кто родился тогда в европейском мире. Нерешенный вопрос о протестантах рвал в клочья политическую структуру этого мира, а после Крестьянской войны Германия осталась страной грубых и ожесточенных людей. Голоса тех, кто был охвачен религиозным безумием, смешивались с голосами несчастных и угнетенных. В тот год, когда родился Вильгельм-младший, религиозный коммунизм анабаптистов стал причиной хаоса в Нидерландах. Но пока правители сражались за отнятые у церкви трофеи, пока народ снова и снова начинал кричать, а ему каждый раз затыкали рот, пока императорские войска громили республику анабаптистов в Мюнстере, а в Женеве была создана и стала процветать теократия Кальвина, граф и графиня Нассау-Дилленбург занимались тем, что растили своих детей.
Выживших детей – общих и от первого брака каждого из супругов – было общим счетом семнадцать. Это был целый выводок здоровых, шумных и красивых детей. Чтобы дать им товарищей наилучшего сорта, родители превратили свой замок в школу для избранных детей знатного происхождения. Это был полный счастья мирный уголок для тех, кто рос в бурное время, тихая заводь, далекая от шума и суматохи международной политики, где наставники могли обучать этих юных представителей правящего класса принципам права, истины и справедливости, не испытывая затруднений от того, что за стенами школы практика каждый день противоречит этим принципам. Жизнь в Дилленбурге была благочестивой, размеренной и простой. Дворы были полны пони, собак и детей, и время от времени через эти дворы проходил в домашних туфлях начальник школы, ученый и добродушный Юстус Хоен из Гельнхаузена, доносилась музыка из внутренних комнат, где девочки торжественно сидели на своих девичьих собраниях или вместе с маленькими братьями и кузенами заучивали фигуры необходимых танцев. Всем этим руководила Юлиана, красивая, державшаяся очень прямо, чуждая как тщеславия, так и кокетства. Во время беременностей она гордо несла свой живот под складками домотканого платья, а седеющие волосы скрывала под безупречно чистым чепцом домохозяйки. Она учила девочек шить, прясть и вышивать, готовить, очищать воду и приготавливать из сорванных в саду при замке трав домашние лекарства, которые тогдашние пищевые привычки делали необходимыми. Она не могла так непосредственно участвовать в обучении своих сыновей, но, поскольку ее муж был очень занят управлением своими землями, а у нее был сильный характер, именно ее влияние на всех ее детей было господствующим. Эта набожная лютеранка, верившая в строгие нравственные правила и исполнявшая их, искренняя, великодушная и простая, своим энергичным примером и устными наставлениями сформировала характеры всех своих детей.
Согласно преданию, в котором, возможно, есть доля правды, Вильгельм Нассау, в первом порыве радости от того, что у него есть наследник, убедил знаменитого богослова Меланхтона составить гороскоп его старшего сына. Результат в то время казался почти бессмыслицей: маленький Вильгельм должен был стать очень богатым и могущественным, в середине жизни перенести несколько необычных превратностей судьбы и умереть насильственной смертью. Поскольку будущий граф Нассау-Дилленбург вряд ли мог рассчитывать на большое богатство и большое могущество, остальную часть гороскопа посчитали такой же смешной и не приняли во внимание. А тем временем маленький Вильгельм перестал быть единственным сыном у своего отца; теперь он в семье и школе, в драках и ссорах учился уживаться с себе подобными. В этом искусстве ладить с людьми он с самого начала был изумительно талантлив.
Род Нассау был древним и знатным, однако (может быть, потому, что Нассау были более честными и менее хваткими, чем их собратья, немецкие аристократы) эта семья не поднималась, а опускалась в обществе с того времени, когда один из ее представителей был императором. В любом случае граф Нассау-Дилленбург был младшим сыном своих родителей, и основная часть семейного наследства досталась его старшему брату Генриху. Генрих был другом детства императора Карла Пятого, женился на даме из знатного французского рода Шалон, наследнице суверенного княжества Оранж (иначе Оранского), крошечного, но формально независимого княжества в центре Франции. Их сын Рене, разумеется, со временем получил наследство после обоих родителей, став и графом Нассау, и князем Оранским. Рене был на пятнадцать лет старше своего двоюродного брата, Вильгельма Нассау-младшего, был здоров, женат и имел по меньшей мере одного внебрачного ребенка. Когда он перед отъездом на войну составил завещание в пользу своего младшего двоюродного брата, никто, и меньше всех сам Рене, не придал этому большого значения. Он написал этот документ в угоду своему покровителю, императору Карлу Пятому, который не желал, чтобы большое наследство Рене из-за какого-нибудь неблагоприятного случая досталось его дяде Вильгельму Нассау-старшему, лютеранину. А наследника-ребенка, если с Рене случится несчастье, можно легко перекрестить в другую веру. Несчастье действительно случилось: в июле 1544 года Рене погиб от пули в строю под стенами города Сен-Дизье.
2
Экономная семья из Дилленбурга испытала противоречивые чувства, когда узнала, что ее старший сын унаследовал независимое княжество Оранское, примерно четверть Брабанта, большие участки территорий Люксембурга, Фландрии, Франш-Конте и Дофине, а также графство Шароле – земли, приносившие доход 170 000 ливров в год, не говоря уже о более или менее законных правах на устаревший титул короля Арля, на герцогство Гравина, на три итальянских княжества, шестнадцать графств, три маркграфства, два виконтства, пять баронств и около трехсот более мелких поместий.
Так в одиннадцать лет наследник незначительного графства Нассау-Дилленбург стал принцем Оранским и одним из богатейших аристократов Европы. Пришел конец его простой и веселой жизни в фамильном замке. Этого нельзя было избежать: мальчик Вильгельм должен был вступить во владение своими землями в Нидерландах, присоединиться к нидерландскому двору императора, научиться быть солдатом, придворным, дипломатом и богатейшим аристократом. Он должен был сказать прощай прямолинейным наставлениям, искреннему добродушию, неофициальным манерам и честной любви, которые были у него в Дилленбурге, и уйти оттуда в мир одиночества и сложных интриг огромного многонационального двора. Поэтому в одиннадцать лет он по желанию отца отказался от маленького отцовского наследства в пользу своего следующего по возрасту брата Иоганна и покинул родной дом, где полы в коридорах были выложены каменными плитами, а в гостиных устланы камышом, ради фламандских дворцов с полами из мрамора и порфира, позолоченными кессонными потолками и гобеленами на стенах. В Дилленбурге вода родника стекала в круглую чашу, которую поддерживали грубо сделанные человеческие фигуры, и этим бассейном, несомненно, восхищались все соседи. Но чем он был по сравнению с изящным фонтаном «Геликон» в королевской усадьбе в нидерландском городе Бенш? Этот фонтан украшали девять статуй, подробно изображавшие муз! В Дилленбурге громко пели в унисон немецкие хвалебные песнопения или псалмы, а в Брюсселе при дворе слушали изящные сложные мелодии итальянских лютнистов или ходили на мессы, которые хорошо обученный хор пел среди пирамид восковых свечей, чьи огоньки вздрагивали в высоких готических приделах храма. В Дилленбурге из книг были сочинения по истории, трактаты на религиозные темы и Библия Лютера. В Нидерландах в королевских библиотеках были иллюстрированные часословы, где миниатюры были ослепительного синего, пылающего красного или блестящего, как отполированное золото, желтого цвета. Там были сочинения Овидия и Петрарки, «Зеркало дам», романсы Оливье де ла Марша (любимое чтение императора), все новые тогда модные романы – испанские, французские, итальянские, пасторальные, плутовские, слегка эротические, «Амадис Галльский», «Гептамерон» Маргариты Наваррской, «Диана» Монтемайора, но, разумеется, не было Библии Лютера. Зато имелось сочинение Кастильоне «Придворный» – блестяще написанная светская карманная книга о правилах поведения, рекомендованная для чтения молодым аристократам. В Дилленбурге от одежды ожидали, что она будет служить долго, у девушек и женщин были их собственные лица. При нидерландском дворе носили расшитые золотом бархатные наряды с атласными вставками, атласные камзолы, усыпанные жемчужинами, и красивые батистовые рубашки со вставками из мехельнских кружев, и все это шили заново для каждого случая. Лица дам тоже обновлялись для каждого случая.
Новый принц Оранский не взял с собой из прежней жизни в новую ничего, вряд ли даже взял хотя бы одного привычного спутника. Отец привез его в Нидерланды и там расстался с ним. В дальнейшем об образовании и благополучии мальчика заботился комитет из трех фламандских дворян, а император заменял ему отца. Граф Нассау действительно сохранил так мало контроля над своим малолетним сыном, что через несколько лет, видимо, только косвенным путем и из вторых рук узнал, что его сыну дали нового наставника. Это был Жером Перрено, младший брат одного из главных министров императора, епископа Аррасского. Граф Нассау воспользовался этим случаем, чтобы написать епископу письмо, в котором сообщал, что с удовольствием услышал об этом назначении, и намекал епископу на то, что тот мог бы использовать свое влияние на императора, чтобы ускорить решение в императорском суде некоторых его, графа, частных дел. В то время у графа было уже так много детей, что он, когда разлука стала неизбежной, почувствовал, кажется, лишь облегчение, когда его старший сын в одиннадцать лет был пристроен и сбыт с рук. Юлиана чувствовала иначе: ее материнская тревога следовала за мальчиком в Нидерланды, и много лет мать бессильно волновалась из-за искушений и ложных учений, с которыми сын должен был столкнуться.
Изумленный, восхищенный, полный любопытства, совершенно не растерянный, не смущенный и не тоскующий по дому, мальчик Вильгельм Нассау начал новую жизнь в качестве принца Оранского и стал новичком в школе, где было много сложностей и бесчисленное множество условностей, от которых он не мог отдохнуть даже в праздники. Внезапно лишившись любви и сердечной теплоты своей большой семьи, принц обнаружил, что он уже не один из многих детей у небогатых родителей, что ему уже не надо ждать очереди, чтобы покататься на любимом пони или получить обещанное лакомство, что теперь он – единственный и особенный. Его сопровождают два или три избранных товарища по играм, больше напоминающие свиту, чем друзей; к нему обращаются «монсеньор»; его обслуживает бесчисленное множество слуг; его одевают с изумительным изяществом. В Дилленбурге он сам натягивал на себя одежду и сам стаскивал ее с себя, а в Нидерландах юного принца одевал его камергер, который иногда исполнял эту же работу для императора. Возможно, для мальчика с независимым характером это была сама прекрасная перемена жизни из всех возможных.
На портрете Вильгельма, написанном в это время, изображен хорошо владеющий собой мальчик с открытым, добродушным лицом. Волосы у него каштановые, глаза голубые, аккуратный вид, смуглая чистая кожа. По крайней мере внешне он имел все признаки того, что преобразился так быстро, как только мог. Он держался уверенно, не был робким и застенчивым, был очень обаятельным и так привык нравиться людям, что добивался от них любви, искренне предлагая им свою привязанность и ожидая от них того же чувства. Ему также повезло с повелителем: император Карл Пятый имел склонность к семейной жизни, но так никогда и не смог удовлетворить это желание. Император отличался преданностью своей жене, которая умерла незадолго до этого, и своим детям, которых почти не видел из-за того, что много ездил по делам политики. Этому одинокому, уставшему и встревоженному человеку сразу же приглянулся доверчивый мальчик из Дилленбурга. У этого ребенка были хорошие, хотя вначале провинциальные, манеры, и похоже, что он в очень раннем возрасте научился искусству сочувственно слушать. Император мог говорить с ним серьезно и получать серьезные ответы, ворчать на что-то и не видеть на его лице признаков скуки, или в минуты ностальгии, глядя на него во дворе для конных упражнений или на теннисном корте, вспоминать, как когда-то гордился своей теперь угасающей силой. Император настолько ценил юного принца Оранского и настолько был милостив к нему, что, когда послы встречались с императором без посторонних и все придворные уходили, король поворотом головы и словами «Принц, останьтесь» разрешал тому остаться и слышать все.
Но Карл никогда не оставался долго на одном месте. В его отсутствие центром брюссельского двора была овдовевшая сестра императора, Мария, вдовствующая королева Венгрии и регентша Нидерландов, и потому Вильгельм рос под ее строгим, но полным любви надзором. Она, как и ее брат, попала под обаяние Вильгельма. Бездетная Мария стала считать Вильгельма своим сыном и охотно назвала себя его матерью. У этой женщины было мало привязанностей и слабостей, зато были твердый характер и высокие принципы. Богатство и роскошь ее двора смягчались дисциплиной и постоянством распорядка. Она не понимала стремлений народа и не чувствовала уважения к мнениям отдельных людей, но по крайней мере вполне ответственно относилась к обязанностям, связанным с ее положением. Управляя энергичными и непокорными нидерландцами, она была диктатором, насколько могла, и в большей степени диктатором, чем им нравилось, но в общем управляла ими хорошо. В свободное время она собирала редкие книги, заказывала картины и гобелены для роскошных охотничьих домиков, которые велела построить в Мариемоне и Бенше, слушала новую для того времени музыку, пылкой поклонницей и покровительницей которой она была (она сама играла на лютне), и преследовала оленей на охоте в лесах Арденн.
Влияние этих двоих – императора и его сестры – на принца Оранского было господствующим все годы его подросткового возраста. Если бы они узнали будущее своего воспитанника, ничто не потрясло бы их сильней. Он, которого они воспитывали как верного слугу своей династии, стал защитником восставшего народа от этой династии. Но к этому решению его привели те самые наставления, которые они дали ему, ведь император и его сестра при всей ограниченности своих взглядов были полны чувства долга перед своими подданными и просто слишком хорошо внушили это чувство своему воспитаннику. Он отличался от них тем, что определял добро и зло с точки зрения морали, а не политики, и эта основа его взглядов, несомненно, была заложена в раннем детстве, в Дилленбурге. Он также отличался от них большим размахом воображения. Непринужденность и переполнявшее его добродушие, характерные для него в детстве, необычная чувствительность, вызывавшая у него отвращение к повседневным жестокостям тогдашней жизни, позже расширили и углубили то чувство долга, которому научили его опекуны, и превратили это чувство в конструктивную политическую веру. Его путь и их путь стали расходиться почти незаметно, возможно, в тот момент, когда он, молодой офицер, вежливо отказался разыскивать своего подчиненного, капрала, который несдержанно (и, вероятно, в пьяном виде) критиковал регентшу. Молодой принц поступил как тот, у кого сострадание к отдельному человеку сильнее, чем уважение к закону, и из таких поступков позже выросла та политика, которая закончилась освобождением народа.
Он рос человеком действия, а не слов, не слишком предавался анализу своих чувств или формулированию собственных теорий, жил в основном именно «здесь и сейчас», любил людей, но, возможно, они нравились ему все без разбора, приобретал практические знания о том, как обращаться с людьми и ситуациями, но приобретал их не специально, а потому, что это соответствовало его характеру и было ему по вкусу. Такие люди оставляют мало письменных свидетельств, которые позволили бы проследить за их развитием. Трудно сказать, когда юный принц Оранский полюбил свою новую страну. Он долгие годы, даже когда ему было больше тридцати лет, продолжал называть свой родной Рейнланд «моя родина», но, возможно, делал это бессознательно.
Нидерланды – города, в которых он бывал, деревни, через которые проезжал во время охотничьих прогулок, даже местность – сильно отличались от сельских возвышенностей Нассау. Там он жил среди крестьян и остального деревенского населения, простых, отставших от времени и (в этом благословенном краю) довольных жизнью людей. Здесь, в Нидерландах, он находился среди людей, уже принадлежавших к индустриальному обществу. Города, а не сельская местность, окрашивали жизнь общества в свои тона и всюду протягивали свои щупальца. Индустрия, мануфактуры и торговля правили в экономике Нидерландов. Огромное множество нидерландцев уже превратились в наемных рабочих. Там, в Нассау, продолжала существовать старая феодальная Европа, основой экономики было сельское хозяйство, а основой общества – взаимные обязательства господина и вассала. Здесь, в Нидерландах, все было капитализировано. Это был алчный, примитивный, жестокий, но полный изумительной жизненной силы капитализм.
Искренний интерес молодого Вильгельма к людям помог ему понять это меняющееся общество лучше, чем понимали его большинство дворян. Хотя по рождению он принадлежал к классу, феодальные взгляды которого на мир уже устарели, он рано научился уживаться с купцами и финансистами, из которых состоял средний класс Нидерландов, и стал чувствовать большую симпатию к людям из народа, у которых всегда главной заботой были их физические потребности и которые были беззащитны, что беспокоило его совесть. Эти чувства рождались постепенно из его собственных встреч с людьми, потому что теории, которые молодой принц узнавал от своих наставников, содержали крайне мало сведений о мире, в котором он должен был жить, потому что этот мир был слишком молод и о нем еще не успели написать в учебниках. Будущего государственного деятеля полагалось учить феодальной теории, на которую накладывалось божественное право.
Так за девять лет провинциальный мальчик Вильгельм фон Нассау-Дилленбург стал истинным принцем, тем принцем Оранским, который во всей Западной Европе считался образцом элегантности, учтивости и дипломатичности. На следующем дошедшем до нас портрете ему двадцать два года. Пухлое в детстве лицо похудело. Каштановые волосы коротко острижены и зачесаны назад с высокого лба, в глазах под прямыми бровями видна наблюдательность, даже расчетливость, мягкий чувственный рот сжат, словно на суде. Доверчивый мальчик стал молодым мужчиной, который никогда не выдавал свои чувства. Он был обаятельным, оживлял своим присутствием общество, имел огромный запас приятных тем для разговора и модных острот, но он научился скрывать свои чувства. «Изумляло то, как умело он завоевывал сердца тех, кто говорил с ним даже всего один раз: так хорошо он понимал, как приспособить свое настроение к настроению другого человека и войти в его интересы». Это был признак чего-то большего, чем просто светское обаяние, потому что именно эти внешние проявления сочувствия и способность поставить себя на место другого позже определили его политический выбор. Однако те, кто наблюдал его вблизи, считали его гордым и хорошо владевшим собой, чувствительным и легко обижавшимся, но мастерски умевшим скрывать свои обиды. Сдерживаемая гордость делала его легко возникавшее сочувствие еще более лестным оттого, что для этого сочувствия не могло быть скрытых причин: разве у принца Оранского может быть необходимость заискивать перед кем-то? Более того, он вел себя одинаково со всеми, и если наносил кому-то обиду, то лишь тем из равных ему аристократов, которые считали вежливость своей исключительной привилегией: принц Оранский был вежлив со всеми.
Вежливость – то качество человека, которое даже через четыреста лет позволяет увидеть одну из самых глубинных внутренних пружин его характера. Дело в том, что вежливость возникает из обостренной чувствительности к реакциям других людей, и в этой чувствительности важной составной частью является желание нравиться, признанное или нет. Эта милая слабость в сочетании с неподдельным уважением к другим и необычной добротой сделали принца Оранского популярным, но эта доставшаяся по заслугам популярность несла в себе неизбежное наказание для своего обладателя: человек, очаровавший всех, привлекателен для многих, но есть немногие, кому он сильно не нравится. Вильгельм не был исключением: у тех, кто из-за подозрительности или зависти не попал под действие его чар, реакция отторжения была сильной и бурной. Он, несомненно, совершал ошибки. Он поддавался внушению, был достаточно тщеславным, больше заботился о том, чтобы нравиться, чем о том, чтобы быть правдивым, не очень страдал от угрызений совести, когда приносил дилленбургские правила в жертву хорошим манерам, и был удивительно упрям. Когда он хотел поступить по-своему, он хотел этого с упорством, которое совершенно не вязалось с его обычным добродушием.
3
Когда принцу было двадцать один год, он все еще занимал должность при спальне императора. К этому времени он был нагружен таким количеством государственных должностей, что, разумеется, не мог тратить свое время на то, чтобы церемониально подавать императору рубашку. В восемнадцать лет он получил первую командную должность в армии – стал командиром конного отряда. В девятнадцать лет к ней прибавилась должность пехотного полковника, а в двадцать лет, благодаря милости императора, он стал, обойдя старших по возрасту соискателей, генерал-лейтенантом войск, находившихся в Нидерландах. На него пролился целый поток гражданских должностей, и принц не был против этого. В шестнадцать лет он впервые сделал попытку устроить официальный прием: дал в Бреде для принца Филиппа, сына императора, публичный праздник с пиром и фейерверками. К этому у него тоже был дар, и скоро правительство стало поручать ему устройство большинства официальных праздников.
Задолго до того, как любимый воспитанник императора стал взрослым, император выбрал ему жену – Анну, единственного ребенка и наследницу богатого графа ван Бюрена. Они поженились с соответствующим случаю великолепием в замке невесты, 8 июля 1551 года. Вильгельму было восемнадцать лет, Анна была моложе его на месяц или два. Это был договорный брак, и он оказался настолько удачным, насколько бывают удачными такие браки, когда оба участника сделки, как им положено, твердо решили сделать ее успешной. Вильгельма сильно влекло к женщинам, и хрупкая красота его жены ему очень понравилась. Но и он, и она были очень молоды. Ее интересы почти ограничивались заботой о соблюдении общественных формальностей, внесением улучшений в их с мужем многочисленные резиденции и ее собственным довольно слабым здоровьем. Ей не хватало глубины чувств, а возможно, также и ума, чтобы сделать их с мужем отношения источником вдохновения для него, хотя, кажется, эти партнерские отношения были достаточно приятными. Разумеется, девятнадцатилетнему Вильгельму, разлученному с Анной его обязанностями солдата, было холодно и одиноко в его лагерной постели, и особенно сердило его то, что он был далеко от своей Анны в годовщину их свадьбы. «Я с каждым днем все больше тоскую по тебе, – писал он, – если бы ты была здесь, ты бы, конечно, согревала меня по ночам». Сначала они были достаточно счастливы потому, что не знали любви большей, чем они нашли. Нет смысла обсуждать вопрос, был ли Вильгельм верен жене: не осталось ни одного доказательства его верности или неверности. Он был молод, силен и мужествен и, как все его современники, рано повзрослел. В Дилленбурге, в благодетельной тени счастливого супружества своих родителей, он учился респектабельности в вопросах секса; но его собратья-придворные своим поведением обычно подавали ему иной пример. В восемнадцать лет выговор старших кажется лучше осуждения ровесников. Умение приспосабливаться, которое позже было силой Вильгельма, в годы его молодости было его слабостью. Он был так же привлекателен для женщин, как они для него, а для своего тела не был ни рабом, ни тираном, но, возможно, слишком снисходительным господином. Он любил легкую жизнь. Раз за разом он совершал глупые поступки, например, на одной буйной холостяцкой вечеринке заявил, что жены нужны для того, чтобы основывать династии, а не для удовольствия.
Когда Вильгельм это сказал, он был женат уже шесть лет, и, возможно, в ткани его супружества, имевшей очень слабую основу, протерлась дыра. Анна тоже могла обнаружить, что ей чего-то не хватает: ее муж был очаровательным, но что происходило в его уме? Однажды она призналась то ли приятелю, то ли подруге, что после этих шести лет знает своего мужа не лучше, чем в день их первой встречи. Странное высказывание, если только его целью не было заставить молчать болтуна или болтунью, нескромно спросившего или спросившую ее о мнениях мужа по каким-то личным вопросам.
Незадолго до свадьбы Вильгельм взял в собственные руки управление своими поместьями и обустроил домашнее хозяйство. Теперь у него опять был собственный дом, но очень отличавшийся от единственного другого дома, который он знал. Его деревенский дом находился в Бреде, обширном рыночном городе на зеленой равнине Брабанта, где перед высокой готической церковью росли тринадцать огромных сикомор, на которых каждый год гнездились аисты. За городскими стенами раскинулась плоская равнина, над которой поднимался широкий полупрозрачный свод неба. Здесь скот кормился свежей травой на пастбищах между широкими медленными реками и редкими серебристыми березовыми рощами, а процветающие фермы с большими подвалами и красными крышами были окружены плодовыми деревьями, и коренастые крестьянки с топотом шли от своих темных хлевов к крытым черепицей сыроварням или маслодельням, а медные ведра с молоком, свисая с их плеч, качались на деревянных коромыслах. Принц Оранский, конечно, имел мало общего с медными ведрами для молока и фермами, разве что иногда останавливался там с гостями, возвращаясь с охоты, и платил, высыпая на землю золотые монеты, за чашку пенящегося молока, зачерпнутого в ведре.
Его замок в Бреде, в отличие от нагромождений примитивных построек в Дилленбурге, был расположен в великолепном месте: этот замок красиво и вольно стоял посреди большого парка и был окружен широко известными садами. Здесь Вильгельм мог развлекаться сколько ему хотелось, предлагая своим гостям охотничьи забавы, одни из лучших в Нидерландах, погреб и кухню, знаменитые во многих странах, наилучшее обслуживание и при этом свободу от утомительных формальностей и свое общество, а он всегда был в хорошем настроении. Сюда в ответ на постоянные приглашения приезжали его родные из Дилленбурга, чтобы полюбоваться его удачей или разделить ее с ним, пожив в замке. Одна из его сестер вышла в Нидерландах замуж, а его третий брат Людвиг, которому он покровительствовал как старший, уже отличался в армии. Вильгельм не забыл и своего отца: заступился за него перед императором, чтобы семья Нассау получила поместье, о котором долго шел спор. Однажды даже его мать приехала в Бреду и с изумлением увидела гобелены с золотыми нитями, множество слуг в золотых ливреях, стекла в окнах, роскошные кушанья на золотых и серебряных тарелках, изящные стулья в новом тогда стиле – с обитыми плюшем сиденьями и позолоченной итальянской резьбой, модные картины Франца Флориса из Антверпена, изображавшие особ женского пола, которые, возможно, были богинями, но уж точно не были настоящими дамами. И среди всего этого мирского великолепия она увидела потрясающе модного молодого человека, одетого в самый роскошный итальянский бархат; на пальцах у него сверкали драгоценные камни. Он поднес ее не очень мягкую ладонь к своим мягким губам и вежливо попросил у матери благословения.
Чаще Вильгельм сам приезжал в Дилленбург: во время дипломатических поездок в Германию он останавливался в родительском замке на ночь или две на пути туда и обратно, ошеломляя обитателей дворов и коридоров размером и великолепием своего обоза, породистыми конями и сверкающими одеждами слуг и восхищая своих молодых родственников изящными подарками. Вильгельм изменился, даже говорил на другом языке: уезжая в Нидерланды, он говорил, кроме латыни, только на гортанном негибком немецком, а теперь говорил на французском, официальном языке Нидерландов и императорского двора. Еще он знал голландский язык, на котором обычно говорили его арендаторы и солдаты, которыми он командовал, а также немного владел испанским языком потому, что в императорской армии были испанцы-офицеры и испанцы-солдаты и потому, что Филипп, сын императора, говорил только по-испански. У Вильгельма были прекрасные манеры и изящная неискренность светского человека. Его духовниками были католические священники, и, разумеется, он ходил на мессу. Вот хороший вопрос: хотелось ли Юлиане, чтобы у ее сына было больше искренней религиозности, раз вера, которую он исповедовал, больше не была его верой?
Менее любящая и более светская женщина, чем Юлиана, сделала бы из всего этого вывод, что ее сын полностью изменился, и ошиблась бы. Юлиана, хотя очень не одобряла его религию и мало понимала в тонкостях его жизни, поступила правильно и не стала обращать внимания на пышные наряды и украшения и на манеры, посчитав их лишь поверхностными чертами. Она верила в своего сына и при всем своем глубоком недоверии к светскому обществу, в котором он вращался, все же чувствовала, что усадьба, где он жил, была подходящим местом для ее младших детей. Ее муж, желавший, чтобы его сыновья и дочери преуспели в большом мире, никогда не сомневался в том же самом.
4
В своем доме в Бреде Вильгельм был хозяином, а на землях вокруг этого дома господином. В Брюсселе же он был слугой государства. Здесь на небольшой возвышенности, где теперь стоит Академия изящных искусств, тогда находился великолепный дворец Нассау, построенный для его дяди в стиле фламандского Возрождения с крутыми двухэтажными крышами и причудливыми островерхими верхушками у башен. Здесь содержали великолепных лошадей, на которых он и его свита проезжали по улицам, чтобы приветствовать иностранные посольства или принять посещавших его принцев. Здесь были роскошные резьба и скульптуры, инкрустированные деревянные вещи и обтянутые льняными тканями панели, покрывавшие стены, картины Иеронима Босха в стиле макабр (стиле кошмара), моду на которые ввел принц Филипп Испанский, и мраморные статуи в более мягком обычном стиле эпохи Возрождения – группы «Геракл и Деянира» и «Суд Париса», «изображенные с совершенным мастерством» для того, чтобы возбуждать чувства приезжающих гостей.
Здесь в просторном банкетном зале, под позолоченным кессонным потолком Вильгельм развлекал высокопоставленных посетителей, а в нескольких обеденных комнатах меньшего размера сгибал иностранных послов крепкими винами и наводящими вопросами. Здесь он давал балы и банкеты, о которых ходили разговоры по всей стране, устраивал во дворах фонтаны, бившие вином, или изумлял своих гостей какой-нибудь причудливой вещью – например, однажды вся посуда на его столе была сделана из прозрачного сахара, который был скручен так, что принял витые формы венецианской стеклянной посуды. Здесь он иногда вызывал своих собратьев-аристократов на состязание в выпивке, и соревнование кончалось, лишь когда победитель, подняв помутневший взгляд от качающегося пола, видел, что последний противник некрасиво валится вниз, в кучу побежденных раньше жертв, которые храпят под столом. Здесь, в маленьком домике с теннисным кортом, который отделяли от дворца ухоженные сады, Вильгельм яростно занимался атлетическими упражнениями, когда у него случались приступы борьбы с последствиями слишком хорошей жизни.
Огромные поместья принца Оранского перешли к нему от его двоюродного брата Рене уже обремененные долгами. Его собственный образ жизни нисколько не уменьшил это бремя. В эту эпоху преувеличенной роскоши и притом в самой богатой стране Западной Европы он превосходил всех великолепием своих причуд. Это были не просто безумства молодости: в шестнадцатом веке люди искренне ожидали от аристократа, чтобы он украшал жизнь общества яркостью и стилем. Простолюдины, имевшие очень мало публичных развлечений, с нетерпением ждали каждой ярмарки, процессии или казни и считали ни больше ни меньше как долгом знатного человека предоставить им зрелище. Они желали видеть кавалькаду сияющих лошадей, пажей и дворян свиты, одетых в ливреи, охотничьих собак на поводках, соколов в колпачках на запястьях у охотников, яркие роскошные одежды и вышитые балдахины. Для чего еще существуют аристократы? Можно считать такие вкусы глупостью, но они вполне понятны. Когда сын императора Филипп приехал в Брюссель, горожан не интересовало то, что он организовал ночлежные дома для бедняков и приказал бесплатно раздавать каждый день по восемьсот порций хлеба и пива. На это обратили внимание только бедняки. Он должен был одеть своих слуг в золотые одежды и проехать на коне по улицам с улыбкой на лице, махая толпе шляпой. Но сын императора не любил процессий, кроме религиозных, во время которых он шел среди убогих кающихся грешников, накрыв голову капюшоном, так что его нельзя было узнать. Народ чувствовал себя обманутым.
Тем временем цены росли, а доходы с земель аристократов оставались прежними. Чтобы жить так, как от него ожидали, аристократ был обязан тратить больше своего дохода. Именно в таком положении находился Вильгельм. Щедрый и молодой, со вкусами, требовавшими больших затрат, и снисходительный к себе ни больше ни меньше, чем это естественно, он чувствовал, что его долг – дать народу то, что народ хочет. Но ему нравилось это делать, и он делал это по самому высокому стандарту, какой могло подсказать его тщеславие. В этом отношении он был искренним: когда его упрекали за эти причуды, он весело отвечал, что ему нравится приобретать себе друзей.
Однако в этом вихре популярности и роскоши, в мире, где ценились только материальные блага и общественное положение, он сохранял чувство меры, поскольку сильнее всех остальных расходов его кошелек опустошали забота о благополучии его арендаторов и выплата жалованья войскам, которые император отдал ему под командование. Он писал, что его офицерского жалованья – трехсот флоринов в месяц – «едва хватало для лагерных работников, ставивших мои палатки». Жалованье солдатам, расходы на их снаряжение, размещение на квартирах и продовольствие он оплачивал из собственного кошелька, и платил щедро. Более того, поскольку Карл Пятый старел, а его сын Филипп был плохим устроителем приемов даже в лучшие времена, организация официальных развлечений все больше становилась делом Вильгельма. Все поездки в качестве посла к королю Франции или правителям Германии тоже были в числе его повседневных дел. Если был нужен хорошо действующий представитель, очевидным и надежным выбором был принц Оранский: можно было не сомневаться, что он организует впечатляющее зрелище и не предъявит за это счет.
Вильгельму было шестнадцать лет, когда он впервые встретился с сыном императора Филиппом, в то время королем Неаполитанским. Филипп должен был наследовать после своего отца Испанию и Нидерланды, но империя и Австрия предназначались брату императора. Именно Филипп был тем правителем, для служения которому в Нидерландах Карл обучал принца Оранского. Но император, довольный делом своих рук, не заметил, что Филипп сразу же невзлюбил своего младшего по возрасту товарища. Гордость Филиппа была сильно уязвлена, когда он, косноязычный, застенчивый и нервный, увидел перед собой этого популярного и явно уверенного в себе юношу. Непринужденные манеры, невозмутимость и спокойная вежливость казались ему подозрительными, а из-за своего слабого желудка и нескладной фигуры Филипп с отвращением относился к физической самодостаточности Вильгельма. По характеру между ними не могло быть ничего общего, потому что и хорошие и плохие черты у них были противоположны. Чувство долга у Филиппа было мистическим, у Вильгельма практическим; чувственность у Филиппа была стыдливой, у Вильгельма искренней; мужество Филиппа было только умственным, мужество Вильгельма и умственным, и телесным; Филипп был жесток, потому что сам мучил себя; Вильгельм был добр, и это было ему легко потому, что его душа была спокойна; Филиппа можно было бы назвать интеллектуалом, но не интеллигентом, а Вильгельма интеллигентом, но не интеллектуалом. Лишь одно у них было общим – их неуступчивое, упрямое упорство. Под выпуклым лбом и беспокойно смотревшими голубыми глазами, под вздернутым носом и слабым ртом с толстыми губами у Филиппа был маленький и узкий волевой подбородок, почти такой же, как у принца Оранского.
Внешне эта неприязнь совершенно не была заметна. Оба молодых человека вели себя корректно, хотя и не дружески. Вильгельм, когда жена родила ему ребенка, попросил Филиппа быть крестным отцом младенца, и маленький граф ван Бюрен (сын унаследовал титул матери) был назван так, как следовало, – Филипп Вильгельм.
5
Через несколько месяцев после этого император Карл Пятый сделал то, к чему долго готовился. Рано постаревший в свои пятьдесят пять лет, искалеченный подагрой и измученный многими заботами и тревогами, он планировал отречься от престола. Его сын Филипп, которому было двадцать восемь лет, уже был опытным политиком, и отец полностью верил в сына. Для себя император собирался построить в Испании очаровательный уединенный дом в сельской местности и там провести свои последние годы в простоте, но в уюте, наблюдая за концом своей жизни. Такой была его мечта, хотя министры императора прекрасно понимали, что он, конечно, хочет, чтобы и тогда с ним советовались по всем вопросам.
Сколько бы истинного отказа от власти ни было в этом отречении, оно подразумевало, что Карл навсегда покинет свои Нидерланды. А мысль об этом означала печаль и отрезвление от мечтаний, потому что Карл родился в Нидерландах, в городе Генте. В этой стране он вырос, здесь прожил веселую юность и остепенился, здесь в тринадцать лет был провозглашен герцогом. Здесь в знаменательный час он был в соборе Святой Гудулы провозглашен королем Арагона и от нидерландских песчаных дюн, из порта Флиссинген отправился в путь на корабле, чтобы со временем стать таким могущественным правителем, каких до него не видела Европа. Много раз он возвращался в Нидерланды как в свой родной дом. И теперь его решение уехать навсегда в Испанию было символом того, что народ Нидерландов раньше не осознавал до конца. Оно означало, что сердцем и центром владений императора стала Испания. Старинное и почтенное герцогство его предков, его родина была только приложением к иностранным королевствам, которые он получил от матери-испанки и куда он теперь отправлялся умирать.
Сам Карл, невосприимчивый к политическим настроениям, не видел, какое впечатление произвел его план, и не замечал тревожных предчувствий, которые возникли у нидерландцев при мысли, что его сменит его сын. Он был больше занят организацией самой церемонии отречения. На фламандской границе без конца тянулась тлеющая война с Францией, и там в императорских войсках находился принц Оранский. Император написал принцу, что тот должен вернуться в Брюссель, потому что он хочет видеть его рядом с собой на этой церемонии. Это было не совсем удобно: получалось, что принц был должен покинуть свой пост в момент, который оказался решающим. Но Карл настаивал, и Вильгельм поскакал из лагеря в Брюссель, перед этим выговорив для Анны хорошее место среди дам на галерее.
Так 25 октября 1555 года, в три часа дня, перед представителями Штатов Нидерландов, знатными дворянами своих владений и многими иностранными послами император Карл Пятый отрекся от престола. Одетый в черное, прихрамывая и опираясь скрюченной ладонью одной руки на трость, другой рукой он держался за плечо дорогого ему принца Оранского. Сзади императора шли его сын Филипп и сестра императора, регентша Мария. Наконец Вильгельм помог ему сесть в большое обитое бархатом кресло, император собрал свои бумаги, протер и надел свои очки. Затем император произнес длинную и очень трогательную речь. Была доля простодушия в том, как этот могущественный наследственный властитель перечислял и объяснял все, что сделал за сорок лет своего царствования, и с трогательным достоинством просил прощения за все плохое, что мог невольно совершить. «Тут, – по словам очевидца-англичанина, – он заплакал, к чему, как я думаю, сильным толчком стало то, что он увидел, как это делают все присутствующие». Затем прозвучали другие речи, более короткие и менее впечатляющие, и, наконец, наследник престола Филипп, неспособный говорить от волнения, упал перед своим отцом на колени и получил от него благословение. Карл поднял его раньше, чем тот успел закончить поклон, и с гордостью представил его участникам собрания. Когда снова установилось молчание, чиновник официально прочитал акт, согласно которому Филипп получил в наследство Нидерланды. Теперь настала очередь Филиппа говорить. Во время чтения акта он уже вернулся на свое место; теперь, наклонившись вперед в своем кресле, он неуклюже произнес несколько фраз, объяснив, что французский язык оказался для него трудным и что его речь прочитает епископ Аррасский. Епископ выступил вперед со свитком в руке, а Филипп снова сел на свое место. Это была одна из тех минут, которые история наполнила особым значением.
Вильгельм уже на следующий день снова был в своих войсках; остаток той осени и следующую зиму он боролся с мятежом: его солдаты требовали свое жалованье, а ни Филипп, ни Карл (уже не в первый раз) не могли его выплатить. Дело окончилось лишь небольшими грабежами, и за то, что не случилось ничего более серьезного, король Испании должен был благодарить в первую очередь принца Оранского: только популярность, тактичность и, вероятно, деньги Вильгельма удержали армию в узде.
Тем временем в Брюсселе Карл давал Филиппу указания на будущее. Он предостерегал сына от внезапных перемен, настойчиво убеждал его уважать склонности народа и назначать для управления Нидерландами только нидерландцев или, по крайней мере, не испанцев. Чтобы обеспечить хотя бы частичное исполнение своих желаний, Карл хитроумно применил обычное в подобных случаях средство: перед отречением он сделал целый ряд важных назначений. Он много говорил о принце Оранском как о человеке, особенно пригодном для таких дел и многообещающем. Возможно, даже Карл был немного обеспокоен планами своего сына. Сестра Карла, регентша Мария, была более откровенна: она даже не скрывала своих сомнений. Ей только исполнилось пятьдесят с небольшим лет, и она была способной правительницей. Однажды Филипп, которому тогда не давали покоя война с Францией, его интересы в Англии (он незадолго до этого женился на английской королеве) и все более неотложные нужды Испании, спросил Марию, не хочет ли она остаться регентшей после отречения Карла. Тем, кто был прислан узнать ее решение, она ответила недвусмысленным и почти грубым отказом, а именно сказала, что слишком стара, чтобы снова учиться азбуке, имея в виду, что не хочет менять свои методы правления в угоду новому королю.
Филипп пока не поднимал руку на нидерландцев, но они уже относились к нему недоверчиво и неприязненно, замечая его религиозный фанатизм и нелюбовь к их природной склонности пошуметь. В Англии, с которой они имели тесные торговые отношения, как раз тогда происходили самые жестокие религиозные преследования в ее письменной истории, и это делалось под покровительством набожной жены Филиппа Марии Тюдор. Не возьмется ли Филипп и за них, когда сбросит с плеч войну с французами?
Но для принца Оранского и, в сущности, для всех Нидерландов жизнь шла почти как раньше. Блестящая победа при Сен-Кантене, которую одержал нидерландец Эгмонт, фактически стала концом войны с Францией. Вильгельм тогда служил в армии, но в этом сражении не участвовал, зато в тот славный день отличился его младший брат Людвиг ван Нассау, девятнадцатилетний кавалерийский офицер. Теперь он, маленький ростом, но прекрасно сложенный, своим видом и обворожительной улыбкой вызывал на улицах Брюсселя такие же восторженные приветствия, как сам Вильгельм.
Вильгельму же достались на долю менее яркие, но более трудные задачи. Филипп, совершенно не умевший убеждать людей, при любом случае использовал дар убеждать, которым был наделен принц Оранский. Молодой принц уже был известен как великолепный мастер управлять богатыми купцами, от чьих денег зависело правительство. В новогодние праздники 1558 года Вильгельм был послан в Антверпен взять там в кредит деньги для Филиппа и сумел собрать нужную сумму, причем не только с купцов-фламандцев, но и с находившихся там английских купцов. Как только это было сделано, он поехал во Франкфурт на встречу немецких князей. Там на пьяной вечеринке он и произнес те глупые слова, которые его враги записали, чтобы использовать потом. Он не сдержал свой язык в неподходящее время: в марте из Бреды пришло известие, что его жена Анна заболела. Он поспешил домой и, приехав к себе 20 марта, увидел, что Анна уже умирала. Чем она была больна, нам неизвестно, вероятнее всего, это был плеврит или пневмония, но в шестнадцатом веке все называли «лихорадкой», «простудой» или обоими этими словами вместе. Через четыре дня, рано утром, она умерла.
Вильгельм почти онемел от горя: его ответы на письма-соболезнования были короткими и отрывистыми. «Я несчастнейший человек в мире», – написал он королю Филиппу в ответ на высокопарные утешительные слова. Душевное потрясение и быстрая езда при коварной весенней погоде довели и его до болезни. У него были приступы озноба и высокая температура, но через несколько дней он поправился настолько, что смог заняться своими делами. Уже в то время, когда в Бреде готовились к похоронам Анны, Вильгельм отправил Филиппу письмо, в котором просил помиловать одного из своих солдат, имевшего несчастье убить человека в драке.
6
Более крупные государственные дела оставили Вильгельму мало времени для траура. Король Франции Генрих Второй просил мира, и в сентябре принц Оранский, разумеется, оказался среди тех, кто был послан обсуждать условия мирного договора с французскими представителями в приятном городе Като-Камбрези, в Арденнах. Это было неизбежно, потому что официальному предложению мира предшествовали попытки мирной дипломатии, которые Вильгельм вел с пленным французским маршалом, жившим у него в Бреде. Договор был заключен в апреле следующего года и был составлен по образцу, обычному для договоров между правящими династиями. В нем были незначительные изменения границы в пользу Филиппа, гарантии против будущих боевых действий и, как обычно, свадьбы, которые оптимистически считались средством погасить вражду между династиями: единственная дочь Генриха Елизавета должна была стать супругой Филиппа, недавно лишившегося своей пожилой английской жены. Но в Като-Камбрезийском договоре было сказано больше, чем было видно по его внешней форме. Речь шла не просто о полном разгроме или утрате сил одной из сражавшихся сторон; речь шла о том, что обе стороны осознали, что имеют общих врагов, против которых должны объединиться. Много лет папы и прелаты безуспешно старались примирить завидовавших один другому европейских правителей, размахивая у них перед глазами куклой в наряде турецкого разбойника. Но теперь, хотя турки иногда на короткий срок тревожили Европу, было похоже, что страшный разбойник далеко. В любом случае к туркам привыкли и поэтому стали относиться к ним почти с презрением. Эти иноверцы били молотом в ворота христианского мира, иногда их удары вызывали тревогу, но враг был только у ворот, в худшем случае доходил до заднего двора. Однако теперь, несмотря на все усилия пап, прелатов, закона и инквизиции, существовали новые иноверцы – и в самом центре дома.
Когда Реформация произошла, это случилось не потому, что учение Лютера было наилучшей формой религии, само лютеранство возникло в тот момент, когда агрессивные европейские династии увидели в церковной реформе средство укрепить свою власть и увеличить свои богатства, потому что растущий класс предпринимателей и торговцев, которому не было места в феодальной Европе, обнаружил, что эта вера легче совмещается с его мировоззрением, потому что Европа экономически и политически росла так быстро, что старая структура общества раскололась на части. Старая церковь была встроена в эту структуру и раскололась вместе с ней. Дольше, чем существует одно поколение, протестантизм вставлял свои клинья в трещины структуры католической феодальной Европы. От нее отвалились большие куски – Англия, Дания, Швеция, половина Германии; огромные трещины пересекли Францию и прошили Нидерланды.
Невозможно сейчас, да и всегда было невозможно отделить в спутавшемся клубке побуждений искренние чувства от личных интересов – как у протестантов, так и у католиков. Во все времена некоторыми людьми управляют глубокие духовные побуждения, непонятные материалистам, и эти побуждения невозможно ни предсказать, ни объяснить с помощью понятий политики и экономики. Знание о том, какой экономический толчок стоял за Реформацией, увеличивает сумму того, что нам известно, но, если мы будем видеть только этот толчок, сумма наших знаний уменьшится. Одни люди хорошо использовали новую религию, другие умерли за нее в муках. Одни поддержали старую церковь потому, что с ней были связаны их интересы, а другие погибли, но не отреклись от нее.
У Филиппа Испанского политические убеждения и религиозное усердие так полно слились между собой, что он сам не мог отделить свои политические побуждения от религиозных. Его представление о королевском долге было основано на нерушимом единстве церкви и государства, которые оба были святы. У Генриха Второго Французского, обычного католика, во взглядах было больше практицизма, но он тоже видел, что пришло время для решительных действий. Дело в том, что для ответственного правителя протестантизм в католической стране значил гораздо больше, чем потерю душ его подданных. Это было неповиновение королевской власти, действия против установленного Богом государственного порядка. Протестантизм был скрытым мятежом.
Из делегатов Филиппа в Като-Камбрези сильнее всех чувствовал эту религиозную проблему герцог Альба. Этот сторонник дисциплины и авторитарных методов был до глубины души возмущен. На вопрос, как поступить с противниками, он всегда давал один и тот же совет, потому что принадлежал к той старинной школе мысли, лозунг которой – «Поставьте их к стене и расстреляйте!». Только он предпочитал сжигать «их», и обычаи его времени не мешали ему это делать.
Но принц Оранский был известен как сострадательный человек; беглецы странным образом ускользали от его поисков, он редко выносил смертные приговоры, а от пыток его тошнило. И к тому же его родные в Дилленбурге, разумеется, были лютеранами. Неразумно было забывать, что эта райская птица вылупилась из яйца в далеком еретическом гнезде. Поэтому религиозный вопрос в Като-Камбрези обсуждали с французскими послами Альба и епископ Аррасский, когда принца Оранского там не было.
Вильгельм предоставил им много случаев привлечь его к этому обсуждению. Нидерланды – маленькая страна, и путь от Арденн до Брюсселя и от Брюсселя до границы очень короткий. Политические и личные дела постоянно заставляли его ездить между столицей, его поместьями и местом переговоров, а может быть, и куда-нибудь еще. Он, конечно, знал направление религиозной политики Филиппа, и ему не нравилась ее безжалостность, к тому же тревожило, что противоречия между нидерландцами и испанцами усиливаются. Старый император был в этих делах тактичнее, чем его сын, который даже не старался хотя бы казаться не иностранцем в Нидерландах. Но даже император по причинам военного характера незадолго до своего отречения ввел в Нидерланды несколько испанских воинских частей для защиты границы от нападения французов. Эти профессиональные солдаты создавали много неприятностей, не всегда по своей вине. Вильгельм был генерал-лейтенантом этой армии и знал об этих трудностях даже слишком хорошо. Главнокомандующий, итальянец Филиберт Савойский, не меньше Вильгельма осознававший тяжесть этой ситуации, откровенно сказал королю: народ Нидерландов говорит, что на их земле идет испанская война за испанские интересы. Это было неверно, но в это верили.
Тревоги возникали постоянно и становились все сильнее, но, несмотря на них, Вильгельм, которому было только двадцать пять лет, наслаждался жизнью. Его душа, которая была подавлена утратой Анны, скоро излечилась. Может быть, было грустно, что этот ранний брак не затронул глубоко душу ни одного из супругов, но Анна вместе со всеми возможностями, которые он и она потеряли, упокоилась в могиле в Бреде, и это изменить было невозможно. Его дети, Филипп и Мария, были еще младенцами; целая армия их высокооплачиваемых слуг называла их почтительно «господа дети». Его дом не слишком манил его к себе, а политика лишь частично заполняла еще незрелый ум. Вильгельм начал искать вторую принцессу Оранскую; и с общественной, и с династической точки зрения новый брак был разумным решением. Вильгельм с обезоруживающей искренностью писал своему брату Иоганну, что вдоветь ему не годится из-за того, что он еще молод. Богатый и привлекательный жених, он не предвидел больших трудностей в поисках невесты, но первая попытка закончилась комичным отступлением. Он хотел получить юную принцессу Лотарингскую, но ее мать-вдова, влюбчивая тридцатипятилетняя блондинка, заявила, что она сама «более приятная партия». Вильгельм поспешно отступил. Тем временем он развлекался. Позже он признался: «В то время у меня в голове были в первую очередь упражнения с оружием, охота и другие упражнения, подходящие для молодых знатных дворян». К огорчению его добродетельной семьи, жившей в Дилленбурге, именно «другие подходящие упражнения» главным образом занимали его в течение зимы и весны, последовавших за смертью Анны. Его любовным увлечением была фламандская девушка по имени Ева Элинке. О ней известно только, что она была любовницей принца Оранского и, по некоторым сведениям, дочерью бургомистра города Эммерих. Судя по тому, как она вела себя позже, она не была профессиональной куртизанкой. После рождения сына, которого отец признал и воспитал, дав ему имя Юстин фон Нассау и который впервые упомянут в возрасте шести лет среди служивших в Бреде пажей как «мальчик монсеньора», Ева ушла из жизни своего любовника и из истории как респектабельная жена горожанина по фамилии Арондо.
Эта связь была одним из ярких примеров того неустойчивого равновесия противоположных вкусов и побуждений, которым было воспитание Вильгельма: он наслаждался с юной любовницей, когда в Като-Камбрези Альба и епископ Аррасский обсуждали истребление протестантов в Европе. Пока в Вильгельме еще не было и намека на того, кто позже освободил целый народ.
К апрелю 1559 года мирный договор был заключен, и король Филипп, выполняя условия соглашения, послал заложников во Францию. Его посланцы только назывались заложниками, но на деле были почетными гостями, и была надежда, что с некоторыми из них король Франции продолжит обсуждать проблемы протестантизма. Этими тремя заложниками-гостями, которые въехали в украшенный ликующий Париж 16 апреля, были принц Оранский, граф Эгмонт и герцог Альба. Город был полон бурного веселья. Даже камни мостовой на улице Сен-Антуан были подняты ради рыцарского турнира. Двор занял 1 100 000 крон на устройство праздников. Парижские поставщики еды и портные, оружейники и ювелиры торговали так хорошо, как ни разу за это столетие. Были устроены танцы и охоты; королевский двор состоял из ослепительно прекрасной молодежи, и среди придворных блистала, как восходящая звезда, изящная утонченная дофина Мария Стюарт. У молодого красивого вдовца здесь было множество возможностей найти себе новую жену. Вильгельм сразу же увлекся маленькой герцогиней Энгиенской. Она тоже недавно овдовела и в свои семнадцать лет была так очаровательна в своем элегантном траурном наряде. Но король Генрих, хотя и был гостеприимным, не мог допустить, чтобы одна из богатейших наследниц Франции увезла свое состояние в Нидерланды. Вильгельму намекнули, чтобы он прекратил ухаживание, и он понял намек.
Парижские празднества продолжались и не имели себе равных по великолепию, но в Париже не все было хорошо: на недавнем заседании парламента два адвоката высказали возмутительные протестантские взгляды и теперь ожидали казни. Охотясь вместе с гостями в лесах возле Шантильи, король Генрих размышлял об этом растущем зле. Он знал, что король Испании желал, чтобы некоторые заложники обсудили этот вопрос с ним, и ошибся лишь в том, что выбрал не того заложника – открыл свою душу принцу Оранскому, стал увлеченно говорить ему о предложении Альбы, чтобы Испания и Франция силами своих объединенных войск, в основном испанских, истребили ересь и начали с главного очага заразы – с Нидерландов.
Вильгельм слушал короля с изумлением, но ничем не выдал своего негодования и ужаса. Он даже деликатно вставлял в его рассказ вежливые и ни к чему не обязывавшие замечания, которые побуждали короля сказать больше. Сто мелких намеков и невысказанных тревог кристаллизовались в уверенность. Теперь принцу казались чем-то далеким турниры, охоты, вечеринки и «другие упражнения, подходящие для молодых знатных господ». Он вспомнил про нидерландские законы против ереси, которые он и другие ненавидели и не вводили в силу; вспомнил «те жестокие смерти – сожжения, убийства мечом, утопления», на которых так настаивал новый король. Его душа словно растаяла от «жалости и сострадания ко всем этим добрым людям, обреченным на уничтожение». В первый раз он осознанно почувствовал любовь к Нидерландам – стране, которая его усыновила, в которой он вырос, к ее выносливому, грубоватому, упрямому и энергичному народу, который так громко выражал свою любовь к нему. «Страна, перед которой я имел такое большое обязательство», – скажет он позже; но он был обязан только быть достойным приветствий, которые так долго принимал не задумываясь.
Внешне в этот момент осознания ничто не изменилось. Лес Шантильи был таким же зеленым, белое вино в оправленных в серебро бокалах – таким же прохладным, под деревьями стояли корзины с едой для пикника и были разостланы скатерти из дамасских тканей, веселые звуки рога и голоса дам журчали то как всплески фонтана, то как бормотание ручья, как и прежде. Перевороты в душе человека происходят тайно и обособленно от всего, когда солнце движется по небу, ручьи текут вперед, а другие люди занимаются любовью или пытаются угадать, что будет подано на ужин.
Но для принца Оранского наступил переломный момент. При брюссельском дворе он научился общественным и политическим обязанностям, но в Дилленбурге узнал, что такое право и справедливость. И вдруг словно слиток распался на части: понятия, до сих пор соединенные в легком принятии и выполнении поручений, отделились одно от другого и стали указывать в разные стороны. Он должен был выбирать между безграничным повиновением королю, своему повелителю, и своим собственным чувством справедливости.
Вильгельма ждали годы самообмана, годы борьбы за то, чтобы примирить свою политическую верность со своими моральными взглядами; годы, когда он будет обманывать себя надеждой, что Филипп откажется от своего ужасного решения. Но когда через двадцать лет он оглядывался на пройденный им путь, он уверенно и совершенно ясно видел, где на этом пути стоял указательный знак. Это было в Шантильи, в середине лета, на двадцать седьмом году его жизни. Между своим повелителем-королем и народом Нидерландов он выбрал народ, между политической верностью и моральным правом выбрал право. Дилленбург одержал победу над императорским двором.
Глава 2
Гроза надвигается
1559–1565
1
Пока король Франции снимал тяжесть со своей души, принц Оранский молчал – в переносном смысле этого слова. Он не выдал себя не только из-за осторожности, но и потому, что его чувства были в беспорядке; вряд ли они успели утихнуть и сложиться в какую-то определенную точку зрения. В каком-то смысле он после этого молчал еще семь лет – верно служил королю Филиппу и вряд ли сам признавался себе, что в конце концов может нарушить эту верность. К счастью, он хорошо умел скрывать свои чувства. Враги называли его хитрым – по-английски sly, по-голландски schluwe. У этого слова есть оттенок «тайный, действующий тайком». Его перевели на латынь величавым словом taciturnus – «молчаливый», а потом нелепо перевели обратно на все языки Европы словом «молчащий». Это прозвище Молчащий, полученное в те самые семь следующих лет, едва не меньше всех других подходило приветливому и любезному молодому человеку, но даже в этом неверном переводе в нем была доля правды, потому что это были годы подавленных чувств и душевной раздвоенности для Вильгельма.
Пока Вильгельм приходил в себя после душевного потрясения, рыцарский турнир в честь Иванова дня на улице Сент-Антуан внезапно закончился. Король Генрих, упрямо продолжавший состязаться, хотя все остальные устали, был ранен в глаз обломком расколовшегося копья и через десять дней умер. Преемник умершего, Франциск Второй, шестнадцатилетний мальчик, вряд ли мог играть ту роль, которую предполагал сыграть его отец. План Альбы должны были отложить.
Женитьба Филиппа на старшей французской принцессе была торжественной, но унылой и мрачной. Слезы королевы-матери тихо капали на подол ее черного платья. Место жениха занимал по доверенности угрюмый герцог Альба. Сам жених был занят в Нидерландах: планировал свое возвращение в Испанию. Туда же в конце лета поспешил отправиться принц Оранский, чтобы получить указания от своего повелителя перед его отъездом.
Во всех отношениях лето 1559 года было полно для Вильгельма мрачных предчувствий. До этого он делал все по-своему. Император баловал и выдвигал его, и, хотя на государственной службе он пережил несколько небольших тревог и понес расходы, его выбирали для самых почетных и ответственных поручений, что ему льстило. Например, это он поднес императорскую корону брату и преемнику Карла, это он принимал двоюродного брата Филиппа, эрцгерцога Макса, когда тот приехал в Брюссель, а когда Карл умер в Испании, именно Вильгельм, великолепный в своем черном наряде, вышел вперед, встал над гробом Карла в соборе Святой Гудулы и звучно произнес последний возглас: «Король умер, да здравствует король!» Но после смерти Карла исчезло последнее, что еще сдерживало Филиппа, и Вильгельм обнаружил, что ему противоречат, его унижают и оттесняют. Французский король, неосторожно проболтавшись, показал ему не только какое место отвели Нидерландам, но и какое место отвели ему самому. Сколько случаев неявного пренебрежения, намеков, мелких политических неудач стали понятны, когда он осознал то, что изумило и ужаснуло его, но было бесспорным: его сознательно устраняли с заседаний, когда советники его повелителя обсуждали вопрос, касавшийся его страны!
За предыдущие четыре года сдержанная неприязнь Филиппа к Вильгельму превратилась в полное недоверие, как прохладная вода в твердый лед. Чрезмерно чувствительный и не терпевший даже самой легкой критики король был господином, которому нелегко служить. Недостаточно уверенный в себе для того, чтобы менять свои мнения в соответствии с опытом, он замкнул свой ум, как зажимами, неизменяемыми принципами. Полностью противоположные характеры короля Испании и принца Оранского определяли их непримиримо противоположные линии поведения в политике. Филипп был только теоретиком, Вильгельм только практиком. Филипп искренне верил, что Бог избрал его и предназначил быть правителем, и предпочитал централизованное единое государство унаследованному от Средневековья множеству отдельных привилегированных владений и городов. В лучшем случае это были возвышенные и конструктивные замыслы, направленные на создание порядка, при котором церковь и государство через посредство добросовестных чиновников совместно заботились бы о телах и душах всех его подданных. Но реальности этого мира очень мало значили для короля. Его глаза смотрели лишь на далекую цель и не замечали страданий, переживаемых в пути.
Вильгельма мало интересовали политические теории и религиозные догмы. Он действовал так, как подсказывали ход событий, свойства отдельных людей или срочные нужды народа. Он инстинктивно чувствовал ситуацию такой, какая она есть, имел невероятно гибкий ум, и, что было главным, обладал воображением, позволявшим понимать людей, их практические нужды и их неразумные видения. Его поступки направлял его собственный характер, а не навязанная извне теория. Например, Европа могла бы стать более упорядоченной и целостной, если бы все подданные Филиппа строго выполняли державную волю своего короля или если бы все еретические секты были истреблены; но Вильгельм видел лишь ближайшее – мучения тех, кто пострадал бы при этом. Для Филиппа законы и теории были хороши или плохи сами по себе; для Вильгельма – только в зависимости от их последствий. Филипп верил в единообразие и правила, Вильгельм предпочитал разнообразие и свободу для человека действовать по личному усмотрению. Например, законы против еретиков нестрого применялись в Нидерландах, где многие сочувствовали сектам. Филипп дал своим министрам указание ввести эти законы в действие, но Вильгельм посчитал это неразумным и в подвластных ему округах действовал так, как ему казалось лучше. Иногда он даже заранее предупреждал обвиняемых, чтобы избежать неприятной обязанности арестовать их. Такие поступки подрывали основу авторитарного государства, но Вильгельм меньше думал о государстве, чем о людях, из которых оно состояло.