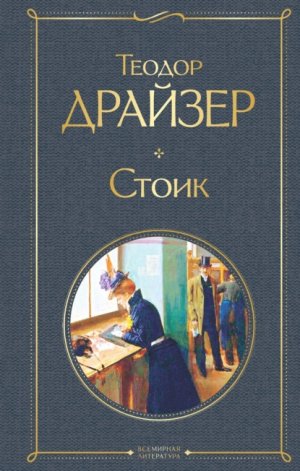
Глава 1
Когда Фрэнк Каупервуд после столь долгой борьбы потерпел столь унизительное поражение в Чикаго, не сумев продлить срок действия концессии на пятьдесят лет, перед ним встали две самые мучительные проблемы.
Первой его проблемой был возраст. Он подошел к порогу шестидесятилетия и, хотя внешне казался, как всегда, энергичным, в душе понимал, как нелегко ему будет умножить свое и без того немалое состояние (которое он непременно умножил бы, если бы сумел продлить концессию) с приходом в бизнес более молодых и не менее предприимчивых, чем он, финансистов. А это состояние могло бы составить ни много ни мало пятьдесят миллионов долларов[1].
Вторая проблема по его реалистическому суждению была еще более критической и состояла в том, что он к этому времени так и не обзавелся более или менее ценными социальными связями, иными словами, не занял подобающего ему места в обществе. Конечно, свою роль сыграло его филадельфийское тюремное заключение в молодости, вкупе с его природной любвеобильностью, и его несчастливый брак с Эйлин, которая ничуть не помогла ему подняться по социальной лестнице, и его неколебимый и чуть ли не звериный индивидуализм – все это отпугнуло многих, кто мог бы завязать с ним дружеские отношения.
А Каупервуд был не из тех, кто заводит друзей среди менее сильных, менее изощренных или деятельных, чем он сам. Это слишком сильно попахивало бессмысленным самоунижением и было в лучшем случае, по его мнению, бесполезной тратой времени. С другой стороны, он обнаружил, что сильные, коварные или по-настоящему важные персоны не слишком-то охотно идут в друзья. В особенности здесь, в Чикаго, где со многими из них он соперничал в борьбе за место под солнцем и влияние, они имели склонность объединяться против него, и не потому, что его моральные устои и методы отличались от тех, что они были готовы принять и использовать, а скорее потому, что он, чужак и выскочка, отважился пастись на финансовой поляне, которую они считали своей, добившись большего богатства и влиятельности, нежели они, за более короткий промежуток времени. Вдобавок к этому он снискал благосклонность жен и дочерей некоторых из тех самых мужчин, что более других завидовали его финансовым успехам, а потому они задались целью подвергнуть его социальному остракизму и немало в этом продвинулись.
В том, что касалось секса, он всегда жаждал личной свободы и ни перед чем не останавливался, чтобы ее получить. В то же время он всю жизнь лелеял мысль о том, что в какой-то момент вполне может встретить на своем пути женщину, настолько превосходящую всех, что он против своей воли будет приведен если не к полной верности – такой вариант для себя он никогда не брал в расчет, – то к искреннему союзу, основанному на взаимопонимании и любви. Он уже восемь лет чувствовал, что такой идеальной девушкой для него была Бернис Флеминг. Она явно не исполнялась благоговейного трепета перед его персоной или его славой, и его обычные уловки не производили на нее впечатления. И поэтому, а также из-за того, что она очаровала его как эстетически, так и чувственно, у него возникло убеждение в том, что она с ее юностью, красотой, осведомленностью и уверенностью в собственной ценности может добиться положения в обществе и служить естественным социальным фоном для его силы и богатства, разумеется, при условии, что он обретет свободу для женитьбы.
К несчастью, несмотря на всю его решимость в отношении Эйлин, он так и не смог расстаться с ней. С одной стороны, она ни за что не желала отпускать его. А добавление к его нелегкому сражению за рельсовые дороги в Чикаго еще и битвы за свободу превратило бы его жизнь в каторгу. Более того, глядя на Бернис, он не видел в ней необходимой благосклонности. Она не только заглядывалась на мужчин, что были моложе его, чем он, но вдобавок те имели устоявшиеся социальные преимущества, коим никак не способствовала его биография. Осознав это, он впервые ощутил горький вкус любовного поражения и порой долгими часами сидел в одиночестве в своих комнатах, исполнившись убежденности в том, что он безнадежно проиграл в этой борьбе за увеличение своего состояния и за любовь Бернис.
И вдруг она пришла к нему и самым удивительным и неожиданным образом сдалась на его милость, отчего он снова почувствовал себя молодым, а с этим мгновенно вернулось его прежнее деятельное настроение. Он наконец-то уверовал, что заручился любовью женщины, которая действительно может поддержать его в поисках влияния, славы, репутации.
С другой стороны, какими бы откровенными и прямыми ни были ее объяснения – «я подумала, что я вам теперь, вероятно, очень нужна… Я приняла решение», – все же с ее стороны чувствовалась некая обида на жизнь и общество, которые вынудили ее искать отмщения в той или иной его форме за те жестокости, что, как казалось ей, она претерпела в своей ранней молодости. На самом же деле ее мысль, не понятая Каупервудом потому, что ее неожиданное согласие погрузило его в состояние эйфории, состояла вот в чем: «Ты изгой, и я изгой. Мир изо всех сил старался досадить тебе. В моем случае мир пытался исключить меня из того круга, к которому, как мне кажется, я принадлежу и по своему характеру, и по иным причинам. Ты раздосадован, и я тоже. А потому заключим союз – союз красоты, силы, ума и мужества с обеих сторон, но без какого-либо преобладания одного из нас. Потому что если мы не будем играть по справедливости, то нет ни малейшей надежды, что этот крамольный союз продержится сколь-нибудь долго». Таковы были соображения, двигавшие ею в то время.
И все же как бы тонко Каупервуд ни чувствовал ее силу и хитрость, куда как в меньшей мере он сознавал, какая цепочка умозаключений привела к нему Бернис. К примеру, глядя на нее в тот зимний вечер (такую идеальную и источающую запах цветов, хотя она и пришла к нему с ледяного ветра) он ни за что бы не догадался, что и в интеллектуальном плане она проявила тщание и решительность. Ожидать такого от женщины столь молодой, улыбчивой, веселой и абсолютно обаятельной во всех женских смыслах было просто невозможно. И тем не менее именно такой она и явилась к нему. Она стояла перед ним дерзкая, но в то же время не без скрытой боязни. Увидеть в ней хотя бы малейшие зачатки злого умысла по отношению к нему было невозможно; скорее уж она всем своим видом воплощала любовь, если желание быть с ним и быть частью его на этих условиях до конца его дней можно было назвать любовью. С ним и с его помощью она придет к такой победе, какая только возможна при их чистосердечном и благожелательном сотрудничестве.
И вот в этот первый вечер Каупервуд посмотрел на нее и сказал:
– Но, Беви, мне было бы любопытно узнать, чем вызвано твое такое неожиданное решение. Никак не предполагал, что ты придешь ко мне как раз после того, как я потерпел вторую и очень серьезную неудачу.
Ее спокойные голубые глаза обволокли его, словно теплое пальто или растворяющий эфир.
– Понимаете, я много лет думала и читала о вас. Вот только в прошлое воскресенье в Нью-Йорке я прочла о вас в «Сан» две полных страницы. И благодаря этим страницам я, кажется, поняла вас чуточку лучше.
– Газеты! Правда благодаря газетам?
– И да, и нет. Я не говорю об их критике в ваш адрес, я говорю о тех фактах, – если только они факты, – которые собраны ими воедино. Ведь вы никогда толком не любили свою первую жену, верно?
– Понимаешь, мне казалось, что поначалу я любил ее. Но, конечно же, я был очень молод, когда мы поженились.
– А нынешнюю миссис Каупервуд?
– Ах, Эйлин, да. Было время, я ее очень любил, – признался он. – Она многое сделала для меня когда-то, а я человек благодарный, Беви. К тому же она была очень, очень привлекательна для меня в то время. Но я все еще был молод и не так искушен в умственном плане, как теперь. Но Эйлин ни в чем не виновата. Я совершил ошибку, которая объясняется неопытностью.
– Когда вы так говорите, я чувствую себя лучше, – сказала она. – Вы не так безжалостны, как о вас говорят. И все равно, я намного моложе Эйлин, и я чувствую, что если бы не моя внешность, то мои мысли, вероятно, были бы для вас не слишком важны.
Каупервуд улыбнулся.
– Верно. Я не стану придумывать для себя никаких оправданий – я такой, какой я есть, – сказал он. – Сознательно или бессознательно я пытаюсь следовать моим корыстным интересам, потому что, по моему разумению, других пастырей у нас нет. Может быть, я ошибаюсь. Но я думаю, большинство из нас ведет себя подобным образом. Возможно, существуют и другие интересы, более важные, чем интересы личности, но личность, благоприятствуя себе, на самом деле, как правило, благоприятствует другим.
– По существу я, в общем-то, согласна с такой точкой зрения, – сказала Бернис.
– Главное, что я пытаюсь донести до тебя, – продолжал Каупервуд, ласково улыбаясь ей, – состоит в том, что я не собираюсь преуменьшать или недооценивать те обиды, что я кому-то, возможно, нанес. Боль, кажется мне, непременная спутница жизни и перемен. Я просто хочу, чтобы ты видела меня таким, каким я кажусь себе самому, чтобы ты могла понять меня.
– Спасибо. – Бернис весело рассмеялась. – Но вам не обязательно чувствовать себя так, будто вы даете свидетельские показания в суде.
– Но почти так я себя и чувствую. Но позволь мне объяснить тебе кое-что про Эйлин. Она по природе создана для любви и чувств, но ее интеллект недостаточен – и никогда не был достаточен – для моих нужд. Я ее понимаю досконально, и я ей благодарен за все, что она сделала для меня в Филадельфии. Она меня поддерживала во вред собственному положению в обществе. Поэтому и я поддерживал ее, хотя теперь уже не могу ее любить так, как любил прежде. Она носит мое имя, живет в моем доме. Он считает, что и то и другое принадлежит ей по праву. – Он помолчал, засомневавшись немного в том, что может сказать на это Бернис. – Ты меня, конечно, понимаешь?
– Да, да, – воскликнула Бернис. – Конечно, я вас понимаю. И, пожалуйста, я никоим образом не хочу доставлять ей беспокойств. Я пришла к вам, вовсе не это имея в виду.
– Ты очень щедра, Беви, но несправедлива к себе, – сказал Каупервуд. – Но я хочу, чтобы ты знала, какое огромное значение ты имеешь для всего моего будущего. Может быть, ты этого не понимаешь, но я здесь и теперь признаю это. Не просто же так я добивался тебя в течение восьми лет. Это означает, что ты мне нужна. Очень нужна.
– Я знаю, – тихо сказала она – на нее эти слова произвели сильное впечатление.
– Целых восемь лет, – продолжал он, – у меня был идеал. И этот идеал – ты.
Он помолчал, обуреваемый желанием обнять ее, но, чувствуя, что момент для этого неподходящий, засунул руку в карман жилетки и вытащил оттуда тоненький золотой медальон размером с серебряный доллар, раскрыл его, протянул ей. В медальон была вставлена фотография двенадцатилетней Бернис – худенькой, изящной, высокомерной, сдержанной, холодной – какой она оставалась и по сей день.
Она посмотрела на фотографию и сразу же узнала ее: снимок сделали, когда она с матерью все еще жила в Луисвилле, и та занимала высокое положение в обществе и владела немалыми средствами. Насколько же все изменилось, и как эти перемены отразились на ней! Она смотрела на фотографию, предаваясь приятным воспоминаниям.
– Откуда она у вас? – спросила она наконец.
– Я взял ее из бюро твоей матери в Луисвилле. Как только увидел, так и взял. Она была тогда в другой рамочке – медальон я заказал потом.
Он нежно защелкнул крышечку и вернул медальон в карман.
– С тех пор она всегда со мной, – сказал он.
Бернис улыбнулась.
– Надеюсь, никто об это не знает. Но я же здесь совсем ребенок.
– И все равно, для меня это – идеал. А теперь больше, чем когда бы то ни было. Я, конечно, знал многих женщин. Я имел дело с ними, руководствуясь своими сиюминутными интересами и желаниями. Но при этом у меня всегда имелось определенное представление о том, чего мне хочется на самом деле. Я всегда мечтал о сильной, чувственной, поэтической девочке вроде тебя. Можешь думать обо мне что хочешь, но суди теперь обо мне по моим делам, а не словам. Ты сказала, что пришла, решив, что нужна мне. Да, нужна.
Она коснулась его руки.
– Я решила, – спокойно сказала она. – Лучшее, что я могу сделать со своей жизнью, – это помочь вам. Но мы… я… никто из нас не в силах делать то, что нам нравится. И вы это знаете.
– Абсолютно. Я хочу, чтобы ты была счастлива со мной, а я был счастлив с тобой. И конечно, я не смогу быть счастливым, если что-то будет тебя беспокоить. Здесь, в Чикаго, в особенности сейчас, я должен проявлять крайнюю осторожность. И ты тоже. Поэтому ты должна поскорее вернуться в свой отель. Но завтра наступит новый день, и я надеюсь, ты позвонишь мне часов в одиннадцать. И тогда мы решим, как нам быть. Но подожди минутку. – Он взял ее под руку и повел в свою спальню. Закрыв дверь, он поспешил к красивому кованому сундуку немалого размера, стоящему в углу комнаты. Отперев замок, он поднял крышку и вытащил изнутри три ящичка с коллекцией древнегреческих и финикийских колец. Положив ящики перед ней, он сказал:
– Какое из этих колец ты хочешь носить на пальце, когда я буду приносить тебе обет верности?
Снисходительно и с некоторым свойственным ей безразличием – все обеты приносились ей, она же не приносила обетов никому – Бернис разглядывала кольца, играла с ними, иногда отпускала какое-нибудь восхищенное словечко при виде понравившегося ей кольца. Наконец она сказала:
– Цирцея, возможно, выбрала бы эту серебряную крученую змею. А Елена, вероятно, это зеленой бронзы колечко с цветами. Афродите, вероятно, понравилась бы эта изогнутая рука и пальцы, держащие камень. Но я не хочу выбирать, руководствуясь только красотой. Себе я возьму это тусклое серебряное кольцо. В нем чувствуется и сила, и красота.
– Как неожиданно и как оригинально! – воскликнул Каупервуд. – Беви, ты неподражаема!
Он нежно поцеловал ее, надевая колечко ей на палец.
Глава 2
Возрождение веры Каупервуда в неожиданное, а еще лучше – в удачу, – вот самое главное, что сделала для него Бернис, придя к нему во время его поражения. Потому что, по его разумению, она была личностью, своекорыстной, хладнокровной, ироничной, но менее жестокой и более поэтичной, чем он сам. Если ему деньги требовались для того, чтобы высвободить скрытую в них власть и пользоваться ею в свое удовольствие, то Бернис, по всей видимости, требовала себе права проявлять свой решительно изменчивый характер таким образом, чтобы ублажить свою красоту и через это удовлетворить свои идеалы, причем главным образом эстетические. Она желала не столько проявить себя в том или ином виде искусства, сколько жить таким образом, чтобы ее жизнь и ее личность сами по себе стали видом искусства. Она не раз думала: если бы у нее только было большое состояние, огромная власть – как творчески могла бы она ими воспользоваться! Она не стала бы тратить деньги на великолепные дома, на покупку земли, на пускание пыли в глаза – нет, она бы окружила себя атмосферой, которая непременно должна быть изысканной и, конечно, вдохновляющей.
Но об этом она не говорила никому. Скорее уж это подспудно жило в ее характере, который по большей своей части был для Каупервуда тайной за семью печатями. Он понимал, что она изысканная, чувственная, уклончивая, скрытная, таинственная. И по этим причинам он никогда не уставал наблюдать за ней, как не уставал наблюдать за самой природой: новый день, необычный ветер, меняющийся пейзаж. Каким все это будет завтра? Какой будет Бернис, когда он увидит ее в следующий раз? Откуда он мог знать это? И Бернис, осознававшая в себе эту странность, не могла просветить на этот счет ни его, ни кого-то другого. Она была такой, какой была. Пусть Каупервуд или кто-то другой принимают ее такой, какая она есть.
Ко всему этому он видел в ней и аристократизм. На свой тихий и самоуверенный манер она умела вызывать у всех, кто общался с ней, уважение и внимание. Избежать этого никто не мог. И на Каупервуда, видевшего в этой ее царственной способности то самое качество, которым он всегда, пусть и почти неосознанно, восхищался, которого жаждал в женщине, это производило сильное и приятное впечатление. Она была юна, прекрасна, мудра, уравновешенна – настоящая леди. Он почувствовал это даже на фотографии двенадцатилетней девочки в Луисвилле восемь лет назад.
Но теперь, когда Бернис наконец пришла к нему, одно обстоятельство не давало Каупервуду покоя: его восторженное и в данный момент совершенно искреннее ощущение абсолютной преданности ей, и одной только ей. Неужели он и в самом деле хотел этого? В первом браке, в особенности вкусив прелести появления детей и весьма трезвую обыденность семейной жизни, он понял, что обычные узы любви и брака его не устраивают. Это было подтверждено и его интрижкой с молодой и красивой Эйлин, жертвенность и преданность которой он потом вознаградил, женившись на ней. Но эта его женитьба была в равной мере актом справедливости и любви. Но после венчания он стал считать себя абсолютно свободным как в плотской, так и в чувственной сфере.
У него не было ни малейшего желания ни пытаться, ни тем более достичь некоего постоянства. И тем не менее он восемь лет преследовал Бернис. А теперь думал над тем, как честно подать ей себя. Он знал, что она наделена исключительным умом и интуицией. Ложь, способная утешить – пусть даже и не обмануть – среднюю женщину, с Бернис будет совершенно бесполезна.
Хуже того, в настоящее время в германском Дрездене жила некая Арлетт Уэйн. Всего год назад он завязал с ней роман. Арлетт, которая прежде была заточена в каком-то захудалом городишке в Айове и жаждала избавиться от судьбы, грозившей задушить ее талант, написала Каупервуду письмо и вложила в конверт свою соблазнительную фотографию. Однако, не получив ответа, она взяла в долг денег и собственной персоной появилась перед ним в его чикагском офисе. То, чего не смогла сделать фотография, вполне удалось самой Арлетт во плоти, потому что она была не только дерзкой и самоуверенной, но имела характер из тех, что вызывали симпатию у Каупервуда. К тому же преследовала она не чисто коммерческие цели. Ее искренне интересовала музыка, и к тому же она обладала прекрасным голосом. Убедившись в этом, он загорелся желанием помочь ей. Она привезла с собой убедительное свидетельство своего происхождения: фотографию маленького домика, в котором жили она и ее вдовствующая мать, работающая продавщицей в магазине. Кроме того, она рассказала довольно трогательную историю борьбы ее матери за то, чтобы добывать им средства на жизнь и поддерживать амбиции дочери.
Естественно, те несколько сотен долларов, что требовали ее амбиции, были для Каупервуда сущей мелочью. Честолюбивые планы всегда вызывали у него сочувствие, а теперь, когда и сама девочка тронула его душу, он принялся планировать ее будущее. Пока она должна была получить наилучшее обучение, какое может дать ей Чикаго. А позднее, если она достойно проявит себя, он отправит ее заграницу. Однако, чтобы не компрометировать себя и не связывать какими-либо особыми обязательствами, он выделил ей некоторые средства и спланировал ежемесячные выплаты, на которые она должна будет жить, и эти выплаты не прекращались и по сей день. Еще он посоветовал ей перевезти сюда мать, чтобы та жила с ней. Поэтому она сняла небольшой домик, вызвала мать и обосновалась в Чикаго, а Каупервуд со временем стал ее частым гостем.
Она была умна и искренна в своих амбициях, а потому их отношения основывались не только на взаимном расчете, но и на расположении. Она не имела ни малейшего желания каким-либо образом скомпрометировать его, и только незадолго до приезда Бернис в Чикаго он убедил Арлетт отправиться в Дрезден, потому что понял, что Чикаго ему, видимо, вскоре придется покинуть. И если бы не Бернис, то он бы сейчас посетил Арлетт в Германии.
Но теперь, сравнивая Арлетт с Бернис, он не испытывал к своей прежней любовнице чувственного притяжения, потому что в этом смысле, как и во всех других, Бернис обещала в полной мере удовлетворить его потребности. Однако в нем не пропал интерес к Арлетт как к артистическому таланту, и ему хотелось, чтобы ее обучение продолжалось, а потому он по-прежнему намеревался помогать ей. Но теперь он чувствовал, что будет лучше, если он полностью исключит ее из своей жизни. Для него это не станет потерей. Она свое получила. Лучше начать все с чистой страницы. Если Бернис потребует от него полной верности, грозя в противном случае разрывом, то он сделает все возможное, чтобы подчинить себя ее желаниям. Она определенно стоила по-настоящему серьезных жертв с его стороны. Приняв это окончательное решение, он почувствовал в себе бóльшую склонность к мечтам и обещаниям, чем когда-либо со времен юности.
Глава 3
На следующее утро в начале одиннадцатого Бернис позвонила Каупервуду, и он сказал, что ждет ее.
Она приехала, поднялась по приватной лестнице Каупервуда в его квартиру, где он с нетерпением ждал ее. В гостиной и спальне она увидела букеты цветов. Но сомнения Каупервуда в реальности его победы были столь велики, что пока она, глядя на него и улыбаясь, неторопливо поднималась по ступеням, он взволнованно всматривался в ее лицо – не появились ли на нем признаки того, что она передумала. Когда же она вошла в квартиру и позволила ему обнять ее, крепко прижать к груди, у него словно гора упала с плеч.
– Значит, ты все-таки пришла! – сказал он тепло и радостно, одновременно разглядывая ее.
– А вы думали, что я не приду? – спросила она, смеясь над выражением его лица.
– Как я мог быть уверен? – спросил он. – Ты никогда прежде не делала того, о чем я тебя просил.
– Верно, но вы знаете почему. Сейчас другое дело.
Она сдалась, ее губы раскрылись под натиском его губ.
– Если бы ты только знала, как твой приход подействовал на меня, – взволнованно продолжил он. – Я ночью глаз не сомкнул. И у меня такое чувство, что мне больше не понадобится спать… Жемчужные зубы… Серо-голубые глаза… Розовые губы… – восхищенно проговорил он и поцеловал ее глаза. – И эти пряди волос, как солнечные лучи. – Он восхищенно коснулся их.
– У мальчика новая игрушка!
Очарованный ее проницательной, но благосклонной улыбкой, он наклонился и поднял ее на руки.
– Фрэнк! Пожалуйста! Мои волосы – ты их все растреплешь! – шутливо протестовала она, пока он нес ее в спальню, которая, казалось подмигивает им пламенем камина, и поскольку он настаивал, она, приятно удивленная его нетерпением, позволила себя раздеть.
Время уже перевалило за полдень, когда он насытился настолько, что вновь обрел «здравомыслие и способность говорить», как выразилась Бернис. Они сели за чайный столик у огня. Она была настроена оставаться в Чикаго, чтобы быть с ним так часто и долго, как позволят обстоятельства, но они должны все так устроить, чтобы не привлекать внимания. С последним он согласился. Его печальная слава в то время достигла своего пика, и следовательно, его появление с такой привлекательной особой, как Бернис, могло породить целый поток сплетен, так как всем было известно, что Эйлин уехала в Нью-Йорк. Им придется не появляться вместе на публике.
В настоящий момент, добавил он, вопрос продления концессии, а точнее, ее отсутствия, не означает прекращения работ, тем более что прекращение неминуемо привело бы к потере его права собственности на городскую рельсовую дорогу. А в эту собственность вложены годы трудов, акции на нее проданы тысячам инвесторов, и ни у него, ни у инвесторов невозможно отобрать эти акции иначе как через суд.
– И вот что на самом деле надо сделать, Беви, – доверительно сказал он. – Необходимо найти финансиста или группу финансистов, или какую-нибудь корпорацию, которая приобрела бы эту собственность за справедливую для всех сторон цену. И это, конечно, невозможно осуществить за одну минуту. На это могут уйти годы. Да что говорить, я знаю, что, если не проявлю инициативу и лично не выступлю с просьбой сделать мне такое одолжение, никто, скорее всего, не придет сюда и не предложит своей помощи. Они знают, как трудно извлечь прибыль из городских рельсовых линий. А потом, есть еще и суды, которые должны будут вынести соответственные решения, даже если завладеть и управлять этими дорогами попытаются мои враги или какие-либо внешние концерны.
Он сидел рядом с ней, говорил так, словно она принадлежала к цеху его коллег-инвесторов или его ровне из финансистов. И хотя ее не особо интересовали подробности, которыми жил его мир финансов, она почувствовала, насколько пылок был его интеллектуальный и практический интерес к таким делам.
– Что ж, одно я знаю наверняка, – перебила она, – победить тебя на этом поприще по-настоящему не сможет никто. Ты слишком мудр и слишком хитроумен.
– Может быть, – сказал он, польщенный ее похвалой. – Как бы то ни было, на все это требуется время. Годы уйдут, прежде чем у меня сумеют забрать эти дороги. И в то же время длительная задержка такого рода может в некотором смысле повредить мне. Предположим, если я захочу заняться чем-то другим, то окажусь в заведомо проигрышном положении из-за своих обязательств.
Несколько мгновений его большие серые глаза смотрели в никуда.
– Что бы я предпочел теперь, когда у меня есть ты, – задумчиво проговорил он, – так это побездельничать и попутешествовать с тобой некоторое время. Хватит, погнул я спину. Ты значишь для меня гораздо больше, чем деньги, несравнимо больше. Это странно, но я вдруг почувствовал, что я всю мою жизнь трудился не покладая рук.
Он улыбнулся и погладил ее по голове.
И Бернис, услышав это, исполнилась гордости и ощущения собственной силы, но и неподдельной нежности.
– Это чистая правда, дорогой. Ты работал, как какой-нибудь огромный паровоз или какая-то махина, которая разогналась на всю катушку, вот только не знает, куда мчится. – Она потрепала его волосы, погладила его по щеке, не переставая говорить. – Я думала о твоей жизни и обо всем, чего ты добился на сегодня. Я думаю, тебе на какое-то время надо съездить за границу, посмотреть, как живут в Европе. Я не понимаю, что еще ты можешь здесь делать, если только ты не хочешь заработать еще кучу денег. А в Чикаго явно заняться нечем. Я думаю, этот город просто ужасен.
– Ну, я бы так не сказал, – возразил Каупервуд в защиту Чикаго. – У него есть свои достоинства. Изначально я приехал сюда, чтобы зарабатывать деньги, и мне в этом смысле жаловаться не на что.
– Да-да, я знаю, – сказала Бернис, которую удивила подобная преданность, несмотря на горечь и трудности, пережитые им здесь. – Но, Фрэнк… – и тут она задумалась, стала тщательнее взвешивать каждое слово, – понимаешь, я считаю, что Чикаго слишком мал для тебя ты способен на нечто большее. Я всегда так считала. Ты не думаешь, что тебе нужно отдохнуть, оглядеться, посмотреть на мир не только глазами бизнесмена? Ты можешь найти себе какое-нибудь занятие, какой-нибудь крупный публичный проект, которым ты заслужись себе похвалу и славу, а не только деньги. Может быть, ты сможешь предпринять что-то в Англии или Франции. Я бы хотела пожить с тобой во Франции. Почему не поехать туда и не показать им что-нибудь новенькое? Например, какая сейчас ситуация с дорожным движением в Лондоне? Что-нибудь в этом роде. В любом случае тебе нужно уехать из Америки.
Он одобрительно улыбнулся ей.
– Ну, что ж, Беви, – сказал он, – мне представляется неестественным вести деловой разговор вроде этого, видя перед собой пару прекрасных голубых глаз и пожар волос. Но в твоих словах есть отзвук мудрости. В середине следующего месяца, а может быть, и раньше, мы отправляемся за границу, ты и я. А там, я думаю, смогу найти что-нибудь, чтобы порадовать тебя, потому что еще и года не прошло, как ко мне обратились с предложением, касающимся предполагаемого строительства лондонского метро. В то время я был слишком занят здесь, и у меня не оставалось времени ни на что другое. Но теперь… – и он похлопал ее по руке.
Бернис довольно улыбнулась.
Она и уезжала с улыбкой, когда наступила темнота, осторожная и сдержанная, села она в экипаж, вызванный Каупервудом.
Минуту-другую спустя уже совсем другой, уверенный в себе и гораздо более энергичный Каупервуд принялся за дело – начал строить планы на завтра: первым делом связаться со своим адвокатом, чтобы тот организовал встречу с мэром и некоторыми городскими чиновниками для решения вопроса о том, каким образом и какими средствами он может избавиться от своих многочисленных и громадных активов. А после этого… после этого… что ж, у него есть Бернис, та самая мечта его жизни, которая наконец-то сбылась. А поражение? Да не было никакого поражения! Не богатством единым жив человек, но и любовью.
Глава 4
Предложение, об английских корнях которого говорил Каупервуд, поступило к нему месяцев двенадцать назад от двух рисковых англичан – мистера Филипа Хеншоу и мистера Монтэгью Гривса, которые принесли с собой письма от нескольких широко известных лондонских и нью-йоркских банкиров и маклеров; в письмах они рекомендовались как подрядчики, у которых есть опыт строительства железнодорожных путей, уличных рельсовых путей и промышленных предприятий в Англии и других местах.
Некоторое время назад они лично вместе с Транспортной электрической компанией (английской компанией, организованной с целью продвижения проектов железнодорожной отрасли) вложили десять тысяч фунтов стерлингов в предприятие, имевшее целью сооружение подземной дороги от вокзала Чаринг в центре Лондона до растущего жилого района Хэмпстед в четырех или пяти милях. Целью того проекта было напрямую связать вокзал Чаринг-Кросс (конечный пункт Юго-восточной железной дороги, которая обслуживала южное и юго-восточное побережье Англии и была одной из главных артерий связи с Европейским континентом) и вокзал Юстон, конечный пункт Лондонской и Северо-западной железной дороги, обслуживающей северо-запад и выходящей в Шотландию.
Как они сообщили Каупервуду, Транспортная электрическая компания имела оплаченный капитал в тридцать тысяч фунтов стерлингов. Ей удалось провести через обе палаты Парламента акт, позволяющий им построить эту подземную рельсовую дорогу, или линию, и владеть, а также управлять ею, однако при реализации этих замыслов, вопреки бытующим у англичан представлениям об английском Парламенте, пришлось израсходовать существенную сумму, но не непосредственно на подкуп какой-либо из влиятельных групп, а, как намекнули мистер Гривс и мистер Хеншоу и как прекрасно понял Каупервуд (да и кто, если не он, знал толк в таких делах), человеку приходится прибегать к многочисленным способам и средствам, чтобы подольститься к тем, кто находится в более предпочтительном положении, чтобы влиять на умы членов комитета, чем люди посторонние, обращающиеся с прямой просьбой предоставить им ценную государственную привилегию, а тем более в Англии, где такие привилегии даются практически в вечное пользование. С этой целью они обратились в солиситорскую[2] компанию «Райдер, Буллок, Джонсон и Чанс», как к умному, имеющему хорошую репутацию и искусному союзнику, прекрасно информированному и ко всему прочему наделенному одним из самых выдающихся юридических талантов, какими может похвастаться столица великой империи. Эта достойная фирма имела неисчислимые связи среди частных держателей акций и президентов различных предприятий. И потому сумела найти лиц, чье влияние не только убедило комитет Парламента выпустить акт для Чаринг-Кросса и Хэмпстеда, но и еще, когда этот акт был утвержден, а первоначальные тридцать тысяч фунтов практически израсходованы, предложила поручить реализацию проекта Гривсу и Хеншоу, которые около года назад заплатили десять тысяч фунтов за двухгодичную лицензию на проведение работ по прокладке подземной рельсовой дороги.
Акт номинально содержал довольно жесткие положения. Согласно ему Транспортная электрическая компания должна была вложить консолями, или бессрочными облигациями, ровно шестьдесят тысяч фунтов в качестве обеспечения того, что запланированные работы будут выполнены в соответствии с положениями, требующими частичного или полного завершения, к определенным названным датам или раньше. Но, как два этих учредителя объяснили Каупервуду, любой банк или финансовая группа согласится за обычные маклерские проценты держать требуемое количество консолей в любом из названных депозитариев, а парламентский комитет в случае нового корректного обращения несомненно увеличит временной предел завершения работ.
И тем не менее после полутора лет их неустанных трудов, при том, что сорок тысяч фунтов были благополучно внесены, а шестьдесят тысяч бессрочных облигаций положены в депозитарий, деньги на строительство подземки (по оценке, они должны были составлять один миллион шестьсот тысяч фунтов) так и не были собраны. Причиной тому стал тот факт, что, хотя одна современная линия подземки «Сити – Южный Лондон» довольно успешно функционировала, английский капитал не имел никаких доказательств того, что новая, а к тому же и более длинная (а значит, и более дорогая) линия подземки будет окупаться. Двумя другими линиями были полуподземные, или на паровозной тяге, и проходили они по открытым разрезам и туннелям – рельсовые линии «Дистрикт» и «Метрополитен» протяженностью первая около пяти с половиной, а вторая – не более двух миль, и обе по соглашению могли перевозить пассажиров по любой из этих двух линий. Но при паровозной тяге туннели и разрезы были грязными и нередко задымленными, и ни одна из этих линий не стала прибыльной. А английский капитал не выказывал интереса, если не имел прецедента, показывающего ему, что линия стоимостью в миллионы фунтов может приносить доходы. Этим и объяснялись поиски денег в других частях света, приведшие мистера Хеншоу и мистера Гривса – через Берлин, Париж, Вену и Нью-Йорк – к Каупервуду.
Каупервуд же, как он сам объяснил Бернис, был в то время с головой занят своими чикагскими проблемами и лишь вполуха слушал, что ему говорили мистер Хеншоу и мистер Гривс. Но теперь, поскольку он проиграл битву за концессию, а в особенности после того, как Бернис предложила ему отправиться в заграничное путешествие, он вспомнил о том проекте. Этот проект тонул под грузом побочных расходов, и ни один бизнесмен его полета даже и не подумал бы вкладывать в него деньги, но тем не менее почему бы ему не приглядеться попристальней к этой ситуации с лондонской подземкой глазами человека, готового к вложению в крупные проекты, в данном случае, возможно, свободные от всяких махинаций, которых требовала его деятельность в Чикаго, а также без незаконного извлечения выгоды. Он уже и без того был мультимиллионером, так зачем ему грести деньги до последнего издыхания?
К тому же теперь, когда его прошлое, каким бы оно ни было, и его нынешняя деятельность были так преувеличенно и варварски искажены прессой и его врагами, как замечательно было бы заслужить честные аплодисменты в Лондоне, где предположительно преобладают такие коммерческие стандарты, что к ним и не подкопаешься. Этим он заработал бы себе такую репутацию, добиться какой в Америке у него не было ни малейшей надежды.
Это видение очаровывало его. И оно пришло к нему благодаря Бернис, благодаря этой бойкой девочке. Потому что она обладала природным даром знания и понимания, что и позволило ей увидеть такую возможность. Удивительно, если задуматься, размышлял он: эта лондонская идея, все, что еще сможет произойти от его связи с ней в будущем, произрастает из чисто авантюристической поездки девятилетней давности в компании с полковником Натаниэлем Джиллисом из Кентукки, когда он оказался в доме «падшей» тогда Хетти Старр, матери Бернис, ставшей ярким опровержением пословицы, согласно которой яблоко от яблони далеко не упадет.
Глава 5
Бернис же тем временем, когда первые восторги ее союза с Каупервудом прошли, стала задумываться о том, насколько преодолимы препятствия и опасности, которые ее подстерегают. Она их ясно осознавала, когда приняла наконец решение соединиться с Каупервудом, тем не менее теперь она чувствовала, что должна встретить их открыто и никак не проявляя страх, а еще важнее – не откладывая их на будущее.
Первым из этих препятствий была Эйлин, ревнивая, эмоциональная жена, которая наверняка использует все средства, имеющиеся в ее распоряжении, чтобы уничтожить Бернис, если только почувствует, что Каупервуд влюблен в нее. Затем газеты. Они определенно известят публику о ее, Бернис, связи с ним, если их увидят вместе в компрометирующей ситуации. Была еще и ее мать, которой Бернис предстояло объяснить этот ее последний шаг. Был еще и ее брат Рольф, будущее которого она предполагала обеспечить с помощью Каупервуда.
Все это означало, что ей необходимо безустанно и твердо проявлять осторожность, хитроумие, дипломатичность, отвагу и готовность идти на определенные жертвы и компромиссы.
В то же время Каупервуда одолевали похожие мысли. Поскольку с этого момента Бернис становилась главной движущей силой в его жизни, его очень беспокоило ее благополучие и ее ожидаемые действия в связи с ним. К тому же лондонская идея продолжала расти в его мозгу. И потому, когда они встретились на следующий день, он сразу же перешел к всестороннему серьезному обсуждению стоящих перед ними проблем.
– Понимаешь, Беви, – сказал он, – я тут размышлял над твоей лондонской идеей, и она нравится мне все больше и больше. Она предоставляет интересные возможности.
После этого вступления он пересказал ей то, что обдумывал, изложив ей историю двух человек, которые заявились к нему.
– И теперь я собираюсь, – продолжил он после объяснения, – послать кого-нибудь в Лондон, чтобы выяснить действительно ли еще их предложение. Если да, то оно может открыть дверь к тому, что у тебя на уме. – Он нежно улыбнулся Бернис – зачинательнице всего этого. – С другой стороны, теперь я вижу, что нам препятствует проблема публичности и тех мер, которые, скорее всего, предпримет Эйлин. Она очень романтична и эмоциональна, ее действия основаны на чувствах, а не на разуме. Я много лет пытался объяснить ей, как это происходит со мной, как человек может измениться, на самом деле не желая этого. Но понять это не в ее силах. Она считает, что люди меняются намеренно. – Он помолчал, улыбнулся. – Она из тех женщин, для которых абсолютная верность – часть их природы, она – женщина одного мужчины.
– А тебя это возмущает? – спросила Бернис.
– Напротив, я думаю, это прекрасно. Единственная проблема в том, что до сих пор я был устроен совершенно по-другому.
– И таким и останешься, как я думаю, – поддела его Бернис.
– Помолчи! – взмолился он. – Никаких возражений. Дай мне закончить, дорогая. Она не поможет понять, почему, если я когда-то очень ее любил, я не могу продолжать любить и дальше. На самом деле ее грусть сейчас перешла, боюсь, в некое подобие ненависти. Или же она пытается заставить себя думать, что перешла. Хуже всего в этом то, что она гордится браком со мной, и к этому привязаны все ее эмоциональные всплески. Она хотела блистать в обществе, и мне поначалу тоже хотелось этого, потому что мне казалось, это послужит на благо нам обоим. Но вскоре я понял, что Эйлин недостаточно умна. Я отказался от идеи что-то предпринимать в Чикаго. Мне думалось, Нью-Йорк в этом смысле куда важнее, настоящий город для мужчины с состоянием. И потому я решил попробовать там. Я начал думать, что, возможно, не хочу всю жизнь прожить с Эйлин, и ты не поверишь, но это случилось после того, как я увидел твою фотографию в Луисвилле – ту, которую ношу в кармане. Только после этого я решил построить дом в Нью-Йорке, превратить его в художественную галерею и место для жилья. И когда-нибудь, если я только заинтересую тебя…
– Значит, я никогда не смогу занять тот великолепный дом, который ты строил для меня, – задумчиво сказала Бернис. – Как странно!
– Так уж устроена жизнь, – сказал Каупервуд. – Но мы можем быть счастливы.
– Я это знаю, – сказала она. – Я просто подумала о странностях жизни. И я бы ни за что не хотела тревожить Эйлин.
– Я знаю, вы обе – женщины либеральных взглядов и мудрые. Похоже, ты будешь справляться с проблемами лучше, чем я.
– Думаю, что справлюсь, – спокойно ответила Бернис.
– Но кроме Эйлин есть еще и газеты. Они преследуют меня повсюду. И как только они узнают о лондонской задумке, начнется такой шум! А если когда-нибудь твое имя свяжут с моим, они начнут преследовать тебя, как коршуны цыпленка. Одним из вариантов решения этой проблемы могло бы стать удочерение. А может быть, нам удастся выставить меня в Англии твоим опекуном. Это даст мне основания находиться рядом с тобой и делать вид, что я блюду твои интересы собственника. Что скажешь?
– Да, пожалуй, – неторопливо проговорила она. – Другого способа я не вижу. Но этот лондонский план нужно продумать очень тщательно. И я думаю не только о себе.
– Не сомневаюсь, – ответил Каупервуд, – но с толикой везения пробьемся как-нибудь. Я считаю, что в качестве одной из мер предосторожности нам следует как можно реже показываться на публике вдвоем. Но прежде всего мы должны придумать, как нам отвлечь внимание Эйлин. Потому что она, конечно, все о тебе знает. Она давно подозревала, что между нами есть какая-то связь – с тех пор как я стал наведываться к тебе и твоей матери в Нью-Йорке. Прежде я не считал возможным говорить тебе об этом – мне казалось, я тебя ничуть не интересую.
– Просто я тебя не\\\знала по-настоящему, – поправила его Бернис. – Ты был для меня слишком трудной загадкой.
– А теперь?..
– А теперь, боюсь, знаю тебя еще меньше.
– Сомневаюсь. Но что касается Эйлин, то у меня нет решения. Она такая подозрительная. Пока я здесь, в этой стране, и наездами бываю в Нью-Йорке, она, похоже, не возражает. Но если я уеду, и ей покажется, что я обосновался в Лондоне, и об этом заговорят газеты… – он замолчал, задумался.
– Ты боишься, что она начнет говорить или приедет и закатит тебе сцену – что-то в таком роде?
– Трудно сказать, что она может сделать или чего не может. Если ее немного отвлечь, она, вероятно, ничего и не сделает. Несколько лет назад у нее случился очередной приступ депрессии, она начала пить и попыталась покончить с собой. – (Бернис нахмурилась.) – Я предотвратил это, вошел к ней, взломав дверь в ее комнату, и поговорил с ней по душам.
Он описал ей эту сцену, но не стал изображать себя таким бескомпромиссным, каким был тогда.
Бернис слушала, она теперь прониклась убежденностью в неумирающей любви Эйлин и почувствовала, что втыкает еще одно терние в неминуемый венок этой женщины. Вот только, возражала она самой себе, не в ее силах изменить Каупервуда. Что же касается ее самой и ее желания тем или иным образом отомстить обществу… то ведь и она любила Каупервуда. По-настоящему любила. Он был для нее как сильнодействующее средство. Его умственное и физическое обаяние были огромны, практически неотразимы. Она считала важным для себя добиться конструктивных отношений с ним, не нанося дополнительных огорчений Эйлин.
Она замолчала, задумалась, потом сказала:
– Это серьезная проблема, правда? Но у нас нет времени на ее рассмотрение. Оставим ее на день-другой. Я, можешь не сомневаться, все время думаю об Эйлин… – Она посмотрела на Каупервуда, широко раскрыв глаза, задумчиво и любяще, ее губы растянулись в слабой, но все же одобрительной улыбке. – Вдвоем мы справимся, я это знаю.
Она поднялась с кресла у огня, подошла к нему, села на его колени, принялась ерошить его волосы.
– В этом мире не все проблемы носят финансовый характер? – загадочно сказала она, прикасаясь к его лбу губами.
– Далеко не все, – весело ответил он, воодушевленный ее ласковым сочувствием и поддержкой.
А потом, чтобы немного развлечься, он предложил ей после вчерашнего обильного снегопада прокатиться на санях – прекрасный способ закончить день. Он знал одну очаровательную гостиничку рядом с озером на Северном берегу, где они смогут поужинать под зимней луной.
Вернувшись этим вечером поздно домой, Бернис села в своей комнате перед огнем, думая и планируя. Она уже телеграфировала матери, прося ее немедленно приехать в Чикаго. Она отправит мать в один отель в Норт-Сайде и зарегистрирует там их обеих. Когда ее мать поселится там, Бернис сможет набросать план действий, о котором они говорили с Каупервудом.
Но больше всего ее беспокоила Эйлин, живущая в одиночестве в огромном доме в Нью-Йорке. Молодость Эйлин, не говоря уже о красоте, безвозвратно прошла, а с недавнего времени, как заметила Бернис, Эйлин страдала еще и от избыточного веса, причем явно не собиралась предпринимать в связи с этим каких-либо мер. Ее одежды тоже говорили больше не о вкусе, а о богатстве. Годы, внешность, отсутствие интеллектуального дара – все это делало невозможным для Эйлин соревнование с кем-либо, подобным Бернис. Но Бернис поклялась себе, что никогда не будет жестокой, какая бы мстительность ни обуяла Эйлин. Напротив, она собиралась быть как можно более щедрой, а еще она не допустит ни малейшей жестокости или даже пренебрежительности по отношению к Эйлин со стороны Каупервуда, если вовремя заметит в нем проявление этих настроений. По правде говоря, она переживала за Эйлин, очень переживала, понимая, что должно твориться в ее разбитом и выброшенном сердце, потому что и она, несмотря на свою молодость, успела хлебнуть страданий, как и ее мать. Их раны так до сих пор еще и не зажили.
А потому она решила, что с этого дня будет играть в жизни Каупервуда как можно менее заметную и более скрытую роль, да, она будет иногда появляться с ним на людях, поскольку больше всего он жаждал и желал именно этого, но оставаться при этом в тени, не вполне опознанной. Если бы только существовал какой-то способ отвлечь мысли Эйлин от ее насущных болячек, чтобы унять ее ненависть к Каупервуду, а когда она обо всем узнает, то и от ненависти к самой Бернис.
Поначалу она подумала о религии, вернее, о том, найдется ли такой священник, протестантский или католический, чей религиозный совет может пойти на пользу Эйлин. Всегда можно было найти такую благорасположенную душу, если не сказать дипломатичную, которая за наследство или его обещание в случае ее смерти стала бы с радостью о ней заботиться. Она вспомнила, что в Нью-Йорке есть такой человек: преподобный Уиллис Стил, ректор церкви Святого Свитуна нью-йоркского епископата. Она время от времени бывала в его церкви в большей степени для того, чтобы насладиться простой архитектурой и послушать утешительную для души службу, чем обратиться с молитвой к господу. Преподобный Уиллис был человеком средних лет, веселым, вежливым, привлекательным, но без особых финансовых средств, хотя умением подать себя в обществе он владел безукоризненно. Она вспомнила, что он как-то раз попытался обаять ее, но чем больше она о нем думала, тем шире становилась улыбка на ее губах, и она в конечном счете отказалась от этой идеи. Однако так или иначе, но Эйлин был необходим человек, который присматривал бы за ней.
Но вдруг в какой-то момент она вспомнила, что в нью-йоркском обществе немало таких обходительных светских неудачников, которые за достаточное денежное вознаграждение или ради развлечения вполне могли бы создать вокруг Эйлин весьма благодушную, пусть и не вполне традиционную социальную атмосферу и таким образом отвлечь ее, ну хотя бы временно. Но как найти подход к такой персоне и уговорить ее согласиться на это?
Бернис решила, что ее мысль слишком уж ухищренная, слишком коварная, чтобы исходить от нее – она не может прийти с ней к Каупервуду. Но в то же время она не сомневалась в ценности своего плана и необходимости проведения его в жизнь. А пусть-ка ее мать наведет его на такую мысль. А как только он оценит эту идею, а он ее обязательно оценит, можно не сомневаться, что он возьмется за ее практическое воплощение.
Глава 6
Когда Каупервуд задумался о том, кого ему послать в Лондон с заданием выяснить фактические стороны и финансовые возможности лондонской подземки, первым, кто пришел ему в голову, был Генри де Сота Сиппенс.
Он отыскал Сиппенса много лет назад – тот оказался незаменимым в переговорах о получении контракта на чикагский газ. И на деньги, вырученные на этом предприятии, Каупервуд предпринял вторжение на еще одну территорию – строительство чикагской уличной рельсовой сети – и привлек к работе Сиппенса, потому что, как стало известно Каупервуду, тот обладал природным даром находить участки коммунального комплекса, на развитии которых можно было заработать. Он нередко срывался, нервничал или излишне раздражался, легко вступал в ссоры, бывал склочен и ворчлив, а потому не очень дипломатичен, но у него имелись и свои плюсы: он был абсолютно предан Каупервуду, хотя и одержим бескомпромиссным среднезападным «американизмом», который часто вызывал раздражение, но не реже оказывался и весьма ценным.
По мнению Сиппенса, Каупервуду сейчас в борьбе за местные концессии был нанесен чуть ли не фатальный удар. Сиппенс не видел возможности для Каупервуда восстановить свою репутацию в глазах местных финансистов, которые инвестировали в него, а теперь, скорее всего, теряли часть своих денег. Со дня того поражения Сиппенс опасался встречаться с ним. Что он мог сказать Каупервуду? Что он весьма сочувствует человеку, который всего неделю назад был одним из мировых финансовых гигантов и казался непобедимым?
Но сегодня, всего на третий день после поражения, Сиппенс получил телеграмму от одного из секретарей Каупервуда с просьбой явиться к его бывшему работодателю. Сиппенс почти не поверил своим глазам, когда обнаружил, что Каупервуд весел, энергичен и в добром расположении духа.
– Как дела, шеф? Рад вас видеть в прекрасном настроении.
– Никогда не чувствовал себя лучше, Де Сота. А ты как? Готов к любой судьбе?
– Кому, как не вам, знать это, шеф. Я сражался до последнего патрона. А теперь – как вы распорядитесь.
– Я знаю, Де Сота, – с улыбкой ответил Каупервуд. Потому что все его неудачи с лихвой возместил его успех с Бернис, и он чувствовал, что сейчас должны открыться и быть заполнены главнейшие страницы истории его жизни, и он теперь смотрел на всех не только с надеждой, но и с добротой. – У меня есть для тебя одно поручение, Де Сота. Я послал за тобой, потому что мне нужен надежный и умеющий хранить тайну человек. А я знаю, что ты именно такой!
И на мгновение на его лице появилось жесткое выражение, а в глазах тот металлический, непроницаемый блеск, который ненавидели те, кто не доверял ему и кто его боялся. Сиппенс расправил плечи, выставил вперед подбородок и встал по стойке «смирно». Он был невысокого роста – не более пяти футов и четырех дюймов, а потому носил туфли на высоком каблуке и цилиндр, который не снимал ни перед кем, кроме Каупервуда. На нем было длинное двубортное пальто, расширенное книзу, что, как казалось Сиппенсу, придавало ему роста и достоинства.
– Спасибо, шеф, – сказал он, – вы же знаете, я в любой момент за вас хоть в ад.
Его губы чуть ли не дрожали – так его разволновало не только сочетание лести и веры в словах Каупервуда, но и все, что ему довелось вынести за последние несколько месяцев, а также многих лет их союза.
– Но теперь речь ни в коей мере не идет об аде, Де Сота, – сказал Каупервуд, теперь он расслабился и улыбнулся. – С тем, чем мы занимались здесь, в Чикаго, покончено, мы к этому не вернемся. И я объясню тебе почему. А теперь я хочу поговорить с тобой о Лондоне, о его системе подземного транспорта и возможности моего участия в каких-то из их проектов.
На этом он сделал паузу и жестом, вежливым и легким, пригласил Сиппенса сесть на ближайший к нему стул, а Сиппенс, бесконечно взволнованный невероятными возможностями чего-то нового и интересного, чуть не охнул.
– Лондон! Неужели взаправду, шеф? Здорово! Я знал, вы что-нибудь придумаете, шеф. Знал. Даже передать вам не могу, что я чувствую, шеф! – Он говорил, и его лицо прояснялось, словно от включившегося источника света внутри, его пальцы дрожали. Он чуть приподнялся, потом снова сел – явный признак охватившего его волнения. Он дернул себя за свои густые, лихо нависающие над верхней губой усы, глядя на Каупервуда с накопленным за долгие годы и абсолютно убежденным восхищением.
– Спасибо, Де Сота, – сказал Каупервуд, выбрав момент. – Я так и думал, что тебя это заинтересует.
– Конечно, заинтересует, шеф! – возбужденно ответил Сиппенс. – Послушайте, шеф, вы – одно из чудес света. Да вы только прикиньте – вот вы едва отбились от этих чикагских ублюдков, а уже готовы взяться за такое вот дело! Это великолепно! Я всегда знал: никто не сможет уложить вас на лопатки, но после этого последнего дела, признаюсь, я был готов к тому, что увижу вас чуток выбитым из колеи. Но не тут-то было, шеф! Не в вашем характере падать духом. Вы слишком велики, точка. Я бы от такого удара сломался. Точно знаю. Вышел бы из игры, признаю. Но вы – нет! Я хочу знать только одно, шеф. Что я должен сделать для вас. Вы только скажите – все сделаю, шеф. И никто ничего не будет знать, если вы так хотите, шеф.
– Это одно из условий, Де Сота, – сказал Каупервуд. – Соблюдение тайны и эта твоя старая добрая хладнокровная разборчивость в таких делах! Они очень пригодятся в связи с этой моей идеей, если я стану ее воплощать в жизнь. И к тому же ни один из нас в убытке не останется.
– Ой, не говорите об этом, шеф, не говорите, – проговорил Де Сота, напрягшись чуть не до состояния излома. – Я уже столько от вас получил, мне уже ни цента до самой гробовой доски от вас не надо. Вы мне скажите, что вам требуется, и я сделаю для вас все в лучшем виде. Или же вернусь и скажу вам, что это не в моих силах.
– Ты мне никогда не говорил такого, Де Сота, и я уверен, что никогда не скажешь. Но вот тебе вкратце эта история. Около года назад, когда мы все были заняты расширением здесь бизнеса, ко мне из Лондона приехали два англичанина, представлявшие один лондонский синдикат. Подробности я тебе опишу позднее, но примерный план таков…
И он рассказал все, что сообщили ему Гривс и Хеншоу, завершив рассказ мыслью, которая родилась в его голове в то время.
– В это дело и без того уже вбухано немало денег, как сам видишь, Де Сота. Почти пятьсот тысяч долларов, а результатов пока никаких, кроме акта, или концессии, на линию длиной в четыре или пять миль. И, прежде чем вообще можно будет о чем-то говорить, мы законным путем должны связать ее с двумя другими. Они сами об этом сказали. Но меня сейчас более всего интересует, Де Сота, не только выведать все о лондонской системе подземного транспорта в ее нынешнем виде, но и понять пределы возможностей ее развития. Ты, конечно, понимаешь, что я имею в виду – прокладка линий, которые будут приносить доход, если их, скажем, провести на территории, где нет еще никого другого. Ты меня понял?
– Абсолютно, шеф.
– Кроме того, – продолжал он, – мне нужны карты общего плана и характера города, его транспортных путей, подземных и наземных, где они начинаются, где заканчиваются, а также геологические сведения, если их можно добыть. А также сведения о районах или кварталах, соединенных этими путями, какого рода люди проживают в них или кто там будет проживать с большей вероятностью. Ты меня понимаешь?
– Абсолютно, шеф, абсолютно!
– Кроме того, мне нужны сведения о концессиях на эти две линии в их сегодняшнем виде – акты, так это, кажется, у них называется, продолжительность их действия, протяженность линий, сведения о владельцах, о крупнейших держателях акций, как они действуют, какой доход приносят их акции – все, что тебе удастся узнать, не привлекая к себе слишком много внимания. И, уж конечно, ко мне. Ты это, конечно, понимаешь, как понимаешь и причины этих моих требований?
– Абсолютно, шеф, абсолютно!
– Кроме того, Де Сота, я бы хотел знать все о расходах на действующих линиях – сколько уходит на выплату жалованья служащим, сколько составляют эксплуатационные расходы.
– Понял, шеф, – отозвался Сиппенс, который уже принялся составлять в уме план действий.
– Потом возникает вопрос о стоимости оборудования и прокладки туннелей, о потерях и новых затратах на реконструкцию линий, которые в настоящее время, как я понимаю, действуют на паровозной тяге, на перевод их на электрическую тягу, на осуществление этой новой идеи – прокладки третьего рельса[3], об использовании которой при строительстве новой подземки сейчас ведутся разговоры в Нью-Йорке. Знаешь, англичане в этих делах разбираются и ведут себя иначе, чем мы, и я хочу, чтобы ты все об этом разузнал. И, наконец, может быть, тебе удастся узнать что-нибудь о стоимости земли, которая возрастет после прокладки этих путей, не стоит ли заранее приобрести там участки в каких-либо направлениях, как мы делали это здесь в Лейквью и других местах. Ты помнишь?
– Конечно, помню, шеф, конечно, помню, – ответил Сиппенс. – Я все понимаю и добуду вам все, что вы хотите, а может, и больше. Слушайте, это же замечательный план! И я вам передать не могу, как я горд и счастлив, что вы мне поручаете сделать это. Когда вы хотите, чтобы я отправился туда?
– Немедленно, – ответил Каупервуд, – иными словами, как только ты закончишь свои дела на твоем нынешнем пригородном проекте. – Он говорил о его загородной Объединенной транспортной системе, президентом которой в настоящий момент был Сиппенс. – Лучше передай дела Киттереджу и скажи ему, что хочешь отдохнуть зимой где-нибудь в другом месте – в Англии или в Европе. Если тебе удастся не допустить упоминания о своей персоне в газетах, так это только к лучшему. Если не удастся, сделай вид, что тебя интересуют другие вещи, но никак не пути сообщения. Если познакомишься там с какими-нибудь специалистами по путям сообщения и они покажутся тебе энергичными и достаточно деловыми, чтобы принять на себя руководство теми линиями, с которыми они связаны, дай мне знать о них. Потому что, конечно, это будет английское, а не американское предприятие от начала и до конца, если мы возьмемся за это дело. Ты сам понимаешь. Эти англичане не любят американцев, а мне не нужны никакие антиамериканские войны.
– Верно, шеф, понимаю. Я только об одном прошу: если я смогу быть вам там полезен впоследствии, я надеюсь, вы меня не забудете. Я столько работал с вами, шеф, и так тесно, что мне будет тяжело пережить, если после стольких лет… – Он замолчал, уставившись на Каупервуда чуть ли не умоляющими глазами, и Каупервуд в ответ посмотрел на него любезным, но в то же время непроницаемым взглядом.
– Ты прав, прав, Де Сота. Я знаю и понимаю. Придет время, сделаю все, что будет в моих силах. Я тебя не забуду.
Глава 7
После того как он подробно изложил Сиппенсу его обязанности, а также принял меры к тому, чтобы в Чикаго стало известно о его отъезде на восток для консультаций с некоторыми финансистами о возможности безотлагательного изъятия средств из его холдингов, мысли Каупервуда естественным образом вернулись к Бернис и вопросу о том, как им путешествовать и жить так, чтобы не привлекать ничьего внимания.
Конечно, он гораздо яснее, чем Бернис, видел длинную цепочку фактов и ассоциаций, которые такими тесными узами привязывали его к Эйлин и ни к кому другому. Бернис была не в состоянии в полной мере оценить это, в особенности еще и потому, что он столько лет и с такой настойчивостью преследовал ее. Но сам он был склонен сомневаться в разумности каких-либо действий в отношении Эйлин, если эти действия не носят абсолютно дипломатического и умиротворительного характера. Риск был слишком велик, в особенности с учетом его предполагаемого вторжения в Лондон и не столь давнего скандала вокруг его корпораций и его образа жизни в Чикаго. Его обвиняли в подкупах и вообще в антисоциальных методах. И спровоцировать теперь общественное недовольство, а также, возможно, какие-либо публичные действия со стороны Эйлин – намеки в газетах относительно его отношений с Бернис – это было бы слишком.
А потом была еще одна проблема, которая вполне могла посеять рознь между Каупервудом и Бернис. И эта проблема – его связи с другими женщинами. Некоторые из его романов так до сих пор и не были закрыты. От Арлетт Уэйн он временно избавился, но были еще другие, связь с которыми ограничивалась не более чем случайными встречами. Правда, оставалась еще Кэролайн Хэнд, жена Хосмера Хэнда, держателя солидного пакета акций чикагских железных дорог и пакгаузов. Когда Каупервуд познакомился с ней, она была совсем молода. Теперь Хэнд развелся с ней из-за ее связи с Каупервудом, но при этом оставил ей хорошее обеспечение. И она все еще была верна Каупервуду. Он купил ей дом в Чикаго и за время своей чикагской битвы довольно много времени проводил в ее обществе, потому что решил, что Бернис никогда не придет к нему.
А теперь Кэролайн собиралась в Нью-Йорк, чтобы быть рядом с ним, когда он окончательно решит покинуть Чикаго. Она была умной женщиной, не ревнивой – а если и ревновала, то никак этого не демонстрировала, – красивой, хотя и одевалась несколько необычно, и остроумной до такой степени, что ей неизменно удавалось забавлять его. Теперь ей было тридцать, но выглядела она на двадцать пять и при этом в полной мере сохранила живость двадцатилетней. До самой минуты прихода к нему Бернис и с тех пор – хотя Бернис и не знала об этом – Кэролайн ради Каупервуда держала дверь своего дома открытой для всех и приглашала тех, кого он хотел принять у нее. Именно ее дом в Норт-Сайде имели в виду чикагские газеты в своих самых жестоких нападках на него. Она всегда настаивала на том, чтобы он, когда перестанет любить ее, так и сказал ей об этом – она не будет его удерживать.
Размышляя о своем романе с Кэролайн, он прикидывал, не поймать ли ему ее на слове, объясниться, как она предлагала, а потом уйти. И все же, как ни дорога ему была Бернис, такой план казался ему слегка чрезмерным. Он мог бы объясниться с ними обеими. Как бы то ни было, ничто не должно расстроить его отношений с Бернис, которой он обещал быть настолько верным, насколько это для него возможно.
Но его мысли постоянно возвращались к проблеме Эйлин. Он никак не мог выкинуть из головы различные события, которые соединили их. Ту первую страстную и драматическую лихорадочную любовь, которая связала их в Филадельфии и внесла немалый вклад (если не стала единственной причиной) в его первое финансовое поражение! Веселая, безрассудная, эмоциональная Эйлин тех дней отдавала всю себя с настоящим неистовством и ожидала в ответ ту абсолютную защищенность, какую любовь за всю свою разрушительную историю не давала никогда и никому! И даже теперь, по прошествии стольких лет, после всех тех связей, что были в его, а потому и в ее жизни, она не изменилась, она продолжала его любить.
– Знаешь, дорогая, – сказал он Бернис, – я очень сочувствую Эйлин. Живет она там одна, в этом огромном доме в Нью-Йорке, безо всяких хоть чего-то стоящих связей, ее домогается множество прохиндеев, которые только и делают, что убеждают ее пьянствовать да кутить, а потом пытаются выкачать из нее деньги, чтобы оплачивать счета. Я знаю это от слуг, которые все еще хранят мне верность.
– Все это очень глупо, – сказала Бернис, – но и понять ее тоже можно.
– Я не хочу обходиться с ней слишком сурово, – продолжил Каупервуд. – Напротив, я всю вину беру на себя. Что бы мне хотелось сделать, так это отыскать какую-нибудь привлекательную личность в нью-йоркском обществе или на его границе, которая взяла бы на себя труд за условленную сумму исполнять роль ее светского спутника, проводника в обществе, скрашивала бы ее одиночество. Я, конечно, говорю в буквальном смысле.
При этих словах он горестно улыбнулся Бернис.
Но она сделала вид, что не заметила его улыбки, чтобы пустой мимолетный взгляд в сочетании с легким подергиванием уголков ее губ не выдал ее чувства удовлетворенности, с которым она восприняла известие о том, что они мыслят одинаково.
– Вот чего я не знаю, – осторожно сказала она. – Может, и есть такие люди.
– Их наверняка пруд пруди, – практично сказал Каупервуд. – Это, конечно, должен быть американец. Эйлин не любит иностранцев, я имею в виду иностранцев-мужчин. Но одно у меня не вызывает сомнений: эта проблема должна быть решена как можно скорее, если мы хотим спокойно жить и свободно путешествовать.
– Слушай, кажется, я знаю человека, который мог бы взять это на себя, – сказала вдруг задумчиво Бернис. – Его зовут Брюс Толлифер. Он из виргинских и южно-каролинских Толлиферов. Может, ты его знаешь.
– Он похож на того типа, о котором я думаю?
– Он молод и очень хорош собой, если ты об этом спрашиваешь, – продолжила Бернис. – Я его лично не знаю. Видела его единственный раз в доме Дании Мур в Нью-Джерси, они там устраивали теннисные матчи. В тот день Эдгар Бонсилл сказал мне, что этот парень настоящий приживальщик, что он живет за счет богатых женщин, и миссис Дания Мур – одна из них. – Тут она рассмеялась и добавила: – Я думаю, Эдгар немного побаивался, что я могу заинтересоваться Брюсом, а мне его внешность и вправду понравилась.
Она улыбнулась двусмысленной улыбкой, словно почти ничего не знала о нем.
– Может быть, он нам и нужен, – сказал Каупервуд. – Он наверняка хорошо известен в Нью-Йорке.
– Да, я помню, Эдгар говорил, что он часто бывает на Уолл-стрит. На самом деле никакой он не биржевой игрок, просто ходит туда, чтобы произвести впечатление на людей.
– Отлично! – сказал Каупервуд с довольным видом. – Я бы сказал, что без труда смогу его найти, хотя таких, как он, там хватает. Я в свое время пересекался с некоторыми из них.
– Мне немного стыдно говорить обо всем этом, – задумчиво сказала Бернис. – Жаль, что нам приходится. И я думаю, ты должен сделать так, чтобы Эйлин не попала в некрасивую историю из-за какого-нибудь типа, которого ты выберешь для этого.
– Я ей желаю только всего лучшего во всех смыслах, Беви. Ты должна это знать. Я просто хочу найти кого-нибудь, кто смог бы сделать для нее кое-что, что не можем сделать ни я, ни она, вместе или каждый сам по себе. – Здесь он замолчал, задумчиво разглядывая Бернис, пока она тоже разглядывала его немного загадочным, немного сочувственным взглядом. – Мне нужен человек, который был бы полезен ей в смысле скрашивания ее одиночества, и я готов платить за это. И платить хорошие деньги.
– Ну, что ж, мы посмотрим, – сказала Бернис, а потом, словно с мыслью сменить неприятную тему: – Я жду завтра около часа дня маму. Я забронировала ей номер в «Брэндингеме». А теперь я хочу с тобой поговорить о Рольфе.
– А что с ним такое?
– Ой, он такой непрактичный. Никогда ничему не учился. Мне бы хотелось найти для него какое-нибудь занятие.
– Можешь об этом не беспокоиться. Я поручу одному из моих людей здесь позаботиться о парне. Он может поработать у кого-то из них секретарем. Я попрошу Киттериджа написать ему.
Бернис посмотрела на него, немало потрясенная тем, с какой скоростью он решает все вопросы, и его щедростью по отношению к ней.
– Я хочу, чтобы ты знал, Фрэнк, я умею быть благодарной. Ты так добр ко мне.
Глава 8
В то самое время, когда Бернис говорила о нем с Каупервудом, Брюс Толлифер, этот красивый шалопай, давал отдохнуть своему значительно изношенному телу, а также своему изменчивому и не лишенному воображения разуму в одной из малых спален меблированных комнат миссис Сельмы Холл в доме на Восточной Пятьдесят третьей улице, когда-то отчасти модной, а теперь впавшей в упадок в этом нью-йоркском районе фасадов, облицованных красно-коричневым камнем[4]. Вкус у него во рту обосновался отвратительный – следствие вчерашнего загульного вечера; однако рядом с ним, на расстоянии вытянутой руки на поеденном временем табурете все равно стояли бутылка виски, сифон с сельтерской и лежала пачка сигарет. А бок о бок с ним на подъемной кровати лежала безоговорочно красивая молодая актриса, с которой он разделял ее жалованье, комнату и другую ее собственность.
Было почти одиннадцать, а они еще не вышли из полусонного состояния. Но еще через несколько минут Розали Хэрриган открыла глаза и оглядела не слишком привлекательную комнату с ее когда-то кремового цвета обоями, теперь выцветшими, низеньким трельяжем и комодом; она решила, что должна встать и убрать неприглядно разбросанную по комнате одежду. К комнате примыкали импровизированная кухня и ванная, а справа от табурета расположился письменный стол, на котором Розали подавала еду, когда они обедали дома.
Даже дезабилье Розали выглядела весьма соблазнительно. Волнистые растрепанные черные волосы, маленькое белое лицо с маленькими взыскующими черными глазами, красные губы, слегка вздернутый носик, фигура с изящными и чувственными округлостями в совокупности позволяли ей каким-то образом удерживать, пусть и временно, бесшабашного, неспокойного красавца Толлифера. Еще она подумала о том, что ей стоит разбавить сельтерской виски для Толлифера и дать ему сигарету. Потом, если его это интересует, она сварит кофе и пару яиц. А если же он предпочтет не шевелиться и не замечать ее, то она оденется и уйдет на репетицию, которую назначили на двенадцать часов, а потом вернется к нему и будет ждать, когда он проснется. Ведь Розали была в него влюблена.
Будучи по природе трутнем, Толлифер не испытывал ни малейшей благодарности, получая от женщин все эти услуги. Да и с какой стати? Он был Толлифером, одним из виргинских и южно-каролинских Толлиферов! Он по праву рождения был повсюду вхож в общество лучших людей! Единственная неприятность состояла в том, что без Розали или любой другой девушки ее типа денег в его карманах совсем не водилось, хуже того, он постоянно был пьян и в долгах. Тем не менее и несмотря ни на что для женщин он оставался настоящим магнитом. Однако при всем при этом он за двадцать с небольшим лет проматывания жизни так и не нашел ни одну, к кому мог бы прилепиться для безбедного существования, а потому теперь предпочитал не затягивать надолго свои романы, был саркастичен и проявлял диктаторские замашки в отношении тех, кого он осчастливливал своей благосклонностью.
Толлифер принадлежал к хорошей южной семье из тех, что когда-то была богата и занимала высокое положение в обществе. В Чарльстоне в это самое время все еще стоял старинный и очаровательный особняк, в котором обитало то, что осталось от одной из семейных ветвей, выжившей после Гражданской войны. Они владели облигациями Конфедерации на многие тысячи долларов, но те в один миг превратились в прах, когда Юг проиграл войну. А сегодня в армии служил один из братьев Брюса, капитан Уэксфорд Толлифер, который считал Брюса прожигателем жизни и тунеядцем.
В Сан-Антонио жил другой его брат, успешный фермер, который ушел на запад, женился, обзавелся детьми и крепко там обосновался, а амбиции Брюса, его попытки занять высокое положение в нью-йоркском обществе считал теперь непроходимой глупостью. Потому что если Брюс и собирался добиться чего-нибудь – например, влюбить в себя богатую наследницу, – то почему он уже не сделал этого? Да, его имя время от времени появлялось в газетах, а один раз прошел слух, что он вот-вот женится на богатой нью-йоркской дебютантке. Но тем слухам уже исполнилось десять лет, ему тогда было двадцать восемь, а он ни на йоту не продвинулся в своих амбициях. Теперь ни у одного из его братьев или других родственников не осталось ни малейшей веры в него. Он был конченый человек. Большинство из его прежних нью-йоркских светских друзей склонны были согласиться с этим. Он слишком потакал своим желаниям, а потому пал их жертвой. Он ничуть не заботился о своей репутации, о своем месте в обществе. А потому и то и другое пали так низко, что уже не могли принести ему никаких благ.
Но еще оставались люди, мужчины и женщины, молодые и старые, которые, встречаясь с ним время от времени, когда он был трезв и в лучшем своем виде, не могли не выказывать сожаления, что он не женился на деньгах и не вернул себя в общество, которое мог бы так превосходно украсить. Его дружелюбный южный акцент, когда он решал прибегнуть к нему, был таким душевным, а его улыбка – такой обаятельной.
Ему нынешнему роману с Розали Харриган исполнилось всего восемь недель, и тем не менее их отношения уже приближались к концу. Она была всего лишь хористкой с жалованьем в тридцать пять долларов в неделю, веселой, милой и любящей, но, как говорил ему его внутренний голос, недостаточно амбициозной, чтобы чего-нибудь добиться. Его просто привязали к себе на короткое время ее тело, ее страсть и любовь.
И сегодня, в это конкретное утро, Розали посмотрела на его встрепанные волосы, его тонко очерченные рот и подбородок, она смотрела на него с восторгом, причем абсолютно безнадежным восторгом, уже отравленным совершенно отчаянным страхом перед тем, что какая-нибудь другая женщина отберет у нее эту радость. Она прекрасно знала, что он может в любой момент проснуться с грозным рыком, грубыми проклятиями и распоряжениями. И все равно ей хотелось проводить с ним многие часы хотя бы только для того, чтобы гладить его волосы.
А разум Толлифера в это же время, пребывая то ли в полусне, то ли в полупробуждении, созерцал беды, которыми была насыщена его повседневная жизнь. Потому что в этот момент, кроме денег, которые он взял у Розали, он не имел ничего. А еще он практически потерял к ней всякий интерес. Если бы только ему удалось найти женщину со средствами, женщину, с которой он мог бы пожить на широкую ногу, он даже был бы готов жениться на ней и таким образом показать куче этих местных выскочек, свысока смотревших на него, что такое быть Толлифером, а к тому же богатым Толлифером.
Вскоре после своего приезда в Нью-Йорк он предпринял как-то раз попытку умыкнуть одну безумно влюбившуюся в него богатую наследницу, но ее родители успели тайно отослать ее за границу. После того случая пресса объявила его искателем состояния, человеком, которому должны указать на дверь все уважаемые и богатые семьи, если они хотят счастья своим дочерям. И эта его неудача или ошибка вместе со склонностью к пьянству, распутству, азартным играм закрыли для него на все эти годы двери, в которые ему хотелось войти.
Полностью проснувшись наконец, он стал одеваться и ругать Розали за то, что она вчера вечером затащила его на вечеринку, где он напился и принялся оскорблять и высмеивать людей вокруг него с таким ражем, что они вздохнули с облегчением, когда он ушел.
– Такой народ! Такие невежи! – кричал он. – Ты почему мне не сказала, что эти газетчики там будут? Актеров одних уже вполне хватает, а тут еще и эти газетные твари, сующие нос в чужие дела, эти искатели славы, пришедшие с твоими подружками-актрисками! Черт!
– Но я же не знала, что они придут, Брюс, – взмолилась Розали, бледная и живописная, она старалась, как могла, пытаясь поджарить тост на газовой горелке. – Я думала, там будут только звезды этого шоу.
– Звезды! Ты называешь этих людишек звездами! Если они звезды, то я целая звездная система! – (Это сравнение целиком и полностью прошло мимо Розали, которая понятия не имела, что он имеет в виду.) – Ох уж эта чернь! Да вы звезды от керосиновой лампы не можете отличить!
Потом он зевнул, спрашивая себя, когда уже он наберется мужества собраться с силами и уйти от нее. Сколько еще будет продолжаться это падение? Сравняться с девицами, жалованья которых едва хватает им самим, и на их деньги пить и играть в азартные игры с людьми, сравняться с которым в расходах у него не было ни малейшей надежды.
– Боже мой, нет, это невыносимо! – воскликнул он. – Я ухожу, я больше ни минуты здесь не могу оставаться. Слишком уж это унизительно!
Он прошел к двери, потом вернулся, встал, сердито запустив руки в карманы. Розали безмолвно стояла перед ним. Страх мешал ей открыть рот.
– Ты что – не слышишь, что я говорю? – прокричал он. – Так и будешь стоять тут, словно манекен? Ох уж эти женщины. Вы либо царапаетесь, как кошки, либо ложитесь, и из вас слова не вытянешь! Господи, если бы мне только удалось найти женщину, у которой есть хоть немного здравого смысла в голове, я бы… я бы…
Розали посмотрела на него, мучительная улыбка искривила ее рот.
– Ну, и что бы ты сделал? – тихим голосом спросила она.
– Я бы остался с ней. Я бы даже, может быть, полюбил ее! Но бог ты мой, какой от этого прок? Вот он я, застрял в этой дыре, а чего добился? Я принадлежу иному миру, и я собираюсь вернуться в него! Нам с тобой придется расстаться. Иного не дано. Я больше так и дня не собираюсь жить.
С этими словами он подошел в стенному шкафу, вытащил свою шляпу, пальто и двинулся к двери. Но Розали встала на его пути, обхватила его руками, прижалась лицом к его лицу. Она плакала.
– Ах, Брюс, пожалуйста! Что я такого сделала? Неужели ты больше меня не любишь? Разве мало того, что я исполняю все твои желания? Я у тебя ничего не прошу, ведь верно? Пожалуйста, Брюс, не бросай меня. Ведь ты меня не бросишь, правда, Брюс?
Но Толлифер вырвался из ее объятий, оттолкнул ее.
– Не смей этого делать, Розали, не смей, – сказал он. – Я это не собираюсь терпеть. Так ты меня не удержишь. Я ухожу, потому что должен уйти!
Он открыл дверь, но Розали успела опередить его и встать между ним и лестницей.
– Брюс, – проговорила она, рыдая. – Ради бога, ты не можешь так вот уйти! Послушай, ты меня не можешь бросить вот так! Я сделаю все, все, что ты захочешь, я тебе обещаю. Брюс, я добуду денег, я найду работу получше. Мы переедем в другую квартиру. Я все сделаю. Брюс, пожалуйста, сядь, не надо так со мной. Если ты уйдешь, я убью себя!
Но Толлифер на этот раз был тверд.
– Ах, прекрати это, Рози! Не будь такой идиоткой! Я знаю, что ты себя не убьешь, и ты это тоже знаешь. Возьми себя в руки. Успокойся. И я, может быть, загляну к тебе сегодня или завтра, но я должен заключить новую сделку, вот и все дела. Ты меня понимаешь?
Розали сдалась под его взглядом. Она теперь поняла, что от неизбежного не уйти. Она знала, если он хочет уйти, ей его не удержать.
– Ах, Брюс, – взмолилась она еще раз, прижимаясь к нему. – Я тебя не отпущу. Нет! Не отпущу. Ты не можешь так от меня уйти!
– Не могу? – переспросил он. – Что ж, смотри.
Он оттолкнул ее и принялся спускаться по лестнице. Розали, едва дыша от ужаса, стояла, уставившись перед собой, потом услышала, как хлопнула входная дверь, потом устало развернулась и вошла в свою комнату, закрыла дверь, прижалась к ней спиной.
Ей пора было отправляться на репетицию, но ее пробрала дрожь, когда она подумала об этом. Ей теперь было все равно. Она уже ничего не может… если только, может быть, он вернется… он должен вернуться за своей одеждой…
Глава 9
В это время Толлифер лелеял мысль устроиться на работу в маклерскую фирму или трастовую компанию, ведущую дела или, более конкретно, финансовые дела вдов или дочерей состоятельных семейств. Трудность, однако, состояла в том, что он выпал из той социальной группы, тех умельцев на все руки, которые в этот день процветали не только на краю, но и в самом сердце нью-йоркского общества. Такие люди были не только полезны, но временами и абсолютно необходимы тем, у кого есть деньги, но нет соответствующего происхождения, чтобы войти в общество или чтобы представить дебютантку, которая в страхе перед неизбежным бегом времени хочет оказаться на виду.
Требования были весьма серьезные, включая и лучшее американское происхождение, внешность, социальный лоск, глубокий взыскательный интерес к яхтенному спорту, гонкам, поло, теннису, верховой езде, поездкам – в особенности на четверке лошадей с кучером, опере, театру, боксерскому рингу. Эти мужчины сопровождали богатых дам в Париж, Биарриц, Монте-Карло, Ниццу, Ньюпорт, Палм-бич, в охотничьи угодья, загородные клубы – повсюду. В Нью-Йорке их излюбленными местами были модные рестораны и «Алмазная подкова»[5] в Опере и театрах. Требовалось также, чтобы они хорошо одевались и чтобы их одежда отвечала каждому отдельному случаю, умели добывать лучшие места на конкурс лошадей, на теннисный матч, на футбольную игру[6] или на модную пьесу. Предпочтение отдавалось претендентам, которые умели принять участие в карточной партии или объяснить тонкости игры, при случае дать совет или сделать предложение касательно одежды, драгоценностей или украшения комнаты. Но самое главное, они должны были следить, чтобы имена их нанимателей с определенной частотой появлялись в «Городских новостях» или в газетных колонках, посвященных светской хронике.
Но долгая работа в таком качестве означала, что в некотором не слишком унизительном роде умелец на все руки должен получить вознаграждение за свои труды, а иногда и за свои жертвы, на которые он был вынужден идти, в особенности за отказ от остроты и радостей, которые он мог бы получить от близости с такими же молодыми и красивыми. Потому что в первую очередь их энергия отдавалась женщинам средних лет (таким, как Эйлин), которые как огня боялись даже одного ужасного часа, проведенного вне общества и в скуке.
Что ж, Толлифер прошел через все это, потратил на это годы и в тридцать один – тридцать два начал уставать от этого. И от одной только скуки, а иногда и от боли сердечной он стал исчезать – выпивал, развлекался с театральными красотками, которые могли предложить ему свой пыл, любовь и преданность. И все равно теперь он снова подумывал о том, как бы ему вернуться в те рестораны, бары, отели и другие места, где бывают люди, способные осчастливить его. Он собирался взять себя в руки, бросить пить, наскрести где-нибудь немного денег – у той же Розали, может быть – и преподнести себя с таким изяществом и помпой, после чего на него снова обратят внимание в обществе. А потом… а потом – посмотрим, что будет в этот раз!
Глава 10
В Нью-Йорке в это время усталая и лишенная иллюзий Эйлин терзалась мыслями о том, как ей дальше устроить свою жизнь. Хотя теперь особняк Каупервуда, как его называли, был одним из самых вычурных и прекрасных домов в Нью-Йорке, все же для Эйлин он оставался пустой оболочкой, эмоциональной и социальной могилой одновременно.
Теперь она понимала, что причинила немалое зло первой жене Каупервуда и их детям. Она тогда не могла и представить себе, что довелось вынести ее предшественнице в этой роли. Но теперь она на собственной шкуре знала, что это такое. Несмотря на всю свою жертвенную любовь, она, оставившая дом, друзей, общество, репутацию ради Каупервуда, теперь погрузилась в глубины отчаяния. Другие женщины, безжалостные, жестокие, цеплялись за него не из-за любви, а ради денег и славы. Он принимал их, потому что они были юными и обаятельными – а ведь лишь несколько лет назад она превосходила их во всем. Но она его никому не отдаст! Никогда! Никогда ни одна из этих женщин не станет миссис Фрэнк Алджернон Каупервуд! Она закрепила эту связь настоящей любовью и настоящим браком, и этого у нее никто не отнимет! Он не осмелится давить на нее открыто или через адвокатов. Миру, как и ей самой, известно слишком многое, или уж она сама позаботится, чтобы мир узнал, если только Каупервуд попытается сместить ее. Она ни на минуту не забыла его открытого признания в любви к юной и прекрасной Бернис Флеминг. Где она теперь? Может быть, с ним. Но законной его женой она не станет. Никогда!
Но как же она была одинока! Этот огромный дом, эти комнаты с мраморными полами, резными дверями и потолками, крашеными и всячески отделанными стенами! Со слугами, которые вполне могут быть его шпионами! И никаких дел, почти никаких знакомых, и лишь немногие хотят ее увидеть! Жители этих великолепных домов на авеню не соблаговоляют замечать ни ее, ни Каупервуда, невзирая на его и ее богатство!
К ней заглядывали один или два восторженных почитателя с просьбами, а еще один или два родственника, и среди них два ее брата, живущих в Филадельфии. Они и сами были богаты и занимали высокое место в обществе, но при этом религиозны и консервативны, а потому их жены и дети не одобряли их встреч с нею, и она родню почти не видела. Они заходили иногда на ланч или обед. Или оставались на ночь, когда приезжали в Нью-Йорк не на один день, но всегда без семей. И теперь она их уже не скоро увидит снова. Она знала, как обстоят дела, и они тоже знали.
А за пределами этой жизни не было никого, кто хоть что-то значил бы для нее. Актеры и светские прожигатели жизни, которые иногда искали ее общества главным образом для того, чтобы занять денег, интересовались по-настоящему только своими молодыми подружками. Разве могла она после Каупервуда представить себя любовницей одного из этих жалких искателей удовольствий? Потакать своему желанию – да! Но только после безрадостных и долгих часов одиночества и мучительных мыслей могла она под барабанную дробь слов и алкоголь улечься в постель с кем угодно, если чувствовала физическое влечение. Ах, жизнь, одиночество, годы, тщета и уход всего, что было тебе дорого прежде!
Какое издевательство этот огромный дом с его галереями, увешанными картинами, его скульптурами и гобеленами! Ее муж Каупервуд почти не заглядывал сюда. А если и заглядывал, то всегда так осторожно, хотя перед слугами и демонстрировал ей свою любовь. А они, естественно, раболепствовали перед ним, как персоной более важной, чем она, что на самом деле отвечало действительности, потому что в его власти было распорядиться всем, что здесь находится и им управляется. И если она решала устроить бунт, то он становился обходительным и обаятельным, брал ее за руку или нежно прикасался к запястью и говорил: «Но, Эйлин, ты должна помнить! Ты всегда будешь миссис Фрэнк Каупервуд, а в этом качестве ты должна вести себя соответственно».
И если она вдруг впадала в ярость или начинала плакать, если ее глаза наполнялись слезами, губы начинали дрожать, или если она, обуреваемая чувствами, бросалась прочь от него, то он устремлялся за ней и после долгих уговоров или мягкой мольбы склонял ее к своей точке зрения. А если ему это не удавалось, то он присылал ей цветы или предлагал съездить в оперу после ужина – уступка, которая неизменно выдавала ее тщеславную и слабую душу. Потому что появление с ним на публике – разве это не доказывало, хотя бы частично, что она все еще его жена, хозяйка в его доме?
Глава 11
Де Сота Сиппенс, убывший в Лондон, взял с собой потребных для его миссии людей; добравшись до места, снял дом в Найтсбридже и приступил к сбору информации, которая, по его разумению, могла понадобиться Каупервуду.
Первым немедля поразившим его обстоятельством был тот факт, что две старейшие линии метро – «Метрополитен» и «Дистрикт», или Внутреннее кольцо, как их называли – образуют петлю в центре города, сходную с той петлей, которая сделала чикагскую систему Каупервуда такой полезной для него и таким дорогим раздражителем для его конкурентов. Две эти лондонские ветки, первые линии подземки в мире, плохо построенные и имевшие паровозную тягу, фактически связывали между собой все главные точки центра города, а потому были ключом ко всей ситуации вокруг подземки. Они шли параллельно и на расстоянии около мили друг от друга, а в концах соединялись, что позволило владельцам заключить соглашение о праве совместной эксплуатации линий; таким образом, эти линии перекрывали все от Кенсингтона и вокзала Паддингтон на западе и до Олдгейта в районе Банка Англии на востоке. В этой зоне находилось практически все важное: главные улицы, театральный район, финансовый район, район магазинов, крупных отелей и вокзалов, палат Парламента.
Сиппенс довольно быстро узнал, что доходы от двух этих линий из-за их плохого оснащения и управления едва покрывают расходы на их содержание. Но их можно сделать доходными, потому что, кроме омнибусов, никакого другого удобного транспорта, связывающего все эти районы, не существовало.
Более того, в Лондоне отмечалось не только значительное недовольство общества устаревшей паровой тягой на этих линиях, но и явное желание со стороны более молодого финансового поколения, входящего теперь в этот бизнес, электрифицировать дороги, сделать их более современными. К этому поколению принадлежал один из самых крупных среди владельцев малых пакетов акций линии «Дистрикт» лорд Стейн, которого упоминал Каупервуд. К тому же лорд являлся одной из самых заметных фигур лондонского светского общества.
Такой картины ситуации, пространно описанной Сиппенсом, хватило, чтобы Каупервуд начал действовать. Идея центральной петли, если начать ее воплощать немедленно и подкрепить концессиями или актами о расширении подземки в прилегающие к центральному Лондону районы, даст ему в руки именно тот рычаг управления ситуацией, который необходим, чтобы Каупервуд стал мозгом и центром всякого будущего роста подземки.
И в то же время, если только он не пошарит в своих карманах, где ему взять деньги на все это? В конечном счете это может обойтись в сто миллионов долларов. В данный момент он сомневался, что сможет привлечь финансистов, в особенности еще и потому, что сегодня лондонская подземка едва сводила концы с концами. Безусловно, сегодня участие в этом предприятии требовало отваги, и ему должна была предшествовать, не прекращаясь во время реализации проекта, чрезвычайно тонкая пропагандистская кампания, которая должна была выставить его в максимально благоприятном свете.
Он перебрал всех важных американских финансистов, их институты и банки, главным образом на востоке, финансистов, к которым он мог обратиться, поскольку имел с ними дела прежде. Нужно сразу же и громко заявить, что он ищет кредит, а не чрезмерную финансовую прибыль. Потому что Бернис была права: это его последнее и самое крупное финансовое предприятие, и если уж браться за него, то провести его нужно на более высоком уровне, чем все предыдущие, чтобы замолить все его прежние грехи, сочетавшиеся с его привычным мошенничеством.
В глубине души он, конечно, ни в коей мере не был готов отказаться от всех своих прежних трюков, связанных с организацией и управлением транспортных сетей. Скорее уж, поскольку его схемы были не столь широко известны в Англии, как в его стране, он более чем склонялся к учреждению компании для одного, компании для другого, по одной для каждой из линий или для существующей системы, для линий, которые должны быть добавлены и которые должны быть переделаны, а их «разводненные» акции надлежало продать доверчивой публике. Так делались подобные дела. Публике всегда можно обманом всучить что угодно, если представить это как нечто многообещающее. Это зависело от качества, респектабельности и стабильности, которые можно придать товару с помощью правильных ассоциаций. Составив в уме план действий, он немедленно отправил телеграмму Сиппенсу с благодарностями и инструкцией оставаться в Лондоне до его дальнейших распоряжений.
Тем временем мать Бернис приехала в Чикаго и устроилась во временном жилье, а Бернис и Каупервуд, каждый по-своему, рассказали ей, что произошло и как все они соединены теперь этими новыми связями, которые, возможно, чреваты осложнениями. Хотя поначалу и в присутствии Бернис миссис Картер и позволила себе некоторое количество слез – вызванных главным образом ее критическим отношением к ее прошлому, которое, как она совершенно искренне утверждала, и было истинной причиной нынешнего положения ее дочери, – тем не менее она ни в коем случае не была сокрушена в той мере, в какой ее неустойчивое сознание иногда ей нашептывало. Потому что в конечном счете, размышляла она, Каупервуд – великий человек, и, как он сам теперь сказал ей, Бернис не только унаследует немалую часть его состояния, но и в случае смерти Эйлин или в случае ее согласия на развод с ним он безусловно женится на Бернис. Пока же он, конечно, официально останется тем же, кем был прежде: другом миссис Картер и опекуном ее дочери. Что бы ни случилось и невзирая ни на какие слухи, возникающие время от времени, они должны держаться этого объяснения. А по этой причине все их публичные появления должны быть сведены к минимуму и происходить только по необходимости. То, что он и Бернис могут частным образом изобрести для себя – это касается только их, но они никогда не должны находиться на одном пароходе или в одном поезде, а также останавливаться в одном отеле где бы то ни было.
Что же касается Лондона, размышлял Каупервуд, то все они смогут найти там для себя заметное место в обществе, в особенности если, как он предполагал, все пойдет хорошо, и он сможет найти союзников в высоких финансовых кругах и, возможно, использовать свою связь с Бернис и ее матерью как средство для встреч благоволящих ему сил и друзей в их доме, поскольку он ожидал, что миссис Картер превратит свой дом в некое подобие салона, который будет выглядеть естественным и надлежащим образом для вдовы с дочерью, имеющей средства и хорошую репутацию.
Бернис, конечно, была полна энтузиазма – ведь эта идея изначально ей и принадлежала. И миссис Картер, слушая Каупервуда, невзирая на свое представление о нем как о человеке безжалостном и до жестокости бескомпромиссным в том, что затрагивало его личные интересы, почти убеждалась, что все это к лучшему. Бернис изложила свое собственное видение ситуации на самый практический манер:
– Мама, я по-настоящему люблю Фрэнка, – сказала она матери, – и хочу как можно больше быть с ним. Ты сама знаешь, он никогда не пытался взять меня силой – я сама пришла к нему, и именно я предложила ему этот план. Ты же знаешь, мне долго казалось неправильным, что мы только берем, ничего не давая взамен, с тех самых пор, когда я узнала, что деньги, на которые мы живем, не твои деньги, а его. И все же я вела себя так же трусливо, как и ты, слишком эгоистично и боязливо, чтобы заглянуть правде в глаза и принять жизнь такой, какая она есть, какой она стала бы для нас, если бы он от нас отвернулся.
– Я знаю, что ты права, Беви, – сказала ей мать чуть ли не умоляющим голосом. – Пожалуйста, не укоряй меня. Я и так достаточно настрадалась. Прошу тебя. Я никогда ни о чем другом и не думала – только о твоем будущем.
– Хорошо, мама, хорошо, – сказала Бернис, смягчаясь, потому что она ведь любила мать, хотя та и была глуповатой и заблудшей. Да, в школьные свои годы Бернис была склонна свысока смотреть на вкусы, знания и суждения матери. Но теперь Бернис, зная все, смотрела на мать в другом свете, ни в коем случае при этом не оправдывая ее полностью, она все же прощала ее, сочувствовала матери в ее нынешнем состоянии. Она больше не произносила никаких оскорбительных или снисходительных замечаний в адрес матери, напротив, относилась к ней с добротой и пониманием, словно пыталась компенсировать те человеческие недостатки, что были ей свойственны.
Потому она теперь и добавила мягко, утешительно:
– Ты ведь помнишь, я когда-то сама попыталась найти себе применение, но очень быстро обнаружила, что мое воспитание никак не подготовило меня к тем условиям, с которыми мне придется столкнуться. Я росла, как в теплице, получала слишком много ласки. И я не виню в этом ни тебя, ни Фрэнка. Но для меня в социальном плане нет будущего, по крайней мере в этой стране. Лучшее, что я могу сделать, – это соединить свою жизнь с жизнью Фрэнка, потому что он единственный, кто может реально мне помочь.
Миссис Картер согласно кивнула и улыбнулась задумчиво. Она знала: она должна поступать так, как хочет Бернис. Своей жизни у нее не было, ее жизнь целиком и полностью зависела от Каупервуда и ее дочери.
Глава 12
И вот, следуя этому общему плану, Каупервуд, Бернис и ее мать отправились в Нью-Йорк. Первыми уехали женщины, Каупервуд последовал за ними немного позднее. Его цель состояла в том, чтобы прощупать ситуацию на американском рынке инвестиций, а также найти какую-нибудь международную маклерскую компанию, с помощью которой ему могли бы перенаправить на новое рассмотрение исходное предложение касательно линии «Чаринг-Кросс», иными словами, он никак не хотел выдавать, что уже имеет интерес к этому предприятию.
Были, конечно, и его собственные нью-йоркские и лондонские маклеры Джаркинс, Клурфейн и Рэндольф, но в таком важном и щекотливом деле, как это, он не доверял им безоговорочно. Джаркинс, главная фигура в американском отделении этого коммерческого предприятия, хотя и пронырливый, а иногда и полезный, все же на первое место ставил свои интересы, а иногда слишком много говорил. Но обратиться в какую-нибудь постороннюю маклерскую фирму было не лучше. А может быть, даже и хуже. В конечном счете он решил попросить кого-нибудь, кому он доверял, намекнуть Джаркинсу, что Гривсу и Хеншоу было бы уместно обратиться к нему еще раз со своим предложением.
В этой связи он вспомнил, что одно из рекомендательных писем, врученных ему Гривсом во время их первого появления, было подписано неким Рафаэлем Коулом, отошедшим от дел нью-йоркским банкиром, владельцем значительного состояния, пытавшимся несколько лет назад заинтересовать его нью-йоркской системой общественного транспорта. Хотя Каупервуд в то время был слишком занят своими чикагскими делами и не мог рассмотреть предложение Коула, между ними после разговора установились дружеские отношения, и позднее Коул инвестировал в кое-какие предприятия Каупервуда в Чикаго.
Его нынешняя мысль касательно Коула состояла не только в том, чтобы зажечь его идеей вложиться в это лондонское дело, но и попросить его довести до Гривса и Хеншоу через Джаркинса, что сейчас самое время повторно обратиться к нему с тем же предложением. Он решил пригласить Коула на обед в свой дом на Пятой авеню, где роль гостеприимной хозяйки должна была исполнить Эйлин. Таким образом, он намеревался умиротворить Эйлин и в то же время создать у Коула впечатление о том, что он, Каупервуд, добропорядочный муж, поскольку Коул вел более или менее консервативный образ жизни. А этот лондонский план безусловно требовал консервативного фона, чтобы предупредить общественную критику. К тому же Бернис перед отъездом в Нью-Йорк сказала ему: «Не забудь, Фрэнк, чем больше внимания ты будешь публично уделять Эйлин, тем больше пользы это принесет всем нам», и, сказав это, она посмотрела на него спокойными голубыми глазами, которые, казалось, впитали в себя всю силу и убедительность веков.
И потому на пути в Нью-Йорк, размышляя о мудрости слов Бернис, он отправил Эйлин телеграмму, сообщавшую о его приезде. И к тому же между делом он собирался связаться с неким Эдвардом Бингемом, торговцем облигациями, общительным человеком, который нередко наведывался к нему и который, возможно, сможет предоставить ему какую-нибудь информацию об этом типе – Толлифере.
Озабоченный этой кучей дел, он позвонил Бернис на Парк-авеню, в дом, который недавно подарил ей. Договорившись встретиться с ней позднее этим же днем, он позвонил Коулу. Еще он, позвонив в свой офис в отеле «Нидерланды», узнал, что среди прочих сообщений для него там было и одно от Бингема, который спрашивал, когда Каупервуду будет удобно принять его. И, наконец, он поехал в свой дом, пребывая совсем в ином настроении, чем то, в котором его видела Эйлин несколько месяцев назад.
И в самом деле она, увидев его на пороге своей спальни, сразу поняла, что грядет нечто приятное – это чувствовалось и по его походке, и по его виду.
– Как поживаешь, дорогая? – сразу же начал он на свой добродушный манер, хотя прежде уже длительное время не считал возможным говорить с ней подобным образом. – Ты ведь получила мою телеграмму.
– Да, – спокойно и с некоторым сомнением ответила Эйлин. В то же время она с интересом смотрела на него, поскольку в ее отношении к нему было столько же ненависти, сколько и любви.
– А, почитываем детективные истории! – сказал он, посмотрев на книгу на ее прикроватном столике и одновременно мысленно сопоставляя ее умственные способности с таковыми у Бернис.
– Да, – раздраженно ответила она. – А что я, по-твоему, должна читать – библию? Или какой-нибудь из твоих месячных балансов, или твои художественные каталоги?
Она была опечалена и уязвлена тем, что за все время своей чикагской катавасии он ни разу не написал ей.
– Дело в том, моя дорогая, – успокоительным и любезным тоном продолжил он, – что я сто раз собирался написать тебе, но мне ни минуты не давали передохнуть, задергали до смерти. Я тебе правду говорю. К тому же я знал, что ты, вероятно, читаешь газеты. Уж они-то ничего не упустили. Но твою телеграмму я получил, и спасибо тебе за нее, это было очень мило с твоей стороны, очень! И мне казалось, я тебе ответил. Я знаю, что должен был ответить. – Он говорил о телеграмме поддержки, которую прислала ему Эйлин после его поражения в Чикагском городском совете.
– Ну и прекрасно, – отрезала Эйлин, в одиннадцать часов все еще размышлявшая, что бы ей надеть сегодня. – Буду знать, что ты ответил. Что еще?
Он обратил внимание на ее белоснежный халат с оборками – она всегда такие любила, поскольку это хорошо оттеняло ее рыжие волосы, которыми он так восхищался в свое время. Еще он обратил внимание на густой слой пудры на ее лице. Эта косметическая необходимость не давала ему покоя, как, вероятно, и ей. Время! Время! Время! Этот губительный процесс не прекращался ни на секунду! Она старела, старела, старела. И ничего с этим не могла поделать, разве что лить горькие слезы, потому что она прекрасно знала, как ему не нравятся признаки женской старости, хотя он никогда об этом не говорил и делал вид, что ничего такого не замечает.
Жалость к ней переполнила его, а потому он решил быть с ней подружелюбнее. Да что говорить, глядя на нее и вспоминая терпимость Бернис по отношению к ней, он вдруг подумал, что нет никаких оснований не продлить это кажущееся примирение между ними и не взять Эйлин с собой за границу. Нет, не обязательно в его обществе, а скорее приблизительно в то же время, чтобы создать впечатление о них как о хорошей семейной паре. Она могла бы даже плыть одним пароходом с ним, если удастся устроить дела с этим Толлифером или кем-то другим, чтобы снять с его, Каупервуда, плеч груз заботы о ней. Потому что было бы неплохо, если бы человек, который по его указке станет проявлять интерес к Эйлин, проявлял этот интерес и на пароходе, а не только здесь, потому что нельзя допустить, чтобы она каким-то образом пересеклась с ним и Бернис.
– У тебя есть какие-нибудь планы на сегодняшний вечер? – вкрадчиво спросил он.
– Нет, никаких особенных планов, – ответила она, поскольку, судя по его виду, каким бы дружелюбным он ни казался, Каупервуду, видимо, что-то требовалось от нее, хотя она и представить себе не могла, что у него на уме. – А ты что – собираешься здесь остаться на какое-то время?
– Да, на какое-то время. Ну, точнее сказать, буду появляться. У меня есть планы, которые не исключают мою поездку за границу, и я бы хотел обсудить это с тобой. – Тут он помолчал, не будучи уверен, как продолжать. Дело было очень нелегкое, очень сложное. – И я бы хотел, чтобы ты немного поразвлекала меня, пока я здесь. Ты не возражаешь?
– Нет, – коротко ответила она, чувствуя его уклончивость. Она понимала, что его мысли были не с ней, даже сейчас, после такого долгого разделения. Какая-то невыносимая усталость и обескураженность нахлынули на нее, она была даже не в силах возразить ему.
– Не хотела бы ты съездить в оперу сегодня вечером? – спросил он ее затем.
– Почему нет, если ты этого и в самом деле хочешь? – В конечном счете побыть рядом с ним, пусть даже и недолго, было для нее благом.
– Конечно, хочу, – ответил он. – И я хочу, чтобы ты поехала со мной. Ведь ты все же моя жена и хозяйка этого дома, и независимо от того, что ты обо мне думаешь, нам необходимо сохранять внешнюю благопристойность. Ни мне, ни тебе это не повредит, а напротив, может пойти на пользу. Суть дела, Эйлин, вот в чем, – продолжил он заговорщицки, – теперь, после всех моих неприятностей в Чикаго, я считаю необходимым выбрать один из двух путей: либо прекратить всякий бизнес в этой стране и отойти от дел – а я пока не в настроении уходить на покой, – либо найти что-то новенькое в других местах. Я не хочу умирать или гнить заживо, – завершил он.
– Что – ты? Гнить заживо?! – повторила за ним Эйлин, с любопытством глядя на него. – Да тебя никакая гниль не возьмет! Скорее уж ты возьмешь гниль и выставишь ее за дверь!
Эти слова вызвали улыбку на лице Каупервуда.
– Как бы то ни было, – продолжил он, – два единственных из известных мне вариантов, которые могут заинтересовать меня сегодня, это строительство подземной линии в Париже – что меня не очень привлекает – и… – здесь он сделал паузу, задумался, а Эйлин тем временем разглядывала его, спрашивая себя, правда ли это… – кое-что похожее в Лондоне. Я бы хотел изучить ситуацию с подземкой там.
Услышав эти слова и по какой-то причине, объяснить которую она не могла, – телепатия или какой-то психический осмос – Эйлин оживилась и, казалось, загорелась предчувствием чего-то интересного.
– И правда! – сказала она. – Это довольно многообещающе. Но если ты все же поедешь куда-нибудь, я надеюсь, ты все устроишь так, чтобы исключить всякую возможность скандала впоследствии. Тебе, кажется, всюду, где бы ты ни появился, сопутствуют скандалы. Или ты им сопутствуешь.
– Я вот о чем думал, – продолжил Каупервуд, игнорируя ее последнее замечание, – если не подвернется ничего другого, я, вероятно, могу попробовать что-нибудь в Лондоне, хотя, говорят, англичане очень плохо настроены по отношению к бизнесу в любой форме, затеваемому на их земле американцами. Если так и обстоят дела, то у меня не будет ни малейшей возможности пробиться туда, в особенности после моих неприятностей в Чикаго.
– Ох уж этот Чикаго, – воскликнула Эйлин с нотками осуждения и преданности одновременно. – Я бы не стала беспокоиться насчет Чикаго. Любой человек с мозгами знает, какая это завистливая шайка шакалов! Я думаю, Лондон был бы для тебя замечательным местом, чтобы начать по-новому. Ты наверняка знаешь, как делать дела и избежать проблем с концессиями, какие у тебя, кажется, возникли в Чикаго. Я всегда чувствовала, Фрэнк, – отважилась сказать она, имея опыт прожитых с ним лет и без особой надежды быть услышанной, – ты слишком безразличен к чужим мнениям. Другие люди – мне все равно, кто они, – для тебя, кажется, не существуют. Отсюда и возникают все эти баталии вокруг тебя и дальше будут непременно возникать, если ты не станешь хотя бы чуточку более внимательным к мнению других. Я, конечно, не знаю, что у тебя на уме, но я уверена, если сегодня ты хочешь начать заново и будешь проявлять хоть немного доброты к людям, то я тебе скажу, тебя с твоими идеями и умением убеждать людей, когда тебе это надо, ничто не сможет остановить. – Тут она замолчала в ожидании, что ее слова вызовут какие-нибудь комментарии с его стороны.
– Спасибо, – сказал он, – возможно, ты права. Я не знаю. Как бы там ни было, к лондонскому делу я отношусь серьезно.
Чувствуя, что он уже принял какое-то решение, она продолжила:
– Конечно, что касается нас, я знаю – я тебе теперь безразлична и такой и останусь для тебя до конца дней. Теперь я это понимаю. Но я в то же время чувствую, что сыграла какую-то роль в твоей жизни, и хотя бы за одно это – за все, что мы вместе пережили в Филадельфии и Чикаго – ты не должен выкидывать меня на помойку, как старую туфлю. Это несправедливо. И в дальней перспективе это не принесет тебе пользы. Я всегда чувствовала и теперь чувствую, что ты мог хотя бы для публики делать вид, будто мы все еще благопристойная семья; проявляй ко мне хотя бы капельку внимания и не оставляй сидеть здесь без дела неделя за неделей, месяц за месяцем без единого слова от тебя, без единого письма, без…
И в этот момент он снова, как и много раз в прошлом, стал свидетелем того, как у нее перехватило дыхание, а глаза затуманились слезами. Она отвернулась, словно не в силах говорить дальше. И одновременно он ясно увидел возможность того самого компромисса, о котором он думал со дня приезда Бернис в Чикаго. Эйлин явно была готова к такому компромиссу, хотя в какой мере, он пока не мог сказать.
– Вот что я должен сделать, – сказал он. – Я должен найти что-то еще и найти финансы для этого предприятия. И потому я должен сохранить эту резиденцию и делать вид, что все между нами остается по-прежнему. Это произведет хорошее впечатление. Ты знаешь, что было время, когда я хотел развода, но если ты не против забыть прошлое и внешне продолжать наши отношения без ссор, поводом для которых может стать моя личная жизнь, то, я думаю, мы можем прийти к какому-то решению. Да я даже не сомневаюсь: мы что-нибудь придумаем. Я уже не так молод, как был когда-то, и хотя я оставляю за собой право так регулировать мою частную жизнь, чтобы это отвечало моим личным нуждам, я не вижу причин, почему бы нам не жить дальше так, как мы жили прежде, и даже делать вид, что мы живем еще лучше. Ты с этим согласна или нет?
И поскольку у Эйлин не было других желаний, кроме как формально оставаться его женой, а еще, несмотря на его плохое к ней отношение, видеть его успехи, она ответила так:
– А что еще мне остается? В твоих руках все карты. А что есть у меня, скажи? Что конкретно?
И в этот момент Каупервуд предложил ей уже продуманный вариант: если он сочтет необходимым уехать, и Эйлин решит, что ей следует сопровождать его, он будет не против, он не будет возражать, даже если случится утечка в прессу – заметка о супружеской гармонии между ними, если она не станет настаивать на частых контактах с ним, что он будет рассматривать как вмешательство в его личную жизнь.
– Ну если ты настаиваешь, – сказала она на это. – Это явно не меньше того, что я имею теперь. – Однако, говоря это, она думала о том, что за всем этим стоит другая женщина, возможно, эта девчонка, Бернис Флеминг. Если дела обстоят так, то она не пойдет ни на какие компромиссы. Потому что если это Бернис, то она никогда, никогда не позволит ему унизить ее, его жену, своими публичными отношениями с этой тщеславной и эгоистичной выскочкой! Никогда, никогда, никогда!
И, таким образом, они оба считали, что вышли победителями, но, если Каупервуд считал, что довольно быстро добился существенного прогресса в воплощении в жизнь своих нынешних планов, то и Эйлин думала, что достигла своих, пусть и маленьких, целей, и чем больше знаков внимания будет Каупервуд оказывать ей публично, то, как бы ни оскорблялись при этом ее чувства, тем крепче будут свидетельства того, что он принадлежит ей, тем ярче будет ее публичное, хотя и не личное, торжество.
Глава 13
Всего несколько минут из долгого вечера чревоугодия и выпивки потребовалось Каупервуду чтобы заинтересовать Коула, получить его согласие передать Гривсу и Хеншоу пожелание снова обратиться к Каупервуду. По мнению Коула, Каупервуд в Лондоне может найти лучшее применение своим силам, чем в Чикаго, и в таком случае он будет рад выслушать подробности инвестиционного плана, который мог быть представлен потенциальным инвесторам.
Не менее удовлетворительным был и разговор с Эдвардом Бингемом, у которого Каупервуд выудил кое-какую полезную информацию о Брюсе Толлифере. Судя по словам Бингема, Толлифер в настоящее время пребывал в жалком состоянии. Хотя когда-то он был человеком с отличными связями в обществе и обладал кое-какими средствами, сегодня у него отсутствовало и то и другое. Еще не утративший мужскую красоту, он выглядел потасканным и потрепанным. До недавнего времени ходили слухи, что он связан с картежниками и другими лицами сомнительной репутации, большинство тех, кто знал его раньше и симпатизировал ему, фактически вычеркнули его из списка знакомых.
С другой стороны, Бингем должен был отдать Толлиферу должное – в последние месяцы тот вроде бы предпринимал попытки исправиться. Например, сейчас он жил скромно один в так называемом клубе холостяков «Альков» на Пятьдесят третьей улице, а время от времени его можно увидеть в лучших ресторанах. По мнению Бингема, Толлифер искал одно из двух: либо устроиться при богатой женщине, которая будет рада платить ему за те услуги, которые он сможет ей оказать, либо найти себе работу в маклерской фирме, где его прежние светские связи могут счесть достойными некоторого жалованья. Это критическое заключение со стороны Бингема вызвало у Каупервуда улыбку, потому что именно в таком состоянии он и рассчитывал найти Толлифера.
Он поблагодарил Бингема, а когда тот ушел, позвонил в «Альков» Толлиферу, который в этот момент лежал полуодетый и с мрачными предчувствиями ждал пяти часов, собираясь отправиться в один из своих круизов, как он сам это называл, – поисков в ресторанах, клубах, театрах, барах, где он может обменяться приветствиями со старыми приятелями и таким образом восстановить некоторые старые дружеские отношения или завязать новые. Часы показывали три, а за окном стоял ветреный февральский день, когда он с недокуренной сигаретой в руке вышел в коридор ответить на звонок Каупервуда. Волосы у него были растрепаны, а домашние туфли стоптаны до дыр.
– Говорит Фрэнк Каупервуд, – услышал в трубке Толлифер. Он весь напрягся, потому что это имя несколько месяцев не сходило с первых страниц газет, но взял себя в руки.
– Слушаю вас, мистер Каупервуд, чем могу служить?
Голос Толлифера представлял собой смесь чрезвычайной осведомленности, вежливости и готовности выполнить все, что у него попросят.
– У меня есть одно предложение, которое может вас заинтересовать, мистер Толлифер. Если вы сможете зайти в мой офис в «Нидерландах» завтра в половине одиннадцатого, я буду рад вас видеть. Так могу я вас ждать в это время?
Голос Каупервуда, как заметил Толлифер, нельзя сказать, чтобы звучал начальственно по отношению к подчиненному, но в то же время в нем слышалась командная, приказная нотка. Толлифер, невзирая на собственную высокую самооценку, почувствовал крайнее любопытство и немалое волнение.
– Конечно, мистер Каупервуд, я приду, – без промедлений ответил он.
Что это могло означать? Может быть, что-то связанное с продажей акций или облигаций. Если так, то он с радостью возьмется за подобную работу. Сидя в своей комнате и размышляя над этим неожиданным звонком, он начал вспоминать, что он читал и что знает про Каупервудов. Они пытались пробиться в нью-йоркское общество, но планы их расстроились, в связи с чем ходило немало слухов. Но потом мысли Толлифера вернулись к идее работы и к тому, что это может означать с точки зрения социальных связей; его вдруг охватила странная радость. Он принялся разглядывать свое лицо и фигуру, а также одежду в шкафу. Он должен побриться и помыть голову, вычистить и выгладить одежду. Он, пожалуй, никуда сегодня не пойдет, будет отдыхать, чтобы выглядеть свежим завтра утром.
На следующее утро он появился в офисе Каупервуда более смиренный и сговорчивый, чем когда-либо за долгие годы. Потому что ему казалось, что эта встреча каким-то образом предвещает новый поворот в его жизни. На это, по крайней мере, он надеялся, входя в кабинет, в центре которого за большим столом красного дерева и увидел этого знаменитого человека. Едва шагнув за порог, он сразу ощутил себя маленьким и ничтожным, потому что человек перед ним, хотя и не проявлял никакой невежливости, а напротив, пытался создать атмосферу непринужденности, был при этом холоден и погружен в себя. И Брюс, глядя на него, видел перед собой человека красивого, сильного и властного. Обо всем этом говорили большие магнетические и абсолютно непроницаемые голубые глаза, сильные изящные руки, так легко покоившиеся перед ним на столе, простое золотое кольцо на мизинце правой руки.
Это колечко много лет назад ему в камеру филадельфийской тюрьмы передала Эйлин – он тогда, перед началом своего беспрепятственного восхождения, упал на самое дно, и это кольцо, которое он не снимал с тех пор, было знаком ее неумирающей любви. И вот теперь он на пару с неким подонком, светским денди, собирался с помощью фальшивки отвлечь ее внимание, чтобы самому беспрепятственно и счастливо предаваться радостям любви с другой женщиной. Вот уж воистину одна из форм нравственного падения! Он полностью отдавал себе в этом отчет. Но что еще ему оставалось? То, что он собирался сделать, следовало воспринимать как должное, и причиной тому были условия, которые создала и сформировала сама жизнь посредством его поступков и поступков других людей. И теперь эти условия никоим образом нельзя было изменить. Для этого было слишком поздно. Он должен был действовать смело, вызывающе, жестоко, так, чтобы страхом вынудить людей принять его методы и потребности как неизбежность. И потому теперь, спокойно и довольно холодно посмотрев на Толлифера и указав ему на стул, он начал:
– Мистер Толлифер, прошу – садитесь. Я позвонил вам вчера, поскольку есть дело, которое требует человека, обладающего немалым тактом и социальным опытом. Полностью я разъясню вам его суть немного позднее. Могу сказать, что, прежде чем вам позвонить, я предпринял некоторые изыскания, касающиеся вашей персоны и вашей жизни, но могу вас заверить, не желая вам при этом никакого зла. Напротив. Я понял, что смогу быть вам полезным, если вы будете полезны мне.
В этот момент он улыбнулся яркой улыбкой, на которую Толлифер ответил хотя и не без сомнений, но искренне.
– Надеюсь, вы не узнали обо мне ничего такого, что сделало бы этот разговор бесполезным, – печально сказал он. – Я готов признать, что жил не самой безупречной жизнью. Боюсь, что это было предрешено уже одним моим появлением на свет.
– Вполне вероятно, что так оно и есть, – сказал Каупервуд весьма располагающим и утешительным голосом. – Но, прежде чем мы станем говорить об этом, я хочу, чтобы вы со всей откровенностью рассказали мне о себе. Дело, которое я собираюсь вам предложить, требует, чтобы я знал о вас все.
Он одобрительно посмотрел на Толлифера, а тот, отметив это, вкратце и в то же время вполне честно, рассказал всю историю своей жизни, начиная с юности. Выслушав его историю, Каупервуд, немало увлеченный рассказом, решил, что его собеседник принадлежит к несколько более порядочной и менее расчетливой категории людей, чем он надеялся, – Толлифер показался ему откровенным и непредсказуемым, искателем наслаждений, а не пронырливым и своекорыстным. И потому он решил, что может говорить с Толлифером более ясно и откровенно, чем он собирался поначалу.
– Таким образом, в финансовом плане вы на мели?
– В той или иной мере, – ответил Толлифер, криво улыбнувшись. – Думаю, что я всю жизнь в той или иной мере сидел на мели.
– Что ж, место это обычно многолюдное, как мне представляется. Но скажите мне, не пытаетесь ли вы сейчас, сегодня, собраться с силами и воссоединиться с той социальной группой, к которой когда-то принадлежали?
Он отметил безошибочно узнаваемую тень отвращения, мелькнувшую на лице Толлифера, когда тот ответил:
– Да, пытаюсь. – И опять эта ироническая, почти безнадежная и в то же время интригующая улыбка.
– И каковы ваши успехи на этом поприще?
– Судя по моему нынешнему положению, они невелики. Я жил в мире, существование в котором требует значительно бóльших денег, чем у меня есть. Я надеялся устроиться в какой-нибудь банк или маклерскую фирму, которая имеет влияние на тот круг нью-йоркского общества, с которым я знаком, потому что в таком случае я имел шанс заработать кое-какие деньги для себя и для банка, а также снова войти в круг людей, которые могут быть по-настоящему полезны мне…
– Понимаю, – сказал Каупервуд. – Но поскольку ваши социальные связи оказались разорваны, ваши усилия, как я понимаю, не дали никакого результата. Вы и в самом деле считаете, что, получив ту работу, о которой говорите, вы сможете вернуть себе то, что вам нужно?
– Не могу сказать, потому что не знаю, – ответил Толлифер. – Надеюсь.
Толлифер услышал несколько обескураживающую нотку неверия или по меньшей мере сомнения в голосе Каупервуда, и надежда, которую он испытывал еще мгновение назад, сразу потускнела. И тем не менее он отважно продолжил:
– Я еще не очень стар и определенно ничуть не более беспутен, чем многие из тех, кто был изгнан и сумел вернуться. Моя единственная беда в том, что мне не хватает денег. Будь у меня деньги, я бы никогда не сбился с пути. Все дело в отсутствии средств. Но я ни в коем случае не считаю себя безвозвратно потерянным. Даже сейчас. Я не оставил попыток, и после тьмы всегда приходит свет.
– Мне нравится ваше воодушевление, – сказал Каупервуд, – и я надеюсь, вы правы. Как бы там ни было, найти для вас место в какой-нибудь маклерской фирме не составит особых трудов.
Толлифер с волнением и надеждой воспрянул духом.
– Хотелось бы и мне так думать, – серьезно и почти печально сказал он. – Для меня это было бы прорывом к чему-то новому.
Каупервуд улыбнулся.
– Ну что ж, я думаю, это можно устроить для вас без особых трудов. Но при одном условии. Вы должны освободиться от всяких обязательств перед кем бы то ни было и не брать на себя новых. Я говорю это потому, что есть одно интересующее меня дело деликатного характера, в котором мне может потребоваться ваше участие. Оно никоим образом не покушается на вашу холостяцкую свободу, но может потребовать от вас по крайней мере временной демонстрации внимания к одной персоне и тех действий, о которых вы мне только что рассказывали: внимания к одной очаровательной женщине, которая немного старше вас.
Услышав это от Каупервуда, Толлифер подумал, что, вероятно, есть какая-то пожилая женщина, знакомая Каупервуда, на которую у того имеются финансовые планы, а ему, Толлиферу, отводится роль марионетки.
– Безусловно, – сказал он, – если я смогу быть вам полезен в этом деле, мистер Каупервуд.
В этот момент Каупервуд легко откинулся на спинку своего кресла и, сложив пальцы одной руки с пальцами другой, посмотрел на Толлифера холодным, расчетливым взглядом.
– Женщина, о которой я говорю, мистер Толлифер, моя жена, – резко и беззастенчиво объявил он. – Уже несколько лет, как я и миссис Каупервуд – нет, я не могу сказать, что мы с ней в плохих отношениях, потому что это не соответствует действительности, но мы с ней в большей или меньшей мере отдалились друг от друга.
В этот момент Толлифер кивнул, словно вполне поняв, что от него требуется, но Каупервуд поспешил продолжить:
– Я не хочу сказать, что это состояние перманентно. Или что я хочу получить доказательство ее супружеской неверности. Нет. Ее жизнь – ее личное дело, и она ведет такой образ жизни, какой считает нужным, не выходя за известные рамки, конечно. Я категорически возражаю против всякого рода публичных скандалов, и я не допущу, чтобы кто-нибудь интригами вовлек ее в какой-либо скандал.
– Я вас понимаю, – сказал Толлифер, к этому моменту уже начавший чувствовать черту, которую нужно будет четко прочертить и тщательно блюсти, если он хочет получить какие-то выгоды из этого предложения.
– Думаю, что пока еще не понимаете, – возразил Каупервуд с холодной ноткой в голосе, – но я буду выражаться как можно яснее, чтобы у вас не осталось ни малейших сомнений. Миссис Каупервуд была в юности красавицей, одной из самых красивых женщин, каких я видел. Она все еще очень привлекательна, хотя уже и не так юна. И она могла бы стать гораздо более привлекательной, если бы не ее подавленность и склонность к меланхолии. Причиной тому наш разрыв – и я признаю в этом мою ответственность и не предъявляю ей никаких обвинений. Я надеюсь, вы в полной мере осознаете это…
– Да, – заинтересованно и уважительно сказал Толлифер.
– Миссис Каупервуд позволяла себе вести образ жизни – физически и социально, – который, возможно, и имел оправдание у нее в голове, но ни малейшего в реальности. Иными словами, она еще весьма молода и имеет достаточно оснований для того, чтобы жить дальше, что бы она про себя ни думала.
– Я вполне могу понять ее чувства, – еще раз вставил Толлифер с неким философическим вызовом, который понравился Каупервуду. В нем слышалось сочувствие и понимание.
– Вполне возможно, – сухо и довольно нарочито сказал Каупервуд. – Задача, которую я вам предлагаю и для реализации которой вам будут предоставлены адекватные средства, состоит в том, чтобы каким-то образом – предположительно без моего ведома и категорически без ее ведома об этом нашем разговоре – сделать ее жизнь более интересной и красочной, чем сейчас. Она слишком много времени проводит наедине с самой собой. Мало видит людей, а если и видит, то не тех, кого следовало бы. Я пригласил вас сюда, чтобы узнать, сможете ли вы – при условии, конечно, что у вас будут для этого необходимые средства и никаких ограничений не будет наложено на способ реализации ваших задумок – найти возможность расширить ее интересы, окружить ее людьми, более соответствующими ее кругу и менталитету. Я могу сказать, что лично я не ищу никаких контактов с обществом ни для нее, ни для себя. Но существуют промежуточные круги, контакты с которыми, как я думаю, пойдут ей на пользу, а также в некотором роде и мне. Если вы понимаете, что я имею в виду, может быть, выскажете какие-нибудь предложения?
Выслушав это, Толлифер принялся рассказывать с максимальными подробностями о возможностях жизни для Эйлин в рамках, предложенных Каупервудом. Каупервуд слушал и, казалось, оставался доволен тем, как Толлифер понял ситуацию.
– Это еще не все, мистер Толлифер, – продолжил он. – Я хочу, чтобы вы понимали, что ваша деятельность в маклерской фирме, которую я выберу для вас, будет направляться лично мной. Надеюсь, мы поняли друг друга.
С этими словами он поднялся, давая понять, что разговор закончился.
– Да, мистер Каупервуд, – сказал Толлифер, поднявшись с улыбкой.
– Прекрасно. Теперь я, вероятно, не смогу увидеть вас в ближайшее время, но вы не останетесь без инструкций. Я распоряжусь, чтобы на ваше имя был открыт банковский счет. Кажется, это все. Всего доброго.
И это прощание, подкрепленное возвращением холодного достоинства, снова поразило Толлифера острым ощущением огромной пропасти, лежащей между ним и этим человеком.
Глава 14
Этот удивительный разговор произвел на Толлифера весьма благоприятное воздействие. Выйдя из офиса, он направился на север по Пятой авеню, чтобы поглазеть на прекрасный особняк Каупервуда. Осмотрев впечатляющие очертания и украшения дворца в итальянском стиле, он развернулся и, одержимый авантюрным духом, остановил двухколесный экипаж и отправился в ресторан «Делмонико» на углу Пятой авеню и Двадцать седьмой улицы. В этом районе в час ланча царило оживление, сюда съезжалась самая изысканная и амбициозная часть нью-йоркского общества – актеры, художники, адвокаты, которые приезжали на других посмотреть и себя показать. Он провел в ресторане некоторое время, успел поговорить не менее чем с шестью из наиболее известных клиентов, а поскольку вел он себя при этом как человек энергичный и влиятельный, то запомнился и многим другим.
Каупервуд тем временем дал поручение Центральной трастовой компании, в которой был директором и держателем акций, известить некоего Брюса Толлифера, в настоящее время проживающего в клубе «Альков» на Пятьдесят третьей улице около Парк-авеню, что отделу особых расчетов требуются его услуги, и если он немедленно явится, то получит инструкции. Исполнение этого поручения, которое произошло в тот же день и заключалось в выплате аванса за месяц в размере по двести долларов в неделю, привело Толлифера в такой восторг, что ему показалось, будто он обрел способность летать. И он тут же вменил себе в обязанность наводить повсюду и как бы совершенно невзначай справки о Каупервудах, он опрашивал не только газетчиков, но и всевозможных всезнаек в городских барах и ресторанах, посещаемых богемой: в «Джилси Хаусе», в «Мартинике», в «Мальборо» и «Метрополитене» на Бродвее и Сорок второй улице, мекке щеголей и бездельников.
И обнаружив, что Эйлин видели с тем или иным актером в определенных ресторанах, или на скачках, или еще где-то в обществе с разными персонами, он решил каким-то образом стать завсегдатаем тех собраний, где она явно должна была появляться. Если бы кто-то представил его надлежащим образом, это было бы для него наилучшим началом.
И теперь Каупервуд, продвинувшись в деле социализации Эйлин, мог заняться продажей хотя бы части своих чикагских активов. В то же время он ждал результатов переговоров Коула с представителями линии «Чаринг-Кросс». Главная его задача на сегодня состояла в доведении переговорщиков с той стороны до такого состояния, в котором они, встретившись с ним, будут готовы сделать ему разумное предложение.
И потому по прибытии Джаркинса с новостями о том, что Гривс и Хеншоу готовы к новому разговору с ним, он не продемонстрировал особого интереса. Если они и в самом деле готовы к выгодному предложению, а не просто прощупывают почву, как раньше, и если они появятся не позднее десяти дней…
После чего Джаркинс сразу же отправил телеграмму своему лондонскому партнеру Клурфейну, подчеркивая необходимость быстрых действий. Не прошло и двадцати четырех часов, как мистер Гривс и мистер Хеншоу на борту парохода отбыли в Нью-Йорк. Потом они несколько дней сидели взаперти с Джаркинсом и Рэндольфом, просматривали документы, которые собирались предъявить Каупервуду. А потом, условившись о переговорах с Каупервудом и не подозревая, что он-то и является инициатором этой встречи, они в сопровождении Джаркинса и Рэндольфа, тоже не подозревавших о том, какую роль они сыграли в происходящем, явились к финансисту.
Каупервуд знал, что Гривс и Хеншоу широко известны в Англии как специалисты по техническим и правовым вопросам в области бизнеса. Они, как сообщил ему Сиппенс, были к тому же людьми довольно богатыми. Кроме того, они не только заключили контракт с Транспортной электрической компанией на строительство туннелей и станций новой подземки, но еще и заплатили тридцать тысяч фунтов за дополнительную возможность принять на себя выполнение всех работ по принятому акту.
Но Транспортная электрическая компания явно была на мели. Компания, в которую входили Райдер, лорд Стейн, Джонсон и некоторое количество их друзей, имела преимущество в виде значительных юридических и финансовых знаний, но ни у кого из них не имелось хоть сколь-нибудь ясного представления о том, как финансировать такие пути сообщения и как успешно управлять ими, а кроме того, сами они не имели ресурсов для финансирования этого предприятия. Стейн уже изрядно вложился в две центральных петли – «Дистрикт» и «Метрополитен», но ничего на этом не заработал. Этим и объяснялось его желание избавиться от линии «Чаринг-Кросс» и передать ее Гривсу и Хеншоу после компенсации тридцати тысяч в дополнение к тем десяти тысячам, что они заплатили за право строительства этой линии. Каупервуд, ориентировавшийся теперь на план с более крупной петлей, был заинтересован в сделке, потому что линия могла либо функционировать сама по себе, либо, что было еще лучше, в случае получения им контроля над линиями «Дистрикт» и «Метрополитен», могла быть соединена с этими линиями, стать их продолжением, что позволило бы ему занять отличную начальную позицию, обеспечивавшую хорошие перспективы в будущем.
Тем не менее, когда Гривс и Хеншоу при поддержке и помощи со стороны Джаркинса и Рэндольфа вошли в его кабинет, он встретил их нельзя сказать чтобы сердечно. Гривс был человеком высокого роста и корпулентного сложения с лицом, покрытым сеточкой красных прожилок, и неколебимой уверенностью в собственной значимости, свойственной представителям среднего класса. Хеншоу, был так же высок, как Гривс, но был худ, бледен и имел наружность настоящего джентльмена. Каупервуд позволил им разложить их карты и бумаги и еще раз выслушал всю историю с самого начала, будто и без того не знал ее. Задал он им всего несколько вопросов.
– Есть кое-что, джентльмены, – сказал он, – предположим, меня эта идея заинтересует настолько, что я решу копнуть поглубже, узнать побольше. Сколько времени у меня будет на такое исследование? Я, конечно, предполагаю, что вы исходите из вашего желания целиком и полностью продать ваш контроль над этим проектом вместе с вашим контрактом на строительство этой линии. Прав ли я?
Услышав эту тираду, Гривс и Хеншоу заметно насторожились, потому что такое развитие событий вовсе не входило в их планы. На самом деле они хотели, как и объяснили сейчас, за тридцать тысяч уступить половину акций. Другую половину вместе с контрактом на строительство они собирались оставить за собой. Но за эту долю, как они наивно сообщили, они были готовы использовать свое влияние в продаже акций стоимостью по сто долларов каждая на общую сумму восемь миллионов. Транспортная электрическая компания уже напечатала эти акции, но продать их так и не смогла, даже уступив свою половину. Но, как добавили они, человек вроде Каупервуда смог бы оказать помощь в финансировании дороги и ее эксплуатации таким образом, чтобы она приносила верный доход – это предложение вызвало улыбку на лице Каупервуда, потому что строительство и эксплуатация этой линии были не столь важны для него, и его мечта сводилась к полному контролю над подземной транспортной системой.
– Но насколько я могу судить на данный момент, вы намерены получить разумную прибыль от строительства дороги для родительской компании, прибыль в размере не менее десяти процентов, как я понимаю, – сказал Каупервуд.
– Да, мы рассчитываем получить обычную подрядческую прибыль – не больше, – ответил Гривс.
– Возможно, так оно и есть, – вкрадчиво сказал Каупервуд, – но, если я правильно вас понял, джентльмены, вы на пару предполагаете на строительстве этой дороги получить для себя не менее пятисот тысяч долларов, и это помимо того вознаграждения, что вы получите как партнеры компании, для которой вы делаете эту работу.
– Но за нашу половину мы собираемся привлечь некоторый объем английского капитала, – пояснил Хеншоу.
– И что это за объем? – настороженно спросил Каупервуд, потому что по его расчетам, если ему будет принадлежать пятьдесят один процент акций дороги, то игра для него будет стоить свеч.
И он тут же обнаружил, что они здесь напускают немного тумана. Если он ввяжется в это дело, приобретет выпущенные консоли и запустит строительство таким образом, чтобы в него поверили, то на рынок можно будет выпустить акции на приблизительно двадцать процентов общей стоимости.
– Но гарантируете ли вы это? – спросил Каупервуд, которого заинтересовала эта идея. – Иными словами, вы собираетесь окончательно определить свою долю в компании пропорционально привлеченным вами средствам?
Нет, именно в таком виде это невозможно, но если им не удастся привлечь достаточно средств, то они готовы согласиться и на долю менее пятидесяти процентов, скажем, тридцать – тридцать пять, при условии сохранения за ними подряда на строительство.
Услышав это, Каупервуд снова улыбнулся.
– Меня вот что удивляет, господа, – продолжил он, – вы, видимо, досконально разбираясь в технических вопросах, считаете, что финансовые вопросы менее сложны. На самом же деле это не так. Точно так же, как вы потратили долгие годы на учебу, а потом практической работой поднялись до таких высот вашей нынешней репутации, что легко получаете подобные контракты, которые, как мне известно, для вас не в новинку, так и мне, финансисту, пришлось проделать точно такой же путь. И, конечно же, вы не можете предполагать, что кто-либо, даже обладая огромным состоянием, возьмется строить такую крупную дорогу, как эта, и управлять ею на свои личные средства. Он просто не может пойти на это. Риск был бы слишком велик. Ему бы пришлось делать то, что планируете сделать вы: привлекать инвестиции. И он не стал бы собирать деньги на то или иное предприятие, не имея в виду, во-первых, прибыли для себя и, во-вторых, прибыли для тех, чьими деньгами он пользуется. А для этого он должен владеть более чем пятьюдесятью процентами акций во всем, что он затевает.
Гривс и Хеншоу молчали, а он продолжал:
– Таким образом, вы просите меня не только собрать нужные деньги или бóльшую их часть, оставляя за вами право собрать остальное, но еще и оплатить строительство линии, а потом и управлять ею совместно с вами. Если вы хотите именно этого, то дальнейшее продолжение нашего разговора просто лишено всякого смысла, потому что меня это не интересует. На что я был бы готов пойти: выкупить ваш опцион, за который вы заплатили тридцать тысяч, при условии, что я получаю полный контроль над дорогой, и, вероятно, оставить вам ваш десятитысячный опцион по вашему подряду на строительство, но не более. Потому что в дополнение ко всему этому, насколько мне известно, есть еще и консоли на шестьдесят тысяч, что составляет четыре процента от общей стоимости акций, которыми тоже нужно распорядиться.
К этому моменту Джаркинс и Рэндольф начали чувствовать, что они допустили какую-то ошибку. В то же время Гривс и Хеншоу, понимая, что перехитрили сами себя в ситуации, в которой могли бы получить выгоду, неуверенно поглядывали друг на друга.
– Ну что ж, – сказал наконец Гривс, – вы, конечно, сами решаете, что вам выгодно, а что нет, мистер Каупервуд. Но мы хотим, чтобы вы ясно поняли, что сейчас в мире нет более выгодного во всех смыслах предложения. Лондон – идеальная площадка для подземных путей. Там нет единой системы, и такие линии – абсолютная необходимость, и они так или иначе появятся. И деньги на них будут найдены.
– Вполне вероятно, – сказал Каупервуд, – но, что касается меня, то, если вы еще раз приглядитесь к ситуации и поймете, что сами вы не в состоянии выработать план и готовы принять мой, то вы можете известить меня об этом в письменном виде, и тогда я подумаю. Однако если я решу принять участие, то только приблизительно на тех условиях, которые сейчас обозначил. Это, конечно, не будет означать, что я буду вмешиваться в ваш строительный контракт. Он мог бы сохраниться и в таком виде, при условии, что ваши расчеты верны.
Он принялся барабанить пальцами по столешнице, словно давая понять, что переговоры закончились, а потом, прекратив на минуту, добавил, что, поскольку в настоящий момент к нему не поступало предложений, которые заинтересовали бы его, он будет благодарен, если ничто из им сказанного здесь не будет предано огласке. Потом он знаком попросил Джаркинса остаться, и как только все остальные вышли, сказал ему:
– Ваша беда, Джаркинс, в том, что вы никогда в полной мере не используете возможность, даже если все карты у вас на руках. Вы посмотрите, что произошло здесь сегодня! Вы приводите ко мне двух человек, контролирующих, по вашим и их словам, важное предложение по транспортной системе Лондона, которое, если им правильно распорядиться, может легко принести хорошие прибыли всем заинтересованным сторонам. Но они приходят ко мне, не имея ни малейшего представления о моих способах ведения бизнеса. А вы знаете мой главный принцип: полный контроль над всем. Я не сомневаюсь, что даже сейчас они не имеют ясного понимания моего опыта в таких делах и не имеют представления о том, что бы я сделал с этим проектом. Они предполагали, что могут продать мне половинную долю в чем-то, что будут контролировать сами вместе со своими друзьями. Я говорю вам, Джаркинс, – и в этот момент он уставился на него с такой категоричностью, что у мистера Джаркинса мурашки побежали по коже, – если вы хотите быть полезным мне в этом деле, то я бы посоветовал вам не озабочиваться этим конкретным предложением, но разобраться получше во всей подземной транспортной системе Лондона и прикинуть, что с ней можно сделать. Более того, я хочу, чтобы вы оставили при себе все ваши частные спекуляции относительно меня и моих дел. Если бы вы побывали в Лондоне, прежде чем приводить ко мне этих людей, и узнали бы о них все, что о них можно узнать, то вы бы не стали транжирить мое и их время.
– Да, сэр, – сказал Джаркинс, который к сорока годам располнел и являл собой достойный образец для демонстрации мастерства портновского искусства, а в данный момент так разнервничался, что его прошиб пот. Он был дряблый, податливый человек с черными внимательными глазами, под которыми торчал небольшой заостренный нос, нависающий над мягкими, пухлыми губами. Он постоянно предавался мечтам о каком-нибудь спекулятивном успехе, который сделает его мультимиллионером, и был широко известной фигурой на театральных премьерах, играх в поло, собачьих выставках и других светских событиях. Друзей в Лондоне у него было не меньше, чем в Нью-Йорке.
По этим причинам Каупервуд предполагал, что Джаркинс может быть полезен ему, но все же в данный момент он не был готов на большее чем туманные намеки, понимая, что намеки эти, скорее всего, заставят Джаркинса броситься вдогонку за Гривсом и Хеншоу, чтобы помириться с ними, и, кто знает, может быть, отправиться в Лондон, где… что ж, Каупервуд вряд ли мог найти рекламного агента лучше мистера Джаркинса.
Глава 15
И в самом деле, после отплытия Гривса и Хеншоу в Лондон и нескольких дней не прошло, как туда же отправился и Джаркинс, сгоравший от нетерпения стать частью громадного предприятия, которое может сделать явью его мечту о мультимиллионерстве.
Пусть этот предварительный ход в связи с Гривсом и Хеншоу и их линией «Чаринг-Кросс», казалось, и закончился с меньшей определенностью, чем рассчитывал Каупервуд, это никак не повлияло на его решимость продолжать начатое. Он имел информацию, полученную от Сиппенса, а потому был исполнен решимости заполучить контроль над какой-либо подземной линией, «Чаринг-Кросс» или другой. А потому шли не только консультации, но и было дано несколько обедов дома, и это создало у Эйлин впечатление, что ее муж по меньшей мере испытывает небольшой интерес к прежней жизни, которая сделала ее первые дни с ним в Чикаго самыми красочными и счастливыми воспоминаниями. Она даже стала задумываться: а может быть, по какому-то странному повороту судьбы чикагское поражение протрезвило его, а потому он решил возобновить, хотя и не обязательно с радостью, прежнюю видимость отношений, что ничего не значило для него, но могло стать такой отрадой для нее.
На самом же деле Каупервуда все больше и больше увлекал характер Бернис. В ней была какая-то радовавшая его игривая и изобретательная капризность, сочетавшаяся с ее практичными, а также поэтическими и экстатическими настроениями. Он никогда не уставал наблюдать за ней, и за сравнительно короткий период со времени ее приезда в Чикаго привык наслаждаться тем душевным жаром, причиной которого служила Бернис.
Одна из фантазий Бернис, произведшая на него сильнейшее впечатление, посетила ее недавно в Чикаго. Как-то во второй половине дня они отправились пообедать в гостинице, где до этого уже успели побывать несколько раз. Но, прежде чем войти внутрь, она повела его в рощицу неподалеку, где среди дубов и сосен на запорошенном снегом клочке земли стояла его вылепленная из снега копия, отчасти карикатурная, а отчасти поразительно близкая к оригиналу. Она этим утром рано уехала домой и сама слепила этого снеговика. Глаза у него были из двух ярких серо-голубых камней, а на рот и нос пошли маленькие сосновые шишки разных размеров. Она даже привезла одну из его шляп и щегольски надела ее на голову снеговика, что еще сильнее подчеркивало сходство. Каупервуд застыл в изумлении, увидев внезапно перед собой в наступающих сумерках эту фигуру, обдуваемую холодным ветерком, нашептывающим что-то веткам деревьев в последних проникающих сюда лучах кроваво-красного солнца.
– Зачем, Беви?! Какие странности! Когда ты сделала это, фея моя?
И он рассмеялся комическому штриху – одним глазом снеговик косил, и нос у него был слегка преувеличенный в сравнении с оригиналом.
– Я слепила его сегодня утром. Приехала сюда одна и слепила моего хорошенького снеговичка.
– Богом клянусь, он похож на меня! – удивленно сказал он. – Но, Беви, сколько же у тебя ушло на это времени?
– Ну, может быть, около часа. – Она отступила на шаг и посмотрела на снеговика оценивающим взглядом. Потом она взяла у Каупервуда трость, прижала ее к одному из выложенных маленькими камушками карманов снеговика. – Ты посмотри, какой ты идеальный! Весь этот снег, шишечки и каменные пуговицы! – Она поднялась на цыпочки и поцеловала снеговика в губы.
– Беви, если ты собираешься заниматься этим, то иди ко мне! – Он обхватил ее руками, ощущая своим телом, что обнимает что-то призрачное, фееподобное. – Бернис, дорогая, клянусь, ты меня озадачиваешь. Скажи мне, что у меня – реальная девушка из плоти и крови, или ты призрак, ведьма?
– А ты разве не знал? – Она развернулась и, раздвинув пальцы, выставила перед собой руки. – Я – ведьма, я могу превратить тебя в снег и лед. – И она стала устрашающе наступать на него.
– Бернис, бога ради! Что за глупости! Иногда мне кажется, что это ты заколдована. Но если хочешь, заколдуй и всего меня, только оставайся всегда со мной.
И он поцеловал ее, крепко прижал к себе.
Но она отстранилась и снова повернулась к снеговику.
– Ну, вот, – воскликнула она, – ты пришел и все испортил. В конечном счете, дорогой, он оказался ненастоящим. А я сделала его настоящим. Он был такой большой и холодный, и ему так хотелось, чтобы я была здесь рядом с ним. А теперь мне придется его уничтожить, моего бедного снеговика, чтобы никто больше, кроме меня, не знал его по-настоящему. – И она вдруг разрубила снеговика пополам тростью Каупервуда. – Видишь, я тебя сотворила, теперь я тебя растворяю! – Она говорила, растирая пальцами комки снега в порошок, а Каупервуд недоумевающе смотрел на нее.
– Ну-ну, Беви, детка. Что ты такое говоришь? А что касается сотворения и растворения, делай что тебе нравится, только не оставляй меня. Ты водишь меня по незнакомым местам, где царят новые, странные для меня настроения, это твой собственный мир чудес, и я счастлив в нем побывать. Ты мне веришь?
– Конечно, дорогой, конечно, – ответила она ему весело, совсем другим тоном, будто только что и не было этой сцены. – Такова судьба. Так оно и должно быть. – Бернис взяла его под руку. Она словно вышла из какого-то транса или миража, о чем ему хотелось бы расспросить ее, но он чувствовал, что не стоит это делать. И все же, более чем когда-либо прежде, созерцал он в ней то, что приводило его в восторг, когда он осознавал, что может прийти и увидеть ее, потрогать, не спрашивая разрешений или без помех, что теперь, как никогда прежде, ему позволено идти, и говорить, и быть с ней, с существом, которое состоит из всего земного добра и радости. Он никогда не захочет расстаться с ней, он знал это, потому что никогда прежде не встречал он никого столь разнообразного, столь не похожего ни на кого, такого разумного и практичного и в то же время такого нереального и капризного, как она. Да, склонная к театральности, и в то же время самая предприимчивая и яркая из всех женщин, которых он знал.
Что касается чисто чувственной стороны, то в ней было что-то, не только удивлявшее его с самого начала, но еще и прельщавшее. Она не позволяла себе ни полностью отдаться мужчине, ни целиком очароваться им. Не была она и обыденным плотским инструментом для удовлетворения его или чьей-либо похоти. Напротив и всегда, в каком бы амурном или возбужденном состоянии она ни пребывала, она безусловно в любой момент отдавала себе отчет в своем обаянии: вихрь рыжеватого золота вокруг ее головы, магнетизм и обещание ее соблазнительных и неотразимых голубых глаз, сладость ее рта с его чарующей и загадочной улыбкой.
И в самом деле, вспоминая о самых потрясающих и пронзительных восторгах с ней, он понимал, что восторги эти никогда не сводились к грубой чувственности или дикарской похоти, а представляли собой возвышенное и интенсивное осознание ею собственной красоты, усиливая ее, красоты, претензии искусством внушения, что давало результат, не похожий ни на что из его прежних ощущений. Потому что дело было не в Бернис, а в нем самом, потому что это не она, а он впадал в умственный и чувственный экстаз, чуть ли не погружался в ее собственное экзотическое понимание того, что подразумевают эти отношения.
Глава 16
Понимая, что для получения реальных результатов в отношении Эйлин ему придется хоть изредка, но все же встречаться с Толлифером, Каупервуд решил сообщить ей о его предполагаемой поездке в Лондон через несколько недель, намекнув, что если она захочет, то может сопровождать его. А еще он собирался поставить в известность об этом Толлифера, сказать ему без всяких экивоков, что он должен сделать так, чтобы она не мучилась из-за небрежения мужа, как мучилась в недавнем прошлом. В это время он пребывал в лучшем настроении, чем когда-либо прежде. После долгого периода трагического эмоционального разрыва между ними он чувствовал, что наконец в состоянии так уладить дела, чтобы облегчить ее страдания и вызвать к жизни хотя бы подобие мира.
При виде Каупервуда – краснощекого, уверенного, веселого, с гарденией в петлице, в серой шляпе, серых перчатках, с раскачивающейся тростью в руке – Эйлин пришлось сдерживаться, чтобы не улыбнуться любезнее, чем он, по ее мнению, заслуживал. Он тут же принялся говорить о своих делах. Обратила ли она внимание на сообщение в газетах, что недавно умер один из его самых заклятых врагов в Чикаго? Что ж, одной заботой меньше! Что у них будет на обед? Он бы хотел, чтобы Адриан приготовил блюдо из морского языка по рецепту Маргери[7]. Кстати, он был очень занят – мотался между Бостоном и Балтимором, а вскоре ему придется ехать в Чикаго. Но это лондонское дело… он с ним разбирался и, вероятно, в ближайшем будущем отправится туда. Как она – хотела бы поехать? Он, конечно, будет очень занят, но она могла бы съездить в Париж, в Биарриц, а он мог бы как-нибудь заглянуть к ней на уик-энд.
Эйлин, пораженная этим новым развитием событий, подалась вперед на своем стуле, в ее глазах засветилось удовольствие. Но она тут же одернула себя, вспомнив о своем истинном отношении к ее мужу, и откинулась назад на спинку кресла. В прошлом он так часто ее обманывал, что она ни в чем не могла быть уверена. И тем не менее она решила, что для нее лучше всего будет допустить, что его приглашение основано на искреннем желании быть рядом с ней.
– Прекрасно! Ты и в самом деле хочешь, чтобы я поехала? – спросила она.
– Разве стал бы я тебя просить в противном случае, моя дорогая? Конечно, хочу. Я делаю серьезный ход. Он может обернуться успехом, а может и нет. Как бы то ни было, – и тут он солгал со своим обычным мягким прагматизмом; кинжальный удар в самое сердце любви, – но ты присутствовала при начале двух других моих предприятий, и я думаю, что твое присутствие не помешает и в этом случае. Ты так не считаешь?
– Да, Фрэнк, я хочу быть с тобой вместе, если тебе это надо. Это будет замечательно. Я буду готова в любой момент, когда ты решишь ехать. Когда мы отплываем? Каким пароходом?
– Я поручу Джеймисону разузнать и сообщу тебе, – сказал он, упомянув своего личного секретаря.
Она подошла к двери и звонком вызвала Карра, чтобы заказать ужин, все ее существо внезапно ожило. Она почувствовала отзвук прежней жизни, в которой была и частью силы, и частью эффективности. Еще она приказала Карру достать ее чемоданы и доложить об их состоянии.
А потом Каупервуд, выразив озабоченность здоровьем тропических птиц, которых он привез для своего зимнего сада, предложил ей пройти прогуляться и посмотреть, как они там поживают. Эйлин, пребывавшая в самом радостном из своих настроений, резво шла рядом с ним, смотрела, как он разглядывает двух насторожившихся трупиалов с Ориноко, как пытается свистом вынудить самца издать свой чистый крик. В какой-то момент он посмотрел на Эйлин и сказал:
– Ты ведь знаешь, Эйлин, я всегда хотел превратить этот дом в по-настоящему прекрасный музей. Я продолжаю делать покупки для него, и в конечном счете он станет одной из лучших частных коллекций. Я много думал в последнее время, как нам с тобой устроить это таким образом, чтобы после моего ухода – а это рано или поздно случится – он сохранился не столько как памятник мне, а как удовольствие для людей, которым небезразличны такие вещи. Я собираюсь составить новое завещание, в котором хочу распорядиться и этим.
Эйлин была немного озадачена его словами. Что они означали?
– Мне скоро стукнет шестьдесят, – тихим голосом продолжил он, – и хотя я пока не собираюсь умирать, я не сомневаюсь, что не должен оставить после себя никаких неясностей. Тремя моими душеприказчиками из пяти будут мистер Долан из Филадельфии, мистер Коул, а также здешняя Центральная трастовая компания. Долан и Коул разбираются в финансовой и исполнительной сторонах дела, и я уверен, они проведут мои желания в жизнь. Но поскольку я намерен сохранить этот дом за тобой на срок твоей жизни, я подумывал о том, чтобы ты объединилась с Доланом и Коулом и либо сама открыла дом для публики, либо поручила кому-нибудь сделать это. Я хочу, чтобы этот дом был прекрасен и оставался прекрасным после моей смерти.
Эйлин пришла в еще больший восторг. Она и представить себе не могла, что заставило ее мужа всерьез задуматься о ней, когда речь зашла об улаживании его дел, но она была польщена и благодарна. Может быть, он начинает смотреть на жизнь более трезвым взглядом.
– Ты ведь знаешь, Фрэнк, – сказала она, стараясь прогнать эмоции из голоса, – как я всегда относилась ко всему, что имеет отношение к тебе. У меня практически никакой другой жизни и не было, да я и не хочу другую, без тебя, хотя у тебя к этому теперь другое отношение. Но уж коли речь зашла об этом доме, то если ты оставишь его мне или сделаешь меня одним из твоих душеприказчиков, то можешь не сомневаться, я тут ничего не изменю. Я никогда не претендовала на какой-то особый вкус или знания, какие есть у тебя, но ты знаешь, что твои пожелания всегда будут для меня священны.
Она говорила, а Каупервуд тыкал пальцем в сторону зеленого с оранжевым попугая ара, чей резкий голос, отвечавший его кричащей расцветке, казалось, насмехался над торжественностью настроения Каупервуда. И все же слова Эйлин тронули его, и он протянул руку и похлопал ее по плечу.
– Я это знаю, Эйлин. Я только хочу, чтобы мы с тобой могли смотреть на жизнь под одним углом. Но поскольку это не получается, то я хочу извлечь максимум пользы из всех возможных компромиссов, потому что я знаю: несмотря ни на что, я тебе не безразличен, и буду небезразличен. Веришь ты этому или нет, но если я могу как-то отплатить тебе за это неравнодушие, то я горю желанием сделать это. Вопросы, связанные с домом, и некоторые другие, о которых я хочу с тобой сейчас поговорить, являются частью этого желания.
За обеденным столом он рассказал ей о своей идее пожертвовать средства на постройку больницы с обширным исследовательским комплексом, а также о других посмертных дарах. И еще он заметил, что ему потребуется часто приезжать в Нью-Йорк и в этот дом. И он бы хотел, чтобы она в таких случаях была здесь. Конечно, ее тоже время от времени будут ждать заграничные поездки.
Видя ее, теперь такой счастливой и довольной, он поздравил себя с тем, как ловко уговорил ее принять его условия. Если дела и дальше так пойдут, то все будет хорошо.
Глава 17
А в это время Джаркинс в Лондоне вовсю старался произвести впечатление на своего партнера Клурфейна новостью о том, что великий Каупервуд по-настоящему заинтересован ситуацией с лондонской подземкой в целом! И он, Джаркинс, в этом не сомневается. Он рассказал о позиции Каупервуда, о его рассуждениях и в то же время отметил, что они совершили ошибку, когда не почувствовали, что человек, обладающий такими громадными активами, определенно не будет браться за всякую мелочь. Глупо было со стороны Гривса и Хеншоу предполагать, что он заинтересуется пятьюдесятью процентами их линии. Да не было ни малейшего шанса, что он согласится на такие условия. Ничего меньше пятидесяти одного процента его не устроит! Неужели Клурфейн думал, что Гривсу и Хеншоу удастся найти деньги на их проект в Англии?
На что Клурфейн, тучный голландец себе на уме, проницательный в мелочах и в то же время несостоятельный в финансовых вопросах или в делах, требующих мужества, ответил:
– Да ничего им не удастся. «Постановлений» на сей счет уже выпущено немало. Слишком много компаний сражаются за прокладку отдельных, независимых линий. Никто ни в одной из компаний не желает соединения с какой-либо другой, чтобы построить для общества взаимосвязанные ветки за разумную цену. Я лично сталкивался с этим, потому что не первый год езжу по Лондону. Да нет, вы только представьте себе: вот есть две центральные линии – «Метрополитен» и «Дистрикт», они обе контролируют кольцо вокруг делового центра Лондона… – Он продолжал, называя некоторые практические, а также финансовые ошибки, совершенные двумя этими линиями и связанные с этими ошибками их нынешние финансовые трудности. У них никогда не возникало желания объединиться и построить вспомогательные линии или хотя бы электрифицировать и модернизировать те линии, что у них уже есть. Они все еще работают на паровой тяге в туннелях и небольшой глубине. Единственной компанией, которая продемонстрировала хоть какой-то здравый смысл, была «Сити – Южный Лондон», ей принадлежала линия, идущая от станции «Моньюмент» до «Клэпхем-Коммон». У них поезда ходили на электрической тяге, для чего был проложен третий рельс, все работало четко, станции имели хорошее освещение, это была единственная хорошо оснащенная линия в городе. Но и она была не без недостатков: слишком коротка, ее пассажирам приходилось пересаживаться и платить еще раз за билет на лондонской петле. Лондону определенно требовался человек масштаба Каупервуда или группа английских финансистов, способных общими усилиями профинансировать и расширить систему.
Что же касается предполагаемых линий, которые Каупервуд мог бы заполучить, то есть такая линия, как «Бейкер-стрит – Ватерлоо», ее продвигает один лондонец по имени Абинтгтон Скарр. На эту линию власти выпустили специальное постановление, но прошло уже шестнадцать месяцев, а Скарр так ничего и не сделал. Потом ходили разговоры о том, что нужно удлинить «Дистрикт», но в обоих случаях требовались вложения.
– Фактически, – закончил Клурфейн, – если Каупервуд действительно хочет заполучить «Чаринг-Кросс», я думаю, он сможет это сделать без особых хлопот. Транспортная электрическая года два назад оставила все попытки найти финансирование. После чего ее заполучили два этих инженера, но до появления Каупервуда у них точно не было ни одного серьезного предложения. К тому же они не специалисты в области рельсовых путей сообщения, и я сомневаюсь, что им удастся осуществить этот проект.
– Тогда и нужды нет брать их в расчет? – спросил Джаркинс.
– Я думаю – нет такой нужды, – сказал Клурфейн. – Но я думаю, нам следует найти кого-нибудь, имеющего отношение к двум старым веткам центральной петли – «Дистрикт» и «Метрополитен», или каких-нибудь банкиров на Треднидл-стрит и посмотреть, что можно у них выведать. Вы ведь знаете Кроушоу из «Кроушоу и Воукс». Они пытались найти деньги для Гривса и Хеншоу с тех самых пор, как те заполучили этот опцион. Их, конечно, ждала неудача, как и Транспортную электрическую перед ними. Они хотят слишком многого.
– Транспортная электрическая? – переспросил Джаркинс. – Та самая компания, которой эта линия принадлежала изначально. Что это за люди?
И Клурфейн тут же и довольно живо вспомнил целый ряд имеющих к ним отношение подробностей, не все из которых удалось узнать Сиппенсу, но достаточно любопытных, чтобы заинтересовать обоих. И вот из глубин памяти Клурфейна возникли Стейн, Райдер, Буллок и Джонсон, а конкретнее Джонсон и Стейн. Они были среди главных учредителей «Чаринг-Кросса» и «Хэмпстеда». Стейн принадлежал к аристократии и был крупным держателем акций «Дистрикта», а также компании «Сити – Южный Лондон». Джонсон был советником Стейна и линий «Дистрикт» и «Метрополитен», а также держателем акций обоих линий.
– Так почему бы не попытаться встретиться с этим Джонсоном? – спросил Джаркинс, внимательно прислушивавшийся к каждом слову после того, как Каупервуд устроил ему словесную выволочку. – Он, наверное, хорошо информирован обо всем, что происходит.
Клурфейн стоял у окна, смотрел на улицу.
– Отлично! – воскликнул он вдруг, повернувшись к Джаркинсу. – Вот она – идея. Почему бы и нет? Только… – Он замолчал, неуверенно посмотрел на Джаркинса. – Вполне ли это этично? Насколько я понимаю, мы не имеем права заявлять, что представляем Каупервуда. Судя по тому, что вы сказали, он всего лишь согласился выслушать Гривса и Хеншоу в Нью-Йорке, потому что мы попросили его об этом. Он не поручал нам никакой работы в связи с ними.
– Как бы то ни было, я думаю, хорошо было бы прощупать это парня – Джонсона, – ответил Джаркинс, – сообщить ему, что Каупервуд или какой-нибудь известный нам американский миллионер интересуется планом объединения всех этих линий, а потом вскользь сказать, что линия «Чаринг-Кросс», если они смогут ее вернуть, может быть выкуплена этим миллионером. В таком случае нам, как агентам, которые связали все это воедино, будет причитаться неплохой и заслуженный бонус. Кроме того, если сейчас можно собрать какие-нибудь акции или продать им или Каупервуду, то мы можем выступить в роли посредников. Почему нет?
– Неплохая идея, – сказал Клурфейн, загораясь еще больше. – Попробую-ка я связаться ним по телефону.
Он побрел во внутренний кабинет и уже собрался было взять трубку, но остановился и посмотрел на Джаркинса.
– Самый простой способ, думается мне, это попросить консультацию в связи с одной финансовой проблемой, которая стоит перед нами, но которую мы не можем обсуждать по телефону. Он решит, что может что-нибудь с этого поиметь, и пусть он так и думает, пока мы не объясним ему, о чем речь.
– Хорошо! – сказал Джаркинс. – Давайте звонить.
И вот после очень осторожного телефонного разговора с Джонсоном Клурфейн повернулся к Джаркинсу и сказал:
– Он говорит, что примет нас завтра утром в одиннадцать.
– Отлично! – воскликнул Джаркинс. – Я думаю, мы теперь на правильном пути. В любом случае мы продвигаемся. И если он сам в этом не заинтересован, то он вполне может знать кого-нибудь, кто заинтересован.
– Совершенно верно, совершенно верно, – эхом откликнулся Клурфейн, которого в данный момент более всего волновал бонус, возможно, причитающийся ему за участие в подготовке сделки. – Я рад, что вспомнил про него. Из этого может получиться самое крупное дело из всех, что мы провернули.
– Совершенно верно, совершенно верно, – эхом прозвучал голос Джаркинса, который пребывал в прекрасном настроении, но не настолько прекрасном, каким оно могло быть, если бы всю эту комбинацию придумал он сам. Потому что Джаркинс всегда считал себя если не мозгом, то уж по крайней мере движущей силой этой затеи.
Глава 18
Кабинеты Райдера, Буллока, Джонсона и Чэнса, а также лорда Стейна располагались в одной из наиболее сомнительных частей Стори-стрит рядом с Судебными Иннами[8]. Что говорить, весь этот район, исключая Судебные Инны, в Америке сочли бы неподобающим для выдающегося юридического таланта. Небольшие перестроенные трех-четырехэтажные сооружения или прежние чердаки и магазины, в которых теперь размещались офисы, библиотеки, консультационные конторы, хранилища документов, консультации на десяток солиситоров, их стенографов, клерков, мальчиков на побегушках и других помощников.
Сама Стори-стрит была такая узкая, что по ней с трудом могла пройтись пара под руку. Что же касается проезжей части, то она могла вполне позволить разъезд двух детских колясок, но ни в коем случает не двух транспортных средств большего размера. Но по этой улице проходил немалый поток рабочих, включая и тех, кто пользовался ею, чтобы срезать путь на Стрэнд и соседние проезды.
Фирма «Райдер, Буллок, Джонсон и Чэнс» занимала все четыре этажа дома 33 по Стори-стрит, представлявшего собой здание шириной не более двадцати трех футов, хотя и имевшее в глубину пятьдесят. На цокольном этаже, изначально служившем прихожей и гостиной обитавшего здесь одинокого судьи в отставке, теперь располагались секретарская и хранилище документов. Лорд Стейн занимал небольшой кабинет в задней части второго этажа, третий этаж был отдан трем самым главным членам фирмы: Райдеру, Джонсону и Буллоку. Чэнс со своими многочисленными помощниками занимал четвертый этаж. Кабинет Элверсона Джонсона в самой задней части второго этажа выходил окнами в небольшой дворик. Мощеная его поверхность когда-то была частью внутреннего древнеримского двора, исторический лоск которого поблек для тех, кто был вынужден созерцать его годами день за днем. Лифта в доме не было. С середины второго этажа и до самой крыши тянулась вверх вентиляционная шахта. Кабинеты были оснащены каким-то довольно примитивным новомодным приспособлением, которое, как считалось, добавляет кислорода в воздух. Кроме того, в каждом кабинете имелись камины – в которых в туманные, дождливые зимние дни сжигали уголь, – что несказанно улучшало уют и обаяние этих интерьеров. В кабинете каждого солиситора имелся просторный, хорошо сделанный письменный стол со стульями, а на каминной полке белого мрамора стояли книги или маленькие скульптурки. На стенах висели довольно пыльные гравюры, изображающие светил английского юридического пантеона или английские пейзажи.
Джонсон, влиятельный и финансово амбициозный член фирмы, был в общем и целом человеком практичным и по большей части плыл своим путем, который в его личных прожектах казался ему наиболее перспективным. Однако в каком-то уголке его разума развился комплекс, который привел его к мыслям о ценности религии и даже симпатиям к нонконформистским доктринам. Еще он был склонен поразмышлять о лицемерии и духовной стагнации партии Высокой церкви, а также о земном и божественном значении таких знаменитых религиозных деятелей, как Джон Нокс, Уильям Пенн, Джордж Фокс и Джон Уэсли[9]. В его сложном и любознательном умственном космосе уживались явно противоречащие друг другу и даже антагонистические представления. Он считал, что должен существовать правящий класс, который должен наступать и сохранять себя желательной, пусть и не всегда оправданной хитростью. Поскольку в Англии этот класс был уже укреплен законами о собственности, наследстве и первородстве, то класс этот играл важную роль, был неизменно прав и совершенно неисправим. По этой причине наилучшим образом действий для нищих духом, а также нищих материально были приведение себя к покорности, тяжкий труд и вера в Божественного Отца, который в конечном счете – вероятно – позаботится о них. С другой стороны, огромная пропасть между не всегда неразумной бедностью и незаслуженным богатством казалась ему жестокостью и чуть ли не злом. На этой точке зрения основывались его более категоричные религиозные настроения, которые временами становились чуть не фарисейскими.
Хотя сам он происходил из низкого мира социально слабых и неумелых, его всегда влекло наверх, где если не он, то его дети – два сына и дочь – будут чувствовать себя в такой же безопасности, что и те, кем он так восхищался и кого критиковал. Да что говорить, он мечтал о титуле: для начала добавление к его имени скромного «сэр», а потом он, если удача будет сопутствовать ему, может быть удостоен и еще более высокого королевского вознаграждения. Он прекрасно знал: чтобы добиться этого, он должен не только заработать больше денег, чем есть у него сейчас, но еще и добиться покровительства тех, у кого есть деньги и титулы. По этим причинам он интуитивно подгонял свои действия под амбиции и богатство тех, кто принадлежал к этому классу.
Он был невысокий ростом, высокопарный, жилистый, властный. Его отец, запойный плотник из Саутуарка, впроголодь содержал семью из семи человек. Молодой Джонсон поступил в ученичество разносчиком хлеба к пекарю. Один из его постоянных покупателей, печатник, обратил внимание на его усердие и взял к себе помощником, там он с помощью своего нанимателя научился читать, там он проникся мыслью о том, что должен приобрести профессию, должную поднять его из серости и прозябания, в которых он тогда пребывал. И Джонсон оказался способным учеником. Он доставлял печатную продукцию всякого рода предпринимателям и торговцам и наконец столкнулся с молодым солиситором по имени Лютер Флетчер, который вел кампанию за свое избрание в Совет Лондонского графства представителем от Саутуаркского избирательного округа. Он и увидел в молодом Джонсоне, которому тогда было не больше двадцати, юридические задатки. Его любознательность и предприимчивость настолько очаровали Флетчера, что он отправил его в вечернюю школу изучать юриспруденцию.
С того времени дела Джонсона пошли в гору. Фирма, в которую он в конечном счете нанялся на учение, вскоре оценила его интуитивный юридический талант, и ему стали поручать доводить до ума документы в тех областях юриспруденции, на которых специализировалась фирма: контракты, права собственности, завещания и учреждение компаний. В двадцать два года он сдал необходимые экзамены и стал дипломированным солиситором. В двадцать три он познакомился с мистером Байроном Чэнсом из солиситорской фирмы «Буллок энд Чэнс», и тот предложил ему вступить в партнерство.
Буллок, человек известный среди барристеров[10] Судебных Инн дружил с неким Уэллингтоном Райдером, солиситором, имевшим еще более влиятельные связи, чем у него. Райдер вел дела нескольких больших имений, включая и имения графа Стейна, а также юридические дела линии «Дистрикт». Райдер тоже заинтересовался Джонсоном и предпринял серьезные шаги, чтобы убедить его оставить Буллока и работать с ним. Однако своекорыстие и дружеские чувства заставили его искать другой путь заручиться услугами Джонсона. Разговор с Буллоком привел в конечном счете к созданию нынешнего юридического союза, который длился уже десять лет.
Вместе с Райдером пришел Гордон Родерик, лорд Стейн, старший сын графа Стейна. В то время Стейн только-только выпустился из Кембриджа, и его отец решил, что сын в достаточной мере годится для того, чтобы наследовать его отцовский титул. Но на деле по причине некоторых странностей и особенностей характера молодой человек больше интересовался практическими и решительно неисторическими сторонами мира вокруг него. Он пришел в этот мир, когда блеск и привилегии одного только титула не только ставились под сомнение, но во многих случаях и затмевались финансовым гением. В Кембридже он с интересом изучал экономику, политику, социологию и был склонен прислушиваться к мнению социалистов фабианской школы, но ни на минуту не забывал о грядущем наследстве. Познакомившись с Райдером, интересовавшимся исключительно громадными компаниями, которые постоянно назначали его их представителем, Стейн легко попал под его влияние и проникся его убежденностью в том, что настоящими лордами в будущем станут финансисты. Миру требовалось продвинутое материальное оснащение, и финансист, который посвятит себя удовлетворению этой потребности, станет важнейшим фактором на пути общества к прогрессу.
С этими мыслями в голове Стейн усердно изучал английское акционерное право в офисе «Райдера, Буллока, Джонсона и Чэнса». И одним из главных его друзей стал Элверсон Джонсон. В Джонсоне он видел проницательного выходца из простонародья, одержимого решимостью пробраться наверх, а Джонсон видел в Стейне наследника социальных и материальных привилегий, который тем не менее решил получить знания и решительно взяться за дела практические.
И Джонсон, и Стейн с самого начала признавали громадные возможности лондонской подземной сети, и их интерес вовсе не ограничивался учреждением Транспортной электрической компании, ядро которой они и составляли со дня ее образования. Когда впервые было сделано предложение о создании линии «Сити – Южный Лондон» с современным оборудованием, они с друзьями вложили деньги в эту компанию, понимая, что следует учесть соединение с двумя старыми линиями, пронзавшими тогда сердце Лондона – «Метрополитен» и «Дистрикт». Как Демосфен, обращающийся к афинянам, Джонсон упорствовал в своем убеждении, что тот, кто сумеет собрать достаточно денег, чтобы приобрести пятьдесят один процент обычных акций этих двух линий и таким образом получит контроль над компанией, может спокойно объявить себя главой предприятия, а дальше поступать так, как ему заблагорассудится.
После смерти отца Стейн вместе с несколькими друзьями, включая Джонсона, попытался получить контрольный пакет обычных акций «Дистрикта» в надежде, что при этом он сможет контролировать обе линии, но ничего из этого у них не получилось – в обращении оказалось слишком много акций, а собрать достаточно денег они не смогли. А потому, поскольку управление линиями оставляло желать лучшего, а доход от акций был невелик, немалую часть приобретенных ими акций они продали.
Что же касается так еще и не созданной линии «Чаринг-Кросс», для продвижения которой они создали Транспортную электрическую компанию, то им так и не удалось собрать достаточно денег или продать достаточно напечатанных акций и получить необходимые для строительства один миллион шестьсот шестьдесят тысяч фунтов. Наконец через Гривса и Хеншоу они принялись искать финансиста или группу финансистов, которые либо снимут с их плеч груз «Чаринг-Кросс», либо объединятся с ними в их мечте прибрать к рукам «Метрополитен» и «Дистрикт».
Но пока все их усилия кончилась ничем. Джонсону к этому времени уже стукнуло сорок семь, а лорду Стейну – сорок, оба стали понемногу уставать и проникаться сомнениями насчет этой великой затеи.
Глава 19
В эту ситуацию и в офис Элверсона Джонсона входят мистер Джаркинс и мистер Клурфейн, горящие желанием побеседовать с мистером Джонсоном об одном крайне важном деле. Вопрос связан с мистером Гривсом и мистером Хеншоу, которые недавно побывали в Нью-Йорке, чтобы побеседовать с их, Джаркинса и Клурфейна, клиентом, мистером Фрэнком Каупервудом, наверняка известном мистеру Джонсону.
Мистер Джонсон признал, что слышал о таком. И чем он может быть полезен этим джентльменам?
Весеннее утро в Лондоне выдалось крайне редкое. Солнечные лучи падали на мощеный римский дворик внизу. Когда они вошли, Джонсон просматривал толстенную папку с бумагами по иску о возмещении ущерба, предъявленному компании «Сити – Южный Лондон». Он пребывал в радостном настроении, потому что день стоял теплый и ясный, потому что был отмечен некоторый рост акций «Дистрикт», а коротенькая речь, произнесенная им днем ранее в Международной эпуортской лиге[11], получила положительный отзыв не менее чем в двух утренних газетах.
– Я постараюсь изложить наше дело как можно короче, – начал Джаркинс, облаченный в серый костюм, серую шелковую рубашку, сверкающий бело-голубой галстук. Держа в руке котелок и трость, Джаркинс сверлил Джонсона испытующим взглядом; судя по всему, ему предстояло решить нелегкую задачу: Джонсон явно был личностью ушлой.
– Вы, конечно, должны понимать, мистер Джонсон, – продолжал Джаркинс, улыбаясь лучшей из своих улыбок, – что наш визит не санкционирован во всех подробностях мистером Каупервудом. Но я надеюсь, вы тем не менее поймете его важность. Как вам известно, Гривс и Хеншоу имели дело с Транспортной электрической компанией, от имени которой вы выступаете солиситором.
– Одним из солиситоров, – осторожно возразил мистер Джонсон. – Но уже некоторое время они не давали мне никаких поручений.
– Именно, именно, – сказал Джаркинс, – но я думаю, вы все равно проявите интерес к этому делу. Понимаете, именно наша фирма свела Гривса и Хеншоу с мистером Каупервудом. Как вам известно, мистер Каупервуд человек чрезвычайно богатый. Он занимался самыми разными транспортными проектами в Америке. И ходят слухи, что он распродает свои чикагские активы не менее чем за двадцать миллионов.
Услышав названную сумму, мистер Джонсон навострил уши. Транспорт повсюду транспорт – будь то в Чикаго, Лондоне или каком другом месте, – и человек, который извлек из транспортного бизнеса двадцать миллионов долларов, должен неплохо разбираться в транспорте. Его интерес тут же стал понятен Джаркинсу.
– Может быть, так оно и есть, – принялся блефовать мистер Джонсон, подпустив в голос немного сварливости и внешне никак не выдавая своего интереса, – но какое все это имеет отношение ко мне? Вы, вероятно, помните, что я всего лишь один из солиситоров Транспортной электрической и никоим образом не связан ни с мистером Гривсом, ни с мистером Хеншоу.
– Но ситуация с лондонской подземкой в целом вас все же интересует, по крайней мере так мне сказал мистер Клурфейн, – настаивал Джаркинс. – Иными словами, – дипломатично добавил он, – вы представляете людей, которые заинтересованы в развитии подземной транспортной системы.
– Я позволил себе, мистер Джонсон, упомянуть тот факт, – вставил здесь Клурфейн, – что вас время от времени упоминают в прессе как представителя линий «Метрополитен» и «Дистрикт», а также компаний «Сити – Южный Лондон» и «Центральный Лондон».
– Это верно, – ответил Джонсон, внешне спокойный и уверенный в себе. – Да, я являюсь юридическим представителем этих компаний. Но мне не ясно, чего хотите вы. Если речь идет о продаже или покупке чего-либо, связанного с линией «Чаринг-Кросс – Хэмпстед», то вам определенно нужен не я.
– Если вы уделите мне одну минуту, – настаивал Джаркинс, подавшись поближе к Джонсону. – Суть дела в том, что мистер Каупервуд избавляется от всех своих чикагских активов, а без них заняться ему нечем. Он не из тех людей, которые торопятся уйти на покой. Он проработал в Чикаго более двадцати пяти лет. Я вовсе не хочу сказать, что у него на уме какое-то новое инвестирование. Мистер Гривс и мистер Хеншоу выяснили это. Их свела с ним наша фирма – «Джаркинс, Клурфейн и Рэндольф». Мистер Клурфейн, которого вы здесь видите, возглавляет лондонское отделение.
Джонсон кивнул – теперь он уже слушал внимательно.
– Конечно, – продолжал Джаркинс, – ни мистер Клурфейн, ни я не наделены полномочиями говорить от имени мистера Каупервуда. Но мы чувствуем, что в лондонской ситуации заложены немалые перспективы, и если корректно выбранный человек корректно изложит ему суть дела, то это может принести огромную выгоду всем, кто был связан с этим проектом. Насколько мне известно, мистер Каупервуд отказался от предложения купить линию «Чаринг-Кросс» не потому, что не верит в ее прибыльность, а потому, что ему не предложили пятьдесят один процент акций, а он всегда в таких делах настаивает на полном контроле. Кроме того, ему показалось, что эта ветка слишком коротка и не имеет столь необходимой связи с подземной системой в целом, а потому ею можно управлять, только как малой и отдельной собственностью. А его интересует только городская транспортная сеть в целом.
В голосе Джаркинса теперь послышалась льстивая нотка.
– Я попросил мистера Клурфейна, – медоточиво продолжил он, – отвести меня к тому единственному человеку, который знает все о лондонской подземной системе и может оценить важность привлечения к делу мистера Каупервуда. Потому что, если мы правильно понимаем суть дела, – и тут он посмотрел на мистера Джонсона чуть ли не угрожающим взглядом, – то нам представляется, что настало время объединить все отдельные линии в одну систему и модернизировать их, а всем прекрасно известно, что мистер Каупервуд гений в том, что касается решения транспортных проблем. Он вскоре должен прибыть в Лондон, и мы полагаем, что с ним должен встретиться и поговорить кто-то, кто поможет ему понять, что ситуация в Лондоне требует участия именно такого человека, как он.
И если вы, мистер Джонсон, не желаете участвовать в этом деле, – в этот момент Джаркинс имел в виду Стейна и его то ли действительные, то ли мифические связи, – то, может быть, вы назовете человека, который потенциально пожелал бы этим заняться, и скажете нам несколько слов об этой персоне. Мы, конечно, только маклеры, и нам хотелось бы, чтобы мистер Каупервуд заинтересовался этим делом всерьез, а мы могли бы получить свою маклерскую долю, которая, естественно, является неотъемлемой частью таких начинаний.
Джонсон сидел за своим столом, уставившись не в Джаркинса или Клурфейна, а в пол.
– Так-так! – начал он. – Мистер Каупервуд – американский мультимиллионер. У него огромный опыт по созданию уличной рельсовой сети и путепроводов в Чикаго и других местах, насколько мне известно. Вы призываете меня заинтересовать его решением лондонской проблемы подземного транспорта. И если я сделаю это, то предполагается, что я должен буду выплатить вам некоторую сумму – или по крайней мере приложить усилия к тому, чтобы таковая сумма была вам выплачена – за привлечение мистера Каупервуда к делу помощи некоторым лондонцам, заинтересованным в транспортном бизнесе как в способе извлечения прибыли.