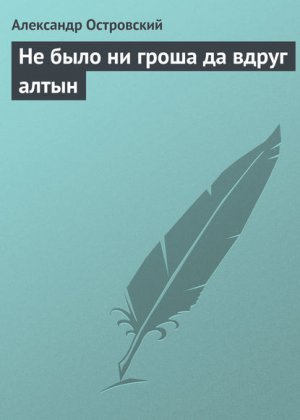
Действие первое
Лица
Михей Михеич Крутицкий, отставной чиновник.
Анна Тихоновна, его жена.
Настя, племянница Крутицкого.
Домна Евсигневна Мигачева, мещанка.
Елеся, ее сын.
Истукарий Лупыч Епишкин, купец-лавочник.
Фетинья Мироновна, его жена.
Лариса, дочь их.
Модест Григорьич Баклушин, молодой человек.
Петрович, мелкий стряпчий из мещан.
Тигрий Львович Лютов, квартальный.
Действие происходит лет 30 назад, на самом краю Москвы. Слева от зрителей угол полуразвалившегося одноэтажного каменного дома. На сцену выходят дверь и каменное крыльцо в три ступени и окно с железной решеткой. От угла дома идет поперек сцены забор, близ дома у забора рябина и куст тощей акации. Часть забора развалилась и открывает свободный вход в густой сад, за деревьями которого видна крыша дома купца Епишкина. На продолжении забора, посереди сцены, небольшая деревянная овощная лавка, за лавкой начинается переулок. У лавки два входа: один с лица с стеклянной дверью, другой с переулка открытый. С правой стороны, на первом плане, калитка, потом одноэтажный деревянный дом мещанки Мигачевой; перед домом, в расстоянии не более аршина, загородка, за ней подстриженная акация. В переулок видны заборы и за ними сады. Вдали панорама Москвы.
Явление первое
Епишкин и Петрович сидят у лавки и играют в шашки. Мигачева стоит у калитки своего дома.
Епишкин. Фук да в дамки. Ходи!
Петрович. Эх-ма! Прозевал.
Епишкин. Ходи!
Петрович. Ходи да ходи! Куда тут ходить? (Раздумывая.) Куда ходить?
Епишкин. Ходи!
Петрович. Пошел.
Епишкин. Вот тебе карантин, чтобы ты не тарантил.
Входит Лютов.
Убери доску!
Петрович с доской уходит в лавку.
Явление второе
Епишкин, Мигачева, Лютов.
Лютов (Мигачевой). Там забор у тебя, а вот загородка! (Грозит пальцем.)
Мигачева. Из каких доходов, помилуйте! Кабы у меня торговля или что нечто б я… Ах, боже мой! Я бы только, Тигрий Львович, для одного вашего удовольствия…
Лютов. А? Что ты говоришь?
Мигачева. Да разве б я не окрасила? Окрасила бы, очень бы окрасила. А коли тут худо, в другом месте валится… а какая моя возможность? Чем я дышу на свете?
Лютов. Мне что за дело! Чтоб было окрашено!
Мигачева. Будет, будет, только б малость управиться. Хорошо тому, у кого довольно награблено, оченно ему можно быть исправным обывателем. Вот с кого спрашивать-то надо. Крась да мажь! У нас кому любоваться-то? И народ-то не ходит.
Лютов. Без рассуждений! Вот если завтра не будет выкрашено, я тогда посмотрю.
Мигачева. Вот и живи.
Лютов (оборачивается к каменному дому). Уж хоть бы развалился совсем поскорее. (Пожимает плечами и, махнув рукой, отворачивается.) Эх, обыватели!
Епишкин. Тигрию Львовичу наше почтение.
Лютов. Здравствуй, Истукарий Лупыч! (Подает руку.) Тебе-то, братец, уж стыдно! Забор-то не загородишь: ведь точно ворота проезжие.
Епишкин. Оно точно, что я оплошал: он маленько развалился, а мне невдомек было; так ваша ж команда на дрова себе растаскала.
Лютов. Загороди, братец.
Епишкин. Вы себя беспокоить не извольте, будет в порядке. Признаться, теперь в голове-то не то, об этих глупостях и думать-то не хочется.
Лютов. Не глупости, братец, коли начальство тебе приказывает.
Епишкин. Понимаем, Тигрий Львович, да ведь уж и обязанностей-то наших больно много. Ежели счесть теперь все повинности да провинности, оклады да наклады, поборы да недоборы, торжества да празднества, – так ведь можно и пожалеть по человечеству. С одного-то вола семи шкур не дерут.
Лютов. Разве я тебя не жалею? Я тебя ж берегу; деревья у тебя в саду большие, вдруг кому-нибудь место понравится: дай, скажет, удавиться попробую.
Епишкин. Верно изволите говорить; местоположение заманчивое для этого занятия. Такой сад, что ни на что окромя и не годен. Я уж и то каждое утро этих самых фруктов поглядываю.
Лютов. Ну, так ты народ-то не искушай! Следствие, братец; понял? А я тебе этой беды не желаю.
Епишкин. Уж что говорить! Ну, да, думаю, бог милостив.
Лютов. Кабы ты чистый человек, а то… Я, братец, ничего не знаю, я ничего не знаю, а, чай, слышал, какой разговор-то про тебя насчет притону-то?
Епишкин. Мало ли всяких разговоров-то! И про ваше благородие тоже кой-что поговаривают; да мы, признаться, внимания не берем и слушать-то.
Лютов. Так уж ты загороди; побереги хоть меня-то, коль себя не бережешь; с нас тоже ведь спрашивают.
Епишкин. Не извольте беспокоиться! Стоит ли об таких пустяках разговаривать! Милости просим на полчасика! Особенной попотчевать могу.
Лютов. Попозже зайду, теперь некогда. (Подает руку.)
Епишкин. Как угодно-с. Завсегда рады, завсегда вы у нас первый гость. Поискать еще таких-то благодетелев.
Лютов уходит.
Терпит же ведь земля, господи! (Уходит в лавку.)
Из лавки выходит Фетинья.
Явление третье
Мигачева и Фетинья.
Мигачева. Здравствуйте, матушка Фетинья Мироновна!
Фетинья (гордо). Здравствуй!
Мигачева. Куда бог несет?
Фетинья. Так, для воздуху, у лавочки посидеть. А ты куда?
Мигачева. Куда мне! Сына поглядываю.
Фетинья. На что он тебе?
Мигачева. Поругать хочется, Фетинья Мироновна.
Фетинья. После поругаешь, не к спеху дело.
Мигачева. Боюсь, сердце-то пройдет; сердце-то у меня круто, да отходчиво. А теперь бы он мне в самый раз попался: в расстройстве я.
Фетинья (подходя). Что так?
Мигачева. Квартальный, матушка, разобидел; пристает, забор красить, отдыху не дает. Какие мои доходы, сами знаете: один дом, да и тот валится. Четверо жильцов, а что в них проку-то! Вот, Петрович – самый первый жилец, а и тот только за два с четвертаком живет. Ну, опять возьмите вы поземельные. Все б еще ничего, да ведь дом-то заложен, процент одолел.
Фетинья. Заложен?
Мигачева. Заложен.
Фетинья. Скажите!
Мигачева. Третий год я вам говорю, Фетинья Мироновна, одно и то же, а вы все будто не слыхали, да все удивляетесь.
Фетинья. Ах, редкости какие! Коли у меня такой характер, что ж мне делать-то! А то так тебе и дать одной все пoряду говорить! Этак ты всю материю скоро расскажешь. А нынче день-то год, пущай поговорим, куда нам торопиться-то; а время-то и пройдет, будто дело делали.
Мигачева. Помощник-то у меня, сами знаете, один.
Фетинья. Один? И то ведь один.
Мигачева. Да и тот неважный, так, какая-то балалайка бесструнная. Ну, еще по дому кой-что хозяйничает, а уж на стороне достать что-нибудь, на это разуму у него нет. Думала в люди отдать, хоть в лавку, да сама ни при чем останешься. А он все-таки и подбелит, и подкрасит, и подколотит.
Фетинья. Чего ж тебе лучше?
Мигачева. Заодно у нас с ним война: вдруг провалится, неизвестно куда. Синиц по огородам ловит, рыбу на Москве-реке ловит; а тут его, как на грех, нужно, ну, и пошла баталия.
Фетинья. Молод еще. Женила б ты его.
Мигачева. Женить! Лестно взять жену-то с деньгами, хоть с небольшими; а кто ж отдаст за него, кому крайность!
Фетинья. Нет, ты не говори. Бывают случаи. Другая девушка и с деньгами, да порок какой-нибудь в себе имеет: либо косит очень, один глаз на нас, другой в Арзамас, либо вовсе крива; а то бывает, что разумом недостаточна, дурой не зовешь, а и к умным не причтешь, так, полудурье; ну, вот и ищут женихов-то проще, чтоб невзыскательный был. А бедному человеку поправка.
Мигачева. Бывает людям счастье, да не нам.
Фетинья. У тебя все-таки сын, что тебе горевать-то? Так разве когда, от скуки, поплачешься для разговору только для одного. А вот наша забота с дочкой-то.
Мигачева. Так вы с деньгами.
Фетинья. Чудная ты, и с деньгами не берут. (Со вздохом.) Мало ль ее смотрели-то, Домнушка!
Мигачева. Какая ж причина? Такая ее красота…
Фетинья. Уж чего еще! Поглядеть любо-дорого, самый первый вкус. Одно беда – разговором нескладна. Кабы только с глаз брали, так, кажется, ее давно бы с руками оторвали; а поговорят, ну, и прочь, и прочь. Войдет – удивит, убьет красотой всякого; а скажет слово, так и сразит, так с ног и сразит. А уж как выдать хочется.
Мигачева. Вам что; вы свою сбудете. А вы возьмите соседку, вот мается с девушкой-то, вот где слезы-то!
Фетинья. Уж чем только они живы, бедные!
Мигачева. Чем живы? Выработают гривенник, купят калачика, тем и сыты.
Фетинья. Как бы, мне кажется, у старика денег не быть; ведь он чиновник, с кавалерией, гляди, пенсию получает.
Мигачева. Кто его знает. От него толку не добьешься, он и не говорит ни с кем, только ругается да ворчит. Бродит весь день по Москве, только ночевать домой приходит.
Фетинья. Я раз иду городом, а он у Казанского собора с нищими стоит.
Мигачева. С нищими? Вот ведь дела-то какие!
Фетинья. С чего он в такой упадок пришел?
Мигачева. Все только руки врозь, матушка. Его в нашей стороне все знают; у него здесь свой дом был, лошади хорошие. Служил он в каком-то суде секлетарем, ну, и отставили его за взятки, что уж очень грабил. Анна Тихоновна сказывала, что и стал он с той поры сумлеваться, как ему жить без дохода. Продал дом, лошадей, стал деньги в проценты отдавать. И зажили мы, говорит, день ото дня хуже: переехали в одну комнатку, прислугу всю он распустил, а там уж и кухарку сослал. И пришлось Анне Тихоновне самой и кушанье готовить, и за водой ходить. А потом и совсем, говорит, дома стряпать перестали, купим что-нибудь в лавочке и поедим, а когда и так просидим. А теперь вот к нам в соседство перебрались; дом-то этот еще с француза в тяжбе находится, так с тех пор без починки и без всякого призрения и стоит; так Михея Михеича задаром пустили, чтоб он только на дворе присматривал, кирпичи подбирал да в кучку складывал.
Фетинья. Что мы живем! Мы от жиру и бога-то забыли, а ты попробуй, вот так поживи.
Мигачева. Ну, старуха-то уж притерпелась, а каково девушке-то?
Фетинья. Да откуда она у них взялась, скажи ты мне на милость!
Мигачева. Она Михею племянница родная, сиротка. Как случилась с ним беда, погнали его со службы, ее и взяла крестная мать, барыня богатая.
Фетинья. Богатая?
Мигачева. Богатая. И воспитывала ее с дочерьми своими в полном достатке. Вот как выросла эта Настенька, и возненавидела ее барыня за красоту, что на Настеньку все прельщаются, а на ее дочерей нет, и прогнала ее без всякого награждения. А прежде обещала замуж ее выдать. Да мне Анна Тихоновна сказывала, что у Настеньки уж и жених был, молодой человек, хорошего роду. Приехала Настенька в эту конуру разряженная, в перчатках… И сесть-то боится, и дотронуться-то до всего ей гадко… Всплеснет, всплеснет вот так руками, за голову ухватится да и упадет без памяти. Больна с месяц лежала, насилу оправилась. Ну, разумеется, девушка избалованная, и кофейку, и чайку, того, другого, вот тетка-то все ее платьица, колечки, сережки и продавала; за бесценок шло, даже жалость смотреть. А теперь, уж видно, не до чаю, и хлеб-то им стал в диковинку.
Крутицкий показывается на крыльце.
Вот старый куда-то собрался, из дому выполз.
Явление четвертое
Мигачева, Фетинья, Крутицкий.
Крутицкий (в полурастворенную дверь). Ты, смотри, никуда не смей! Боже тебя сохрани! Скучно дома, ну, выдь на крылечко, посиди. А с крыльца ни шагу, слышишь ты! А? Что? Ну, хорошо. Так ты… того… сядь тут! Я ведь скоро, я бегом.
Мигачева. Здравствуйте, Михей Михеич!
Крутицкий. Здравствуйте! (Кланяется и хочет идти.)
Мигачева. Что это вы, Михей Михеич, в шинели?
Крутицкий. Что тебе шинель! Что тебе шинель! Не твоя шинель.
Мигачева. Да жарко.
Крутицкий. Кому жарко, а мне не жарко, я старичок. (Подходит к Фетинье и говорит ей тихо.) Оставь дома, так ее и украдут, пожалуй.
Фетинья. Ну, уж кому она нужна?
Крутицкий. Нет, ты не говори. Шинель хорошая. (Гладит по ворсу.) Это я сшил когда еще на службе был. Тогда у меня деньги были шальные.
Фетинья. Куда ж ты их дел?
Крутицкий. Прожили. Без доходу живем; все проживаем, все проживаем, а доходиков никаких, вот и прожили.
Мигачева. Мудрено что-то. По вашей жизни, вам и процентов-то не прожить с вашего капитала.
Крутицкий. Какого капитала! А ты почем знаешь, сколько у меня денег было? Кто тебе сказывал? Кто? Я тебе не сказывал, так ты и не болтай! (Фетинье.) Как прожил? Много-то было, так не берегли: я шампанское пил. Ты думаешь, на чужие деньги! На чужие-то я его море выпил, а случалось, бывало, и на свои бутылочку купишь. По десяти рублей ассигнациями за бутылку платил. В Сибирь меня надо за это сослать. Вино-то выпил, где оно? Тю-тю. А и денег-то нет. Вот как деньги-то проживают! Взаймы давал, пропадали; жена у меня не берегла ничего. (Фетинье почти на ухо.) Жена у меня мотовка. У! мотовка!
Фетинья. Не знаю я ваших делов.
Крутицкий. Мотовка, мотовка! Я ее любил, я ей дарил, много дарил. У меня каждый день был доход; ну, бывало, иногда и подаришь ей то десять, то пять рублей. Береги, Анна! Вот и уберегла. Было мое время, каждый день все прибывало, все прибывало.
Мигачева. Ну, как же, я ведь помню; знала я, все знала.
Крутицкий. Ничего ты не знала. Что ты могла знать! Никто не знал; жена – и та не знала. Я возил деньги домой, каждый день возил; а сколько я взял, с кого я взял, никто не знал. Я злодей был для просителей, у меня жалости нет, я варвар был.
Фетинья. Вот тебя бог-то и наказал.
Крутицкий. А других, а других? За что ж меня одного? Все брали, торговля была, не суд, а торговля. Кто меньше, кто больше, а все-таки брали. Бывало, товарищи мне говорят: «ты много берешь». А вы, говорю, мало берете, ну, значит, вы дешевле меня свою совесть продаете. Хе-хе-хе!
Мигачева. Эх, Михей Михеич, племянницу-то вы голодом заморили.
Крутицкий. Какую племянницу? Чем мы ее заморили? Я к тебе на кухню не хожу, горшков не нюхаю.
Мигачева. Конечно, что не мое дело; а со стороны жалко.
Крутицкий. Племянницу! Много всякой родни-то на свете! Мы все родня; все от одного человека. Всякий о себе. Пусть работает, я ей не мешаю.
Мигачева. Ну, много ли она выработает, такая барышня воспитанная?
Крутицкий. Вот язык-то у тебя без костей, вот уж без костей; так и болтает, так и болтает.
Мигачева. Хоть бы вы побаловали ее чем-нибудь, так, малость.
Крутицкий. Что ж, малость! Ты вот все болтаешь, сама не знаешь что; потому что разума у тебя нет. Малость, малость! Ее только избалуешь, а себя обидишь. Малость дай! Все дай, все дай; а мне кто даст? Всякий для себя. За что я дам? Как это люди не понимают, что свое, что чужое? Сколько я ни нажил, все – мое. Пойми ты! Рубль я нажил, так всякая в нем копейка моя. Хочу, проживаю ее, хочу – любуюсь на нее. Кому нужно свои отдавать? Зачем свои отдавать? (Отходя.) Все я дай, а мне кто даст? Попрошайки!
Мигачева. Ну, заворчала, грыжа старая!
Крутицкий (возвращаясь). А ты не болтай! Я не малость, я вот ей за приданым иду.
Фетинья. Что ж, ты его в узелке принесешь, все приданое-то?
Крутицкий. Нет, не в узелке, а вот здесь. (Показывает на боковой карман.)
Мигачева. Батюшки!
Крутицкий. Да, вот я что для нее… А ты нюхаешь по горшкам, что едят, болтунья пустая. (Уходит, ворча.)
Фетинья. Пойти в лавочку, никак муж чай пьет.
Елеся показывается из калитки, в халате, с клеткой.
Да вот сын-то, а ты ищешь! (Уходит в лавку.)
Явление пятое
Мигачева, Елеся.
Елеся (поет).
Мигачева. Скажите на милость, а он дома был.
Елеся (громче).
Мигачева. У матери такое расстройство насчет забора, а он песни поет. Погоди ж ты!
Елеся, бросив клетку, убегает в калитку, Мигачева за ним. Входит Настя; за ней, в нескольких шагах, Баклушин.
Явление шестое
Настя, Баклушин, потом Епишкин.
Баклушин. Милая девица, куда же вы так торопитесь?
Настя (быстро оборачиваясь). Стойте, стойте! Воротитесь, не ходите дальше, умоляю вас!
Баклушин. Боже милостивый! Настасья Сергевна, вы ли это?
Настя (потупляя глаза). Я, я; только вы не ходите за мной.
Баклушин. Что ж вы раньше не остановились, если узнали меня? Я версты две бегу за вами.
Настя. Я вас не видала, не узнала. Ах, уйдите, уйдите!
Баклушин. Скажите мне, существо прелестное, как вы попали в эту глушь? Ведь это край Москвы, это – захолустье.
Настя (обидчиво). Не всем же на Тверской жить; там для всех и места недостанет.
Баклушин. Так вы здесь и живете?
Настя (осматривая себя и конфузясь). Отчего же вы думаете, что я непременно должна здесь жить?
Баклушин. Вы сами сказали.
Настя. Ах, нет, нет, что вы! Я сюда пришла к знакомым, у меня есть дело. Вы не верите? Ну, право, право!
Баклушин. Ну, не здесь, так не здесь; к чему же так ажитироваться! А где же, позвольте узнать?
Настя (потупясь). Зачем вам?
Баклушин. Вот мило! Уж не прятаться ли вы от меня хотите? С какой стати, зачем?
Настя. Я не прятаться… Ах, право! Я не знаю. Уйдите!
Баклушин. Отчего такая перемена? Нет, вы скажите…
Настя (со вздохом). Что я скажу! Это не от меня. Мне нельзя… вот…
Баклушин. Вы хоть меня-то пожалейте! Ну, за что, за что? Я все тот же, все так же к вам привязан.
Настя. Все так же? Правда ли это?
Баклушин. Божусь вам!
Настя. Ну, так вот что: оставьте меня, мне теперь некогда, я вам после…
Баклушин. Когда после? Где я увижу вас?
Настя. Я вам напишу, я знаю ваш адрес. Ступайте! Ступайте!
Баклушин. Вы что-то скрываете от меня. Ну, да бог с вами, я вам верю. Вы, однако, изменились.
Настя (с испугом). Подурнела? Скажите пожалуйста, подурнела! Ах, я так и знала.
Баклушин. Успокойтесь, нисколько вы не подурнели; вы только похудели немного.
Епишкин выходит из лавки и садится на складном стуле.
Настя. Что же вы стоите здесь! Мне некогда, я за делом пришла.
Баклушин. Идите за делом, я вас подожду. У меня есть твердое намерение проводить вас до дому.
Настя. Нет, нет, ни под каким видом. Это невозможно. Я здесь до ночи останусь. Идите, идите, умоляю вас!
Баклушин. Ну, прощайте! Что с вами делать!
Настя. До свидания. (Дожидается, пока Баклушин уходит за угол лавки, потом убегает в дом, где живет Крутицкий.)
Баклушин (возвращаясь). Одна, никто ее не провожает, ни человек, ни девушка! Без перчаток, в таком платье! Странно! тут что-нибудь да кроется. Но во всяком случае я очень рад, что опять нашел ее; мне без нее не шутя было скучно. (Епишкину.) Послушайте, почтеннейший!
Епишкин. Что вам угодно, сударь?
Баклушин. Вы знаете эту девушку?
Епишкин. Девушку-то? Я думал, вы про что путное спрашиваете. Не наше это дело. (Смотрит в другую сторону.)
Баклушин. По крайней мере, будьте так добры, скажите мне, она здесь живет?
Епишкин (как бы зевая). О-хо-хо! (Показывает рукой, не глядя.) Вон живет!
Баклушин. Покорно вас благодарю.
Епишкин. Не за что-с.
Баклушин. Можно войти в лавку написать письмо? Я вам заплачу за бумагу.
Епишкин. Пожалуйте! Там мальчик вам подаст.
Баклушин входит в лавку. Из калитки дома Мигачевой выбегает Елеся, растрепанный, в халате и останавливается подле калитки; из калитки показывается ухват.
Явление седьмое
Епишкин, Елеся, потом Мигачева.
Елеся. Но оставьте, маменька! Нехорошо! Эх, нехорошо! (Хочет войти в калитку.)
Мигачева (показываясь с ухватом). И не подходи, так, кажется, вот и разражу.
Епишкин (хохочет). Хорошенько его, Домна Евсигневна! Хорошенько!
Елеся. К чему это, маменька! Ну, к чему это! Вот уж к вам это не пристало, всегда скажу, что не пристало. Но оставьте же! Вон барышни смотрят. Ай, ай, ай! А барышни-то смотрят!
Мигачева (выходя из калитки). Очень мне нужно, что они смотрят! Я никого знать не хочу.
Елеся. А я-то, маменька, я-то! Меня-то пожалейте, ведь я жених…
Мигачева. Ах ты, наказанье ты мое! Посудите только, добрые люди: дома денег ни копейки, а он чижей ловит да на барышень любуется. Вот я тебя!
Елеся. Позвольте, маменька! Да на что нам много денег? Нам ведь серебряных подков не покупать, потому у нас и лошадей нет.
Мигачева. Какие серебряные подковы! Какие лошади! Двугривенного в доме нет, а он…
Елеся. Позвольте! Это верно. Нам теперь с вами какой-нибудь двугривенный дороже каменного моста.
Мигачева. Какой мост? Квартальный давеча страмил, страмил при людях, что забор не крашен.
Елеся. Важное дело! Кабы хитрость какая! А то взять голландской сажи, – вот и весь состав.
Мигачева. Когда еще этот твой состав будет!
Елеся. Одна минута.
Мигачева (ставит ухват у калитки). Без денег-то? Наказанье…
Елеся. Сейчас умом раскину…
Мигачева. Каким умом, каким умом? Наказанье ты мое, данное! Дурак ведь ты у меня круглый, наказанье ты мое.
Елеся. Что ж, что дурак, маменька? Видно, родом так.
Мигачева. Да отец-то был у тебя умный.
Елеся. Я, маменька, не в отца.
Мигачева (берет ухват). В мать, что ли? Дурак, дурак! Непочтительный! Неуважительный! Супротивник ты для всего настоящего, что по закону требовается.
Епишкин (хохочет). Учи его, учи!
Мигачева. Слышишь, что добрые-то люди говорят, слышишь? Вон из моего дому, вон! Я и знать тебя не хочу.
Елеся. Нет, вы, маменька, такими словами не шутите! Такие-то слова своему детищу надо осторожно. Вы знаете, можно человека и в тоску вогнать.
Мигачева. Ах, скажите пожалуйста, нужно мне очень.
Елеся. А в тоске куда ж человеку? Одно средство – в Москву-реку.
Мигачева. Что ты, не грозить ли мне вздумал?
Елеся. Не грозить, а прочитают вам в «Полицейских ведомостях»…
Мигачева. Какие такие новости прочитают?
Елеся. Найдено тело неизвестного человека…
Мигачева. Ишь ведь глупости…
Елеся. «Юноша цветущих лет, прекрасной наружности». И тут же еще добавлено: «так видно, что по неприятностям от родителев».
Мигачева (ставя ухват). Скажите пожалуйста, что он городит! Не рада, что и связалась. Уйди ты от греха с глаз моих! (Идет в калитку.)
Епишкин. Домна Евсигневна! Ухват-то захвати!
Мигачева. Ах, извините! Я, знаете, по своей горячности, замечталась очень, вот какое невежество на улицу принесла.
Епишкин. Нет, ничего, что за невежество! И ухват свою службу сослужит, как ничего другого под руками нет. Я тоже дома попросту.
Мигачева (берет ухват). Ах, право! Вдруг закипит, и сделаюсь без понятия, даже людей совестно. (Уходит.)
Из лавки выходит Баклушин с письмом.
Явление восьмое
Епишкин, Елеся, Баклушин.
Баклушин (Епишкину). Я там заплатил. Покорно вас благодарю. Не можете ли вы передать это письмо?
Епишкин (будто не слышит). Чего-с?
Баклушин. Передать по адресу.
Епишкин. Эх, барин! Борода-то у меня уж поседела.
Баклушин. Что мне за дело до вашей бороды!
Епишкин. А то и дело, что отдавайте сами. Ходили тоже и мы по этим самым делам, да уж теперь у меня у самого дочери двадцать седьмой годочек пошел.
Баклушин. По каким «этим делам»?
Епишкин. Ну, что уж! Вон парень-то без дела гуляет, пошлите его. Ему все равно, он у нас не спесив.
Баклушин (Елесе). Не можете ли вы доставить письмо?
Елеся. Кому-с?
Баклушин. Настасье Сергевне.
Елеся. Барышне-с?
Баклушин. Да, барышне.
Елеся. Истукарий Лупыч, а по затылку нашего брата за эти дела не скомандуют?
Епишкин. Снеси! Ничего.
Елеся. Я снесу, Истукарий Лупыч.
Епишкин. Снеси! Барин на чай даст.
Баклушин. Разумеется, не даром. (Дает Елесе двугривенный.) Так отдайте письмо. Эта барышня у кого живет?
Елеся. У тетеньки-с.
Баклушин. Чем они занимаются?
Елеся. Рубашки берут шить русские ситцевые на площадь на продажу, по пятачку за штуку.
Баклушин. Что? Может ли быть?
Елеся. Так точно-с.
Баклушин. Да, вот что. Так дайте письмо. (Берет письмо назад.) Ну, все равно, снесите! (Отдает опять и уходит.)
Елеся. Я отдам, Истукарий Лупыч. (У двери Крутицкого.) Получите письмецо! (Подает в дверь и подходит к лавке.)
Епишкин. А двугривенный-то тебе годится.
Елеся. И вот сейчас, Истукарий Лупыч, голландской сажи на всю эту сумму, только побольше.
Епишкин. Поди, отвесят тебе.
Елеся. Вот ведь она, кажется, сажа; а и матери удовольствие, и квартальному мило. (Уходит в лавку.)
Епишкин (встает). Фетинья!
Фетинья выходит из лавки.
Явление девятое
Епишкин, Фетинья.
Фетинья. Что угодно, Истукарий Лупыч?
Епишкин. Допреж в нашей стороне смирно было, а теперь стрекулисты стали похаживать да записочки любовные летают.
Фетинья. Что вы говорите!
Епишкин. Так точно. Значит, Ларису поскорей замуж надо.
Фетинья. Да, разумеется, надо.
Епишкин (вздохнув). Так-то, брат, вот что!
Фетинья. Признаться, есть женишишко-то, да не по ней.
Епишкин. Ну, да хоть уж плохенький, да только бы с рук скорей. Это вы только сами себе цену-то высоку ставите, да еще женихов разбираете; а по-нашему, так вы и хлеба-то не стоите. Коли есть избранники, так и слава богу, отдавай без разбору! Уж что за товар, коли придачи нужно давать, чтоб взяли только.
Фетинья. Коли вы дочь свою к товару применяете…
Епишкин. Товар ли, не товар ли, как хочешь ее поворачивай, все дрянь. (Уходит в лавку, Фетинья за ним.)
Из лавки выходит Елеся. Лариса, разряженная, гуляет по саду подле развалившегося забора.
Явление десятое
Елеся, Лариса, потом Фетинья.
Елеся. Наше почтение-с!
Лариса (постоянно держась прямо). Здравствуйте! Тиранов моих нет здесь?
Елеся. Это вы насчет родителев-с?
Лариса. Они-то самые мои тираны и есть.
Елеся. Почему же вы так заключаете?
Лариса. Я хочу завсегда у людей на виду быть, а мне из дому выходу нет. Я, собственно, своего требоваю, чтоб люди меня видели, потому зачем же я наряды имею.
Елеся. Это действительно-с.
Лариса. Маменька говорит, что я разговору не знаю. Коли хотят, чтоб я знала разговор, дайте мне настоящих кавалеров. А то как же мне знать разговор, коли я все сижу одна и сама промежду себя думаю?
Елеся. О чем же вы думаете?
Лариса. Я этого не могу сказать, потому мы с вами довольно далеки друг от друга. Имеете так близко предмет и сами себя отдаляете.
Елеся. И видит кошка молоко, да рыло коротко. Ежели б я только смел-с… Потому как я давно чувствую любовь.
Лариса. Может, ваша любовь бесчувственная.
Елеся. Как же может быть бесчувственная, когда вы харуим.
Лариса. Коли вы так чувствуете, отчего вы ко мне не подойдете?
Елеся. Стало быть, мне к вам в сад поступить?
Лариса. Поступайте!
Елеся переходит в сад. Фетинья выходит из лавки и садится на стуле.
Вы умеете целоваться?
Елеся. Похвастаться против вас не смею; а так думаю, что занятие немудреное.
Лариса. Поцелуйте меня!
Елеся. Даже очень приятно-с. (Целует Ларису.)
Фетинья прислушивается.
Лариса. Нет, вы не умеете.
Елеся. Да нечто б я так-с, только звание мое очень низко, так я сумлеваюсь.
Лариса. Коль скоро я вам позволяю, вы забудьте ваше звание и целуйте, не взирая.
Елеся. Только за смелостью и дело стало. (Крепко целует Ларису.)
Фетинья заглядывает в сад.
Фетинья. О, чтоб вас! Напугали до смерти. Я думала, что чужой кто. Ведь от Ларисы все станется. А это ты, мой милый!
Елеся (потерявшись). Про-про-валиться здесь на месте, не нарочно-с. И сам не знаю, как это я! Вот поди ж ты, Фетинья Мироновна, на грех мастера нет.
Фетинья. Ну, с тобой после. Ты только хоть уж молчи-то. (Ларисе.) А тебе это среди белого-то дня и не совестно! На-ко! На всем на виду! Солнышко-то во все глаза смотрит…
Лариса. Вам давно сказано, что я не могу жить против своей натуры. Чего ж еще! Чем же я виновата, когда моя такая природа? Значит, я все слова ваши оставляю без внимания! (Уходит.)
Фетинья. Что с ней будешь делать! Нет, уж надоело мне в сторожах-то быть. (Уходит.)
Елеся. Вот так раз! Что-то мне теперь будет за это? Чего-то мне ожидать? Быть бычку на веревочке!
Петрович выходит из лавки.
Явление одиннадцатое
Елеся, Петрович.
Елеся. Абвокат, выручай! Попался, братец!
Петрович. В каком художестве?
Елеся. Купеческую дочь поцеловал.
Петрович. Дело – казус. Какой гильдии?
Елеся. Третьей.
Петрович. Совершенных лет?
Елеся. Уж даже и сверх того.
Петрович. По согласию?
Елеся. По согласию.
Петрович. Худо дело, да не очень. А где?
Елеся. В саду у них.
Петрович. А как ты туда попал?
Елеся. Через забор, друг.
Петрович. Шабаш! Пропала твоя голова.
Елеся. Ох, не пугай, я и так пуганый.
Петрович. Непоказанная дорога – вот что! Тут с их стороны большая придирка.
Елеся. Придирка?
Петрович. Но и с нашей крючок есть.
Елеся. Какой, скажи, друг?
Петрович. Ты держись за одно, что ногами ты стоял на общественной земле.
Елеся. На общественной?
Петрович. На общественной. А только губы в сад протянул.
Елеся. Облегчение?
Петрович. Большое.
Елеся. Спасибо, приятель! Чай за мной.
Уходят в калитку. Анна Тихоновна и Настя сходят с крыльца.
Явление двенадцатое
Анна, Настя.
Настя. Ах, тетенька, голубок! Вот бы поймать!
Анна. Лови, коли тебе хочется. Дитя ты мое глупое, беда мне с тобой. Не с голубями тебе, а с людьми жить-то придется.
Настя. Улетел. (Снимает с головы небольшой бумажный платок.) Ах, этот платок, противный! Сокрушил он меня. Такой дрянной, такой неприличный, самый мещанский.
Анна. Что делать-то, Настя! Хорошо, что и такой есть. Как обойдешься без платка!
Настя. Да, правда. От стыда закрыться нечем.
Анна. Ох, Настя, и я прежде стыдилась бедности, а потом и стыд прошел. Вот что я тебе расскажу: раз, как уж очень-то мы обеднели, подходит зима, – надеть мне нечего, а бегать в лавочку надо; добежать до лавочки, больше-то мне ходить некуда. Только, как хочешь, в одном легком платье по морозу, да в лавочке-то простоишь; прождешь на холоду! Затрепала меня лихорадка. Вот где-то Михей Михеич и достал солдатскую шинель, старую-расстарую, и говорит мне: «Надень, Аннушка, как пойдешь со двора! Что тебе дрогнуть!» Я и руками и ногами. Бегаю в одном платьишке. Побегу бегом, согреться не согреюсь, только задохнусь. Поневоле остановишься, сердце забьется, дух захватит, а ветер-то тебя так и пронимает. Вот как-то зло меня взяло; что ж, думаю, пускай смеются, не замерзать же мне в самом деле, – взяла да и надела солдатскую шинель. Иду, народ посмеивается.