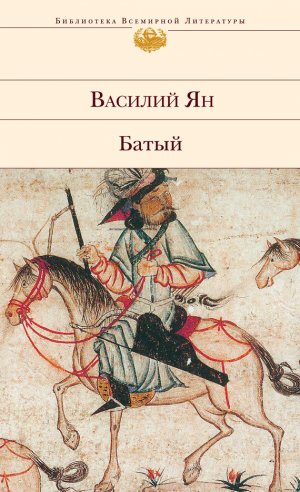
«…Итак, отправимся в далекий путь, в неведомые страны, где и завтрашний день, и сегодняшний, и послезавтрашний принесут тебе, читатель, то, чего ты еще не знаешь».
Из старинной арабской повести
Часть первая
Завещание Чингисхана
Если бы горе всегда дымилось, как огонь,
То дымом окутался бы весь мир.
Шахид из Балха, IX век
Глава первая
В хижине восточного летописца
По узкому листу бумаги быстро водила тростинкой смуглая сухая рука. Факих[1] читал вполголоса возникавшие одна за другой строки, начертанные арабской вязью.
В хижине было тихо. Монотонному голосу факиха вторило однообразное шуршание непрерывного дождя, падавшего на камышовую крышу.
«…Расспрашивая всех знающих, я хотел узнать о завещании Чингисхана.[2] Но несчастье обрушилось на меня. В Бухаре я был схвачен святыми имамами.[3]
Заявив, что я великий грешник, не почитающий Аллаха, они заперли меня в гнусной, низкой железной клетке. Ползая в ней на четвереньках, как гиена, я не мог выпрямиться. Одежда на мне истлела, и я связывал концы прорех. Раз в день тюремный сторож наливал в мою деревянную плошку мутную воду, но чаще забывал об этом. Иногда он приводил скованного раба, и тот, ругаясь, скоблил крюком грязный пол моей клетки. Подходили родственники других заключенных и со страхом заглядывали ко мне – ведь я был «проклятый святыми имамами», «осужденный на гибель вечную и теперь и после смерти, где огонь будет его жилищем…».
Факих поправил нагоревший фитиль глиняной светильни и продолжал читать:
«Однажды я заметил, что возле клетки, не боясь насмешек и проклятий, стоит девушка из презираемого кипчаками бродячего племени огнепоклонников – люли. Она положила мне горсть изюма и орехов и отбежала. На другой день она явилась снова, закутанная в длинную, до земли, черную шаль. Девушка бесшумно проскользнула вдоль тюремной стены и принесла мне лепешку и кусок дыни. Потом, ухватившись смуглыми пальцами в серебряных кольцах за прутья клетки, она долго, пристально разглядывала меня черными непроницаемыми глазами и тихо прошептала:
– Помолись за меня!
Я подумал, что она смеется, и отвернулся. Но на следующий день она снова стояла возле клетки и опять настойчиво повторяла:
– Помолись за меня, чтобы вернулся мой воин, мое счастье!
– Я не умею молиться, да и к чему? Ведь я проклят святыми имамами!
– Имамы хуже лукавого Иблиса.[4] Они раздуваются от злобы и важности. Если они тебя прокляли, значит, ты праведник. Попроси милости Аллаха и для меня, и для того, кто далеко.
Я обещал исполнить ее просьбу. Девушка приходила еще несколько раз. Для ее утешения я говорил, что повторяю по ночам девятью девять раз молитвы, приносящие счастье.[5]
Однажды девушка – ее звали Бент-Занкиджа – пришла с юношей, не знающим улыбки. У него были черные кудри до плеч, серебряное оружие и желтые высокие сапоги на острых каблуках. Он молча посмотрел на меня и повернулся к девушке:
– Да, это он… не знающий лукавства… Я помогу ему!
Мы долго глядели в глаза друг другу. Чтобы не погубить себя перед зорко смотревшим на нас тюремщиком, мы боялись признаться в том, что мы – братья… Высокий юноша был Туган – мой младший брат, которого я потерял давно и не надеялся уже увидеть!..
Глядя на девушку и словно говоря с ней, Туган сказал:
– Слушай меня, праведник, проклятый имамами, и делай, что я говорю. Я принес три черных шарика. Ты их проглотишь. Тогда твой разум улетит отсюда через горы в долину прохладных потоков и благоухающих цветов. Там пасутся белые как снег кони и поют человеческими голосами золотые птицы. Там ты встретишь девушку, которую любил в шестнадцать лет.
Я прервал юношу:
– А потом, проснувшись, я буду снова грызть железные прутья клетки? Мне не надо такого сна!..
– Подожди спорить, неукротимый, и слушай дальше… Пока твой разум будет наслаждаться неомрачаемым забвением в горной долине белых коней, я скажу твоим тюремщикам, что ты умер. По законам веры, твое тело немедленно предадут земле. Рабы-кузнецы сломают клетку, подцепят тело крючьями и поволокут в яму казненных. Как бы ни было больно, не закричи и не заплачь! Иначе тебе разобьют голову железной булавой… В полночь, когда ты будешь лежать в яме среди трупов и подползут собаки и шакалы, чтобы грызть тебе ноги, я буду ждать с тремя воинами. Мы завернем тебя в плащ и быстро донесем до нашего кочевья. Мы начнем колотить в бубны и медные котлы, петь песни и призывать твой разум из долины забвения. Клянусь, жизнь вернется в твое тело, и ты очнешься. Тогда, вскочив на коня, ты уедешь далеко, в другие страны, где начнешь новую жизнь…»
Факих очнулся и прислушался. Ему почудился шорох за тонкой стеной хижины. Несколько мгновений он оставался неподвижен, потом снова стал писать:
«Случилось так, как говорил не знающий улыбки юноша. Благодаря смелой помощи я неожиданно оказался на свободе, измученный, истощенный, но живой. Несколько дней я пробыл у огнепоклонников в песчаной степи, а затем направился к городу Сыгнаку,[6] где и начал вторую жизнь…»
Глава вторая
Гость из мрака
Факих Хаджи Рахим снова остановился, осторожно положил на медный поднос тростинку для письма и провел ладонью по седеющей бороде. За тонкой стеной сквозь шум равномерно падающих капель ясно слышался шорох.
«Чьи могут быть шаги во мраке этой холодной осенней ночи? Только злой человек, толкаемый недобрым умыслом, станет бродить в сыром тумане…»
Глиняный светильник на связке старых книг освещал тусклым огоньком неровные закоптелые стены, старый ковер и изможденного неподвижного ученого. Лоскут пестрой материи, закрывавший узкое окошко, слегка заколебался.
Большой белый пес, свернувшийся у двери, навострил ухо и глухо заворчал. В окно просунулась смуглая рука и приподняла край занавески. Во мраке блеснули скошенные черные глаза.
– Кто здесь? – спросил Хаджи Рахим и опустил руку на голову вскочившей собаки. – Лежи, Акбай!
– Обогрей потерявшего дорогу! Дай просушить промокшую одежду! – Незнакомец говорил едва слышным шепотом.
«Он говорит, точно боится шума… – подумал факих. – Можно ли верить ему?»
– Я вижу у тебя книги… Не ты ли учитель Хаджи Рахим?
– Ты не ошибся – это я!
– Тогда скорее впусти меня! Тебе посылает салям великий визирь Мавераннагра Махмуд-Ялвач…
– Это имя откроет пришедшему дверь моей хижины, замкнутую для всех остальных.
Факих отодвинул деревянный засов, и незнакомец, нагнувшись, шагнул в дверь. Загорелый, коренастый, в одежде монгольского покроя, он выпрямился и огляделся. Хаджи Рахим, сдерживая рычащую собаку, наблюдал за пришедшим. Уверенность и властность чувствовались во всех его движениях. Он развязал пояс, снял верхнюю одежду и повесил ее на деревянный гвоздь. С трудом стащив желтые намокшие сапоги, ночной гость отбросил их в сторону и опустился на старый, истертый коврик близ потухающего очага. Затем так же спокойно, как будто у себя дома, он вытер мокрые руки об овчину лежавшей на ковре шубы.
– Надо потушить огонь! – Монгол зажал пальцами коптивший фитиль глиняной светильни. Стало совсем темно, только на месте занавески слегка засветилась прорезь окна.
– Зачем ты это сделал? – прошептал факих.
– За мною гонятся вооруженные люди, убийцы моего отца, – ответил шепотом монгол. – Они хотят прикончить и меня. Твое светящееся окно видно издали; поэтому, несмотря на темную ночь, я нашел тебя… Выгони собаку!
– Эта собака – мой единственный защитник…
– Прочь ее! Она рычит и поднимает шум на весь Сыгнак.
– Защитника не бойся!
– Собака будет ходить около дома и предупредит нас, если сюда подойдут подлые люди.
Факих, невольно повинуясь властному гостю, отворил дверь и вытолкнул лохматого пса в темноту. Хаджи Рахим остановился, колеблясь, не лучше ли убежать, но сильная рука потянула его обратно. Гость сам задвинул деревянный засов, не выпуская факиха, подвел его к ковру и вместе с ним опустился на колени. Он стал шептать торопливо, прерывая речь и прислушиваясь, когда пес за тонкой стеной начинал ворчать:
– Не открывай засова. Они могут подскакать и будут караулить за дверью. Они предательски убили моего отца, переломив ему хребет, а я сварю их в котле живыми. Клянусь вечным синим небом, я это сделаю!..Если ты попытаешься убежать отсюда, я тебя задушу!..
Незнакомец улегся на бок, что-то бормотал, но не выпускал руки хозяина, крепко сжимая ее горячими пальцами. Его трясла лихорадка. Вдруг он вскочил, прислушался и отошел к стене.
– Это они! – прошептал он. – Смерть меня догнала! Смотри не выдавай меня!
Снаружи донесся неистовый лай собаки. Кто-то подошел, слышались спорящие голоса. Сильный удар потряс стену.
– Эй, хозяин! Открывай дверь.
Хаджи Рахим ответил:
– Кто смеет ночью беспокоить писца окружного начальника?
– Открывай скорее, или мы в куски развалим твою берлогу! Мы ищем убежавшего преступника.
– Два дня я лежу больной, никто не пришел, чтобы разжечь очаг и согреть мне воды. Разыскивайте преступника в камышах, а не в доме мирного переписчика книг.
Грубые голоса продолжали спорить, кто-то стучал в дверь. Вдруг дикий крик, похожий на рев раненого зверя, покрыл шум. Послышались вопли и стоны. Они стали удаляться и замолкли. Хаджи Рахим хотел заговорить, но ладонь гостя зажала ему рот.
– Ты не знаешь, как они коварны, – шептал он на ухо. – Они все делают с умыслом. Одни ушли, чтобы спрятаться в засаде, а за дверью, возможно, подстерегают другие. Надо выждать и готовиться к бою.
Оба подошли к узкому окну, затаив дыхание, стараясь что-либо разглядеть во мраке ночи. Слышались невнятные шорохи, иногда сильнее шелестел по листьям мелкий дождь.
Глава третья
Немощен человек без коня
Когда занавеска окна зарозовела от первых солнечных лучей, незнакомец натянул сапоги, осмотрел свой намокший синий чапан[7] и швырнул его в угол. Не спросив у хозяина согласия, он снял с деревянного гвоздя старый, выцветший плащ и с трудом натянул его на широкие плечи.
– Плохо мне без коня! Трудно будет ускользнуть… Быть может, выручит твой порванный плащ. Я притворюсь нищим…
Он подошел к двери и заглянул в щель. Резко отодвинулся и прижался к стене. Помедлив, сделал знак факиху, чтобы тот открыл дверь.
Послышался слабый стук. Хаджи Рахим отодвинул засов, и дверь распахнулась.
На пороге, в свете розовой зари, стояла, улыбаясь, девушка, почти девочка, в длинной, до пят, оранжевой рубашке, с голубыми бусами на смуглой шее. Она держала глиняный кувшин, прикрытый широким зеленым листом. На листе лежали три только что испеченные, подрумяненные лепешки.
– Ас-салям-алейкум, Хаджи Рахим! – сказала беззаботно девушка, и две веселые ямочки заиграли на ее щеках. – Мой почтенный благодетель Назар-Кяризек посылает тебе только что надоенное молоко, эти горячие лепешки и спрашивает, не нужно ли еще что-нибудь.
Приняв кувшин со словами благодарности, Хаджи Рахим вышел вслед за девушкой из хижины. Кусты ежевики блестели, осыпанные каплями дождя. Старый пес Акбай сидел на дорожке, косясь налитыми кровью глазами.
На сырой траве лежал человек. Его прикрывал шерстяной серый плащ, какой носят арабы. Белый оседланный конь, привязанный на аркане, пощипывал невдалеке траву. Он нетерпеливо подымал маленькую голову с черными живыми глазами и встряхивал шелковистой гривой, отгоняя вьющихся слепней.
Факих вернулся в хижину. Ночной гость ждал у двери:
– Прощай, мой учитель Хаджи Рахим!
Факих удержал незнакомца за рукав:
– Возьми еды на дорогу!
– Неужели ты до сих пор не узнал меня? – спросил гость, пряча за пазуху горячие лепешки. – Десять лет назад ты учил меня держать калям[8] и писать трудные арабские слова. Я многое перезабыл, но два слова не забуду: «Джихан-гир» – покоритель вселенной… Скоро ты обо мне услышишь! Я пришлю за тобой…
Он остановился на пороге и с удивлением рассматривал девушку:
– Как зовут тебя? Откуда ты?
– Меня зовут Юлдуз.[9] Я сирота, живу у Назара-Кяризека.
– Твой голос поет, как свирель. Ты будешь счастливой звездой на моем пути…
Он быстро шагнул через порог и увидел белого коня:
– Вот конь, посланный мне небом! Это будет конь моих побед, как белый Сэтэр, походный конь Чингисхана. Теперь я снова силен.
Мягкой, хищной походкой молодой монгол проскользнул по траве к белому коню, бесшумно выдернул из земли железный прикол и, свернув кольцом аркан, легко поднялся в седло. Горячий конь бросился вскачь и скрылся за тополевой рощей.
Девушка смотрела удивленными глазами вслед незнакомцу, затем перевела блестящий взгляд на Хаджи Рахима. Тот стоял неподвижно, задумчиво положив руку на бороду.
– Это разбойник? – спросила девушка.
– Это необычайный человек!
– Почему? Ведь он похитил чужого коня?
– Он будет на нем покорять царства… Иди, звездочка Юлдуз, домой! Скажи почтенному Назару-Кяризеку, что больной факих благодарит и помнит его заботу и милость.
Девушка быстро повернулась и пробежала несколько шагов, затем степенно пошла по тропинке, стараясь держаться, как взрослая.
Серый плащ зашевелился. Старый пес, отскочив, хрипло залаял. Из-под плаща показалась голова юноши с черными вьющимися волосами. Он стремительно вскочил, поднял закрученный синий тюрбан и надвинул его на правую бровь. Это был воин, с кривой саблей и двумя кинжалами на поясе.
– Где мой конь? – закричал он и, подбежав к месту, где только что пасся белый жеребец, наклонился к земле, разглядывая следы. – Я узнаю: к коню подошел… человек в монгольских сапогах… Он украл моего боевого коня! К чему моя светлая сабля, если вор далеко!.. Без коня я немощен, как сокол с перебитыми крыльями! Какой я теперь воин! – И, схватившись за виски, юноша со стоном повалился на землю.
– Не горюй, – сказал, подходя, факих. – На твоем коне уехал человек, который даст тебе взамен тысячу кобылиц…
Юноша лежал неподвижно, а Хаджи Рахим утешал его:
– Поверь моим словам, ты ничего не потерял, а может быть, многое выиграл…
– Это был мой верный, испытанный друг!.. На нем я бросался в битву, и не раз он спасал меня от смерти. Горе воину без коня!
– Я знаю того, кто едет сейчас на твоем белом скакуне, и говорю, что твой конь к тебе вернется! Это так же верно, как то, что меня зовут факих Хаджи Рахим.
Юноша встал, резким движением подхватил с земли свой плащ и склонился перед ученым:
– Если я вижу перед собой прославленного знаниями факиха Хаджи Рахима, прозванного аль-Багдади, то я верю твоим словам. Да будут уют, простор и благодать в твоем доме! Я прошу милости и мудрого совета страннику, приехавшему из далеких гор Курдистана. Привет тебе от Джелаль эд-Дина,[10] храбрейшего из героев!
– Юный брат мой! – сказал факих. – Ты прошел невредимо через пучины бедствий в страшные дни, когда потрясается вселенная, и принес мне слова привета от далекого прославленного героя, – этим ты доставил мне двойную радость. Войди в мой скромный дом!
Глава четвертая
Тропа жизни джигита
Я привязал мою жизнь и мой век
К острию моего копья.
Поэма «Джангар»
Молодой воин вошел, пригнувшись, в узкую дверцу хижины и сел на пятки у самого входа. Хаджи Рахим опустился на старый коврик близ очага. Оба провели ладонями по щекам, затем, как требует приличие, долго молчали, рассматривая друг друга.
Наконец с достоинством и грустью человека, видевшего на своем веку множество людей, факих соединил концы пальцев и сказал:
– Кто ты? Какого рода? Каким именем наградил тебя твой белобородый отец? В какой далекой стране ты впервые увидел свет солнца? Хоть ты и говоришь по-кипчакски, но движения твои и одежда показывают, что ты иноземец.
Воин, вежливо покашливая в руку, заговорил ровным, тихим голосом:
– Зовут меня Арапша, но мои боевые товарищи дали мне прозвище «Ан-Насир»,[11] потому что в битве, говорят, я теряю разум, становлюсь злобным, бросаюсь в самые опасные схватки и обращаю врага в бегство… Хотя я сказал тебе, что зовут меня Арапша, но как прозвал меня мой почтенный отец и где я провел свое детство – клянусь! – я не знаю. Помню смутно, что жил я в лесу около озера, плавал с отцом в лодке и видел, как он высыпал из сетки в корзину много серебристых рыб. Помню, как тепло было лежать на руках у матери и слушать ее песни. Помню еще маленькую сестренку… Потом все это кончилось. Напали разбойники и увели меня и сестренку в большой город, где продали нас на парусный корабль. На корабле было очень много мальчиков и девочек. Корабельщики набили нас в трюм корабля и заперли вместе со стадом больших белых гусей. Гуси щипали и клевали нас. Корабль плыл по широкой реке, затем по морю. Корабельщики распродали детей на базаре. Я никогда больше ни с ними, ни с моей сестрой не встречался.
– Все это происходит из-за гибельной страсти купцов к богатству. Ослепленные блеском золота, жадные купцы захватили детей и бросили их в чужие города, где им придется влачить всю жизнь мучительное иго рабства! – вздохнул факих.
– Вероятно, я из какой-либо северной страны: мордвинов, саксинов или урусов, – продолжал Арапша, – потому что эти рабы, особенно урусы, славятся своей силой. А меня Аллах наградил большой крепостью. Я был продан на базаре невольников в Дербенте, где находятся кавказские Железные Ворота. Я переходил от одного хозяина к другому. Когда я подрос, меня заставляли исполнять самые трудные работы: вместе с ослом вертеть колесо для черпания воды из колодца, с колодкой на шее вскапывать засохшую, как камень, землю, таскать бревна. И небо в годы моего рабства казалось мне таким черным и сухим, как разрытая мною чужая земля!..
Хаджи Рахим с горечью сказал:
– Хозяин скорее пожалеет четвероногую скотину, чем одаренного разумом раба!
– Мне было семнадцать лет, когда тропинка моей жизни повернулась в другую сторону. Однажды я пас на склоне высокой обрывистой горы баранов моего господина, азербайджанского хана. Неожиданно над кручей показался отряд всадников. Впереди, на прекрасном вороном коне, ехал молодой воин. Вдруг размытая дождями земля осела под конем, и он покатился в пропасть. Извернувшись, как кошка, воин удержался за куст. Я бросил конец аркана и вытащил воина. Я сказал: «Я сумею спасти и твоего коня!» Витязь ответил: «Если ты спасешь моего вороного, можешь просить у меня все, что захочешь». Джигиты распустили два аркана, одним я обвязал себя вокруг пояса и сполз вниз по обрыву. Конь чудом удержался на самом краю пропасти и спокойно пощипывал траву. Злой жеребец зафыркал, когда я приблизился к нему, но я обмотал его арканом, и джигиты вытащили коня на тропинку. Мне было трудно лезть обратно, мне мешали оковы на ногах…
– Храбрый юноша! Небо хранило тебя! – воскликнул Хаджи Рахим.
– Воин стал расспрашивать меня о дороге. Я рассказал ему о всех тропах, предупредил его о местах, где обычно курды делают засады и нападают на проезжих, и посоветовал лучшую обходную дорогу. Тогда он спросил меня: «Что же ты теперь хочешь?» – «Быть свободным!» – ответил я. Витязь сказал: «Следуй за мной, и ты мечом заслужишь себе славу!..» Воин оказался прославленным скитальцем Джелаль эд-Дином, который не боялся воевать с монголами и разбил их при Перване.[12] С того дня я стал воином в его отряде. Джелаль эд-Дин дал мне кривую саблю и боевого коня, которого я сегодня потерял, бесстыдно заснувши! – И юноша снова застонал.
– Рассказывай дальше, конь к тебе вернется! – заметил факих.
– В тот день, когда я, свободный, на горячем коне, оказался в отряде славного Джелаль эд-Дина, я увидел, что небо надо мной не черное, а снова сияет, голубое, как бирюза, как в моем далеком детстве, когда я с отцом плавал на лодке по лесному озеру. И я понял тогда, что в мире нет ничего слаще свободы!.. Три года я всюду следовал за смелым полководцем, оберегая его в бою, и прославился как «Ан-Насир – победоносный». Джелаль эд-Дин говорил мне не раз, что он знал в порабощенном монголами Хорезме одного ученого, факиха, самого светлого из светлых и доблестных людей, искателя правды, Хаджи Рахима, прозванного аль-Багдади. «Если, – сказал он, – на тебя надвинется черная туча беды, назови ему мое имя, и он протянет тебе руку милосердия…»
Хаджи Рахим встал, подошел к Арапше и протянул ему обе руки:
– Имя Джелаль эд-Дина сияет для меня, как яркая звезда среди темной ночи. Сядь рядом со мной!
Факих и Арапша взялись за руки, прижались плечами и затем уселись рядом на старом коврике.
– Расскажи мне теперь, мой юный друг Арапша Ан-Насир, почему ты расстался с доблестным Джелаль эд-Дином? Жив ли он? Не попал ли в руки беспощадным монголам? Ветер неожиданности часто поворачивает жизнь человека. Иногда храбрый воин, казалось бы, уже достиг вершины совершенства, но вдруг обрушивается в пропасть несчастья и возвращается к тому, с чего начал…
– Так случилось и со мной! – сказал юноша. – После неудачной для Джелаль эд-Дина стычки с отрядом монголов я с трудом спасся и едва ускользнул от плена. После этого я больше не встречался с храбрым моим покровителем, ушедшим далеко на запад. Я направился на восток горными тропами, отбился от шайки диких горцев и наконец присоединился к каравану, уходившему в Хорезм. Я горел желанием увидеть новые страны и договорился поэтому с купцами охранять их караван. В пути через пустыню на нас напали разбойники. Я обезумел от ярости, зарубил несколько грабителей и обратил в бегство остальных. Однако купцы этого не оценили. Прибыв благополучно в Хорезм, они так мало дали мне за свое спасение – да покарает их Аллах! – что я с трудом добрался сюда, в Сыгнак. Здесь я решил разыскать тебя, факел премудрости и маяк знаний, почтенный Хаджи Рахим. Когда этой ночью я подъезжал к твоему дому, я услышал в темноте, что какие-то люди ломают твою дверь. Я бросил им свой боевой клич, напал на них, ранил троих, одному отсек ухо, и грабители побежали не оглядываясь.
– Так это ты заревел, как раненый зверь?
Ученый смотрел удивленными глазами на скромно сидевшего юношу.
– Как же после этой схватки ты решаешься оставаться здесь? Ведь убежавшие были монголы; они пожалуются своему начальнику на тебя, а заодно и на меня, и он пошлет целый отряд, чтобы схватить нас обоих. Монголы придумают тебе мучительную казнь за то, что ты осмелился поднять меч против этих новых владык вселенной. Нам нужно немедленно бежать… Ты, молодой и сильный, сможешь убежать, а как убежать мне, старому и слабому?
Арапша встал и показал на плеть, висевшую на поясе:
– Вот все, что осталось от моего коня! Без коня я тоже далеко не уйду. Все же лучше выбраться подальше от этого места, чем сидеть, ожидая казни. Хотя ты и слаб, почтенный Хаджи Рахим, но, как дервиш,[13] ты привык скитаться по дальним дорогам. Пойдем отсюда в степь и укроемся у кочевников. Кто сидит на месте, к тому подбирается скорпион несчастья.
– Ты говоришь, как истинный воин, – сказал факих. – Я ухожу с тобой, чтобы не попасть снова в железную клетку.
Он снял со стены фонарь и тыквенную бутылку и привесил их к поясу. Вместо белого талейсана[14] он надвинул на голову колпак дервиша с белой повязкой паломника-хаджи. Достал длинный посох, всунул ноги в старые туфли и остановился посреди хижины.
– Я готов отправиться на конец вселенной. Я в жизни никому не сделал зла, а между тем многие годы мне приходилось скитаться, точно преступнику… Теперь снова начнется полоса скитаний… Моего старого плаща нет… Придется надеть одежду, которую оставил ночной гость…
Факих поднял синий монгольский чапан:
– Никогда у меня не было такой красивой одежды с такими пуговицами из шести красных камней, похожих на драгоценные рубины… Я здесь бросаю все! Мне только жаль оставить написанную мною книгу о необычайных событиях, пережитых Хорезмом во время нашествия краснобородого Чингисхана!
– Подожди горевать! – Арапша почтительно взял руку Хаджи Рахима и провел ею по своим глазам в знак того, что с этого времени он добровольно делается его мюридом.[15] – Позволь мне отныне стать твоим учеником, следовать всюду вместе с тобой и взять с собой книгу, о которой ты говоришь. Я спрячу ее в дорожную сумку.
– Ты это хорошо сказал! – Факих передал Арапше большую книгу в кожаном переплете и медную коробочку – пенал для письма. Печальным взором он окинул хижину, в которой провел несколько лет. – Теперь скорее вперед!
Оба вышли из хижины. Хаджи Рахим заложил дверь деревянным засовом.
– Акбай! Поди сюда! – крикнул он собаке. – Ты будешь сторожить наш дом. Твой хозяин едва ли сюда вернется!
Старый белый пес покорно улегся на пороге хижины и, подняв голову, недоумевая, смотрел красными глазами вслед двум путникам, быстро уходившим по тропинке, в сторону пустынной степи.
Глава пятая
Монголы собираются в поход
Сила и дисциплина были настолько необыкновенны в явившемся в нашу страну татарском войске, что, казалось, оно могло покорить весь мир.
Китайский летописец XIII века
Давно, со времен монгольского нашествия,[16] мирный город Сыгнак не видел в своих узких переулках столько верблюжьих караванов, столько скачущих во все стороны всадников и торопливо шагающих жителей. Все спешили узнать, насколько верны прилетевшие из степи слухи о великом походе на Запад, задуманном монголами.
Волновавшаяся толпа сразу замолкала и расступалась, когда из переулков выезжали группы монгольских воинов, безбородых, похожих на угрюмых старых женщин. С неподвижными, смуглыми от загара и грязи лицами монголы ехали на небольших, злых, храпевших конях, не сдерживая их перед толпой. Они били наотмашь в обе стороны плетьми, стегая по головам зазевавшихся.
Все они направлялись на главную базарную площадь. Там за высокой аркой из цветных изразцов находился дворец правителя области, знатного внука Чингисова, Тангкут-хана. Монголы располагались на площади отдельными кругами, привязав к поясу поводья своих коней. Они тут же разводили костры, для чего выламывали ворота, калитки и рубили деревья ближайших садов. Они входили, невозмутимые и гордые, в дома горожан, забирали хлеб и все, что попадалось под руку. Усевшись вокруг костров, они ели похлебку из мяса с жареным просом, вскипяченную в котлах и приправленную салом и молоком.
Это были передовые тургауды[17] одиннадцати монгольских царевичей, прибывших в Сыгнак из своих далеких восточных кочевий. Главное монголо-татарское войско[18] спешно шло за ними следом. Его ждали со дня на день.
Население Сыгнака трепетало перед монгольскими воинами и безмолвно отдавало им все, на что они устремляли свои раскосые глаза. Все еще слишком хорошо помнили бывшее пятнадцать лет тому назад вторжение страшного Чингисхана. Вся страна была в пламени горящих городов и селений, толпы обезумевших жителей бежали по дорогам. Монгольские воины избивали мирное население, угоняли ремесленников в рабство в далекую Монголию, а женщин и детей делили между собой, как законную добычу, как двуногую скотину.
Но резня затихла, монгольские отряды ушли обратно на восток. Жители, прятавшиеся в горах и болотах, постепенно возвратились к своим разрушенным хижинам. Они снова раскопали засохшие оросительные канавки, выстроили из жердей и глины мазанки. Богатые купцы стали служить у монголов сборщиками налогов. Они вскоре построили себе нарядные дома и развели новые фруктовые сады. Высокомерные длиннобородые имамы вычистили загаженные монголами мечети. На высоких минаретах звонкоголосые азанчи[19] снова пять раз в сутки стали заливаться певучими голосами, призывая правоверных мусульман к усердной молитве. По-прежнему недостаточно богомольных, не поспешивших на их зов, особые надзиратели избивали плетьми.
Когда в Сыгнаке внезапно появились[20] монгольские царевичи с передовыми конными отрядами, население города перепугалось. Правитель области, Тангкут-хан, разослал джигитов ко всем окрестным ханам, срочно требуя баранов, жеребят, кумыса и прочей еды для угощения знатных потомков завоевателя Азии – Чингисхана. Население поставило несколько тысяч юрт вдоль берега реки Сейхун[21] для размещения прибывающих с востока свирепых победителей.
Глава шестая
Непобедимый полководец
Тумен Субудай-багатура,[22] примчался к Сыгнаку в туче пыли, покрывшей все небо. Впереди скакала сотня разведчиков на рыжих поджарых конях. За ними следовала сотня на молочно-белых конях. Далее ехал великий монгольский полководец, не знавший поражений, одноглазый Субудай-багатур. Велика была слава его: он победил кипчаков и урусутов[23] в битве при реке Калке[24] он разрушил три китайских столицы. Он покорил двадцать народов.
Субудай сидел, согнувшись, на саврасом коне с длинным, до земли, черным хвостом. Равномерно покачиваясь из стороны в сторону, конь бежал быстрой иноходью.
Еще юношей Субудай-багатур был ранен в руку, меч рассек ему мышцы, и с тех пор правая рука всегда была согнута. Другой удар поразил его лицо. Правый глаз вытек, рубец шел через бровь и щеку, а левый, широко открытый, сверлящим взглядом проникал, казалось, в тайные помыслы людей. Воины называли его «барсом с разрубленной лапой». «Как раненый барс, вырвавшийся из капкана, Субудай угадывает опасность и раскрывает хитрые уловки. С ним в беду не попадешь!» Сам Чингисхан поручил Субудай-багатуру быть воспитателем и военным советником молодого внука, Бату-хана, продолжателя завоеваний деда.
На большой дороге за городом, под высоким тенистым карагачем,[25] монголов поджидала депутация знатнейших горожан Сыгнака – длиннобородые имамы, кадий[26] и богатейшие купцы. Они приготовили на серебряных подносах угощение и дорогие подарки – свертки шелковой ткани. Кругом теснилась тысячная толпа любопытных. Депутация хотела пригласить прославленного полководца отдохнуть в новом роскошном доме разбогатевшего купца, где имелся и персиковый сад, и бассейн среди кустов цветущих роз, и баня с мраморными лежанками.
Когда промчались передовые сотни и Субудай-багатур поравнялся с депутацией, имам выступил вперед и начал изысканную речь:
– О величайший из великих! Храбрейший из храбрых!..
Субудай круто повернул коня, не взглянув ни на парчовые и бархатные халаты знатных стариков, ни на подносы с шелком, сладостями и золотистыми дынями. Послушный конь мерной иноходью помчал его на север, прочь от города, в пустынную степь.
Субудая с трудом догнали на взмыленных конях векиль[27] и несколько знатных ханов. Задыхаясь, они кричали наперебой:
– Постой!.. Не торопись!.. Гуюк-хан[28] и правитель области, Тангкут-хан, приказывают прибыть во дворец для важного совещания…
Субудай-багатур утвердительно покачивал головой, слушая приглашение, но иноходец его продолжал бежать по степи так же равномерно, не убавляя шага. Наконец Субудай прохрипел:
– Багатур не поедет!.. Багатур должен кормить золотого петуха.
Субудай-багатур тряхнул поводом, и саврасый, закусив удила, понесся вперед. Растянувшийся по степи отряд монголов поскакал во весь дух, быстро удаляясь от Сыгнака.
В открытой степи, близ реки Сейхун, тумен остановился и, широко рассыпавшись вдоль берега, разбил шумный лагерь. Высокие желтые верблюды уже накануне привезли сюда разборные юрты. Рабы натаскали сухого камыша, развели костры и варили в медных китайских котлах рис и жеребятину, ожидая прибытия грозного вождя.
Субудай-багатур сошел с коня около приготовленной для него юрты с высокой пикой, увенчанной рогами буйвола и конскими хвостами. Дверь юрты, завешенная ковром, охранялась двумя угрюмыми часовыми. Тут же на привязи визжали от нетерпения, чувствуя запах вареного мяса, два рыжих монгольских волкодава.
Багатур вошел в юрту. Посредине тлели угли, на которых шипел китайский бронзовый котел с мясной похлебкой.
Хмурый старый раб с длинными, до плеч, седыми космами и большой медной серьгой в левом ухе, зазвенев цепью на ногах, подал синюю чашку. Здоровой рукой Субудай-багатур взял из нее горсть проса. Дремавший, нахохлившись, у решетчатой стенки золотистый петух с пышным хвостом встал, важно сделал несколько шагов и остановился. Он был привязан за ногу тонкой серебряной цепочкой.
Субудай-багатур насыпал перед петухом кучку проса. Птица, наклонив голову набок, стояла, точно прислушиваясь. Потом стала лениво клевать, разбрасывая зерна. Субудай, тоже наклонив голову, наблюдал, как петух выбирал зернышки, и ждал, пока его любимец не захлопал крыльями и не прокричал свой сигнальный призыв.
В разных концах лагеря откликнулось несколько петухов.
– Маленькая птица, а подымает целое войско![29] – сказал Субудай-багатур и, согнувшись, хромая, прошел на кошму позади костра, где были разостланы пушистые собачьи шкуры.
Глава седьмая
Имамы в затруднении
К высоким воротам дома правителя области Тангкут-хана подошли два важных старика в красных полосатых шелковых халатах. Один держал на ладони румяное яблоко, другой – пышную белую розу. Эти подарки они несли с такой торжественностью, точно в их руках были стеклянные чаши, до краев наполненные драгоценным напитком.
Вслед за стариками, для большего почета, плелись с тоскливо скучающими лицами двадцать тощих и голодных учеников. Белоснежные тюрбаны обоих стариков, их длинные выхоленные бороды, озабоченность и важность их лиц – все указывало, что они принадлежали к разряду священных имамов или ишанов,[30] посредников между обыкновенными грешными людьми и восседающим за облаками на хрустальных небесах всемогущим Аллахом.
Дозорным у ворот было запрещено впускать в сад кого бы то ни было. Имамы попросили вызвать к ним главного векиля. Долго пришлось ждать, пока он явился, озабоченный и взволнованный. Его тюрбан сдвинулся на затылок, и векиль поминутно стряхивал пальцами пот со лба. Увидев пришедших, векиль извинился, что заставил долго ждать почтенных служителей бога.
– Тангкут-хан приказал мне исполнять без возражений все желания монгольских царевичей. А каждый царевич приехал во дворец со своими конями, соколами, борзыми собаками и слугами. Всем надо найти место, всех накормить, легко ли это? Зачем вы пожаловали, святые отцы?
Старейший имам сказал:
– Со дня приезда в Сыгнак знатных царевичей мы должны произносить их имена в наших молитвах. Мы слышали, что готовится великий поход против неверных, – да покарает их Аллах! Мы должны молиться Аллаху – да будет его имя вознесено и прославлено! – чтобы поход был удачен, чтобы все царевичи процветали и покрылись блеском славных подвигов!
Векиль вздохнул:
– Всего приехало одиннадцать царевичей,[31] но самый главный и самый беспокойный из них – хан Гуюк, сын великого кагана и наследник всего монгольского царства. Он приказывает сперва одно, потом другое, рассылает гонцов, кричит, топает ногами и костяной лопаточкой бьет по щекам каждого, кто ему не угодит… А больше всего он пугает. Говорят, что он будет главным начальником войск. Разве крикливый гусь может повелевать соколами?
– Да сохранит нас Аллах от этого! – воскликнули старики. – А мы слышали, что во главе войск будет молодой хан Бату, сын погибшего Джучи-хана – да будет благословен и спит в мире прах его! Верно ли это?
– Один Аллах все знает!.. – ответил векиль шепотом. – Говорят, Гуюк-хан и Бату-хан готовы уже сейчас вырвать друг у друга глаза.
– О, какие времена!
– Бату-хан примчался в этот дворец, к своему брату Тангкут-хану, только с пятью всадниками. Но тот нисколько не обрадовался его приезду. Оба брата стали спорить, глаза их налились кровью. Бату-хан кричал: «Все крайние западные области Священным Воителем Чингисханом были завещаны мне. Только из-за моей юности и моего отъезда в Китай на войну ты, Тангкут-хан, управлял здесь… Теперь я сам хочу править моим улусом…» Тангкут-хан отвечал: «Тебя здесь не было десять лет… Твои следы разметал ветер. Теперь я здесь владыка… Отправляйся обратно в Китай!» И Тангкут-хан стал сзывать своих нукеров.[32] Бату-хан закричал: «Ты кричишь, как гусь, а сам дрожишь, как лягушка на болотной кочке. Ты не хочешь уступить добровольно, так станешь моим слугой!» Уже нукеры сбегались со всех сторон с обнаженными мечами. Бату-хан бросился к выходу, вскочил на коня и умчался неизвестно куда…
Имамы воскликнули:
– За кого же нам молиться? Кто из этих двух ханов окажется главным?
– Что могу сказать я, маленькая мошка! – воскликнул векиль и скрылся за воротами.
Оба имама покачали головами, спрятали розу и яблоко за пазуху и, приложив палец к губам, молча посмотрели друг на друга.
– Благоразумие требует подождать и ни за кого из них не молиться! – сказал один имам.
– Это неосторожно.
Споря о благоразумии и осторожности, оба имама направились обратно.
Глава восьмая
Лопатка Гуюк-Хана
Внук Чингисхана Гуюк-хан – сын и наследник великого кагана всех монголов Угедэя – внезапно покинул дворец правителя Сыгнака и поставил свой малиновый шатер вдали от города, на холме в степи. Из шатра открывался вид на долину, куда беспрерывно прибывали войска,[33] которые располагались отдельными куренями.[34]
Вокруг шатра Гуюк-хана тесным кольцом стояло множество юрт. В них помещалась его охрана: молодые, отборные телохранители, тургауды, из знатных семейств степных феодалов. В кольце юрт стояли ханские кони. Их тщательно оберегали и так завертывали в попоны, что были видны только хвосты и уши. Это были редкие, драгоценные кони, которыми любил щеголять Гуюк-хан во время облавных охот, когда от коней требуются особая быстрота и ловкость.
Стараясь во всем подражать пышным порядкам, установленным его дедом Чингисханом, Гуюк поставил возле своего шатра высокое древко с черным пятиугольным знаменем, на котором золотыми нитками был вышит всадник с зверским лицом – бог войны Сульдэ, свирепый покровитель монгольских походов.
По уверениям шаманов, бог Сульдэ незримо сопровождал в походах Чингисхана и приносил ему потрясающие вселенную победы. Для этого бога за Чингисханом всюду следовал никогда не знавший седла молочно-белый жеребец с черными глазами. Внук Чингисхана Гуюк-хан также держал около шатра неоседланного белого жеребца, за которым неотступно ухаживали два шамана.
Перед малиновым шатром горели два неугасаемых костра. Шаманы, увешанные погремушками, с войлочными куклами на поясе, ходили, приплясывая, вокруг огней и похлопывали в большие бубны.
Четыре монгола медленно поднялись на холм. Они шли, наклонившись вперед, широко расставляя кривые ноги, держа стрелу за спиной. Подойдя к кострам, они покорно предоставили себя шаманам. Выкрикивая молитвы, шаманы обкурили их священным дымом – чтобы вместе с дымом улетели злые желания и преступные мысли. У входа в шатер два тургауда скрестили копья и, присев, наблюдали, чтобы входившие осторожно приподымали стрелой занавеску и не касались ногой порога, – это могло вызвать великий гнев неба: заоблачный грозный бог поразил бы тогда хозяина шатра сверкающей молнией и ударами грома.
Четыре воина поочередно переступили через скрещенные копья. Они повалились на колени и коснулись подбородками разостланного белого войлока.
– Будь славен, победоносен и многолетен, великий! – воскликнули они.
– Ближе ко мне! – послышался ответ.
Воины на коленях проползли вперед и выпрямились.
На низком широком троне, украшенном узорами из золота и кости, сидел, подобрав ноги, пухлый, с большим животом юноша. На его оранжевой шапке трепетал пучок белых пушистых перьев священной цапли – знак царевича из рода Чингисхана. Юноша был в затканной золотыми драконами малиновой шелковой безрукавке, в красных сафьяновых туфлях на высоких изогнутых каблуках. Рядом на троне лежали: справа – знак власти, металлическая с золотой насечкой булава, слева – длинная лопатка из бивня слона.
Хан Гуюк всматривался узкими глазами в лица четырех монголов.
– Вы опять пришли с голыми, как у гуся, лапами? Где же его пояс? Где его шапка? Где его рубиновые пуговицы?..
Хан схватил костяную лопатку и стал колотить монголов по щекам. Они стояли с каменными лицами, неподвижные и коренастые; казалось, при каждом ударе головы их уходили глубже в широкие плечи.
– Прости нас, владыка мира! – воскликнули они хором и снова повалились лицом на войлок.
– Говори ты первый, Мункэ-Сал.[35] Ты самый разумный из всех.
– Сейчас расскажу, мой хан! Мы узнали, что протянувший руку к далекой звезде Бату-хан, покинув Субудай-багатура, поскакал в Сыгнак с пятью нукерами…
– Он поссорился с Субудай-багатуром?
– Этого я не слышал…
– Вот когда нельзя было зевать! Почему вы не захватили его?
– Он примчался прямо к брату, Тангкут-хану, во дворец. Они оба громко спорили, они ужасно кричали. Тангкут-хан стал звать нукеров: «Убейте его!» Бату-хан выбежал, проклиная брата, вскочил на коня и ускакал…
– Вы проследили его? Где он?
Монголы снова повалились лицом на войлок.
– Вы не воины! Вы желтые дураки, пожравшие мясо своего покойного отца! – завизжал Гуюк-хан. – Вы хромые козлы!..
Недоверчиво озираясь, он продолжал злобным шепотом:
– Скачите вокруг города! Ищите моего ненавистного врага! Он в синем чапане с шестью рубиновыми пуговицами… Если вы задушите его, то будете сотниками!.. Будете тысячниками!.. Если же снова вернетесь с пустыми руками, если этот хвастун станет вождем – джихангиром, то вам не миновать смерти! Палачи отрежут вам уши и переломают хребты! Запомните это! Торопитесь!
Монгольские воины попятились и выползли за черную дверную занавеску, расшитую серебряными аистами.
Глава девятая
Храбрый Назар-Кяризек
Старый Назар-Кяризек, полный тревоги, вернулся в свою юрту с базара в Сыгнаке.
– Эти новости вызывают дрожь! – бурчал он себе под нос. – Отправлюсь к моему хану Баяндеру, проверю, правильно ли все, что я слышал.
Назар стал торопливо одеваться.
– Надо успеть, пока не увидела Кыз-Тугмаз! Опять начнет ворчать, что я не работаю, без дела шатаюсь… Все жены ворчат. Побью ее. Я хозяин!..
Он натянул на себя черный чапан. Так как чапан от ветхости расползался, Назар надел сверху длинную козлиную шубу, подпоясался сыромятным ремнем, вытащил из мешка желтые покоробившиеся сапоги с острыми каблуками – эти сапоги надевал, отправляясь в набег, еще отец Назара, – на голову нахлобучил овчинный малахай с наушниками и засунул за пояс плеть. Назар оглядел себя:
– Теперь я могу предстать перед очами грозного хана Баяндера!.. Нельзя откладывать такого важного дела…
Турган, младший сын Назара, прибежал из степи, где он с другими мальчиками пас аульных жеребят. Турган в удивлении широко раскрыл рот: «Что такое? Отец в козлиной шубе? В такую жару! Что он надумал?»
«Прикажи мне идти с тобой!» – уже готово было сорваться с уст мальчика, но Турган побоялся испортить дело. Сжавшись, он притаился около входа и посматривал блестящими, как у зверька, глазами, следя за каждым движением отца. Рядом с ним опустилась на колени Юлдуз, девушка-сирота, которую во время нашествия монголов подобрал Назар и воспитывал как родную дочь. Она подталкивала локтем Тургана и показывала глазами на Назара.
– Приведи кобылу! – строго приказал отец.
«Верно я догадался!» – торжествуя, подумал Турган. Он стремглав побежал в овраг, где паслась их старая лошадь, взобрался на ее костлявую спину и вернулся к юрте.
Назар обтер кобылу обрывком войлока, положил на тощий хребет старый чепрачок, старательно приладил связанное веревками расползающееся седло, накрыл его сложенным вдвое войлоком. Кобыла подбирала заднюю ногу и оглядывалась, пытаясь укусить хозяина, когда Назар туго затягивал подпругой ее раздувшееся брюхо.
Жена Назара, Кыз-Тугмас, худая, со впалыми щеками, возилась около котла, изредка посматривая на мужа, не решаясь спросить, куда он собирается. «Старый задумал новую причуду», – подумала она, но перечить боялась. Только спешно замесила несколько горстей муки и стала печь лепешки.
– Куда наш собрался? – шепотом спросила Юлдуз у Тургана, когда старик вышел из юрты.
– Ясно куда – на войну! – уверенно ответил мальчик.
– Что ты говоришь? Какую войну? – воскликнула испуганно мать.
– Наши мальчики говорят, что скоро будет война. Смотри, смотри, что делает отец!
Назар, вернувшись в юрту, подошел к решетчатой стенке и снял старую, в кожаных ножнах, кривую саблю с узким ременным поясом. Он важно нацепил ее поверх шубы, завязал узлом концы ремня. Жена и дети, разинув рты, следили за каждым его движением.
Назар-Кяризек, тяжело ступая в заскорузлых сапогах, вышел из юрты, стараясь придать себе гордый, смелый вид. Перекинув повод на шею кобылы, он поднялся в седло и бросил косой взгляд на дверь юрты. Жена завернула в розовую тряпку горячие, дымящиеся лепешки. Юлдуз подбежала и протянула лепешки Назару. Заслонив рукой глаза от яркого солнца, она всматривалась в изборожденное морщинами лицо Назара, ожидая, что он скажет. Назар понимал, какие мысли волнуют его семью. Но разве можно при решении важного дела посвящать жену и детей в свои планы? Он торжественно спрятал за пазуху розовый узелок и важно сказал:
– Я отправляюсь к самому хану Баяндеру!
Он ударил каблуками костлявые бока лошади. Кобыла медленно поплелась по тропинке, уходившей в степь.
Турган подбежал к матери и сказал шепотом, точно отец мог еще слышать:
– Я пойду за татой к хану Баяндеру. Разве это далеко! Я раньше его добегу и скоро вернусь.
– Хорошенько присмотри за отцом!
Мать отвернулась и пошла в юрту. Сунув пучок сухой колючки в потухающий костер, она раздула огонь.
– Вот еще что выдумал! Ему ли, старому, ехать на войну! Он там свалится в первый овраг и назад не вернется. Кто тогда меня, вдову, пожалеет?.. Ну, чего медлишь, Турган? Беги за отцом да следи издали, чтобы он тебя не заметил. А то рассердится и побьет…
Турган подтянул шаровары и побежал в ту сторону, куда поехал отец.
Глава десятая
Ханская щедрость
Весть о задуманном монголами походе на Запад разлетелась по Кипчакской степи, как ураган, который среди тихого летнего дня вдруг проносится по равнине, крутя песчаные столбы, вырывая кусты и опрокидывая плохо прикрепленные юрты. Во все стороны помчались гонцы, передавая вести из одного кочевья в другое, сообщая о крупнейшем событии в мирной жизни кочевников. Сзываются в поход все двенадцать колен великого кипчакского народа.[36]
Назар-Кяризек миновал прибрежные тополя, за которыми поблескивала мутная после дождей река Сейхун. Перед ним развернулась широкая равнина. Во всех направлениях торопливо ехали всадники, мерно шагали вереницы двугорбых верблюдов, нагруженных решетками юрт, шестами, войлоками, мешками, котлами и другими прокопченными предметами кочевого обихода. Возле верблюдов шли женщины с детьми. Полуголые рабы подгоняли стада овец и коров. Было что-то необычное и тревожное во взбаламученной степи, обычно дремлющей в безмолвном величии.
Назар-Кяризек добрался наконец до становища одиннадцатой жены хана Баяндера. Старый кочевник удивился: здесь все было по-прежнему! Несмотря на всеобщее смятение, хан Баяндер оставался, как всегда, невозмутимым. В становище шли приготовления к соколиной охоте. Оседланные нарядные кони нетерпеливо взрывали копытами песок. Десять ловких юношей с соколами на перчатке левой руки стояли в ряд, ожидая у шатра выхода господина. Поджарые узкомордые собаки уже несколько раз начинали яростную грызню.
Назар слез с тощей кобылы, спутал ей передние ноги и стал степенно подыматься на вершину холма к ханским юртам.
Хан Баяндер вышел из юрты. Лицо его лоснилось от обильного угощения. Он был в нарядном охотничьем костюме – желтом шелковом халате, засунутом в широкие замшевые шаровары, и верховых сапогах с загнутыми кверху носками. Поля белой поярковой шапки поднимались спереди и сзади опускались на шею. Толстый живот был туго затянут полосатой шалью, из-за которой виднелся индийский кинжал с резной ручкой из слоновой кости.
Властелин степей узнал старого Назара. Острым взглядом он окинул его согнутую покорную спину, долгополую козлиную шубу и кривую старую саблю. «Старик приехал о чем-то просить, – решил хан. – Иногда полезно приласкать простого кочевника, чтобы слава о щедрости хана Баяндера пронеслась по степи от костра к костру. Это особенно важно теперь, когда ханы собирают боевые отряды, чтобы двинуться в далекий поход…»
– Славен хан Баяндер! Без счета табуны коней у хана Баяндера! Да хранит Аллах благословенные стада хана Баяндера! – выкрикивал нараспев Назар-Кяризек и кланялся так низко, что сквозь облезлую шубу выступали его костлявые плечи.
Хан остановился и засунул руку за полосатый пояс.
– Здравствуй, дед Назар-Кяризек! Куда ты собрался с такой заржавленной саблей?
– Великая весть летит через Кипчакские степи…
– Что же ты услышал?
– Сейчас, мой хан, сейчас расскажу! Был я в Сыгнаке на базаре. Сидел в ашханэ (харчевне) в сторонке и потихоньку слушал, что важные люди говорят. Один купец в дорогом шелковом халате очень много знал из того, о чем мы, простые люди, и не догадываемся. Он поставляет монгольским ханам муку и часто беседует с ними. Слышал он от них, что в Сыгнак прискакали самые важные монгольские царевичи, внуки «Великого Потрясателя вселенной» Чингисхана…
Назар остановился, желая узнать, какое впечатление произвела его новость. Хан стоял спокойно, с непроницаемым взглядом всемогущего и всезнающего человека. Сопровождавшие его джигиты насторожились и придвинулись на шаг.
– Это похоже на истину! – заметил хан Баяндер. – Что же еще говорили на базаре?
– Говорил этот купец, что за царевичами спешно идет войско монголов и татар, такое большое, что оно займет наши степи на десять дней пути.
– Слышал и я о приезде монгольских царевичей. А для чего они идут сюда? Земли наши ими покорены, подвластные народы не смеют и шевельнуться, – что еще им нужно? Не слышал ли ты об этом, Назар-Кяризек?
– Говорят, грозный каган Чингисхан завоевал половину вселенной, а его внуки хотят покорить вторую половину.
Баяндер покачал головой:
– Легкое ли это дело! Сколько народов живет во вселенной, а Чингисхана-то нет! Кто его заменит? У кого такая голова, как у Чингисхана? Кто поведет войско? Эй, джигиты, подайте мне коня!
– Постой, мой славный хан! – завопил испуганно Назар. – Взгляни на твоего старого конюха! Ты более могуч, чем все другие степные султаны! Прошу тебя, мой хан, не забудь и меня в походе! Я сорок лет верно служил тебе и днем и ночью, и в снег и в бурю, пока не состарился. Теперь на мое место встали пять моих сыновей, все пятеро молодец к молодцу! Они берегут и холят твоих коней и сберегли их до этого грозного дня, когда уже всюду слышатся боевые ураны[37] двенадцати колен великого кипчакского племени: «Уйбас, токтабаевцы! Дюйт, батыры дурутаевцы! Даукара, джерсайцы, опрокидывающие все на пути! Берите острые клинки, садитесь на коней, выступайте в поход!»
Хан Баяндер стоял еще более величественный, только левый глаз сощурился, и в нем мелькнула веселая искорка, когда он смотрел на кричавшего ураны старого Назара, который выхватил кривую саблю и размахивал ею над головой.
– Ты лихой воин, Назар, твои заслуги я помню! Что же ты хочешь?
– Мои пять сыновей готовы выступить под твоим славным бунчуком. Но на чем? Много коней они тебе вырастили, а своего коня у них нет! Ты недаром называешься ханом Баяндером.[38] Дай каждому моему сыну коня с седлом. Пойдут они с тобой верными защитниками в бою, будут твоими верными стрелами – куда их пошлешь, туда полетят, что прикажешь – выполнят!
Хан Баяндер коснулся тремя пальцами острого конца своей бороды:
– Хорошо, мой верный конюх, Назар-Кяризек! Дам я коней твоим сыновьям, но о седле и уздечке пусть сами заботятся. Даром я ничего не даю. Если я своим джигитам раздам мои табуны, мне придется плестись по степи оборванным нищим. Пусть каждый из твоих пяти сыновей, вернувшись после похода, приведет мне взамен полученного другого молодого коня, покрытого ковром, и еще: пока твои сыновья будут добывать себе славу, пусть их жены соткут мне по бархатному ковру…
– Преславный хан, смилуйся! У меня нет шерсти для ковров.
– Ты получишь шерсть у моего управляющего. Если ты согласен, то твои сыновья могут взять себе по коню. Я зачислю всех пятерых в мою отборную тысячу джигитов.
– Да хранит тебя Аллах за твою щедрость, мой пресветлый хан! – воскликнул Назар и, сложив руки на животе, низко поклонился садившемуся на коня Баяндеру.
Назар, вздохнув, выпрямился, вложил обратно в ножны старую саблю и, покачивая головой, хмуро смотрел вслед уезжавшему со своей свитой хану. Потом перевел взгляд и заметил Тургана. Мальчик сидел на пятках, обняв руками колени. Его черные глаза зорко следили за выражением лица старика. Заметив на нем грусть, Турган вскочил и подбежал к Назару:
– Чем ты огорчен, тату? Я все слышал. Теперь кроме старой кобылы у нас будет еще пять хороших коней. А разве трудно их вернуть этому жадному хану? Пустое! Ведь братья едут на войну и пригонят целый табун собственных коней.
– Кто, кроме Аллаха, знает, что кони привезут с войны: славных багатуров или только их окровавленные мечи?
– Поезжай скорее за конями! Торопись, тату, пока хан не раздумал. Прикажи мне бежать за тобой! Можно?
Турган помог отцу сесть на кобылу, и оба направились по тропинке в ту сторону, где паслись полудикие тысячные табуны хана Баяндера.
Глава одиннадцатая
По следам коня
Арапша вел Хаджи Рахима пустынной степью так уверенно, точно он уже не раз ходил по этим холмам и запутанным, едва заметным тропинкам. Иногда Арапша останавливался, всматривался в следы и подымался на бугры, оглядывая степь. Тогда усталый Хаджи Рахим ложился на песок и вздыхал. Наконец он взмолился:
– Куда ты ведешь меня? Долго ли еще идти?
– Мы идем по следам моего коня. Я знаю, где мы можем скрыться. Скорей вперед!
Тропинка вела на возвышенность, засыпанную щебнем. Арапша свернул в сторону, спустился в овраг и долго пробирался вдоль высохшего ручья. Он указал на холм:
– Мы подымемся наверх и спрячемся за камнями. Оттуда можно наблюдать за степью.
Добравшись по обрывистому скату оврага до каменистой вершины, они припали за кустами репейника. Отсюда степь была видна далеко кругом.
– Посмотри на дорогу, – прошептал Арапша. – Это они!.. Что-то ищут!..
По степи ехали четыре монгольских всадника на небольших крепких коньках с длинными гривами. Передний, наклоняясь с седла, всматривался в землю и останавливался. Иногда он стегал коня, и монголы пускались вскачь. Вскоре они скрылись за холмами.
– Они идут по следам моего белого коня, моего Акчиана! Они надеются нагнать его. Я так и ожидал! Они могут вернуться… Мы должны уйти дальше, по этим острым камням, где не видно наших следов…
Путники пробирались оврагами, потом поднялись на равнину. Тропу пересекла широкая дорога. Пастухи, посвистывая, гнали по ней стадо баранов и коз.
– Здесь следы наши затеряются, – сказал Арапша. – Отсюда мы доберемся до какого-нибудь захудалого кочевья и там передохнем.
Тропинка привела к холму, с вершины которого открылся далекий вид на оживленную зеленую равнину. Здесь паслись многочисленные косяки коней. Медленно переходя по пастбищу, кони мирно щипали свежую траву. Верховые конюхи, размахивая длинными укрюками,[39] охраняли кобылиц и жеребят.
Равнина, освещенная косыми лучами заходящего солнца, где мирно бродили стройные, сытые кони, казалась особенно радостной и привлекательной после сыпучих барханов и пустынных холмов с чахлыми стебельками седой полыни.
Невдалеке поблескивало небольшое озеро, над которым пролетали дикие утки. Из зарослей камыша неожиданно выскочил стройный белый оседланный конь и с звонким ржанием поскакал вдоль косяков рыжих кобылиц.
– Смотри, мой почтенный учитель! Ведь это он, мой Акчиан! Мой украденный друг!..
И Арапша, сбросив на песок сумку и плащ, побежал с холма.
– Жди меня здесь… Я поймаю его! – крикнул он.
Факих опустился на землю и стал наблюдать.
За белым жеребцом помчались конюхи. Арапша пробежал по зеленой равнине, скрылся в камышах, перешел ручей и исчез в высокой траве, там, где носился белый жеребец, которого преследовали два пастуха.
Сзади послышались тихие голоса. Хаджи Рахим оглянулся… Три монгола, переваливаясь на кривых ногах, направлялись к нему. Один расправлял пучок веревок. Не успел факих опомниться, как монголы набросились на него, перевязали веревками, встряхнули и поставили на ноги.
– Видишь, на нем синий чапан с красными пуговицами! Конечно, это он.
– Это не он! Тот молодой, а у этого весь подбородок в шерсти…
– Какое мне дело! Хан сказал: «Если встретишь человека в синем чапане с красными пуговицами – приканчивай его скорей!»
– Поведем его к хану, пусть сам решает!
– Что вы от меня хотите? – кричал Хаджи Рахим. – Я бедный дервиш, я пишу книги!
– Пой песни другим! Откуда на тебе рубиновые пуговицы? За одну такую пуговицу можно купить косяк лучших кобылиц!
– Берите себе и чапан и пуговицы! Они не мои…
– Чего вы медлите! – воскликнул, подъезжая, четвертый монгол. – Торопитесь, сюда скачут ханские конюхи. Набрасывайте ему на голову платок! Загибайте пятки к затылку!..
Хаджи Рахим больше не слышал слов. Сильные руки схватили его, пестрый платок закутал лицо. Яркое солнце запылало перед ним и рассыпалось на тысячи искр. Шум голосов, крики, громкий лай собак, мучительная боль во всем теле – и факих потерял сознание.
Глава двенадцатая
Белый конь
…Легко несется его конь;
На полсажени быстрее мысли тот конь,
На сажень – быстрее ветра.
Поэма «Джангар»
В зеленой степи на свободе паслось несколько тысяч коней. Казалось, они рассыпались в беспорядке. Но табуны, медленно передвигавшиеся по равнине, были разбиты на отдельные группы, или «косяки», которые не смешивались друг с другом, за чем зорко следили табунщики.
Каждый косяк состоял из старой матки и пятнадцати-двадцати молодых коней одной масти – темно – или светло-рыжих, буланых, гнедых и других. Старый злой жеребец не отходил от своего косяка, оберегая его.
Табунщики на горбоносых тощих конях с гиканьем скакали между косяками и, размахивая укрюками, ловко разгоняли сцепившихся в драке жеребцов.
Среди конюхов-табунщиков было пять сыновей Назара-Кяризека. Старшему, Демиру, было лет тридцать, младшему, Мусуку, – семнадцать. Братья славились как отчаянные укротители коней и бесстрашные охотники на волков, на которых они бросались с одной плетью. Зимой и летом, днем и ночью, в стужу и в проливной дождь разъезжали они вокруг табунов хана Баяндера, охраняя их от воров и хищников. Хан Баяндер не очень жаловал своих верных сторожей. Он только все обещал наградить их «по-хански». Но пока что на табунщиках вместо одежды были лохмотья, выцветшие и бурые, как степь, на ногах – самодельные сапоги, сшитые из невыделанных шкурок сусликов, а шапку заменяла собственная грива спутанных волос. Обожженные солнцем, почерневшие, они сжились со степью, как кони и большие лохматые собаки, и сами стали частью барханов, ковыльной равнины, ветра и плывущих мимо облаков.
В этом табуне Арапша заметил среди мирно пасущихся коней стройного белого жеребца, своего Акчиана. Он неукротимым зверем носился между косяками, наслаждаясь привольем, смело схватываясь с другими жеребцами. С диким визгом вцепился он зубами в шею рыжего жеребца, опрокинул его и с звонким ржанием поскакал дальше по степи. Ветер развевал его серебристую гриву.
Арапша свистнул. Акчиан остановился и насторожил уши, Арапша свистнул еще раз и услыхал ответное ржанье. Изогнув шею и легко выбрасывая стройные ноги, Акчиан понесся упругими скачками навстречу хозяину.
Но два табунщика уже давно следили за ним и помчались наперерез, высвобождая арканы. Арапша изо всех сил бежал к коню, но было поздно: два аркана захлестнули шею скакуна, и он остановился, бросаясь в стороны, стараясь вырваться на волю.
– Оставьте! Это мой конь! Он под моим седлом! – кричал Арапша.
– Уходи отсюда, пока цел, степной бродяга, конокрад! – кричали табунщики. Один из них спрыгнул с коня и вцепился в повод Акчиана. – Здесь земля и табуны хана Баяндера! Бродячий конь – добыча хана!..
Арапша выхватил меч и крикнул с таким бешенством, что табунщики попятились:
– Слушайте вы, жалкие рабы Баяндера! Вы, ханские табунщики, крадете чужих коней? Не хотите ли вы поставить ваше паршивое тавро на серебристой коже этого благородного коня?
– Хан Баяндер сам поставит тебе на лоб свое тавро, – ответил табунщик, – и будешь ты лежать падалью на кургане!
Говоривший отскочил в сторону, едва успев увернуться от разъяренного воина, бросившегося на него с поднятым мечом.
Но Арапше неожиданно загородил дорогу выбежавший из шалаша смуглый коренастый монгол в рваном плаще.
– Постой, бек-джигит! – сказал он спокойно. – Ты всегда успеешь светлой саблей зарубить грубияна. Выслушай сперва, что я скажу тебе. А твой конь от тебя никуда не уйдет!
Он сделал знак рукой, и табунщики распутали петли, наброшенные на белого жеребца. Говоривший был молод. Темный пушок едва оттенял его верхнюю губу. Под сдвинутыми бровями застыли скошенные, холодные, точно стеклянные, глаза, в которых чувствовалась затаенная, неотступная мысль. Он держался с уверенностью, казавшейся странной при его выцветшем, нищенском плаще.
Арапша невольно остановился, пораженный властным выражением лица незнакомца, и вдруг вспомнил слова Хаджи Рахима: «Конь к тебе вернется… На нем уехал необычайный человек, который может за него дать тебе тысячу коней…»
– Твоего жеребца никто не посмеет тронуть, – продолжал молодой монгол. – На нем ускакал я, когда за мной гнались враги. Я покупаю его. Сколько золотых динаров[40] ты за него хочешь?
– Продать моего Акчиана?! – воскликнул Арапша. – Для смелого джигита конь – лучший друг! Разве друзьями торгуют?
– Ты хорошо сказал! – ответил незнакомец. – Этот благородный конь создан для того, чтобы на нем ездил султан, хан или сам каган. Для чего тебе, смелому, но простому джигиту, такой конь? Я заплачу тебе за него столько, что ты купишь себе десяток добрых коней и шелковую одежду. Говори, что ты хочешь за коня?
– Я ничего не хочу! – возразил Арапша. – Я только что с трудом нашел его. У меня нет родины, нет юрты, нет белобородого отца или смелого брата. Все мое богатство – меч и этот конь. Зачем же ты хочешь отнять его? Кто спасет меня в огне битвы, на краю пропасти? Я не отдам его!
– Белый конь нужен мне! Я дам тебе взамен лучшего коня из этого табуна. Согласен?
Глаза Арапши расширились. Он загорелся гневом. Но ему опять вспомнились слова Хаджи Рахима. Арапша задумался на мгновение, затем тряхнул черными кудрями и сказал:
– Если мой конь нужен тебе не для того, чтобы водить его под парчовым чепраком по базару на удивление толпы, а для похода и для битвы, – я дарю тебе моего коня! Ты взлетишь на нем к далекой сверкающей звезде. Он будет конем победителя и принесет тебе удачу!
Незнакомец в рваном плаще вздрогнул. На мгновение глаза его испытующе остановились на Арапше. Затем он повернулся к табунщикам и спросил небрежно, как о пустячном деле:
– Скажите, джигиты-удальцы, можете ли вы продать мне коня, которого я сам выберу?
Табунщики переглянулись и пошептались между собой. Младший из них, черный от загара, как жук, сказал:
– Кони не наши, а хана Баяндера. Но хан наш любит золото, и мы можем продать нужного тебе коня, если ты заплатишь не меньше, чем купцы на базаре в Сыгнаке. Дашь ли ты нам за него двадцать пять золотых динаров? Тогда мы поймаем жеребца, которого ты нам укажешь, а если ты еще прибавишь нам за усердие, то мы его укротим на твоих глазах.
– Я не барышник! – ответил странный монгол. – Я не торгуюсь, а беру, что хочу. Вы получите, что просите. Кроме того, я добавлю каждому по золотому динару.
– Живи тысячу лет! – воскликнули табунщики. – Приказывай скорее!
Глава тринадцатая
Братья-табунщики
Назар-Кяризек торопился увидеть сыновей, чтобы обрадовать их вестью о милости хана, уступающего им пять коней. Он подгонял, как мог, тощую кобылу. Она то плелась шагом, то бежала рысцой и притащилась наконец к долине, где паслись табуны хана Баяндера.
Вслед за Назаром прибежал, прыгая как заяц, маленький Турган. Он вскарабкался на холм и закричал отцу:
– Скорей, тату, скорей сюда! Здесь ловят волков!
Назар щелкнул плетью и взобрался на холм.
В лощине, между холмами, во всех направлениях скакали, крича и свища, джигиты хана Баяндера. Заливаясь тонким лаем, поджарые борзые собаки гонялись за несколькими волками. Спасаясь, волки бросались под ноги коней.
Особенно горячая свалка происходила вокруг большого старого волка. Он огрызался, лязгал оскаленными зубами, отшвырнул отчаянно завизжавшую собаку и вертелся, отбиваясь от наседавших врагов.
К волку подскочил джигит, свалился с седла прямо на него и старался ухватить его за уши. Но волк вырвался, перекатился кубарем через собак и большими скачками понесся наутек.
Джигиты помчались за волком.
– Держи его, Нури! Не упусти… Лови его за уши, Нури!..
В туче пыли, с шумом и воплями, скрылись за бугром охотники, волки и собаки.
Тогда Назар-Кяризек увидел на месте свалки лежащего человека, связанного веревками. На нем был синий монгольский чапан. Отлетевший в сторону колпак дервиша показался знакомым. Назар подъехал и сошел на землю.
– Да это наш сосед, ученый, факих Хаджи Рахим! Не задушил ли его старый волк? Ты жив ли, Хаджи Рахим? Великий Аллах, приди на помощь!
Глаза лежавшего открылись и уставились удивленно на склонившегося старика. Хаджи Рахим медленно приходил в себя:
– Я не знаю, жив ли я, или безжалостный Азраил тащит меня в царство ночи… Через меня пронеслись охотники и джигиты… на моей спине собаки дрались с волком… Ты много раз спасал меня от голода, Назар-Кяризек… Спаси еще раз, не покидай меня здесь!..
Назар распутал веревки и свернул их:
– На этих петлях мои сыновья повесят разбойников, которые обидели моего почтенного соседа.
Старик помог израненному дервишу взобраться на кобылу и медленно повел ее под уздцы. Хаджи Рахим охал и жаловался:
– Иволга гонится за осой и не замечает, что охотник уже натянул лук и готов догнать ее острой стрелой… В это же время тигр готовится к прыжку, чтобы растерзать охотника! Кто знает наше будущее: кто раньше погибнет – тигр или охотник, иволга или оса?.. Я уже совсем погибал от рук страшных монголов, и кто же меня выручил – старый злобный волк и разъяренные собаки…
У подножия холма, около прозрачного ключа, стояли два камышовых шалаша. В них жили пастухи, сыновья старого Назара-Кяризека. Старик подошел к шалашам. Хаджи Рахим, охая, слез с кобылы и остановился, пораженный: перед ним стоял его ночной гость.
– Кто смел тебя обидеть? – спросил молодой монгол, нахмурив брови. – Синий чапан в грязи и разорван… Что произошло с тобой?
Хаджи Рахим рассказал, как на него напали монгольские воины. Юноша на мгновение закрыл рукой глаза. Вцепившись в рукав Хаджи Рахима, он прошептал:
– Это они! Неведомые злодеи неотступно преследуют меня! Хаджи Рахим! Ночью ты помог мне бежать, теперь ты сам чуть не погиб из-за меня! Они узнали на тебе мой синий чапан!..
К Хаджи Рахиму подбежал Арапша.
– Прости, мой почтенный учитель! Я виноват: зачем я, твой мюрид, оставил тебя одного!
– Ты знаешь его? – указал на Арапшу монгол. – Скажи, Хаджи Рахим, могу ли я довериться этому джигиту?
– Арапша храбр, как горный барс, и непреклонен и тверд, как алмаз! Его язык не знает лжи, рука не изменяет другу…
– Я рад тому, что ты сказал. Я возвеличу его!
С почтением согнувшись, приблизился старший из табунщиков:
– Послушай, хан! Хотя ты без юрты и без коня, но если в твоем кошельке звенит золото, мы поймаем тебе сейчас отличного коня.
– Арапша! – сказал монгол. – Выбери себе лучшего.
Арапша окинул взглядом табун и указал на молодого гнедого коня. Он был несколько выше других и гораздо беспокойней. В то время как остальные кони мирно пощипывали траву, гнедой жеребец, подняв голову, озирался и отбегал в сторону для драки к другим жеребцам.
– Ойе! Не легко будет поймать его! – сказали табунщики. – Это огонь, а не жеребец! Это зверь, зоркий и пугливый… Его плетью не ударишь, он сам бросится на человека!
Вмешался старый Назар-Кяризек:
– Мусук поймает коня, а мой младший сын Турган усмирит его. Это ему не впервые!
Турган, взобравшись на рыжую кобылу, жадно слушал. Он ликовал. Глаза его сверкали от гордости: ему доверяют такое опасное и лихое дело – усмирить дикого коня!
Глава четырнадцатая
Укрощение дикого коня
Мусук, прозванный так за ловкость,[41] туже затянул кушаком свой тонкий стан, вскочил на поджарого горбоносого коня и с длинным тонким укрюком в руке поскакал в сторону гнедого жеребца.
Сперва Мусук сделал широкий круг, стараясь обойти коня. Гнедой жеребец еще не догадывался, что ему угрожает опасность, и заигрывал с соседними жеребятами.
Вдруг что-то его обеспокоило: он заметил приближавшегося табунщика. Матки, оберегая жеребят, спокойно отходили в сторону, открывая всаднику дорогу. Жеребята, следя за движениями маток, отбегали за ними.
Гнедой насторожился. Он почуял приближение врага и бросился со всех ног в сторону, стараясь затеряться среди других коней.
Мусук ни на мгновение не упускал его из виду. Он кидался в середину разбегавшихся коней и мчался за удалявшимся гнедым. Всадник был не раз совсем близко и готовился накинуть петлю, но разгневанный конь, взмахнув хвостом и потрясая головой с поднявшейся, ощетинившейся гривой, круто бросался в сторону и исчезал между другими встревоженными косяками.
Мусук разгорался, не помнил и не видел ничего, кроме ускользавшего непокорного зверя. Он должен был поймать его во что бы то ни стало и не выпустить из рук, что тоже было трудным делом. Уже несколько раз гнедой конь ускользал от табунщика, брыкал ногами и бросался грудью на сбившихся в кучу коней, которые, подняв голову и заострив уши, с беспокойством следили за горячей погоней.
Поджарый горбоносый степняк, на котором, пригнувшись к шее, мчался Мусук, как будто понимал тайные желания всадника. Не Мусук управлял конем, а скакун, в одном порыве с охотником, несся за ускользавшим диким жеребцом, выискивая его среди сотен других коней.
Наконец молодой джигит настиг свою жертву, накинул аркан, отбросил в сторону укрюк и, прихватив конец аркана коленом, правой рукой сдержал дикого, прекрасного в своей ярости коня.
Когда петля захлестнула шею свободного скакуна, следившие за охотой табунщики подняли дикий вой. Кони тысячного табуна окаменели, пораженные победой человека. Они стояли как вкопанные, заострив уши, устремив взоры на ловкого всадника и на разъяренного жеребца с вздыбившейся черной гривой, захваченного натянувшимся, как струна, черным волосяным арканом.
Дикарь, изумленный никогда не испытанным ощущением острой боли в шее, стоял неподвижно только первое мгновение. Потом, расставив ноги и загибая голову книзу, он стал пытаться порвать аркан.
Внезапно поднявшись на дыбы, он сделал отчаянный прыжок в сторону, стараясь вырвать аркан из железной руки табунщика, но петля еще сильнее стала душить шею. Гнедой жеребец завизжал от ярости, припадал на колени, делал новые прыжки, изгибался и высоко вскидывал задние ноги.
Конь Мусука был силен и опытен в подобной борьбе и не подавался ни на шаг. Мусук зорко следил за каждым движением противника. Два табунщика подбежали к взбешенному, визжащему коню, крепко ухватили его за уши, в то время как два других конюха торопились связать ремнями его ноги. Один из них пропустил между зубами жеребца волосяную веревку, затем ловко опутал ею брюхо и закрепил конец на спине.
В это мгновение на спине страшного коня очутился босоногий мальчик в алой рубашонке и засученных шароварах. Ухватившись за концы веревки, просунутой коню в зубы вместо поводьев, он вцепился затем левой рукой в его густую гриву. Табунщики, освободив ноги коня, отбежали, Турган, стегая коня плетью, помчался в степь.
Назар-Кяризек, раскрыв рот и подняв руки, полный восхищения и тревоги, кричал:
– Берикелля![42] Из сынка выйдет настоящий джигит!
Мальчик крепко сидел на спине мчавшегося коня. Вскоре он был уже так далеко, что казался маленькой красной точкой. Табунщики зорко наблюдали за борьбой коня и ребенка, готовые помчаться на подмогу.
Конь носился кругом по степи, бросаясь из стороны в сторону. Он старался скинуть мальчика нечаянными прыжками вбок. Бил задом и передом, подпрыгивал на месте, вставал на дыбы, шел на задних ногах и снова мчался в степь, разъяренный до предела.
Турган, вцепившись изо всех сил в веревку и взлохмаченную гриву, не терял ни смелости, ни упорства. Он то хлестал коня плетью, то ободрял и успокаивал его ласковыми словами. Дикий жеребец стал наконец немного слушаться повода.
Это заметили табунщики. Старший брат, Демир, закричал:
– Мальчишка переборол коня! Пора выручать его! Он устал, и силенок не хватит. Я сам поеду.
Демир помчался к Тургану. Гнедой был измучен, истощен, наполовину укрощен, и настигнуть его казалось делом нетрудным. Но лишь только он заметил, что к нему приближается новый всадник, жеребец снова разъярился, стал выгибаться и прыгать в сторону. Однако он уже давно утомился и, теряя силы, побежал дробной рысью. Его движения становились более равномерными и правильными. Уже заметно было, что он слушался повода и делал ровный круг, приближаясь к месту, где стояли Назар и табунщики.
Дикий конь был укрощен…
Демир, поскакавший на помощь мальчику, поравнялся с ним и продолжал мчаться рядом. Мальчик, держась левой рукой за холку коня, привстал на колени, потом быстро поднялся на ноги. Этим воспользовался опытный табунщик и, тесно прильнув своим конем к укрощенному жеребцу, обнял ребенка правой рукой и перетащил к себе.
Прирученный конь уже скакал рядом на поводу. Черный, загорелый табунщик, придерживая стоящего на его седле мальчика, возвратился к шалашу. Подбежавшие братья сняли усталого, едва державшегося на ногах юного укротителя и наперебой обнимали и целовали его.
Арапша бросился к гнедому жеребцу, поймал его за повод, трепал по шее, называл ласкательными именами. Конь стоял, растопырив ноги, опустив голову, равнодушный, с повисшими ушами.
Старый Назар-Кяризек сказал:
– Поводи его шагом до захода солнца, не давай воды до полуночи. Это будет конь первейший, знаменитый!
Молодой монгол, внимательно следивший за скачкой, повернулся к табунщикам и стал небрежно отсчитывать из кожаного кошелька золотые динары. Он высыпал монеты в подставленные ладони старшего брата, затем вскочил на белого жеребца и, сдерживая его, сказал:
– Спасибо вам, джигиты-табунщики! Скоро вы обо мне услышите…
Он тронул коня, но остановился, всматриваясь в даль. На холмах, окружавших долину, показался растянувшийся конный отряд. По маленьким крепким коням с крутыми толстыми шеями можно было сразу узнать монголов. Всадники быстро окружили место, где стоял шалаш. Монголами начальствовал молодой хан с суровым, каменным лицом. За ним неотступно следовали три воина. Средний из них держал копье с трепетавшим желтым лоскутом. Угрюмый хан подъехал к табунщикам. Встретившись взорами с молодым всадником на белом жеребце, он склонился к луке седла:
– Менду,[43] Бату-хан! Нелегко нам было найти тебя. Почему на тебе одежда, не подобающая царевичу-чингисиду?[44]
– Желтоухие собаки Гуюк-хана преследовали меня. Я скрывался в шалаше этих бедняков.
– Мой почтенный отец, Субудай-багатур, беспокоится. Он просит немедленно прибыть в его шатер.
– Я готов, багатур Урянх-Кадан!
Монголы с места пустили коней вскачь и быстро скрылись за холмами.
Арапша отвернулся, не желая видеть, как удалялся его любимый белый Акчиан. Пучком травы он вытирал пот, струившийся по бокам его нового коня. Ласково шептал ему:
– Не грусти! Не жалей о потерянной свободе! Теперь ты стал моим другом. До сих пор неудачи играли мной, ты же приносишь мне надежду! Будешь отныне называться «Итал-маз»! Станешь преданным и верным, как собака,[45] и неутомимым и крепким, как алмаз…
Глава пятнадцатая
Справедливые судьи
Кыз-Тугмас[46] не раз выходила из юрты и посматривала на дорогу, поджидая возвращения старого мужа. Наконец, утомившись, села на обрывке ковра у двери юрты и, обняв колени, молча смотрела на пустынный холм, над которым облаком кружилась мелкая розовая саранча.
«Говорила я, не к добру он поехал! – думала Кыз-Тугмас. – Чуяла, случится с ним недоброе. Куда ему, старому, ехать на войну! Он и мешок джугары[47] не принесет домой, не рассыпав. Но он упрям, как старый козел, а выбрыкивает, как молодой козленок…»
К вечеру приехал ее любимый сын Мусук. Он стреножил коня и пустил его пастись. Скинув разодранный чекмень и рубашку, он бросил их на колени матери:
– Пока у меня нет хозяйки, кто зашьет одежду?
Мусук растянулся на земле и долго лежал молча, следя за руками матери, которая ловко делала стежки на заплате.
– Где Юлдуз?
– Где же ей быть! Пасет в степи, еще не возвращалась.
Юлдуз была приемыш: ее пригрела Кыз-Тугмас потому, что хотя она и носила имя «Не будет иметь дочерей», но все-таки тосковала о дочери. Ведь дочь всегда вьется около матери, и даже замужем, в новой юрте, она ближе к матери, чем сыновья.
«Юлдуз скоро можно будет отдать за немалый калым – корову, коня и верблюда, Юлдуз стройная, красивая девушка, с веселой улыбкой и блестящими карими глазами. Не беда, что Юлдуз бедно одета! Ее блестящие черные волосы всегда тщательно заплетены в шестнадцать косичек и перевиты нитями стеклянных бус. Не один джигит уже засматривается на нее…»
Мать знала, что Мусуку нравится Юлдуз. Но какая старикам выгода, если бедняк женится на нищей сироте? Не лучше ли ему подождать с женитьбой, а Юлдуз выдать за богатого кочевника или муллу? Но об этом Кыз-Тугмас никогда не говорила и не раз вздыхала, думая: «Мусук упрям, как отец, и поступит, как сам захочет. Тогда мы никогда не выйдем из бедности!»
Собака, лежавшая у порога юрты, подняла голову, заворчала и с громким лаем помчалась в степь. Мимо ехал кочевник и что-то кричал, указывая рукой в сторону. Он не остановился и проехал дальше.
– Вот и Юлдуз! – сказала мать.
На холме показались ягнята. Они шли, растянувшись по тропе, взбивая пыль. Среди них шагала тонкая девушка, подгоняя особой пастушьей песенкой отстающих. Услышав ее голос, из соседних юрт выбегали женщины и спешили к стаду. Юлдуз, отдав захромавшего ягненка, которого несла на руках, бегом пустилась домой. Она сделала знак Мусуку и проскользнула в юрту.
Юлдуз взволнованно шептала:
– Ехал мимо человек и сказал, что видел нашу кобылу недалеко от дороги в степи. Она пасется, а седло сбилось на сторону… С отцом случилась беда! Я боюсь сказать матери.
Мусук осторожно вышел из юрты, стараясь незаметно пройти за спиной матери к своему коню, но вдруг остановился. Из степи послышался тонкий, плачущий крик.
«Да это Турган!»
Мальчик показался на холме. Он бежал спотыкаясь, ноги заплетались, он падал, опять вставал и ковылял дальше. Мусук подхватил его.
– Вай-уляй!.. – плакал Турган.
Мальчик не мог говорить, подбородок его дрожал, по лицу, грязному от пыли, текли слезы.
– Что случилось?
– Его вешают…
– Кого?
– Тату!..
Мукус принес брата в юрту и зачерпнул ему воды. Зубы мальчика стучали о край деревянной чашки.
– Около города… Тату ехал на базар… Его схватили джигиты. Они потащили его, связали веревкой… Я хотел протиснуться к тате. Меня оттолкнули так, что я упал…
– Говори дальше!
– Они кричали, что тату грабитель! Тату никого не грабил, его всегда другие грабили…
– Где это было?
– Около Ворот Намаза, где высокие тополя…
Мусук сорвал со стены свою кривую саблю в старых рыжих ножнах и, как был, без рубашки, побежал к коню, сбросил с его ног путы и вскочил в седло.
– Юлдуз!.. Турган! – крикнул Мукус. – Бегите в степь, ищите нашу кобылу! Я поскачу спасать отца…
Большая толпа теснилась вокруг старого высокого карагача у ворот города Сыгнака. На толстом суку висело несколько человек. Их голые ноги были судорожно вытянуты. Лица страшно искривились. Два стражника, приставив к дереву лестницу, захлестывали петли на шеях других. Несколько бедно одетых кипчаков, с закрученными за спиной руками, с бледными лицами, дрожали, сидя на корточках под деревом.
Благообразный и важный мулла, верхом на старом белом коне, возвышался над толпой. Он громко читал приказ:
– Правитель области повелевает, – слушайте все внимательно! «За отказ уплатить объявленные налоги по случаю прибытия непобедимого монгольского войска, за сокрытие зерна и муки, необходимых для прокорма отважных воинов, – присуждаются к смертной казни лукавые торгаши города Сыгнака…»
Шум и крики заставили муллу остановиться. Он строго посмотрел в сторону нарушителя порядка. Три всадника хлестали плетьми встречных и упорно пробивались через толпу. Впереди отчаянно кричал полуголый молодой джигит, размахивая кривой саблей.
Мулла, увидев джигита, сразу повалился с коня.
– Безумный! Что ты делаешь? – кричали в толпе. – Ты осуждаешь приказ правителя области!
– К собакам все ваши приказы! – вопил джигит. – Вместо базарных воров здесь вешают храбрых воинов хана Баяндера! Сейчас он сам сюда прискачет со своими джигитами… Всех вас изрубит, как солому!
Джигит подскакал к стражникам, которые, сидя на толстом суку дерева, подтягивали на веревке отчаянно бившегося старика. Косым ударом сабли джигит перерубил веревку. Оба палача упали с дерева.
– Развяжите старику руки, или я снесу вам головы!
Зрители помогли развязать лежащего старика и подняли его.
– Здравствуй, тату Назар-Кяризек! – сказал джигит и соскочил с седла. – Садись скорее на моего коня! Ты рано собрался покинуть нас для плова в райских садах Аллаха.
– Вовремя прискакал, сынок Мусук! – ответил старик. – Эти бараньи головы должны были повесить нескольких богатых купцов, спрятавших свои запасы. А судьи получили от купцов подарки и поэтому схватили на дороге первых встречных бедняков и повесили их вместо купцов. И меня вздумали повесить! Постойте, гнусные шакалы! У меня недаром пять сыновей-джигитов! Я поеду к самому хану Баяндеру! Он свернет вам головы!..
Толпа шумела. Прохожие сбегались. Крики усиливались. Мулла, подобрав полы длинной одежды, быстро убегал. За ним спешили и стражники. Вдогонку палачам летели сухие комья земли.
Мусук помог отцу взобраться на коня:
– Я встретил двух знакомых пастухов и попросил их мне помочь. Хорошо, что мы не опоздали!
– Хорошо, что у меня еще крепкая шея! Старый Назар-Кяризек не из таких, чтобы висеть, как туша, на потеху всему базару. Я отправляюсь на войну и вернусь оттуда славным батыром[48] с табуном коней!..
Глава шестнадцатая
Женский совет
Назар-Кяризек возвращался в свою юрту, окруженный толпой кипчаков. Из соседних кочевий сбегались посмотреть на счастливца, выскользнувшего из крепкой петли всесильного кадия. Всякий хотел коснуться узды коня, на котором, подбоченившись, ехал старый Назар в козловой шубе, с кривой саблей на поясе.
– Кто спас Назара? Где этот смельчак?
– Его младший сын, Мусук! Он перерубил саблей веревку, а толпа камнями отогнала собак-палачей.
– Который его сын?
– Да вон идет рядом, лихой, красивый! Он джигит хана Баяндера…
– Тогда ему, пожалуй, ничего не будет! Хана Баяндера боятся больше, чем главного судью.
Назар подъехал с важностью и торжеством к своей юрте. Теперь он мог показаться перед женой во всей славе. Ведь она ему твердила, чтобы он никуда не ездил, что он старый козел и ни к какому делу более не годится. А он возвращается теперь не менее знаменитым, чем сам хан Баяндер!
Однако Кыз-Тугмас при виде Назара стала плакать навзрыд, точно ей привезли покойника:
– Лучше бы ты умер, чем изо дня в день выдумывать разные затеи! Разве я неправду говорила, тебе ли ехать на войну? Не мог даже доехать до города, как уже попал в петлю! Больше от юрты и от меня не отойдешь ни на шаг!..
– Вот гиена, а не женщина! – закричал Назар. – Ничего не понимает! Если я спасся от петли самого кадия, значит, мне суждена великая дорога! Мне теперь ни меч, ни стрела не страшны! Я вернусь с войны если не ханом, так батыром, с табуном отборных коней. Меня все будут величать: «Салям тебе, ослепительный Назар-бай, батыр!» Завтра же поеду к самому главному монгольскому начальнику Субудай-багатуру. Он даст мне достойное место в своем войске!
– Тошно тебя слушать, старая пустая тыква!
Кыз-Тугмас махнула безнадежно рукой и скрылась в юрте.
А Назар уселся около двери на обрывке кошмы. Перед ним теснились соседи, и он без конца рассказывал, как сам хан Баяндер подарил его сыновьям пять своих лучших коней из заповедных табунов, как хан обнимал его, и называл старшим братом и отцом, и расспрашивал, как лучше повести свой пятитысячный отряд и каким путем. Все, разинув рты, слушали, и дивились находчивости и смелости старого Назара, и говорили, что следовало бы устроить особый отряд под его начальством, что этот отряд будет особенно удачливым и вернется с большой добычей.
Поздно вечером, когда любопытные разошлись, Кыз-Тугмас подсела к Назару, гладила его по руке и шептала:
– И чего тебя на войну тянет? Оставайся дома!
Назар раздувался от важности и твердил, что завтра он все-таки поедет к самому важному из монголов Субудай-багатуру. Узнав о том, кто такой Субудай-багатур и какие у него причуды, Кыз-Тугмас сказала:
– Хотя этот начальник и богат и знатен, ты все же к нему с пустыми руками не ходи. Богатые любят подарки – хоть яйцо, да принеси ему! Тогда он станет тебя слушать. А ты ему принеси знаешь что? – нашего длинноногого петуха! Он, правда, стар и почти без перьев, но это уж такая бухарская порода. Кричит же он по утрам так звонко, как азанчи на минарете. Может, и вправду петух принесет тебе счастье…
Глава семнадцатая
Юлдуз
Юлдуз рано утром, как всегда напевая песенку, погнала ягнят. За ней поехал Мусук. Отойдя далеко к зеленой долине, они оба долго сидели рядом на холме. Юлдуз расспрашивала своего друга о войне. Надолго ли уйдут в поход джигиты? Лицо Юлдуз, всегда веселое, с ямочками на щеках, вытянулось, и узкие брови сдвинулись. Еще бы! Сколько раз они говорили о будущей совместной жизни, а теперь из-за этого страшного похода все мечты разлетаются, как испуганные птицы. А если Мусук не вернется?.. Мало ли смелых джигитов сложило свои отчаянные головы на далекой стороне, в безлюдной пустыне, где шакалы растащили их изрубленные кости!
Но Мусук посвистывал и смеялся. Набег – это праздник для молодого джигита. Он увидит новые страны, он прославится удальством, станет знаменитым батыром. Вернувшись из похода, он всем привезет подарки, а для Юлдуз особенно: и красную шелковую рубашку до пят, и цветной пояс, вышитый бисером, и зеленые стеклянные бусы, похожие на изумруды, и перстень с камнем, сверкающим голубыми искрами.
Мусук не мог утешить нежную робкую Юлдуз. Слезы одна за другой скатывались по ее щекам. Она сказала:
– Для чего эта проклятая война? Все хорошо помнят, что было здесь, в Сыгнаке, когда пришли страшные монголы. Они всех резали, жгли дома и увели неведомо куда половину женщин и детей! Тогда у меня не стало отца и матери… Мне не надо никаких подарков! Ведь мы хотели с тобой поставить свою юрту на берегу ручья, где у нас будут свои ягнята, где мы будем иметь каждый день свежую лепешку и кусок сушеного творога. А ты хочешь вместе с безжалостными монголами убивать людей, жечь их юрты и отнимать у них последнюю лепешку и творог!
Мусук засмеялся и воскликнул:
– Не плачь, Юлдуз! Ты моя счастливая звезда! Я отправлюсь в поход, и днем и ночью думая о тебе. Кто рано поедет – счастье найдет. А кто сидит на месте – потеряет последнее…
Мусук обнял Юлдуз, вскочил на своего коня и, беспечно махнув папахой, поскакал прямиком через степь к табунам хана Баяндера.
Он встретил на пути толпу всадников. Они были на отличных конях, украшенных золотой сбруей, с соколами на рукавицах, окруженные борзыми собаками. Вдали сотни две джигитов, растянувшись цепочкой, загоняли дичь. Мусук проехал близко от нарядных всадников в синих монгольских одеждах. Из зарослей выбежали четыре джейрана[49] и, закинув на спину рожки, помчались по степи. За ними погнались охотники. Они направились в ту сторону, где Юлдуз пасла ягнят. Мусук подумал: «Как бы эти монгольские ханы, увидев красивую девушку, не приказали своим джигитам захватить ее с собой. Для хана нет закона, от его прихоти спасения нет».
Через день, к вечеру, Мусук вернулся в юрту отца. Там сидели Назар-Кяризек и четыре брата. Когда вошел Мусук, все замолчали. Мусук сказал обычное приветствие и подсел сбоку. Все усердно ели рисовый плов с бараниной. По очереди, степенно брали концами пальцев горсточки риса и отправляли в рот.
«Откуда у нас плов? – удивился Мусук. – Значит, в доме барыши! Отчего? Где отец заработал столько, что всех сыновей угощает дорогим пловом?»
Мусук оглянулся. Почему у матери заплаканные глаза? Почему она сердито гремит посудой? Маленький Турган сидит не рядом с отцом, а прижался к двери, точно виновный, и робко подымает глаза.
– Что же ты не ешь, Мусук? – сказал Демир.
Мусук колеблется. Что случилось? Тревожные мысли, ужасная догадка захватили дыхание.
А отец достает пальцами с деревянного блюда кусочки мяса и поочередно, в знак доброжелательства запихивает в широко раскрытые рты сыновей… Сегодня он хозяин, сегодня он угощает, может своей рукой запихнуть в рот гостя вкусный кусок. Он взял жирный кусок мяса и протянул руку к лицу Мусука.
Мусук резко отшатнулся:
– Есть я не буду!
Деревянное блюдо было вскоре очищено до последней крупинки. Демир, обращаясь к Мусуку, сказал с важностью и достоинством старшего брата:
– Наш младший брат Мусук! Ты, конечно, сам понимаешь, что нам, сыновьям нашего почтенного отца Назара-Кяризека, необходимо явиться в отряд хана Баяндера на исправных конях, с хорошими для похода седлами и с отточенными клинками. Если хан Баяндер увидит нас оборванными байгушами,[50] он с нами и разговаривать не станет…
Мусук вскочил и отступил к двери:
– Так это правда? Вы продали Юлдуз на базаре, как связанную курицу, жирному баю или торговцу рабами?
– Но ты сам подумай! Ехали мимо, охотясь, сыгнакские богачи. Увидели Юлдуз и сказали: «Вот желанный цветок для нашего хана!» Они предложили отцу очень хорошую цену – двадцать четыре золотых динара. Где нам, беднякам, разыскать такие деньги? Вот твоя доля – четыре динара. Мы честно все разделили, взяв и тебя в долю. – И Демир бросил на войлок четыре золотые монеты.
Мусук отвечал злобно, но тихо, положив руку на рукоять ножа, засунутого за пестрый пояс:
– У меня больше нет ни братьев, ни отца! Не попадайтесь мне на дороге!
Он выбежал из юрты. Все молча, опустив глаза, прислушивались к тому, как Мусук садился на коня, и ожидали, что он скажет матери и Тургану, которые с плачем выбежали за ним.
– Ты еще вернешься сюда?
– Никогда!
Глава восемнадцатая
«Созвать всех дервишей!»
Субудай-багатур разослал нукеров во все концы города Сыгнака – разыскать и привести дервиша, летописца и поэта по имени Хаджи Рахим аль-Багдади. Нукеры вернулись с ответом: «Этого дервиша в городе нет. Домишко его заколочен, и сам он уехал неведомо куда».
Субудай, рассердившись, послал две сотни с приказом привести к утру следующего дня всех дервишей Сыгнака, с их святыми шейхами и пирами.[51]
Утром отряд монгольских всадников пригнал к лагерю толпу дервишей и ободранных бродяг. Дервиши были в просторных балахонах с пестрыми заплатами, подпоясанные мочальными веревками; они приближались в туче пыли, с криками, заунывными песнями и глухим воем. Одни хором повторяли: «Я-гуу! Я-хак!» Другие выкрикивали священные заклинания. Несколько календаров[52] двигались впереди толпы, кружась как волчки. Один крайне грязный дервиш с длинными космами черных спутанных волос держал на плече обезьянку, у которой от страха непрерывно делался понос.
Нукеры поставили дервишей широким полукругом. Дервиши шумели, жаловались и стонали, крича, что они святые, над которыми властен только великий Аллах. Несколько дервишей, широко расставив руки, бесшумно вертясь, скользили по кругу.
Из юрты вышел старый, сутулый и хромой полководец и остановился. Мрачный и страшный взгляд его раскрытого, неподвижного глаза заставил всех замолчать. Последний кружившийся дервиш свалился как будто без сознания на землю у ног Субудая и, приоткрыв осторожно глаза, следил за каждым движением прославленного монгола.
Около Субудая появился молодой толмач в красном полосатом халате и белой чалме. Субудай-багатур заговорил хрипло и отрывисто. Его слова громко переводил толмач:
– Вы – святые!.. Вас слышит небо. Вы отказались от богатства… Поэтому вы все можете… все знаете…
Дервиши хором закричали:
– Мы знаем не все! Мы не знаем, кто нас накормит и завтра и сегодня!
Субудай снова обвел взглядом толпу, и она затихла.
– Мне нужен один дервиш. Его зовут… Как его зовут? – повернулся Субудай-багатур к толмачу.
– Хаджи Рахим из Багдада! Кто его знает?
– Мы не знаем его! Он не наш! Выбери вместо него кого хочешь из нас. Мы будем верно служить тебе!
Субудай ждал, когда дервиши замолчат.
– Вы все вместе не стоите его одного. Молчите, кто не знает. Пусть кричит тот, кто знает!
– Я знаю! Я скажу!
Сквозь толпу протиснулся старик. Он подошел к Субудай-багатуру, трясущимися руками вынул из красного платка большого облезлого петуха почти без перьев, с мясистым, свалившимся на сторону красным гребнем.
– Ты великий полководец! – завопил старик. – Ты пройдешь через степи и реки! Ты победишь весь мир! Ты первый из первых полководцев! Прими от меня первого из первых петухов! Он поет, как святой азанчи на минарете, всегда в одно и то же время и громче других петухов! Он будет восхвалять твои подвиги перед восходом солнца! Он принесет тебе новую славу!
Старик поставил петуха перед багатуром. Долговязый петух сделал несколько шагов, высоко поднимая длинные, тонкие ноги.
Что-то вроде улыбки искривило лицо полководца.
– Я спросил: где дервиш Хаджи Рахим?
– Я скажу, где он. Недалеко. Он лежит больной в моей юрте, в юрте старого честного труженика, твоего слуги, Назара-Кяризека. Его избили сыны шайтана, чьи-то нукеры.
Субудай-багатур сдвинул брови:
– Толмач! Возьми двух нукеров и поезжай за стариком. Привези ко мне Хаджи Рахима. Не отпускай этого старика ни на шаг. Если он соврал, пусть нукеры выбьют из него пыль.
– Будет сделано, великий!
Субудай повернулся к юрте, но остановился:
– Я беру этого голого петуха. Что ты хочешь за него?
– Я прошу только одного: возьми меня с собой в поход!
– Приведи сперва мудреца Хаджи Рахима.
Субудай направился к юрте шаркающими шагами. Дервиши завопили:
– Кто накормит нас сегодня? Зачем ты призвал нас?
Субудай пробормотал толмачу несколько слов.
– Тише! – крикнул толмач. – Субудай-багатур приказал, чтобы вы крепко молились об удачном походе. Кто из вас хочет отправиться в поход на Запад, может идти, но кормиться должен сам.
– Ты все можешь! Ты великий! Прикажи сегодня накормить нас…
Субудай-багатур ответил:
– Я никого кормить не могу. Я только воин, нукер на службе у моего хана. Вы, святые праведники, пойдите в Сыгнак к богатым купцам и скажите им, что начальник монгольского войска приказал купцам всех вас сегодня накормить.
Дервиши снова запели и с гулом и криками нестройной толпой направились по степи обратно к Сыгнаку.
Глава девятнадцатая
Мечта завоевателя
Мы бросим народам грозу и пламя —
Несущие смерть Чингисхана сыны.
Из древней монгольской песни
Монгольские заставы с удивлением пропускали странных путников, направлявшихся к юрте главного полководца Субудай-багатура. Впереди шел тощий дервиш в высоком колпаке с белой повязкой паломника из Мекки. Его можно было бы принять за обыкновенного дорожного нищего, если бы не просторный шелковый синий чапан с рубиновыми пуговицами, оправленными в золото. Через плечо висела сумка, из которой высовывалась книга в кожаном переплете с медными застежками. В руке он держал длинный посох и сплетенный из тростника фонарь с толстой восковой свечой. За дервишем плелся старик в козловой шубе, с кривой саблей на поясе. За стариком ехали рядом на небольших серых конях молодой толмач и два монгольских нукера. Оба монгола без конца тянули заунывную песню. Приближаясь к заставе, они кричали: «Внимание и повиновение!» – и затем снова продолжали протяжную песню. Дервиш, приближаясь к дозорным, сдвигал на затылок колпак, и на лбу его блестела овальная золотая пайцза[53] с изображением летящего сокола.
Дозорные смотрели, разинув рты, и спрашивали вдогонку:
– Идет к самому?
– А то к кому же!
Возле юрты полководца Субудай-багатура дервиш остановился. Два огромных рыжих волкодава, гремя цепями, прыгали на месте, давясь от злобного лая.
Дервиш долго стоял задумавшись, опираясь на посох. Из юрты послышался голос:
– Пусть учитель войдет!
Дозорный, стоявший рядом, толкнул копьем неподвижного дервиша и указал на вход.
В юрте на ковре сидело несколько военачальников, склонившись над круглым листом пергамента, где начерчены были горы, черные линии рек и маленькие кружки с названиями городов.
Толстый сутулый Субудай-багатур поднял загорелое лицо, уставился на мгновение выпученным глазом на дервиша и снова склонился к пергаменту, тыча в него корявым коротким пальцем:
– Вы видите: от Сыгнака до великой реки Итиль,[54] для каравана сорок дней пути. Нам же придется идти в два-три раза дольше. Как только выберем джихангира[55] войско выступит.
– Да помогут нам заоблачные небожители! – воскликнули монголы, встали и, прижимая руки к груди, один за другим вышли из юрты.
Субудай-багатур остался один на ковре. Он прищурил глаз, всматриваясь, точно стараясь проникнуть в тайные думы дервиша. Хаджи Рахим стоял неподвижно, спокойно выдерживая взгляд полководца, прославленного победами, известного своей беспощадной жестокостью при подавлении врагов и при разгроме мирных городов.
– Я слышал о тебе, что ты знаешь многое?
– Всю жизнь я учусь, – ответил Хаджи Рахим. – Но знаю только ничтожную крупинку премудрости вселенной.
Субудай продолжал:
– Ты был первым учителем моего воспитанника. Я вожу его с собой уже десять лет через земли многих народов. Он в седле учился быть воином и полководцем. Ты слышал об этом?
– Теперь услышал.
– Я хочу, чтобы он закончил великие дела, которые не успел выполнить его дед, Священный Потрясатель вселенной.[56] Я слышал однажды, давно, как ты рассказывал о храбром полководце Искендере Зуль-Карнайне.[57] Он тоже начал походы юношей. У него были опытные в военном деле советники, которые оберегали его…
Субудай-багатур зажмурил глаз, отвернулся и некоторое время молчал. Затем снова повернулся к дервишу:
– Бату-хан полон страстных желаний, как пантера, которая видит вокруг себя сразу много диких коз и бросается то вправо, то влево. Возле него должен быть преданный, верный и осторожный советник, который будет предостерегать его и не побоится говорить ему правду.
– Я араб. Ложь считается у нас пороком.
Вошел дозорный и остановился у входа, приподняв занавеску.
– Внимание и повиновение! – сказал он вполголоса.
Субудай-багатур с кряхтеньем поднялся и, хромая, медленно направился навстречу. В юрту стремительно вошел Бату-хан. На нем был новый синий монгольский чапан с рубиновыми пуговицами в золотой оправе. Молодое загорелое лицо со скошенными узкими глазами горело беспокойной тревогой. Рот слегка кривился хищной улыбкой, на темном лице казались особенно белыми крупные волчьи зубы.
Субудай-багатур низко склонился перед ним:
– Ты хотел видеть ученого мудреца. Вот он!
Бату-хан быстро подошел к Хаджи Рахиму и схватил рубиновую пуговицу на его плаще:
– Я посылал за тобой, мой старый учитель Хаджи Рахим. Отныне ты меня не покинешь. Скоро начнется еще невиданный великий поход. Ты будешь моим летописцем. Ты должен записывать мои повеления, мои изречения, мои думы. Я хочу, чтобы правнуки мои знали, как произошло вторжение неодолимых монгольских войск в земли Запада. Посмотри сюда!
Он опустился на ковер и стал водить пальцем по пергаменту:
– Субудай-багатур, садись здесь, а ты, Хаджи Рахим, сядь с другой стороны. Вот великий путь, красной, кровавой нитью идущий на запад. Я пойду дальше, чем ходил мой дед. Я поведу войска вперед до конца вселенной…
Бату-хан продолжал говорить, указывая на пергамент, о предстоящем походе, перечислял названия разных мест и городов. Видимо, он давно продумал план войны.
– Ты будешь описывать каждый мой шаг, прославлять мое имя, чтобы ничто не было забыто.
Субудай-багатур смотрел в сторону с каменным, равнодушным лицом.
– Я должен выполнить замыслы моего деда. «Монголы – самые храбрые, сильные и умные люди на земле», – говорил он. Потому монголы должны царствовать над миром. Только монголы – избранный народ, отмеченный небом. Все другие народы должны быть нашими рабами и трудиться для нас, если мы оставим им жизнь. Все резкие и непокорные будут сметены с равнины земли. Они, как кизяк, сгорят на монгольских кострах!
Бату-хан обратился к Субудай-багатуру:
– Скоро ли мы двинемся в поход?
Субудай-багатур вздрогнул, точно очнувшись:
– Когда мы прочтем войску завещание Священного Правителя[58] и утвердим джихангира. До этого, прошу тебя, Бату-хан, будь особенно осторожен. Держись одиноко. Берегись хмельных пиров. Нельзя подвергать себя опасности перед началом великого дела. Если ты погибнешь, войско поведет другой царевич – Гуюк-хан или Кюлькан-хан. Они никогда не сумеют выполнить великие замыслы деда, и войско развалится.
– Дзе, дзе![59] Мне нужно иметь около себя преданного человека, который всегда напоминал бы мне важное и срочное и говорил правду. Кругом я слышу только лесть и восхваления. Ты мне поможешь, мой старый учитель Хаджи Рахим. Я думаю также о смелом юноше, который уступил мне своего белого коня. Его зовут Арапша. Субудай-багатур, прикажи разыскать его. Он кажется мне верным и неспособным на измену и лукавство. А ты, Хаджи Рахим, с сегодняшнего дня начнешь описывать великий поход. Начни с моего поучения:
«Великий полководец должен быть загадочным и молчаливым. Чтобы стать сильным, надо окружить себя тайной… твердо идти по пути великих дерзаний… не делать ошибок… и беспощадно уничтожать своих врагов!»
Глава двадцатая
Джихангир, покоритель вселенной
Прошло сорок дней. С востока беспрерывно прибывали монголо-татарские войска. Вслед за ними шли отряды киргизов, алтайцев, уйгуров и других кочевых племен. В Кипчакской степи повсюду горели костры военных лагерей. Племена располагались отдельными стоянками, не смешиваясь и не приближаясь друг к другу.
Как конские косяки держатся одной семьей благодаря злобности зорких жеребцов, так воины каждого племени теснились вокруг своих вождей. Все ожидали последнего призыва к походу на Запад: девяти дымных костров, зажженных на вершине «кургана тридцати богатырей».
Монгольские царевичи провели эти сорок дней в пирах и в полуночных молениях. Шаманы[60] в плясках и гаданиях искали «день счастливой луны», когда боги разрешат избрание джихангира – главного вождя всего войска. Тысячеустая молва уже разносила весть, что джихангиром подобает быть только Гуюк-хану: он наследник великого кагана[61] Угедэя, и хотя молод, но в походе приобретет опыт и боевую славу… Однако старые, опытные в войне, покрытые рубцами монголы покачивали головой:
– Подождем, что скажет мудрый, испытанный в походах Субудай-багатур. Этот израненный злобный барс вместе с Джебэ-нойоном, Богурчи[62] и наместником Китая, Мухури, составляли четыре копыта победоносного Чингисханова коня. Только опираясь на эти четыре стальных копыта, Чингисхан мог проноситься от победы к победе. Нам надо не только избрать джихангира, но и вождей, исключительных по военному опыту, начальников правого и левого крыла и стремительного темника[63] передового отряда разведчиков, умеющего заманить врагов в западню… Пусть проницательный Субудай-багатур решит: годится ли в джихангиры Гуюк-хан? Удержат ли его руки поводья коня? Сумеет ли он повести войско для завоевания вселенной?
Пока ханы и царевичи договаривались об избрании более мелких вождей, старый Субудай-багатур, глава и руководитель будущего похода, сидел безвыходно в своей юрте. Никого туда не впускали молчаливые дозорные-тургауды, и никто не знал, что делал, что обдумывал дальновидный скрытный старик.
На кургане, где стояла юрта Субудая, в соседних с нею юртах толпились вестники, монгольские военачальники и кипчакские ханы. Они усаживались на войлоке возле помощников Субудая, юртджи,[64] и передавали им свои пестрые раскрашенные стрелы. Юртджи провожали некоторых из приехавших ханов к старому Субудаю, и тот, впиваясь своим единственным глазом в собеседника, говорил с ним отрывистыми словами либо отворачивался, буркнув: «Такого не надо!», либо передавал овальную пластинку, золотую пайцзу.
Получивший пайцзу начальник отряда обязывался подчиняться беспрекословно джихангиру, не колеблясь исполнять все его приказания и очертя голову бросаться в бой. Воспрещалось самовольно переходить с одного крыла на другое, идти неуказанной дорогой или медлить в выполнении приказа. За все промахи грозило только одно наказание – смерть.
Привезенная ханом или беком стрела с пестрыми знаками, означавшими духов войны, являлась залогом верности тысячи преданных всадников. К тысяче прикреплялся монгольский нукер, опытный в походах. Он наблюдал, чтобы строго исполнялись боевые правила, введенные Чингисханом, чтобы одна пятая часть захваченной добычи поступала в пользу джихангира, а вторая пятая часть отсылалась в далекую Монголию, в пользу великого кагана. Для войска оставались три пятых военной добычи. Монгольский начальник следил, чтобы не было ссор и вражды между отдельными отрядами. За малейшее нарушение правил, написанных в великой «Ясе»[65] Чингисхана, виновному грозила немедленная смерть.
Воины должны были явиться в поход на крепких конях, с исправным оружием, уже разделенные на десятки и сотни, где они были подчинены своим десятским и сотникам.
Наконец шаманы объявили, что боги, живущие за облаками, разрешают избрать джихангира, вождя предпринятого похода, в счастливый сорок первый день совещания. Только знатнейшие ханы и тысячники могли принимать участие в этом торжественном избрании. Остальные, более мелкие военачальники расположились со своими отрядами в степи, вокруг «кургана тридцати богатырей», ожидая решения ханов.
Хан Баяндер выехал еще до рассвета из своего кочевья для участия в празднике избрания. Золотая овальная пайцза с изображением летящего сокола висела у него на груди на желтом шнурке. Не легко было получить эту пайцзу. Накануне хан Баяндер лично привез Субудай-багатуру пять «тысячных стрел». Старый полководец вытащил из кожаной шкатулки золотую пластинку и сказал: «Пусть твои пять тысяч кипчакских джигитов в нападениях будут как кречеты, бросающиеся на соколов, а ты сам будь осторожен, как волк в ясный день, и терпелив, как ворон в темную ночь. Во время стоянок, пиров и увеселений пусть твои кипчаки живут с монголами дружно и невинно, как трехмесячные телята. Я проверю в боях смелость, доблесть и верность твоих кипчаков».
Хана Баяндера провожала пышная свита. Сотня лихих джигитов в шелковых халатах и белых бараньих шапках ехала за ним до подножия кургана. Самые знатные военачальники, сойдя с коней, поднялись на курган. Остальные ожидали в отдалении.
Среди избранных, прошедших вслед за ханом Баяндером, была его старшая жена, дородная и величавая Бурла-Хатун. Пышные складки ее шелкового платья покрывали всю спину коня – от гривы до хвоста. Младшие ханши и служанки помогли ей сойти с коня. Шурша просторной шелковой одеждой, ханша взобралась, задыхаясь, на вершину кургана. Распорядители заставили ее обойти золотой трон, предостерегая, чтобы она не ступила ногой на разостланный перед троном священный пестрый ковер. Ханша опустилась с левой стороны трона среди других таких же толстых, почтенных жен кипчакских ханов, утопавших в нарядных одеждах. Лица их прятались под огромными тюрбанами с пышными пучками белых перьев.
Вслед за старой ханшей проскользнули две смуглые дочери Баяндера, посматривая исподлобья, дико и настороженно. Тонкий стан обеих девушек был перехвачен золотым поясом с маленьким кинжалом.
В толпе зашептали:
– Вот будущие жены джихангира… Хан Баяндер привез их напоказ! Счастлив хан Баяндер, имея таких красавиц дочерей! Будет у него зятем монгольский хан…
Глава двадцать первая
Избрание главного вождя
Восток быстро разгорался. Золотисто-желтая полоса над горизонтом стала огненной. Наконец красный шар солнца выкатился на небосклон. Тотчас же раздался свирепый хриплый рев длинных труб, возвестивших начало торжественного праздника.
По древнему степному обычаю, все монголы, сняв шапки и повесив пояса на шею, упали на землю, поклоняясь небесному светилу. Шаманы, ударяя в бубны, нестройным хором запели молитвы и заклинания, прося заоблачных, всегда гневных богов стать милостивыми, дать успех и благополучие предстоящему походу, просветить ясным разумом головы съехавшихся ханов: пусть они выберут самого сметливого и самого счастливого из монгольских царевичей-чингисидов. Он возьмет в сильные руки повод Чингисханова коня и поведет войско для покорения вселенной.
Молодой Гуюк-хан сидел первым справа от пустого золотого трона. Довольная, счастливая улыбка пробегала по его пухлым губам. Кому же быть джихангиром, как не ему, сыну великого кагана, наследнику золотого трона монгольских повелителей! Он окидывал беспокойным взглядом других ханов, скрывающих мысли под каменной неподвижностью желтых, застывших в почтительной улыбке лиц. Гуюк-хан часто оборачивался: его тревожило отсутствие Бату-хана. Его нигде не было видно. Только братья Бату – Урду, Шейбани и Тангкут – с мрачными, настороженными лицами сидели тесной группой в стороне.
Вопли и завывания шаманов резко оборвались. Гуюк-хан, считая себя самым знатным, поднялся, желая говорить. Но хриплые трубы снова заревели, и Гуюк-хан опустился на ковер.
Тогда вскочил знаменитый полководец Джебэ-нойон, воевавший вместе с Субудай-багатуром как начальник его передового отряда разведчиков. Широкогрудый, сильный, прозванный за стремительность «Стрелой»,[66] он стал кричать могучим голосом любимые слова Чингисхана, обычно произносимые перед объявлением его приказов:
– Слушайте, войска непобедимые, подобные бросающимся на добычу соколам! Слушайте, войска драгоценные, как алмазы на шапке великого кагана! Войска единые, как сложенный из камней высокий курган! Слушайте, багатуры, подобные густой чаще камышей, выросших тесными рядами один подле другого! Исполняйте волю Священного Правителя! Только его слова мудры, только они приносят победы, только его приказы доставят вам обильные богатства, тысячные стада и немеркнущую славу!
Во всех концах нукеры закричали:
– Слушайте слова Священного Правителя! Слушайте почтительно и с трепетом!
Все бросились на колени, касаясь руками земли, и, подняв голову, слушали, что будет сказано.
Четыре писаря Субудай-багатура, мусульмане-уйгуры,[67] в белых тюрбанах, выбранные глашатаями за свои зычные голоса, встали на четырех сторонах кургана. Держа в руках пергаментные свитки, они одновременно стали читать, стараясь перекричать друг друга:
– Слушайте, непобедимые воины, слушайте! Вот что повелел десять лет назад великий Священный Правитель. Вот какие слова записаны в его завещании: «Мы возвели на высокий ханский престол нашего старшего сына, Джучи-хана, подчинив ему западные улусы. Мы повелели ему пойти дальше к закату солнца с войском непобедимых монголов. Мы повелели ему идти покорять вселенную до Последнего моря, до того места, куда сможет ступить копыто монгольского коня. Но тайный враг, подобно черной собаке, подползающей в дождливый день, подкрался к моему непобедимому сыну и обратил багатура Джучи-хана в пыль, развеянную ветром. Слушайте, мои верные сподвижники, багатуры и нойоны! Мы назначаем повелителем монгольского войска, идущего на вечерние страны, моего смелого, доблестного внука Бату-хана, сына Джучиева. Он поведет к новым победам и прославит собранный мною монгольский народ, для чего я даю ему знамя с рыжим хвостом моего боевого коня. Мы приказываем нашему верному слуге, опытному в военных делах Субудай-багатуру, помогать нашему внуку Бату-хану твердо держать золотые поводья. Внуку нашему повелеваем во всем слушаться советов осторожного и мудрого Субудай-багатура. Тогда Бату-хан сорвет с неба утреннюю звезду, уничтожит всех врагов, покорит вселенную до того места, куда проваливается солнце. Тогда прекратятся мор, голод и засуха и настанет всеобщий мир». Слушайте, воины, таково желание Священного Правителя, таким должно быть и желание всего монгольского народа!..
– Пусть так будет! – закричали монголы и татары, стоявшие на коленях вокруг кургана. – Пусть воля Священного Правителя опять поведет нас войной на другие народы! Пусть указывает нам дорогу знамя с хвостом Чингисханова жеребца! Покажите нам его.
Из сотни лихих всадников, стоявших на страже у подножия кургана, выехал молодой смуглый монгол на белоснежном жеребце. Он вихрем взлетел на вершину кургана и осадил бесившегося коня на краю ската. За ним примчались три воина. Средний держал белое пятиугольное знамя[68] с девятью трепетавшими на ветру широкими лентами. На золотом острие древка развевался длинный рыжий конский хвост, хорошо известный всем старым монголам, соратникам непобедимого Чингисхана.
– Это Бату-хан! – завыла толпа. – Это Бату-хан, сын Джучи, внук чингисов! Под ним Сэтэр, белоснежный конь великого бога войны Сульдэ! Веди нас в бой, Бату-хан!
Утреннее солнце ярко освещало золотой шлем Бату-хана, его кольчатую броню и плясавшего горячего жеребца с огненными глазами. Бату-хан натянул золотые поводья и поднял над головой кривую саблю.
– Слушайте, смотрящие мне в глаза мои багатуры! – крикнул он сильным, звучным голосом, и равнина затихла. – Великий дед мой, Священный Потрясатель вселенной, приказал мне завоевать все земли на Западе до последнего предела, и я клянусь, что с вами, непревзойденные в храбрости багатуры, я сделаю это и проведу кровавую огненную тропу до конца вселенной!
Гул радостных восклицаний прокатился по рядам воинов и затих.
– Я обещаю, что шелковыми тканями оберну животы моих воинов! Я захвачу сотни тысяч быков и баранов и буду кормить мясом досыта все войско. Я обещаю, что каждый получит новую шубу! Впереди богатые страны, где народы разленились от спокойной жизни. С вами, непобедимые багатуры, я покорю трусливые, не умеющие драться народы. Ваши плети будут гулять по их жирным затылкам!
Крики снова пронеслись по равнине:
– Ты настоящий внук Потрясателя вселенной! С тобой мы покорим все народы!
– Клянусь еще в одном! Я не забыл своих врагов, я разыщу тех ночных желтоухих собак, которые убили моего отца, и я сварю их в котлах живыми! Хотя бы виновником оказался мой брат, клянусь, что и с ним я поступлю так же! Больше медлить мы не будем! Завтра на рассвете выступаем в поход! Первый сбор всего войска будет на берегах великой реки Итиль. Оттуда начнется буйная и веселая охота на племена и народы. Там я выпущу в бой моих смелых орлов и кречетов!
Каждый кипчакский род, каждое колено выкрикивало свои боевые ураны:
– Манатау! Карабура! Аманджул! Уйбас! Дюйт! Ээбуганнам-кайд-шуляйм!..
А новый джихангир, повернув плясавшего белого жеребца, медленно подъехал к юрте Субудай-багатура. Несколько ханов подбежали к нему, ухватили золотой повод, коснулись стремени и терлись бородой о замшевый сапог Бату-хана:
– Умоляем тебя, великий джихангир! Сойди с коня, сядь на трон, который отныне принадлежит тебе! Радуясь твоему избранию, мы устроим торжественный пир! Все ханы и кипчакские султаны хотят поцеловать перед тобой землю и выказать тебе преданность и усердие!
Бату-хан снисходительно улыбнулся и соскочил с коня. Ханы расступились, давая ему дорогу к узорчатому ковру перед золотым троном.
Но молодой воин с белым тюрбаном на длинных черных кудрях, грубо расталкивая ханов, бросился вперед и загородил копьем доступ к трону:
– Назад, Бату-хан! Смотри, что ожидает тебя!
Он с силой метнул копье в середину узорчатого пестрого ковра перед троном, и копье, пробив ткань, исчезло. Воин схватил ковер за край и отвернул его: под ковром зияло черное отверстие глубокого колодца.
Бату-хан, вскрикнув:
– Арапша, за мной! – бросился к юрте Субудай-багатура и исчез за входной занавеской.
– Какие хитрые злодеи, какие желтоухие собаки могли подготовить такую западню? – шептали ханы и теснились к колодцу, стараясь в него заглянуть.
– Субудай-багатур идет! – пронесся гул толпы.
Старый, сгорбившийся полководец на кривых ногах, со скрюченной правой рукой, медленно подходил к трону. Вытаращенным, неморгающим левым глазом он обвел безмолвную толпу ханов и гостей:
– Два дня я отсутствовал и недосмотрел, как черные ночные мангусы[69] подрыли западню возле стоянки джихангира. Пока я жив, этим ядовитым чудовищам не удастся погубить молодого вождя, назначенного Священным Правителем! Я вырву клещами языки всех, кто готовил ему гибель. Посмотрю, будут ли они так же храбры со мною, как были хитры, готовя западню. Мы не станем медлить. Мы выступаем в поход не завтра, а сегодня, сейчас! Сворачивайте шатры! Седлайте коней! Нукеры, зажигайте костры!
Кряхтя и еще более согнувшись, старый полководец повернулся и медленно заковылял к своей юрте.
Ветер стих, и в неподвижном воздухе над курганом потянулись к небу девять столбов дыма – это расторопные нукеры Субудай-багатура разожгли приготовленные заранее костры, бросая в них сырую солому, извещая все кочевые племена, что начался великий поход на Запад.
Часть вторая
Бату-Хан двинулся на запад
…Напрасно думать, что монгольское нашествие было бессмысленным вторжением беспорядочной азиатской орды. Это было глубоко продуманное наступление армии, в которой военная организация была значительно выше, чем в войсках ее противников.
Наполеон
Глава первая
Войско выступило
С того дня, как старый Назар-Кяризек, держа в красном узелке длинноногого петуха, доставил его в юрту грозного монгольского полководца, факих Хаджи Рахим оказался в полном плену у одноглазого вождя Субудай-багатура, который, фыркая, точно выплевывая слова, сказал:
– Великий джихангир Бату-хан повелел, чтобы ты, его многознающий учитель, всегда находился возле него… Чтобы ты усердно, очень усердно описывал походы ослепительного через вселенную. Да! Чтобы ты имел достаточно бумаги и черной краски и два раза в день получал рисовую кашу и мясо. Ты все получишь – мое слово кремень! А этот хитрый старик будет о тебе заботиться… Чтобы ты не сбежал, да!.. Ты не будешь скакать, как отчаянный нукер, на неукротимом коне, – во время скачки ты растеряешь и перья, и бумагу! Да!.. Ты поедешь на сильном тангутском верблюде. Вы оба будете следовать на нем за мной. А ты, петушиный старик, помни, что если этот ученый книжник будет писать лениво или захочет убежать, то с тобой поговорят мои нукеры и выбьют из тебя пыль, накопленную за шестьдесят лет… Не спорь и не отвечай! Так приказал джихангир, и так будет! А тебя, старик, я, сверх того, назначаю сторожем будильного петуха. Разрешаю идти.
Субудай отвернулся, точно забыл о факихе. Два монгола, подхватив под руки Хаджи Рахима, потащили его к огромному темно-серому верблюду. По сторонам его мохнатых горбов, на соломенном седле с деревянными распорками, висели две продолговатые, сплетенные из лозы корзины-люльки – кеджавэ. Верблюд с протяжным стоном опустился на колени. Монголы усадили Хаджи Рахима в люльку. В ней было тесно, и колени поднялись до подбородка.
Назар-Кяризек влез в другую люльку. Он вздыхал и недовольно ворчал:
– Мне бы лучше боевого коня!.. Подобает ли старому воину сидеть в корзине!
Он тщательно привязал к корзине сыромятным ремешком своего петуха. Верблюда отвели в сторону и опустили на колени рядом с другими, на которых вьючили части разобранных юрт. Назар-Кяризек шепнул сидевшему в раздумье факиху:
– Все, что сказал этот кривой шайтан, будет исполнено, кроме одного – об еде нам придется заботиться самим. Вечно голодные монголы и крупинки риса нам не дадут, а сами его слопают. Я проберусь к повару нашего свирепого начальника и постараюсь с ним подружиться… Тогда нам найдется что поесть.
Старик вылез из корзины и скрылся.
Хаджи Рахим наблюдал шумную суету военного лагеря. Воины бегали, кричали, торопили друг друга. Субудай-багатур уже потребовал себе коня. Кипчакские женщины с пронзительными песнями разбирали юрты, сворачивали войлоки, сдвигали косые решетки и вьючили все это на верблюдов вместе с бронзовыми котлами, железными таганками и чувалами.[70] Нукеры волочили пестрые мешки с зерном и мукой, тащили за рога баранов, привязывали на запасных коней переметные ковровые сумы, подтягивали ремни и уносились вскачь, присоединяясь к отряду, который собирался на равнине.
Субудай-багатур, кряхтя и прихрамывая, подошел к догоравшему костру. Возле него появились шаманы – один старый, седой, и несколько молодых. Они ударяли в бубны, звенели погремушками и выли заклинания. Субудай смотрел на огонь выпученным глазом и шептал молитву, предохраняющую от отравы, удара стрелы и злого глаза. Ветер подхватил клубы сизого дыма и окутал ими Субудая, осыпав искрами.
– Счастливый знак! – сказали теснившиеся кругом монголы. – Дым отгоняет несчастье, священные искры принесут удачу!
Субудай, угрюмый, неподвижный, сутулый, стоял долго, глубоко задумавшись, точно видя перед собой предстоящие битвы, убегающие испуганные толпы и восходящее солнце боевой славы его воспитанника, покорителя вселенной Бату-хана.
А тот уже подъезжал на белом нарядном жеребце. За ним следовали в три ряда девять телохранителей. У переднего на бамбуковом шесте развевалось пятиугольное белое знамя с трепетавшими от ветра узкими концами. На знамени был вышит шелками серый кречет,[71] держащий в когтях черного ворона. Бату-хан был в легком кожаном шлеме, украшенном пучком белых перьев серебристой цапли. Безусый, загорелый, с черными, слегка скошенными живыми глазами, в синем шелковом чапане с рубиновыми пуговицами, он уверенно сидел на горячившемся коне. Левой рукой он натягивал повод с золотыми бляшками, а правой держал короткую черную плеть.
– Я готов! Смотри, войско уже снимается со стоянки! Смотри, мои отряды торопятся скорее прибыть к великой реке Итиль, чтобы броситься ураганом на дрожащие от страха племена!
Бату-хан указал плетью на запад. С холма была видна далеко раскинувшаяся равнина. По всем тропам тянулись уходившие на запад конные отряды воинов.
Субудай, очнувшись, повернулся к Бату-хану. Он нагнулся и, кряхтя, коснулся корявыми пальцами сухой земли.
– Я давно готов, – сказал он. – Верно сказал: с таким войском ты накинешь аркан на вселенную!..
Подойдя вплотную к Бату-хану, Субудай добавил шепотом:
– Не отъезжай от меня ни на шаг! Помни, что опасность грозит тебе не с запада, а здесь, среди выкопанных для тебя ям и сладких улыбок предателей!
Бату-хан нахмурился. Его рот скривился. Он отмахнулся плетью:
– Надоели мне они! Скоро ли мы будем за рекой Итиль, в Кипчакских ковыльных степях! Вольный ветер тянет меня вперед, подальше от этих мест, где все отравлено изменой, завистью и лестью… – Он продолжал вполголоса: – Я еду не оглядываясь и больше сюда не вернусь. Там, впереди, я покорю народы и создам новое, небывалое царство, до которого не дотянется цепкая лапа Каракорума!..
– Хорошо, хорошо! – бормотал Субудай и косился на стоявших поблизости монголов.
Шаманы подбросили в костер охапку сухой полыни. Желтые языки пламени взвились кверху, рассыпая искры.
Субудай сел на толстоногого саврасого иноходца и, суровый, нахмуренный, поехал позади Бату-хана. Монголы садились на коней, вьючили последние котлы. Вскоре длинный караван потянулся с холма в сторону затянутого серыми тучами неведомого запада.
Глава вторая
В пути
Все монгольские принцы одновременно двинулись на запад весной года Обезьяны, месяца Джумада-второго. Проведя в дороге лето, они осенью соединились в пределах Булгарских с родом Бату, Урду, Шейбани и Тангкута (сыновей Джучиевых), которым были назначены во владение те пределы.
Рашид ад-Дин. Летопись
«…С каких облаков я сорву сверкающие молнии разящих слов, в каком озере мудрости я зачерпну прочной сетью серебристую стаю правдивых волнующих мыслей, где я найду раскаленный котел кипящей смолы, чтобы ею начертать полные жгучей жалости и негодования картины горя, отчаяния и безутешных слез, которыми сопровождается каждый шаг вперед монгольского войска?.. Это войско пожирает и уничтожает все, что ему попадается на пути… Каждый человек, женщина или ребенок становятся беспомощными жертвами неумолимых воинов… Всякое сопротивление карается смертью, всякая покорность влечет тяжелое рабство, и ничто не спасает встречного… Где же ряды смелых удальцов, которые не дрогнут при страшном вое четырехсоттысячной орды несущих разгром и смерть монголов? Кто отбросит степных хищников, занятых только страстью грабежа и насилия?»
Так писал Хаджи Рахим, сидя в плетеной корзине, собравшись в комок, держа на коленях лист серой самаркандской бумаги. Он старательно продолжал свои «Путевые записки». Верблюд шел размашистым шагом, не отставая от охранной тысячи «бешеных» Субудай-багатура. Тот ехал впереди на саврасом иноходце, то замедляя шаг при подъеме и останавливаясь на вершине холма, то ускоряя его на гладкой равнине. Тогда верблюд, раскачиваясь, мягко бежал сильной, стремительной иноходью и равномерно подбрасывал вцепившихся в края корзины Хаджи Рахима и старого Назара.
Хаджи Рахим писал:
«…Выйдя из Сыгнака весной, войско шло на запад,[72] в течение всего лета, сухого, знойного, без дождей. Путь, проложенный веками, направлялся от одной степной речки к другой, так что громадное скопище коней не особенно страдало от жажды и бескормицы. Степь зеленела весенними побегами, а чем дальше, тем больше попадалось сохранившихся после весенних разливов поемных лугов, болот и речек с камышами, где было достаточно корма для неприхотливых татарских коней.
Тридцать три тумена, каждый в десять тысяч всадников, шли по тридцати трем дорогам такой широкой лавой, что понадобилось бы три дня пути, чтобы проехать от левого крыла до крайнего правого крыла огромного монгольского войска.
Каждый тумен знает только свою тропу и останавливается особым лагерем. Передовые разведчики отыскивают для него заблаговременно удобные для остановок места, богатые камышами или луговой травой.
Самое крайнее к северу правое крыло ведет хан Шейбани и с ним два других брата Бату-хана. Каждый из них имеет свой тумен, они поддерживают друг друга и с помощью гонцов находятся в постоянной связи. Они выполняют приказ джихангира: покорить северное, Булгарское царство, лежащее на реке Каме, притоке Итиля. Середину всего войска занимает Гуюк-хан, а дальше, к левому крылу, движутся тумены других царевичей-чингисидов. Гуюк-хан нарочно избрал себе середину войска – он все еще надеется, что власть над всеми отрядами перейдет к нему, что Бату-хан будет смещен или внезапно умрет – да сохранит его небо от этого! – и тогда, уже без спора, Гуюка объявят джихангиром.
Где находится Бату-хан – никто не знает. Он обычно едет с Субудай-багатуром, а этот старый одноглазый полководец прославлен своими стремительными переходами и проносится как ураган. Он со своим туменом внезапно показывается то на правом, то на левом крыле, то в середине войска, делает ночную остановку и опять исчезает в неизвестном направлении.
Обоз Субудай-багатура очень небольшой: четыре быстроходных верблюда с разобранным походным его шатром и легкими кожаными китайскими сундуками. В них хранятся нанесенные на пергамент чертежи земель, через которые предположен поход. Там же находятся пайцзы золотые, серебряные и деревянные; их джихангир раздает тем, кому хочет оказать милость.
Кроме того, в этом маленьком обозе великого «аталыка» едет его боевая железная колесница.[73] Это закрытый ящик, обшитый железными листами, поставленный на два высоких колеса. Во все четыре стороны прорезаны узкие щели, предназначенные для наблюдения и стрельбы из лука. Всякий, кто приблизится к колеснице без разрешения, будет ранен отравленной стрелой. Иногда утомленный походом старый полководец спит в ней, свернувшись, как хищный зверь. Маленькая собачка китайской породы чутко сторожит покой своего хозяина; услышав шаги незнакомого человека, она подымает пронзительный лай. Железную повозку везут четыре коня, запряженные по два. На левом переднем коне сидит возничий.
Субудай-багатур, опасаясь предательского нападения, однажды уговаривал Бату-хана тоже завести для себя такую повозку. Батый сердито ответил:
– Меня достаточно охраняет твой зоркий глаз и преданность моих тургаудов.
Напрасно думать, что царевичи-чингисиды в самом деле являются начальниками своих отрядов. Они только называются так. К каждому из них приставлен опытный монгол – темник, изучивший воинскую науку в походах Потрясателя вселенной – непобедимого Чингисхана. Темники распоряжаются, ведут за собой отряды, назначают остановки, рассылают разведчиков и гонцов и поддерживают связь с Субудай-багатуром, который, как главный вождь, руководит всем войском в походе. Каждые девять дней из всех туменов к Субудай-багатуру летят гонцы и рассказывают, где находится их отряд, как охотятся с соколами или борзыми, как обедают и проводят время царевичи-чингисиды, каким путем пойдет дальше отряд, какие в пути корма для лошадей, в каком теле кони, есть ли еще жир на их ребрах…
Субудай внимательно всех слушает. Покачивает головой и говорит: «Слышу, слышу!» Он никогда никого не хвалит, а только ворчит и фыркает и сам распрашивает гонцов, кто из кипчакских ханов ездит на поклон к царевичам и о чем они шепчутся. Если гонец скажет: «Не знаю», – Субудай стучит кулаком по колену, прогоняет гонца и запрещает ему являться в другой раз.
Бату-хана можно увидеть только вместе с Субудай-багатуром. Он слушается одноглазого свирепого полководца, как мудрого учителя, если тот что-либо ему почтительно посоветует. Субудай-багатур относится к Бату-хану, будто тот и умнее, и опытнее. При разговоре старик склоняется до земли, почитая в Бату-хане внука Священного Правителя. У Бату-хана есть своя тысяча нукеров личной охраны. Их называют «непобедимые». Половина этих храбрых всадников ездит на рыжих конях, половина на гнедых. Начальником одной сотни гнедых с самого начала похода назначен молодой воин Арапша. Бату-хан благоволит к нему и всецело ему доверяет с тех пор, как Арапша в день избрания вождя спас жизнь молодому джихангиру. Арапша со своей сотней всюду сопровождает Бату-хана и ночью охраняет его сон.
У Субудай-багатура есть свой тумен. Воины его личной охранной тысячи прозваны «бешеными». Они участвовали вместе с Субудай-багатуром в его походах, готовы беззаветно выполнять самое трудное приказание своего вождя; из них он готовит начальников отдельных отрядов. Такой порядок был установлен Субудай-багатуром еще при великом Потрясателе вселенной – Чингисхане…»
Глава третья
Кто отстанет – увидит смерть
«У меня нет больше дома с белобородым отцом и сереброкудрой матерью, нет братьев, нет сестер – все улетело, как подхваченный вихрем пучок соломы!.. У меня остался один друг – конь хана Баяндера с плохим седлом. Степной ветер гонит меня по этим равнинам, как слепого волка. Надо пристать к какому-нибудь отряду. Но кто меня возьмет? У меня нет ни меча, ни копья, я захватил только отточенный обломок ножа. Все идут родами, племенами и никого со стороны в свой отряд не пускают… А кто мечется, как я, тот байгуш, карапшик,[74] степной бродяга… Всякий воин вправе отнять у меня моего гнедого, и седло, и мой кожаный походный мешок, обвинив меня, что я конокрад, скитаюсь с жадными руками…»
Так угрюмо думал Мусук, сидя на пригорке в бескрайней степи. Внизу, в лощине, возле подсыхающей лужи, пасся гнедой конь, заморенный и исхудалый.
Уже несколько дней Мусук разъезжал по степным кипчакским кочевьям, прося принять его в отряд. Никто с ним и говорить не хотел: «Будем мы делить с тобой захваченную нами военную добычу! К этому примазаться всякий рад! А где твой род, где твое кочевье? Что-нибудь дрянное сделал ты и теперь не смеешь показать туда лицо?..»
В одном кочевье благообразный старшина с повязкой хаджи[75] на бараньей шапке, добродушно посмеиваясь, приветливо сказал:
– Ты, конечно, знаешь строгий приказ джихангира – выступать в поход только целыми племенами, разделенными на тысячи, сотни и десятки, и чтобы каждый джигит был на хорошем коне и имел исправное оружие, не то будет не войско в походе, а стадо без пастуха. Знаешь ты также, что мы можем бродяг-одиночек ссаживать с коня и избивать без суда? Ты слыхал о таком приказе?.. Но я тебя пожалею. Я приму тебя в наше племя конюхом запасных коней, если только против тебя не закричит наш племенной круг. Я даже дам тебе и оружие, – вижу, что у тебя его нет! Но за это ты отдашь мне своего коня. Не бойся, я дам тебе взамен другого коня, попроще. За меч ты пригонишь трех коров, за щит и копье – трех коров, за стальной шлем – трех коров и за кольчугу – еще шесть коров. Всего – пятнадцать коров.[76] Ты джигит сметливый, что тебе стоит пригнать десятка полтора коров!..
Мусук покачал головой:
– Об этом нечего и думать!
– Ты можешь выехать в поход с одним только мечом. А остальное оружие отберешь потом у врагов. Схваток будет без счета!
Мусук поскорее уехал от слишком радушного старшины и снова скитался в степи.
Несчастье сближает неудачников. Мусук заметил вдали между песчаными холмами отряд в семь всадников. Ну и кони!
Старые, облезлые клячи! Ни один порядочный мусульманин даже не назовет таких животных благородным словом «конь», для них есть кличка – «ябы», вьючная скотина для перевозки соломы и навоза.
Всадники были вооружены. У каждого в руках колыхалась тонкая пика. Опасное дело встретиться с такими всадниками в пустынной степи. И Мусук сполз с холма, вскочил на гнедого и направился в сторону. Сделав полукруг, перевалив через песчаные бугры, Мусук увидел, что семь всадников появились опять перед ним, совсем близко. Теперь они были заняты делом, а восьмой, как сторож, лежал на холме. Они работали ножами, склонившись над тушей верблюда. Один из них махнул окровавленной рукой:
– Слушай, ты, одинокий волк, смелый беркут, отчаянный барс! Хочешь пообедать с нами?
Мусук второй день ничего не ел. Он колебался недолго. Стреножив коня, он подошел к верблюду.
– Бери голову, – сказал один. – Нам всего не забрать.
«Они похожи на бродяг», – подумал Мусук, но голод подстегивал его.
– Чей верблюд?
– Хозяин далеко! Тебя не спросит…
Высокий, тощий и косоглазый джигит, быстро работая ножом, отрезал голову верблюда и протянул ее Мусуку:
– Бери!
Мусук поблагодарил и завернул голову в платок.
– Из какого вы отряда?
– Из отряда храбрейшего из храбрых, батыра Бай-Мурата.
– Большой у вас отряд?
– Небольшой, зато лихой, и если ты к нам пристанешь, то нас будет уже девять человек, священное число.
– И вы пойдете с войском джихангира?
– Почему не пойти? Впереди к нам пристанет немало еще таких, как ты, шатунов, и мы скоро соберем целый тумен под зеленым знаменем Бай-Мурата.
Сторожевой на холме крикнул:
– Вдали показались люди! Видно, хозяин ведет сюда голодных гостей.
Все засуетились, вытирая о песок окровавленные руки. Вскочив на лошадей, они бросились по тропинке в сторону от большой дороги.
Косоглазый оказался рядом с Мусуком:
– Спасайся вместе с нами! Хозяин найдет у тебя голову своего верблюда и сорвет твою. Я, батыр Бай-Мурат, начальник отряда, делаю тебя своим помощником.
«Иди к тем, кто зовет тебя!» – вспомнил Мусук кипчакскую пословицу и направился за Бай-Муратом. Они долго кружили по степи, потом Бай-Мурат свистнул, и его спутники повернулись к Мусуку, разом набросились на него и сбили с коня. Он лежал, ошеломленный, на песке, двое приставили к его груди копья:
– Лежи, шатун, попрошайка, и не двигайся! Молись Аллаху!
Бай-Мурат пересел на отобранного гнедого и, видимо, сперва колебался, не оставить ли взамен своего облезлого ябы, но потом решительно привязал его повод к луке седла.
– Батыр Бай-Мурат! – крикнул Мусук. – Ты сказал, что берешь меня в свой отряд. Где же твои слова?
– Я передумал. Кто тебя знает, что ты за человек? Может быть, ночью ты всех нас зарежешь?
– Оставь мне коня! – простонал Мусук, чувствуя на груди острия копий.
Что-то встревожило Бай-Мурата. Он крикнул:
– Вперед! Скорее!..
Мусук услышал топот удалявшихся коней и остался лежать неподвижно, уткнувшись лицом в ладони. Гибель казалась ему теперь неминуемой: кругом голая, глухая степь, бродячие воровские шайки и голодные звери… Помощи ждать неоткуда. И он воскликнул:
– Старый, праведный Хызр![77] Приди ко мне на помощь. Выручи меня! Зарежу для тебя жирного барана!
Глава четвертая
Один в пустыне
Настала темная ночь. На небе мерцали редкие мелкие звезды. Вдали завыл голодный волк. Другой ему ответил. В нескольких местах подхватили пронзительным визгом дикие голоса шакалов.
Мусук сидел неподвижно, настороженно прислушиваясь. Но усталость брала верх. Глаза слипались. Постепенно он погрузился в глубокий сон.
Мусуку снилось, что он сидит на высоком холме. Перед ним широко раскинулась цветущая степная равнина. Всюду паслись пегие кони и рыжие жеребята. Из земли стал быстро расти пышный куст ежевики. Ветки его сплетались, изгибались, поднимались к небу, как столб, и перекинулись дугою через всю равнину. По этой дуге, как по мосту, медленно карабкалась знакомая рыжая корова его матери, качая головой и позванивая привязанным колокольчиком. А за коровой по дуге пробиралась девушка в красном платье, развевающемся от ветра. Он сразу узнал ее. Это шла Юлдуз с кожаным подойником в руке. Она шла покачиваясь и боялась сорваться с узкого моста. На синем небе быстро проносились мелкие белые тучки. Корова дошла до середины гнущегося под ней моста и остановилась с жалобным мычанием. А Юлдуз знакомым звонким голосом закричала: «Мусук!..»
Мусук с трудом раскрыл усталые глаза. Жгучее солнце ослепило его. Большие зеленые мухи кружились над головой. Вдруг он снова ясно услышал: «Мусук!» Зажмурясь, прикрывая рукой глаза, он разглядел перед собой несколько желтых высоких верблюдов, украшенных нарядной сбруей с красными кистями и бахромой. Маленькие двухместные паланкины с цветными занавесками были укреплены между горбами верблюдов. Там сидели одетые в яркие шелковые платья женщины. Их лица были так густо набелены и подрисованы, что все казались похожими друг на друга. Женщины смеялись, прятались за занавесками, одна из них бросила в Мусука горсть фиников и орехов. Тонкая рука с золотыми браслетами кинула ему шелковый мешочек. В это время с дикими криками прискакали монгольские всадники, и верблюды с хриплым ревом зашагали вперед, мерно позвякивая бубенцами и колокольчиками.
Теряясь между холмами, караван удалился, как сон… Но это не было сном! Мусук подобрал на глинистой почве много фиников, орехов, несколько лепешек, посыпанных анисом, и шелковый полосатый мешочек, перевязанный шнурком. Внутри его оказались желтые кусочки льдистого сахару,[78] фисташки, миндаль и девять золотых монет. Этот странный подарок Мусук засунул за пазуху.
«Старый добрый Хызр услышал мой призыв и помог мне!» Мусук поднялся на ближний холм, поросший редкой, седой, жесткой травой. Перед ним протянулась длинная узкая торговая дорога, ведущая из Кипчакских и Киргизских степей на запад, к великой реке Итиль. Это была вдавленная в глинистую землю колея, шириною в след верблюда, протоптанная в течение столетий проходившими караванами. Кое-где белели кости, валялись бараньи катышки и выцветшие лоскутки.
«Надо оставаться здесь! Может быть, старый Хызр опять принесет удачу…»
Степь долго казалась безмолвной и пустынной.
Солнце уже спускалось с пылающего неба, когда вдали, между холмами, показались всадники. Десять отлично вооруженных джигитов в больших черных овчинных шапках скакали с пиками наперевес на темно-гнедых отборных конях. Впереди ехал молодой воин в белом арабском тюрбане. Что-то знакомое почудилось Мусуку в его посадке, и в строгом, мрачном лице, и особенно – в стройном гнедом коне.
Подъехав к Мусуку, всадник задержал коня:
– Как звать тебя? Где твой отряд? Почему ты валяешься здесь?
Мусук встал и, торопясь, полный отчаяния, рассказал о своих бедствиях, о желании участвовать в походе и об ограблении его шайкой Бай-Мурата.
С неподвижным, каменным лицом выслушал всадник речь Мусука. Он сказал:
– Меня зовут сотник Арапша. Тебя я узнаю: ты раньше был конюхом у хана Баяндера. Я верю тебе и беру с собой. Пока ты будешь на испытании, конюхом, а потом получишь коня, копье и меч. Садись на крайнего коня.
Мусук взобрался на круп коня одного из всадников и ухватился за его пояс. Всадники помчались. У Мусука затеплилась надежда, что началась новая, более счастливая полоса его жизни.
Глава пятая
«Ворота народов»
Хаджи Рахим, сжавшись как только мог, не замечая покачиваний скрипучей корзины и густой пыли, садившейся на листы его книги, усердно писал строку за строкой:
«…Войско ослепительного Бату-хана непрерывно движется на запад путем, который искони называется „Воротами народов“. Он тянется по равнинам к югу от Каменного пояса.[79] и к северу от Абескунского моря[80] По этому пути некогда прошли из восточных степей воинственные хунну, почтенные предки монголов, и потрясли ужасом западные народы.
Впереди войска скачут разведчики, но и без них путник нашел бы в степных просторах тропу, протянувшуюся через великие «Ворота народов». Всюду можно заметить брошенные в давние времена стоянки по валяющимся осколкам побитой разрисованной посуды. Далеко на краю небосклона, точно сигнальные вехи, видны синие курганы, где похоронены неведомые багатуры неизвестных племен… Мир их праху!»
Пока стояла весна, пока всюду еще блестели лужи и перепадали дожди, шествие войска было торжественным и величественным и не столь мучительным, каким оно стало теперь. Когда же настали знойные дни, когда под лучами палящего солнца земля стала высыхать и трескаться, тысячи двигающихся вперед коней и людей начали взбивать облака пыли, закрывшей все небо. Эта тонкая густая пыль совершенно застилает солнце, так что становится темно как ночью. В нескольких шагах уже нельзя узнать человеческое лицо. Все всадники должны твердо сохранять свое место и в десятке и в сотне, потому что, если немного отойти в сторону, можно потеряться в толпе, как в камышах, и придется несколько дней искать свой отряд.
Есть что-то страшное в этом безмолвном движении четырехсоттысячного войска в полумгле, в клубах взвивающейся пыли, когда кругом видны только тени коней и людей. Никто не промолвит ни слова. «О чем говорить, все уже сказано и все известно!» Да и говорить трудно: пыль проникает и в горло, и в нос, и в грудь. Люди стали плохо видеть, оглохли и думают только об остановке, чтобы выпить чашу холодной воды, чтобы стряхнуть одежды, чтобы прохладный ночной ветер унес пыль, чтобы снова показалось синее, безмятежное небо…
К вечеру – остановка у речки с немногими кустами и старыми кривыми ветлами. Длинный лагерь растягивается по обоим берегам. Пылают тысячи костров, кажется – вся степь загорелась. Люди кричат, кашляют, поют, уводят коней и верблюдов в степь, чтобы пустить их пастись на свободе. Слабый ветерок уносит облака пыли от лагеря, и наконец, поздней ночью, доносится легкий аромат степной полыни…
На стоянке с яростным ревом опускается на колени тангутский серый верблюд. Из люльки с трудом вылезают факих Хаджи Рахим и старик Назар-Кяризек, разминая затекшие, одеревеневшие члены. Они долго выбивают из плащей густо насевшую пыль. Напрасное старание! Они бросают плащи на землю и рады, что вблизи горит костер, что на огонь уже поставлен закоптелый котел, что можно растянуться на земле, что над головой уже темнеет беспредельное небо.
Назар-Кяризек, сметливый в житейских делах, уходит к повару Субудай-багатура, говорит ему длинные почтительные приветствия и возвращается от него с горшком рисовой или мясной похлебки; иногда он сам печет в золе лепешки или жарит над угольями узкие ломтики мяса, добытого неведомыми путями. При этом он без конца рассказывает сказки или поет разбитым, дребезжащим голосом старинные кипчакские былины.
Хаджи Рахим не может отойти от каравана: верблюд – его жилище. Факих старается записать все, что видит или слышит, беседуя с кем-нибудь из начальников или простых воинов. Он заметил, что великий советник Субудай-багатур не всегда едет вместе со своим туменом, не всегда прячется в своей железной колеснице. Часто он уезжает в сопровождении охранной сотни в сторону от главного пути. Иногда по нескольку дней не видно вовсе монгольского полководца, который исчезает вместе с молодым джихангиром. Вечером они внезапно появляются около назначенного заранее места остановки. Хаджи Рахим тогда идет к ним и записывает их замечания.
К закату солнца караван ускоряет ход. Все, даже животные, знают, что скоро будет вода и отдых, и движутся веселее. Караван-баши[81] посылает разведчиков, которые исчезают с утра, уносясь на легких конях. Они находят ровную площадку и подают знаки издали, поднявшись на холм, поворачивая коня то вправо, то влево, то кружась по два-три раза: все это имеет особое, понятное воинам значение.
На выбранном месте верблюдов опускают на колени, развязывают тяжелые вьюки. Уводят в степь освобожденных от поклажи животных. Здесь они всю ночь медленно бродят, останавливаются около кустов колючки,[82] хватая ее своими жесткими губами. Особые, обозные верблюды подвозят заготовленный заранее в пути хворост. Рабы разводят костры, ставят на них большие китайские бронзовые котлы на трех ножках. Из кожаных бурдюков в котлы наливают воду, туда же крошат мясо, насыпают рис.
Дозорные не подпускают никого из других отрядов к месту стоянки Субудай-багатура. Каждый отряд должен идти своим путем, не смешиваясь с другими, иметь свой лагерь. Вокруг стоянки Субудай-багатура располагаются только его личная тысяча «бешеных» и далее, по степи, воины его тумена.
Воины из охраны разводят свои отдельные костры, варят себе в котлах похлебку и кто что сумел достать. Они располагаются вокруг костров, растянувшись на войлочных попонах. Их стреноженные кони пасутся невдалеке в степи. Кони сами себе находят корм, объедая неприглядные растения и выбивая копытами корни. Они так неприхотливы в еде, что на них можно проехать, не боясь, через вселенную.
В темноте слышится перекличка дозорных на холмах и тягучий повторяющийся возглас:
– Внимание и повиновение!
Иногда на месте стоянки ставятся шатры. Все понимают и радуются: два-три дня будет остановка и отдых. В шатрах разостланы войлоки и ковры, брошены шелковые подушки. Быть может, предстоит совещание ханов или готовится праздничная облавная охота.
В полной тишине доносится топот множества копыт – это подъезжает ослепительный Бату-хан, с ним Субудай-багатур и их отборные нукеры.
Перед одноглазым, угрюмым Субудай-багатуром все трепещут больше, чем перед Бату-ханом. Субудай всегда заметит непорядки, скажет тихо несколько слов, после чего куда-то скачут сломя голову всадники, кого-то тащат, где-то слышны отчаянные крики…
Бату-хан не замечает мелких непорядков. Его взор блуждает поверх людей, его мысли заняты великими планами, он любит говорить только о будущем. Когда оба полководца, молодой и старый, входят в желтый шелковый шатер, там уже должен быть готов обед. «Расстилатель скатерти» и «подаватель» стоят почтительно, сложив руки на животе, ожидая приказаний. Обед проходит торжественно. Три главных шамана сидят тут же, бормоча вполголоса благоприятные заклинания…»
Глава шестая
Семь звезд Бату-Хана
«Вместе с передовой отборной тысячей «непобедимых» ослепительного Бату-хана идет особый караван в пятнадцать рослых тангутских верблюдов. Они желто-серые, с сединой, полудикие и свирепые, но очень сильные и скороходные и во время стремительных переходов Субудай-багатура почти никогда не отстают.
На этих верблюдах едут «семь звезд» Бату-хана. Так их называют в отряде. Это его семь прекрасных жен. Они были отобраны перед походом еще в Сыгнаке из сорока жен Бату-хана его мудрой матерью Ори-Фуджинь, которая сказала сыну:
– Ты будешь завоевывать новые страны. В каждой стране покоренный народ пришлет тебе в дар свою самую блистательную, в то же время самую коварную женщину, чтобы погубить тебя. Вспомни судьбу твоего деда, Священного Правителя. Ему в шатер привели тангутскую царевну, и она его изранила, ускорив смерть Величайшего. Не доверяй чужим уговорам, остерегайся вражеских даров! Как на небе ночью на Повозке вечности[83] светится семь звезд, так и тебе в пути будут верно и преданно светить, принося счастье и радость, семь лучших красавиц, которых я сама выбирала.
Бату-хан, всегда почтительный к матери, ответил:
– Я должен сперва поговорить с моим верным советником Субудай-багатуром.
На другой день Бату-хан явился к матери вдвоем с великим престарелым полководцем и сказал:
– Мой походный летописец и учитель Хаджи Рахим проверил по книгам и мне объяснил, что Искендер Двурогий во время походов никаких жен с собой не возил, а все его заботы были только о разгроме встречных народов…
Ори-Фуджинь не задумываясь сказала:
– А я и без книг знаю, что, завоевав Персию и женившись на дочери покоренного персидского царя Дария, Искендер заболел от отравы и умер молодым… Да сохранят тебя от этого небожители!
Старый Субудай-багатур, упав ничком перед ханшей, сказал:
– Твои слова сверкают мудростью, как драгоценные алмазы! И если ты, полная забот о твоем ослепительном сыне, пожелаешь, чтобы вместе с ним ехали хотя бы все сорок жен его прекрасного питомника радости, то в моем отряде они будут так же неприкосновенны, как в твоем улусе, никогда не отстанут и ни одна не потеряется. Твое приказание – кремень, я только искра, которую ты выбиваешь. Если джихангир, занятый военными заботами, не хочет сейчас видеть свое блистательное созвездие, может быть, он пожелает увидеть его в пути. Но тогда звезды будут далеко. Предусмотрительнее взять их с собой!
Ори-Фуджинь склонилась так, что перья ее расшитой жемчугами шапки коснулись покрытых пылью замшевых сапог сына.
– Ты – повелитель, ты – джихангир, ты и приказывай!
Бату-хан нехотя проговорил:
– Пусть будет так! Но одну из семи я выберу сам. Это должна быть девушка, которую зовут «Утренняя звезда», Юлдуз… Субудай-багатур, ты мне ее разыщешь!
Через день нукеры Субудай-багатура разыскали в Сыгнаке нескольких девушек по имени Юлдуз. Всех их, трепещущих от страха, привели к Бату-хану. Он обвел приведенных скучающим взглядом и указал на худенькую девушку, почти девочку, со слезами на ресницах. Ее закутали в шелковое покрывало и отвели к старой ханше Ори-Фуджинь. Ханша приказала ее раздеть, сама осмотрела, потрогала худые плечи и ребра и нашла, что девочка Юлдуз не имеет внешних пороков, скромна, красива, глаза ее проницательны, на щеках у нее ямочки, но худа и пуглива она, как дикий гусенок.
– Что ты умеешь делать? – спросила ханша.
– Я умею… доить злую корову, – скромно пролепетала Юлдуз.
– Это не легкое дело! – заметила Ори-Фуджинь и засмеялась низким мужским голосом. – Для этого нужно терпение. Еще что ты умеешь?
– Я умею… пасти ягнят, вязать пестрые узорчатые носки, печь в золе лепешки с изюмом…
– В дороге все это полезно, – сказала старуха, опять засмеялась и более ласково посмотрела на девочку. – Еще что ты знаешь?
Бесшумно подошел Бату-хан и слушал ответы Юлдуз.
– Говори, что ты еще знаешь?
– Я могу петь наши кипчакские песни и рассказывать сказки про старого Хызра, про свистящих джиннов[84] и про смелых джигитов…
В глазах Бату-хана сверкнули веселые искры, и он переглянулся с матерью.
Ори-Фуджинь милостиво кивнула головой:
«Она может ехать!..»
Глава седьмая
Седьмая звезда
Когда татаро-монгольское войско двинулось в поход, Юлдуз посадили на седьмого верблюда вместе с рабыней-китаянкой, приставленной к ней по приказу ханши Ори-Фуджинь. Юлдуз сидела в кеджавэ под балдахином, прикрытая шелковой занавеской. На второй день пути она вдруг забеспокоилась, целый день прятала свое лицо под покрывалом и вечером сказала своей рабыне:
– Я вижу, невдалеке от нас на верблюде едут двое: старик и дервиш-факих. Если бы они стали спрашивать про меня, не смей им отвечать. Я боюсь этого старика, он мне уже принес несчастье… Сделай так, чтобы меня никто не узнал…
Опытная в женских хитростях китаянка на остановке старательно растерла белила, навела румянец, удлинила до висков брови и так разукрасила Юлдуз, что она сама себя не узнала, посмотрев в серебряное полированное зеркальце.
В пути «семь звезд» держались отдельным караваном, имея особую охрану. На передних четырех верблюдах ехали четыре монгольские княжны. Они были из самых знатных кочевых родов, отличались полнотой и длинными косами до земли. За ними ехали две кипчакские княжны. Одна из них была дочерью хана Баяндера. Обе кипчакские княжны обыкновенно усаживались вдвоем на одном верблюде, без конца болтали и смеялись, а на другом верблюде помещались их служанки. Как-то на стоянке они подошли к Юлдуз, заговорили с ней и рассказали, что каждая из них имеет своего собственного скакового коня, что они будут участвовать в праздничной облавной охоте и на скачках.
– Ты, конечно, рабочая, черная жена![85] Коней у тебя нет, приданое – твои одежды и украшения – тебе дала ханша Ори-Фуджинь. Бату-хан на тебя и смотреть не станет. Ты будешь облизывать чашки, из которых мы пьем.
Юлдуз съежилась, попятилась и прижалась к рабыне-китаянке. С неподвижным, окаменелым лицом разглядывала она кипчакских княжон.
– Что же ты не отвечаешь? Ты, коровница, разве не умеешь говорить? Тогда мычи!
Юлдуз опустила глаза и хотела что-то ответить, но не смогла… Она схватила шелковый платок, привычным жестом стала его сворачивать и свернула в куклу, как обычно делают девочки в кочевьях. Наконец она выговорила:
– Уходите отсюда, если я коровница. Если мой хозяин прикажет, я буду мыть чашки, прикажет – я погоню вас в поле хворостиной, как коров…
– Она еще совсем глупый ребенок, – сказала одна княжна.
– И останется глупой на всю жизнь! – добавила вторая, и обе со смехом ушли.
На другой день на остановке к Юлдуз пришли монгольские ханши, кроме первой, Буракчинь, самой важной. Они трогали Юлдуз, ощупывали ее худые руки, плотность материи на платье, осмотрели ее зубы.
Юлдуз покорно разрешала себя трогать и улыбалась. Монголки поочередно коснулись пальцем ямочек на щеках и засмеялись. Старшая сперва держалась важно, но потом тоже стала смеяться. Ханши брали в руки куклу, свернутую из платка, и показывали, как будут качать ребенка и кормить грудью. Потом они поднялись, сказав ласковое прощальное приветствие, и ушли. Самая юная вернулась и шепнула:
– Приходи ко мне болтать, я еду на четвертом верблюде!
Когда Юлдуз осталась одна, она встряхнула платок, закуталась в него с головой и стала плакать. Не в первый раз она плачет с того дня, как отец и старший брат Демир отвезли ее в караван-сарай невольников и продали чернобородому купцу в красном полосатом халате, с большим тюрбаном, круглым, как кочан капусты. Ей было обидно: ее осматривали, как овцу, назначенную на продажу. Чем она виновата? Она хочет жить хотя бы в самой бедной закоптелой юрте около родника, чтобы к ней каждый вечер приезжал Мусук на своем гнедом коне и рассказывал, что делается в табуне, как дерутся жеребцы, какие родились жеребята и как он отогнал подбиравшихся к ним волков.
Чьи-то пальцы нежно коснулись локтя, и тонкий голос прошептал:
– О чем ты плачешь, звездочка? Это еще не горе, большое горе еще впереди.
Это была рабыня, китаянка И Лахэ. Она сидела на коленях перед Юлдуз и с привычной почтительностью быстро кланялась, положив на ковер ладони.
– Когда же придет большое горе?
– Когда ты увидишь, что твой ребенок умирает…
– А ты видела большое горе?
Китаянка провела маленькой высохшей рукой по глазам, точно желая стряхнуть набежавшую слезу, и оглянулась. Кругом горели костры, освещая багровым светом лежащих и сидящих воинов. Китаянка и Юлдуз прижались друг к другу, сидя на маленьком бархатном ковре. Они чувствовали себя затерянными среди огромной людской толпы, которая гудела, кричала, пела, бряцала оружием, а теперь постепенно затихала, усталая от перехода, и погружалась в сон и забвение.
Китаянка сказала:
– Тяжело мне вспоминать то горе, которое пришлось пережить. Но слушай! И большое и маленькое горе – все увидели мои бедные глаза! Я начала жизнь счастливо и беззаботно в доме отца. Он понимал значение каждой звезды и по их движению предсказывал будущее человека. Отец проводил каждую ночь на крыше дворца цзиньского[86] императора и все, что узнавал по движению и скрещению звезд, записывал в большую книгу. А утром он показывал книгу главному смотрителю дворца, который рассказывал все важнейшее самому владыке – повелителю Китая. Когда я подросла, отец выдал меня замуж за веселого и знатного начальника двухсот пятидесяти всадников. Он был старше меня на двадцать лет, но мы жили счастливо, у нас было двое красивых детей. Мы жили в небольшом доме с садом и прудом, где росли лотосы и плавали золотые рыбки. Внезапно примчались к городу монгольские воины Чингисхана, когда их никто не ждал. Во главе монгольского отряда был этот самый одноглазый полководец, который теперь не расстается с Бату-ханом. Мой муж бросился со своим отрядом в битву и назад не вернулся. Монголы убили мою мать и увели моих детей. Дикий, страшный монгольский сотник взял меня к себе рабыней. Я старалась угождать ему, как могла, – я хотела жить, чтобы разыскать и спасти своих детей. Моему новому господину понравились лепешки с медом и пирожки с древесными грибами. Он держал меня при себе и не соглашался дать мне свободу за выкуп. Потом он подарил меня ханше-матери Ори-Фуджинь, и я попала в ее шатер. Теперь ханша приставила меня к тебе, чтобы я научила тебя ходить, петь, кланяться, говорить тонким голосом и красивыми движениями разливать чай в чашки, как это делают знатные женщины во дворце…[87] Ты хочешь этому научиться?
– Если это нужно, я все выучу, – ответила Юлдуз.
– Этого мало! Я научу тебя рассказывать такие интересные, страшные и веселые сказки, что твой хозяин будет постоянно к тебе приходить, чтобы тебя слушать. Тогда он будет делать все, о чем ты попросишь. Я расскажу тебе сказку о людях, которые ездят по небесному пути в повозке, запряженной ласточками, сказку про бедного пастуха, который заставил дракона выстроить город, где люди не знали слез, и много других сказок…
С этого дня Юлдуз уже не чувствовала себя одинокой. Она видела в китаянке свою защитницу и слушала ее указания, советы и сказки, нужные для того, чтобы красиво и грациозно принять, угостить и развлечь своего господина, когда он захочет навестить ее.
Глава восьмая
Беседа с Джихангиром
«…Пишет Хаджи Рахим, – да поможет ему небо в его необычных испытаниях…
…Утром в пятнадцатый день месяца Реби второго[88] ослепительный призвал к себе в золотисто-желтый шатер Хаджи Рахима.
Бату-хан сидел на куске простого темного войлока, брошенного на бархатный персидский ковер. Рядом с ним лежали колчан с тремя красными стрелами,[89] лук и изогнутый меч; над ним висел бронзовый щит. Жестом руки джихангир пригласил факиха сесть возле него. Хаджи Рахим поцеловал землю и, оставшись на коленях, приготовился записывать то, что услышит.
Джихангир заговорил шепотом. Его слова иногда летели в таком беспорядке и с такой быстротой, что было трудно записывать, но Рахим старался удержать их в своем сердце:
– Сегодня будет великий совет ханов… День может окончиться кровью, если монголы, потеряв рассудок, начнут рубить друг друга… Тогда новые синие курганы вырастут на тропе Ворот народов… Да, это будет!.. Помнишь великий курултай[90] моего деда, непобедимого Чингисхана? Я хорошо все помню, хотя мне было тогда семь лет… Сперва Священный Правитель изредка спрашивал, и все ханы отвечали с усердием и трепетом, не перебивая друг друга. Каждый взвешивал на весах осторожный свой ответ. Когда же Покоритель вселенной начинал говорить, слова его падали на сердце, как молния, как удар меча, как прыжок коня через пропасть, прыжок, после которого нет возврата… Никто не осмеливался возражать или высказывать сомнения в удаче похода. Теперь ханы забыли великие правила мудрейшего, единственного. Они грызутся между собой, как это было в наших монгольских степях до того дня, когда Священный Правитель сжал всех в своей могучей ладони… Сегодня на великом совете все ханы, кроме Менгу-хана[91] и моих братьев, захотят сделать меня смешным и жалким, чтобы я, как кабан, пронзенный стрелой, убежал трусливо в камыши… Этого не будет! Или я перебью всех, кто не поцелует передо мной землю, или я сам упаду, рассеченный на куски… Я уже давно бы сломал им всем хребты, но я помню завет деда – не заводить смут среди его потомков. Не в их ли руках власть над вселенной? Почему же они раскачивают и подрубают столб, на котором держится шатер рода Чингисова?.. Сегодня я покажу им, по праву ли я держу девятихвостое знамя моего деда!..
Дверная занавеска заколебалась, и большая квадратная ладонь, просунувшись, ухватилась за боковую деревянную стойку. Послышались сердитые крики.
– Это чужой! Это не наш! – прошептал Бату-хан, схватил лук, натянул его, и красная стрела, пронзив ладонь, впилась, дрожа, в деревянную стойку двери. Рука исчезла, унося стрелу.
Голоса затихли. Бату-хан ударил колотушкой в бронзовый щит. Вошел дозорный в длинной монгольской одежде, в кожаном шлеме с назатыльником, с коротким копьем в руке.
– Кто порывался пройти сюда?
– Гонец от Гуюк-хана. Он пытался оттолкнуть меня, показывая золотую пайцзу, и лез без разрешения в шатер. Я выхватил меч и ударил его рукоятью по зубам. Я сказал, что если он сделает еще шаг, то мой меч пронзит его грудь под ребро…
– Ты поступил как верный нукер, – сказал Бату-хан. – Я возвеличу тебя. Где сотник Арапша?
– Он потащил гонца в свою юрту.
– Для чего?
– Чтобы отрезать ему левое ухо…
Бату-хан задумался, его глаза скосились. Потом он рассмеялся:
– Как тебя звать?
– Мусук.
– Где я тебя видел?
– Ты меня видел, когда я ловил для тебя гнедого жеребца. На нем теперь ездит сотник Арапша. Он меня взял в свою сотню.
– Узнаю Арапшу. Плохо тем, кто становится ему на дороге. Но он не забывает тех, кто оказал ему услугу. Ступай.
Дозорный ушел. Бату-хан снова начал говорить, обращаясь к Хаджи Рахиму:
– Я веду войска на запад и знаю, что я там встречу. Мои лазутчики и купцы, посланные мной в земли урусутов, мне все рассказали… Я покорю урусутов и те народы, которые живут дальше, за ними. Покорить урусутов, этих лесных медведей, будет нетрудно. Они все разбиты на маленькие племена, и их ханы – коназы ненавидят друг друга. У них до сих пор не было своего Чингисхана, который собрал бы их в один народ. Я посажу в их городах моих баскаков, чтобы собирать налоги, а сам пойду дальше, до Последнего моря – бросать под копыта моего коня встречные народы… Тогда на всю вселенную опустится монгольская рука!..
В шатер бесшумно вошел грузный и широкий Субудай-багатур. Он круто повернулся к двери и, подняв руку к большому уху, внимательно прислушался. Видна была только его сутулая круглая спина в старом синем шелковом чапане, покрытом жирными пятнами. Затем, недовольно косясь на Хаджи Рахима, он подошел, шаркая кривыми ногами, к Бату-хану, кряхтя склонился до земли и опустился на колени. Бату-хан выждал, пока он выполнил обязательный земной поклон, и попросил старого полководца сесть рядом.
Субудай опять покосился на Хаджи Рахима и вздохнул, громко сопя.
– Говори все, не бойся! Мой учитель предан мне и молчалив, как придорожный камень.
– То, что я говорил раньше, подтверждается. Гуюк-хан привел сюда, к нашему лагерю, свою тысячу. Я усилил охрану и приказал, чтобы никого близко не подпускали. Другие ханы тоже прибыли, вопреки приказанию, с отрядами по нескольку сот воинов. Более крупные их отряды стоят недалеко, и, если ханы поднимут тревогу, войска могут явиться сюда немедленно.
– Что же делать? Драться?
– Это будет видно сегодня вечером. «Бешеные» и «непобедимые» наготове…»
Глава девятая
Великий совет чингисидов
Ненависть, гнев и зависть преобладают в природе этого народа.
Рашид ад-Дин
Вечер был спокойный, без ветра. Легкий дождь прибил докучливую пыль. Кругом пылали костры, и доносился запах жареного бараньего сала.
Ханы подъезжали с пьяным смехом и грубыми возгласами. Они остановили коней в десяти шагах от большого золотисто-желтого шатра, – дальше их не пустили тургауды, преградив путь копьями. Ханы хотели гурьбой направиться к шатру, но три главных шамана встали перед ними:
– Проходите между огнями. Мы обкурим вас священным дымом. Он очистит сердца от злых помыслов, прогонит черных духов тьмы.
Часовые стояли двумя рядами по сторонам дорожки, ведущей к шатру. Ханы и их военачальники проходили медленно, останавливаясь около восьми жертвенников, сложенных из камней и глины. На них дымились костры. Шаманы размахивали опахалами, сплетенными из камыша, раздували огонь, стараясь, чтобы дым направился в сторону ханов. Другие шаманы колотили в бубны и громко распевали старинные заклинания.
У входа в шатер двое дозорных поддерживали копьями дверную занавеску и, наклонившись, наблюдали, чтобы входившие не коснулись ногой священного порога.
Внутри шатра, на высоких бронзовых подставках, горели светильники, распространяя аромат амбры, мускуса и алоэ. Кругом на разостланных пестрых коврах лежали сафьяновые и шелковые подушки. В глубине шатра с потолка спускалась, закрывая заднюю стенку, широкая малиновая шелковая занавеска, расшитая золотыми птицами и цветами.
Субудай-багатур, в парадной китайской одежде, сверкая золотом, стоял у входа и приглашал входивших снимать оружие и складывать его у двери, затем проходить дальше и садиться по правую сторону. Менгу-хан и четыре брата Бату-хана расположились слева. За ханами садились их главные военачальники, знатнейшие нойоны[92] и багатуры.
Гуюк-хан, в красных сафьяновых сапожках на очень высоких, изогнутых каблуках, вошел последним, переступая мелкими шажками. Его пухлый живот был перетянут парчовым поясом, за который был засунут китайский кинжал с нефритовой рукоятью. Синий шелковый чапан был застегнут большими рубиновыми пуговицами. Под чапаном виднелась малиновая безрукавка, расшитая золотыми драконами.
Презрительно улыбаясь, Гуюк-хан сел в глубине шатра и обвел всех подозрительным взглядом. За ним пытались пройти три монгольских телохранителя, но Субудай-багатур зашипел на них:
– Назад! Кто вам разрешил входить на совещание князей?
Гуюк-хан вмешался:
– Пусть остаются! Пусть учатся, как управлять!
– Арапша! Выброси их! – крикнул Субудай.
Пришедшие монголы настойчиво лезли к Гуюк-хану. Арапша схватил сзади одного и выволок из шатра. Братья Бату-хана поднялись и вытолкали двух остальных.
Вошли три раба в китайских просторных одеждах и внесли золотые с узорами подносы, на которых стояли простые деревянные аяки[93] с пенящимся белым кумысом. Эти серые обкусанные чашки хранились у Бату-хана как святыня: из них пил когда-то сам великий Чингисхан. Все посматривали с почтением на эти старые аяки, столь обычные в юртах бедняков. Чаш было одиннадцать, по числу ханов из рода чингисова. Рабы стояли неподвижно, держа подносы на вытянутых руках.
Субудай прошел в глубь шатра и осторожно отдернул малиновую, расшитую золотом занавеску. За ней на широком и низком троне, отделанном золотыми украшениями, сидел строгий и неподвижный Бату-хан. На нем была переливающаяся искрами блестящая стальная кольчуга, китайский золотой шлем с назатыльником, украшенный наверху большим, с голубиное яйцо, алмазом. С шлема свисали по сторонам четыре хвоста черно-бурых лисиц.
На груди Бату-хана красовалась на золотой цепи большая овальная золотая пластинка, пайцза, с изображением головы разъяренного тигра. Эту пайцзу получил из рук самого Чингисхана отец Бату-хана, суровый и смелый Джучи-хан. Голова тигра означала повеление кагана: «Все должны повиноваться хранителю этой пайцзы, как будто мы сами приказываем». На коленях Бату-хан держал китайский меч с длинной рукоятью, блистающей алмазами.
Все затихли, впиваясь взглядами в мрачного джихангира. Он смотрел вперед, поверх людей, с каменным лицом и сдвинутыми бровями, как будто далекий от обычных земных дел.
Гуюк-хан несколько мгновений сидел неподвижно, затем повернулся к сидящему рядом хану Кюлькану и шепнул так, чтобы другие слышали:
– Полевая крыса, которая думает, что похожа на льва!
Субудай-багатур опустился перед троном на колени и сказал:
– В этом походе джихангиром объявлен Бату-хан, – он справедливый, он безупречный, он смелый! Ему подобает называться «Саин-хан» – доблестный! Вы видите золотую пайцзу на его крепкой груди и знаете, что означает голова разъяренного тигра. Окажите почет Бату-хану, как будто перед вами сам Священный Правитель. Если все войско будет повиноваться Саин-хану, как оно повиновалось единственному и величайшему, то вся вселенная будет лежать под копытами наших коней. Преклонитесь перед джихангиром!
Братья Бату-хана поднялись, сложили руки на груди и пали ничком. За ними Менгу-хан и некоторые старые полководцы также встали и сделали земной поклон, поцеловав ковер. Семь царевичей, косясь на Гуюк-хана, оставались неподвижными.
У Бату-хана чуть дрогнули губы:
– Раздайте чаши!
Субудай сжался, еще более сгорбился и сделал знак рабам. Они с бесшумной ловкостью обошли всех чингисидов и передали им старые деревянные чаши с кумысом. Такую же простую чашу взял Бату-хан и, держа ее перед собой, готовился произнести моление.
Гуюк не дал ему этого сделать. Он заговорил, торопясь перебить Бату-хана, желая показать, что он, наследник престола великих каганов, является высшим ханом на этом собрании:
– Первые капли нашего родового кумыса из этих древних священных чаш мы выпьем за процветание, величие, здоровье и могущество великого владыки всех монголов и повелителя ста семидесяти других подчиненных ему народов, хранимого вечным синим небом кагана Угедэя…[94]
Некоторые ханы поднесли чаши к губам и стали пить, другие выжидали, посматривая на Бату-хана. Он продолжал оставаться неподвижным и в наступившей тишине, растягивая слова, громко сказал:
– Первую чашу нашего кумыса мы выпьем в память Священного Правителя, ушедшего от нас повелевать заоблачным миром, того величайшего воителя, кто приказал начать этот поход, чтобы пронести ужас монгольского имени до последних границ вселенной!..
Бату-хан медленно выпил чашу до дна, оставшиеся капли вылил на руку и провел ею по груди. Все царевичи немедленно припали губами к чашам, – разве можно отказаться выпить в память великого Чингисхана!
Рабы принесли серебряные подносы с золотыми кубками и чашами различной формы и стали их наполнять кумысом из висевшего около двери большого телячьего бурдюка. Все пили за великого созидателя монгольской державы и за предстоящие победы.
Бату-хан снова заговорил тихо, но его слова звучали четко в шатре, где все сидели неподвижно, предчувствуя, что теперь могут вырваться наружу тайные злобные страсти, кипевшие у чингисидов:
– Мы сейчас будем говорить о том, что в этом походе полезно и что не нужно. Вот что я хочу вам объявить…
Гуюк дергался на месте, шептался с двумя соседними ханами. Он уже раньше, днем, выпил слишком много хмельного айрана, и глаза его налились кровью. Он закричал хриплым, яростным голосом:
– О чем ты можешь объявить? Кто тебя захочет слушать? Тебе ли сидеть на троне, тебе ли начальствовать над войсками! – и, захлебываясь от смеха, Гуюк повернулся к другим ханам: – Не правда ли, что Бату-хан не что иное, как баба с бородой! Я прикажу последнему из моих нукеров побить его поленом!
Приближенный Гуюк-хана полководец Бури во весь голос завопил:
– Га, га! Дай это сделать мне! Я ткну Бату-хана пяткой, свалю его и растопчу!
Царевич Кюлькан смеялся, пьяно взвизгивал и старался перешагнуть через сидевших вокруг него ханов:
– Воткни этой бабе с бородой деревянный хвост! Пропустите меня, я это сделаю!
По знаку Гуюка все его сторонники вскочили и, доставая из-за пазухи ножи, толкая друг друга, бросились к трону.
Голова Бату-хана ушла в плечи, зубы оскалились, глаза обратились в щелки. Он вдруг выпрямился, отбросил в сторону меч и выхватил из-за голенища короткую плеть. С размаху он стал колотить ею по головам наступавших на него ханов.
– Я проклинаю великим проклятием тех, кто в походе не повинуется джихангиру! А тебе, Гуюк, не бывать великим ханом, как не летать курице над облаками! Назад! На колени!
Вдруг прогремел хриплый, яростный голос Субудай-багатура:
– Ойе! Урянх-Кадан! Зови «бешеных» и «непобедимых»!
Молодой сильный голос повторил:
– «Непобедимые» и «бешеные», сюда!
Из-за занавески, из кожаных сундуков, из-за скатанных ковров мгновенно выскочили монгольские воины. Одни бросились к Бату-хану, подхватили его на руки, и он исчез за полотнищами шатра. Другие воины колотили метавшихся ханов кулаками прямо в лицо, опрокидывали их и тащили за ноги из шатра.
Бронзовые подставки с горевшими светильниками повалились на дерущихся ханов. В шатре стало темно. Последние ханы и нойоны старались ползком пробраться к выходу.
С яростными проклятиями ханы и свита собирались около шатра, где еще слышались глухие удары и звон разбиваемой посуды. Оправляя разорванную одежду, стирая рукавом кровь с лица, некоторые порывались войти обратно в шатер, но невозмутимые дозорные их не пускали, грубо отталкивая копьями.
Из-под бокового полога шатра вылез Субудай-багатур, бережно держа в руках оставленный Бату-ханом его наследственный кривой меч с алмазной рукоятью. Около Субудая строились тесными рядами «бешеные» и «непобедимые». К ним подбегали все новые нукеры. Субудай-багатур спокойно ждал, пока его сын Урянх-Кадан вместе с другими воинами выносил барахтавшегося Гуюка. Переваливаясь на кривых ногах, Субудай приблизился, кряхтя, низко наклонился, рухнул на колени и коснулся лбом земли. Гуюк пытался ударить в лицо Субудая ногой в красном сафьяновом сапоге, но монголы оттянули его назад.
Субудай встал, выпрямился и сказал:
– Сыну величайшего внимание и повиновение! Чем могу я выказать свою преданность?
– Где он? – снова закричал Гуюк. – Я раздеру его лицо! Он крыса, а не джихангир!..
Субудай прищурил свой красный глаз:
– Священный Правитель беседует теперь с небожителями там, высоко, за грозовыми облаками. Он взирает оттуда, как успешно идет поход, как движется на запад его не знающее поражений монгольское войско!.. Как поступают его внуки?! Да! Среди его багатуров не может быть ссоры, не может быть вражды… Да! Все должны держаться тесно, как деревья в густом лесу, дружно, как одна волчья стая!.. Да, да, да! Дружно! – Последние слова Субудай прокричал с дикой яростью.
Слушая Субудая, все ханы затихли, Гуюк перестал дергаться и замер, поняв, что сейчас сопротивляться одноглазому старику опасно.
– «Непобедимые», готовьтесь! – крикнул Субудай.
Нукеры ударили ладонями по рукояткам и с резким лязгом вытащили из ножен кривые мечи, а Субудай продолжал кричать, наступая на Гуюка:
– Великое, непобедимое войско ведет назначенный Священным Воителем джихангир Бату-хан и повелевает тебе, Гуюк-хан, сейчас же, не переводя дыхания, выехать к берегу великой реки Итиль и дожидаться там у того места, где в нее вливается речка Еруслан.[95]
Гуюк опять загорелся гневом:
– Ты не смеешь так говорить со мной, наследником золотого трона! Ты, бродяга, пастух, возвеличенный моим дедом! Молчи, мой слуга, косоглазый калека, и повинуйся!
Субудай, шипя и задыхаясь, дважды подскочил на месте. Нукеры потом уверяли, что в этот миг налитый кровью глаз разъяренного Субудая горел, пронизывал и прожигал, как раскаленный докрасна гвоздь. Старик тихо проговорил:
– Да! Я нукер! Я исполняю волю моего и единственного для всех здесь повелителя, джихангира Бату-хана. Для него я нукер и слуга! Кто спорит, тот будет сметен с пути! Кто не выполнит приказа, будет рассечен на девять частей! Ойе, «непобедимые», первый десяток! Посадите охмелевшего хана Гуюка на коня! Скрутите ему локти! Он еще слишком молод. Айран ударил ему в голову. Одним духом отвезите молодого хана в его лагерь! Сдайте его на руки нойону Бурундаю и немедленно скачите назад! Если меня уже здесь не будет, догоняйте! Вперед, уррагх! Уррагх!..
Нукеры, державшие Гуюк-хана, скрутили ему руки за спиной и проволокли к его коням. Субудай-багатур оглянулся. Нукеры, положив блестящие мечи на правое плечо, стояли как каменные. Ханы и нойоны, тихо переговариваясь, удалялись. Субудай подозвал мрачного, спокойно за всем наблюдавшего Арапшу.
– Где джихангир?
– Мы отнесли его в твой шатер. Я усилил дозорных.
– Верно поступил. Надо ожидать нового удара. Прикажи трубачам и большим барабанам с первыми петухами подымать войско в поход.
Глава десятая
На берегу реки Итиль
Была пора, татарин злой шагнул
Через рубеж хранительныя Волги.
Орест Миллер
Монгольское войско, вышедшее из Сыгнака ранней весной, прибыло к берегам Итиля поздней осенью. Переход через степи до первых рубежей земель урусутов, булгар и других непокоренных народов продолжался полгода. Бату-хан и «у стремени его» Субудай-багатур прибыли во главе передовой тысячи «непобедимых» к берегам великой реки Итиль. Всадники, покрытые густой пылью, забыв порядок, рассыпались по береговым песчаным холмам, пораженные величественной, могучей рекой, которая свободно несла обильные глубокие воды.
– Если ее запрудить, – толковали монголы, – вода в один день поднялась бы до неба!
Воины стояли на холмах, с трудом сдерживая потных коней, тянувшихся к воде.
– Это не то что наш голубой Керулен или золотой Онон, которые мы переходили вброд… Попробуй-ка переплыть эту реку… Однако упрямый Субудай перетопит половину войска, но если он решил переправляться здесь, то он заставит нас плыть…
Бату-хан, в кожаном шлеме, закутанный в плащ, на белом жеребце, потемневшем от пыли, спустился к берегу.
Беспокойные серые волны набегали на песок, выбрасывая клочья дрожащей от ветра пены, и перекатывали большие полосатые раковины.
– Здесь кончились наши монгольские степи, – сказал Батый подъехавшему Субудаю. – Там, за рекой, все будет другое! Там засверкает наша слава!
На противоположном берегу реки по отлогим холмам тянулись кудрявые леса, уже тронутые золотом осени; кое-где яркими малиновыми пятнами выделялись заросли осины. На холмах подымались две высокие сторожевые башни, сложенные из бревен. Песчаные отмели длинными желтыми полосами отделялись от зеленых берегов. Стаями проносились кулики, утки и другие птицы.
Там же возвышалась одинокой громадой скалистая серая гора. За нею уходили вдаль густые леса. На горе чернели большие отверстия, перемежаясь с белыми странными столбами. По берегу лениво брело несколько коров. С горы сбежали две женщины и, стегая коров хворостинами, угоняли их в лес.
– Наш обед от нас уходит, – заметил монгольский воин.
На вершине мрачной горы толпились люди. Они, видимо, волновались, перебегая с места на место.
Стая белых чаек летала и кружилась над рекой, опускалась к воде. Чайки садились на плывшие бревна, ссорились, взлетали с криком и снова садились.
– Это не бревна! Смотрите, это плывут трупы… Это перебитые булгары! Дело рук хана Шейбани… Он наводит повсюду монгольский порядок.
Трупов было много. Один, раздутый, с опухшим синим лицом, гонимый ветром и волнами, медленно подплыл к берегу и застрял на отмели.
…Войску была объявлена трехдневная остановка. На равнине повсюду задымились костры. На другой день сотник Арапша сказал Мусуку:
– По приказанию начальника тысячи Кунджи тебе поручается важное дело: поймать и привести какого-нибудь человека из живущих по этим берегам. Здесь, должно быть, много людей рыбачит и сеет ячмень, – всюду видны посевы и в воде у берега привязаны сетки-мережи. На другом берегу заметны узкие черные ладьи. Проберись вверх по реке и захвати рыбака, вышедшего на берег. Я дам тебе в помощь нукеров.
Мусук и пять монголов отъехали от берега в ковыльную степь, нашли тропинку, чуть не увязли в болоте и едва выбрались, вытянув друг друга арканами. Потом снова приблизились к реке и пошли камышами, ведя коней в поводу. Два раза, совсем близ берега, проплыли лодки. В одной гребли женщины в белых одеждах, обшитых красными тесемками. В другой сидел старик и мальчик. Каждый греб одним коротким, как лопата, веслом. Лодки были такие узкие, что требовалось особое искусство, чтобы держаться на серых беспокойных волнах и не опрокинуться.
Мусук условился с монголами, что он будет «скрадывать» старика с мальчиком. У них должна быть заветная отмель, на которой они остановятся. Один из нукеров остался за пригорком с лошадями, остальные пошли вдоль берега, прячась за кустами, ожидая знака Мусука.
Лодка старика подвигалась медленно против течения, и так же медленно, ползком, пробирался по берегу Мусук, держа в руке короткое копье. На пути оказались две речки. Он перешел их вброд, по шею в воде, вспугнул кабаниху с поросятами.
Мусук несколько раз терял из виду старика. Лодка стала удаляться от берега, направляясь к острову посреди реки. Там старик долго возился в камышах, проверял мережи и выбрасывал в лодку пойманную рыбу.
Мусук лежал весь промокший на песке и выжидал. Лодка снова направлялась к берегу, уже вниз по течению. Она плыла теперь быстро и наконец скрылась из виду. Мусук снова перешел обе болотистые речки, выбрался на берег и вдруг впереди, совсем близко, услышал голоса. Он пополз как можно тише, чтобы не выдать себя.
Наконец сквозь стебли камыша Мусук различил небольшой залив; черная лодка была вытащена кормой на песчаный берег. Старик и мальчик лежали у костра. В огне стоял закоптелый горшок, из него торчал рыбий хвост. Кипящая похлебка переливалась пеной через край. Мальчик подбросил в костер несколько веток. Старик вытянулся, подложив руки под голову; седая борода его стояла торчком. Он закрыл глаза и стал всхрапывать. Мусук ясно видел его серую, в заплатах, длинную, до колен, холстинную рубаху, широкие порты из дерюги, продранные на коленях, старый с медной пряжкой кожаный пояс и привешенный к нему нож в деревянных ножнах. Вдруг мальчик приподнялся и стал тревожно осматриваться.
Мусук бросился вперед, ломая камыши, и навалился на старика. Мальчик кубарем откатился к лодке, оттолкнул ее от берега, ловко взобрался в нее, пронзительно крича:
– Деда, деда! Скорей ко мне, в лодку!
Мусуку казалось легким делом одолеть костлявого, тощего старика. Он лежал на нем, подгибая его руку, тянувшуюся к ножу, стараясь опутать его ремнем. Но старик был крепким. Он бился изо всех сил. Вырвав руку, он схватил камень и ударил Мусука по глазу. И костер, и камыши, и река – все закружилось, но Мусук продолжал бороться, помня, что «языка» надо взять живым. Старик дрался, как дикий зверь, кусая Мусука за локоть, и кричал:
– Ах ты, язва! Не побороть тебе меня, желтомордый щенок!
Старику удалось вывернуться, и он порывался встать на колени. Мусук продолжал прижимать его, скручивая руки. Старик кричал мальчику:
– Не уезжай, Кирпа! Сейчас я его прикончу!
Он сильно ударил Мусука в живот. От удара Мусук свалился на бок. Крики услышали монголы. Двое из них набросились на старика в то мгновение, когда он, сидя на Мусуке, уже доставал нож. Старик завизжал, отбиваясь от нукеров, но те сбили его с ног и скрутили руки сыромятными ремнями. Мальчик в черной лодке быстро плыл на середину играющей солнечными блестками реки.
Монголы набили старику в рот листьев и травы и перевязали лицо тряпкой.
Сверху, скользя по быстрому течению, показалась большая лодка. Четверо гребцов сильно ударяли по воде длинными веслами. На корме рулевым веслом правил знатный с виду человек в темно-малиновом бархатном кафтане, расшитом золотыми цветами. В его ногах на дне лодки сидели еще двое молодцов с длинными ножами за поясом.
Лодка с разбегу врезалась в песчаный берег. Гребцы, сложив весла, с копьями в руках спрыгнули на песок и подтянули лодку.
Человек в бархатном кафтане сказал властным звучным голосом по-татарски:
– Здравствуйте, охотнички. Какого зверя поймали? Подождите его добивать. Он человек старый и очень знающий. Наш лучший рыбак, все рыбные места здесь знает… Кто вы? Из какого племени?..
Мусук тяжело хрипел, с трудом пытаясь встать. Кровь залила ему глаз. Один из монголов ответил:
– Мы все нукеры джихангира Бату-хана. Почему ты вмешиваешься в наши охотничьи дела?..
– Я посол от великого племени рязанского. Князь Глеб Володимирович. Еду приветствовать вашего великого хана, пожелать ему благополучия и много лет царствования… Далеко ли мне еще ехать?