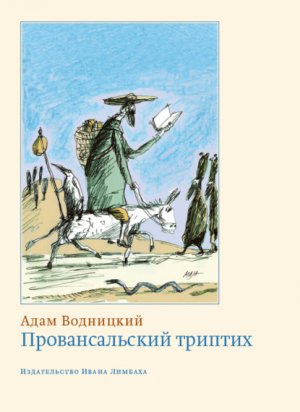
Adam Wodnicki
Tryptyk oksytański
Obrazki z Arles i okolic
Obrazki krainy d’Oc
Arelate. Obrazki z niemiejsca
Wydawnictwo Austeria
Krakуw – Budapeszt
2014
Publication subsidized by The Polish Book Institute – The © POLAND Translation Programme
На обложке: рисунок Данела Майи (Daniel Maja) из цикла «La vie brève»
Издание осуществлено при поддержке Клуба друзей Издательства Ивана Лимбаха
ООО «Лига» Ростеслав Леонтьев
Адам Водницкий
Провансальский триптих
Зарисовки из Арля и окрестностей
Зарисовки из страны Ок
Арелат. Зарисовки из не-места
© by Adam Wodnicki and Austeria
© К. Я. Старосельская, перевод, 2016
© Н. А. Теплов, дизайн обложки, 2016
© Издательство Ивана Лимбаха, 2016
Мариуш Вильк
Слово об Адаме
О близких людях, о друзьях трудно писать отстраненно.
Адам Водницкий
Мог ли я, отправляясь ненастным осенним вечером в московский клуб «Umlaut» на польско-российскую дискуссию о молодой польской прозе (шел я туда неохотно, поскольку не люблю пустых разговоров, да и тема не увлекала: с тех пор как постарел, молодую прозу я не читаю), так вот, мог ли я подумать, что на этой дискуссии встречусь с Ксенией Старосельской, которая тоже не большая поклонница молодой польской прозы – вероятно, в силу возраста, как сама говорит, оттого и для перевода ничего не находит, – а я ей на это, что в польской прозе недавно открыл «старика», который в одиночку даст фору всей пишущей молодежи, что старик этот – восьмидесятилетний Адам Водницкий – дебютировал год назад «Заметками из Прованса», в нынешнем году вышли его «Зарисовки из страны Ок», а на следующий объявлен «Арелат», третий том провансальской трилогии, и что как тут не вспомнить Лампедузу, который всю жизнь носил в себе Сицилию, чтобы на склоне лет описать ее в «Леопарде»; так и Адам полжизни посвятил Провансу – переводил его поэтов, преподавал искусство перевода в Арле, – и лишь когда почувствовал, что конец жизни не за горами, что ничего нельзя откладывать на потом, ибо этого «потом» может и не быть, одним махом написал о Провансе три книги, будто исторг его из себя… итак, повторяю: мог ли я тогда, унылым осенним вечером, шлепая по лужам Гоголевского бульвара на пути в «Umlaut», предположить, что плодом нашей с Ксенией встречи станет прекрасный русский перевод «Провансальского триптиха», вместо предисловия к которому я сейчас пишу эти строки. Вместо – ибо какие могут быть преамбулы, когда речь идет о близком человеке. О друге.
С минуту я колебался, вправе ли назвать Адама своим другом: ведь мы с ним виделись всего пару раз в жизни и нас разделяет солидная разница в возрасте (он мог бы быть моим отцом), не говоря уж об опыте (юный Водницкий во время немецкой оккупации был солдатом «Серых шеренг» – подпольной харцерской организации, а я смолоду играл в покер), но если я говорю о дружбе с Адамом, то имею в виду прежде всего духовное братство, которое, по-моему, сближает больше и связывает крепче, чем принадлежность к одному поколению или совместные возлияния, хотя мы оба любим хорошее вино… Поэтому, когда я впервые взял в руки его книгу, выудив ее наугад из кучи, громоздящейся на столе Марека Заганьчика в редакции «Литературных тетрадей», и, не прерывая беседы с Мареком, раскрыл на первой попавшейся странице, то вдруг, скользя взглядом по тексту, уловил в случайных фразах что-то знакомое, будто ненароком заглянул в колодец и увидел в глубине собственное лицо… Марек, заметив мое замешательство, сказал, что это очень интересная работа о Провансе, что автор – профессор Краковской академии изобразительных искусств и переводчик французской литературы, переводил и Эдмона Жабеса, и Сен-Жон Перса, и Жюльена Грака, Ива Бонфуа, Симону Вейль, преподавал в Тулузе и Арле и является членом арльской секции каталонских анархистов (что меня, признаться, поразило), а под конец пообещал, что пришлет мне в Конду обе книжки Водницкого, поскольку, кроме «Заметок из Прованса», есть еще «Зарисовки из страны Ок» и он рассчитывает, что я про них напишу для «Литературных тетрадей». Я положил книгу обратно с чувством, будто выпускаю из рук чью-то ладонь.
В тот день, когда я получал на почте посылку от Марека, в Конде порошил первый снег. Выпало его так немного, что он не выбелил мир за окном, а только подчеркнул его фактуру, вырвав из подлеска отдельные веточки, стебли травы и каждый камень. Этот первый снег в моей памяти накрепко связался с первым знакомством с текстами Адама, стал первым ключом к ним – ведь я читал о мире, который был представлен в слове с большей полнотой и разнообразием, чем видимый глазом реальный мир. Рассказывая, казалось бы, о Провансе, Водницкий по сути говорил о своем внутреннем мире. «Прованс – не уголок земли, а способ мышления, особое состояние духа, которое возникает, когда изо дня в день слышишь доносящиеся из прошлого голоса, слившиеся с повседневностью мифы, речь камней, света, облаков…» И я с волнением осознал, что не только открываю превосходного писателя, близкого мне по духу и способу созерцания мира, но вижу и свою тропу (внутренний путь, запечатленный в словах), разве что с опозданием на двадцать пять лет. Адам Водницкий указывал мне направление.
В материале для «Литературных тетрадей», озаглавленном «Преклоняюсь…», я назвал то, что пишет Адам, «прозой post-fiction», то есть жанром, который отвергает деление литературы на fiction и non-fiction ради того, чтобы прикоснуться к Реальности (с прописной буквы), не подлежащей ни законам линейного времени, ни аксиомам евклидова пространства, и добраться до Сути (тоже с прописной буквы!), освобожденной от самовластия разума и подчиненной внутреннему ритму эвокации. Чтение этой прозы, писал я, стало для меня путешествием к самому себе: читая Водницкого, я, хотя никогда не бывал в Провансе, будто возвращался к виденным когда-то пейзажам, к запахам и вкусам, знакомым не по своей жизни, к чужим снам, которые мне снились, и к моим авторам (Евагрию Понтийскому и Мацуо Басё, не говоря уж о Борхесе…), прочитанным кем-то другим, к сюжетам и нитям, которые я давно уже сам сплетаю (например, к мотиву потерянной дороги, оборачивающемуся темой обретенного дома), и к тому катару, которым я был в предыдущем воплощении. Словом, будто я писал о себе.
Спустя какое-то время я получил от Адама мейл с приглашением в «Klezmer Hojs». В центре Казимежа [1], в стильном здании, где некогда была миква [2], размещаются лучший в Кракове еврейский ресторан, комнаты, где можно остановиться, и «Аустерия» – издательство, которое выпускает книги Адама. Глава издательства Войцех Орнат радушно нас принял (каждое утро сам готовил Мартуше на завтрак сосиски), в его кабинете я познакомился с плеядой выдающихся краковян из круга друзей Адама (среди них был легендарный Иренеуш Каня, переводчик с тибетского, греческого, санскрита, пали [3] и еще полутора десятков языков), нас поселили в удобной комнате, внизу еврейская кухня и клезмерская музыка [4] – в общем, у Войцеха Орната мы чувствовали себя как дома (неудивительно, что у него гостили Стивен Спилберг и Анджей Вайда, Чеслав Милош, Бен Кингсли, Рэйф Файнс, принц Чарльз и Роман Поланский…), однажды пришлось даже останавливать расшалившуюся Мартушу, которая требовала, чтобы престарелый Леопольд Козловский – последний клезмер Галиции – поиграл с ней в прятки.
Но гвоздем программы во время нашего пребывания в Кракове в январе 2013 года был ужин у Водницких в их квартире-мастерской в мансарде дома на Крулевской улице. Даже сейчас, когда пишу эти строки, я ощущаю волнение, схожее с тем, которое меня охватило, когда, одолев крутую лестницу, я наконец увидел небольшую фигуру Адама в светлом прямоугольнике настежь распахнутой двери… Мы обнялись, как давно не видевшиеся старинные знакомцы, и с порога завели беспорядочный разговор, осекаясь на полуслове и перескакивая с темы на тему, будто прервали беседу только вчера. Марыся, жена Адама, подвела нас к елке, которую специально не разбирали, чтобы показать Мартуше. У нас аж дух захватило от такой красотищи! Оказалось, это собственноручное творение хозяйки, скульптора Марии Ледкевич-Водницкой: каждый год она заказывает у бескидских гуралей пихту и, украсив старыми (подчас помнящими времена до Первой мировой войны) краковскими шарами, гирляндами и игрушками, превращает ее в великолепное рождественское древо – поистине необыкновенное произведение искусства. Пока мы восхищались елкой, на столе появился суп-крем из цукини (вот авторский рецепт Адама: 1 цукини и 2 картофелины отварить, добавить 3 треугольничка сыра La vache qui ri, сырое яйцо, прованские травы, ложку сметаны и все вместе перемешать в блендере), а на второе – медальоны из вырезки с тимьяном и медом (средневековое провансальское блюдо, подававшееся на папском дворе в Авиньоне), к этому – Chateau de Pibarnon 2001, вино из Бандоля (сорт винограда «мурведр»), которое еще больше развязало нам языки. Мы говорили о загадочном городке, в «Черной Мадонне» зашифрованном буквой З. (в городке этом я угадал Злоты-Сток в Клодзкой котловине), и об эссе Зебальда Campo Santo, о поэзии Бонфуа и контратеноре Филиппе Жаруски, о Пятикнижии Моисеевом в переводе на польский Цилькова и об «Арелате», заключительном томе провансальской трилогии, над которым Адам как раз работал, о кошках, детях и бог весть о чем еще… А Марыся с Мартушей носились на заколдованных метлах по всей квартире, игнорируя разделяющую их пропасть в семьдесят лет.
Потом мы еще несколько раз навещали Водницких в их всегда открытой для нас квартире, и всякий раз они чем-нибудь нас поражали: то чудесным букетом из веточек алычи, используемым в языческих обрядах ворожбы, то подарком для моей дочки – старомодными очочками в золотой оправе, которые Адам отыскал в антикварной лавке, то рециной из винограда сорта «саватьяно» (белое греческое вино, в которое добавляется смола алеппской пинии; о рецине писал Геродот) – этот подарок предварял наше посещение Кипра, по дороге куда мы заглянули к Водницким. В перерывах между встречами мы поддерживали связь, обмениваясь мейлами, а еще Адам присылал свои тексты – это позволяло мне шаг за шагом следовать за ним по его тропе, гадая, куда она приведет. Вначале по электронной почте поочередно приходили главы «Арелата» – автор словно бы на моих глазах складывал фрагменты своей провансальской мозаики, потом вышла книга (я написал к ней вступление в форме адресованного Адаму письма) – можно было подумать, это уже конец, да и сам Адам утверждал: он сказал все, что хотел, а если чего-то не сказал, то лишь потому, что либо не сумел, либо оно того не стоило… И баста!
Тем сильнее было мое удивление, когда некоторое время спустя я стал получать от него новые тексты, уже не о Провансе, хотя написанные в том же стиле (так, всякий раз по-разному, отражает свет драгоценный камень – в зависимости от угла, под которым смотришь), а тема их… Вот именно: какова тема? Сразу и не скажешь: в одном речь шла о несостоявшейся встрече, во втором – о поэте, как бы не совсем присутствующем, в третьем – о доме, которого нет. Постепенно до меня стало доходить, что это эссе о пустоте, которую невозможно заполнить, о людях, которых уже нет, и тем не менее они есть… Наконец пришло эссе «О памяти», я прочитал его раз, другой, третий, пока не понял: вот он – замок. Что тогда, в Конде, когда я только знакомился с творчеством Адама, первый снег был ключом к его писательскому методу, а сейчас Водницкий вручает мне замок, к которому тот ключ подходит. Этот замок (в обоих значениях слова, то есть и внутренняя твердыня, и замок к ней) – наша память… С ее помощью, утверждает Адам, можно лживую реальность превращать в правду воображения.
Ибо память никогда не воспроизводит, но создает реальность. Из хаоса жизни выкристаллизовывается собственный мир, где время бежит прихотливо, а пространства накладываются одно на другое, как в палимпсесте, благодаря чему фигуры из разных эпох появляются одновременно, будто просвечивая друг сквозь друга, где дома сохранились в открывающихся из окон видах, а люди – в оставшихся от былых времен креслах, где сны выкликают явь, а явь приходит во сне. Память, согласно Водницкому, единственный доступный нам источник знаний о нас самих; соответственно, путешествие в воспоминаниях – путь к самому себе, а поскольку прошлое не застывает раз и навсегда, но меняется по мере нашего от него отдаления, то и путешествие это заканчивается лишь с нашей смертью. Вот и не удивительно, что Адам продолжает писать, возвращаясь к себе прежнему, и извлекает из прошлого мгновения, дабы в слове запечатлеть их форму.
Эссе «О памяти» открывает изданные в 2015 году «Анамнезы» [5] – сборник тех самых текстов, которые я читал порознь в присылаемых Адамом мейлах; теперь, объединенные под одной обложкой, они, словно камушки в мозаичном портрете, производят еще большее впечатление, поскольку, прочитанные как целое, представляют образ автора. Да, да, автора, ибо и в «Провансальском триптихе», и в «Анамнезах» – если внимательно вчитываться – видны черты Адама (вспомним картину борхесовского художника, который рисовал пейзаж, а получился автопортрет), их улавливаешь не только в ритме фразы, но и в фиолетовых тенях платанов на брусчатке арльских улиц, в описаниях еды и подборе цитат, в реалиях и снах. Достаточно прочитать несколько кусочков прозы Адама вслух, чтобы услышать его интонацию (речь не о манере расставлять акценты, но о внутренней логике, которая по-своему объясняет мир, делая упор на духовную, то есть извечную сторону жизни, а не на время, которое всего лишь форма существования материи…), как будто слушаешь его самого, сидя рядом с ним за столом. И понятно, что автор отнюдь не стремится себя обессмертить: Адам Водницкий слишком умен, чтобы верить в бессмертие человеческих творений, скорее, полагаю, ему хотелось бы (возможно, это не до конца осознанное желание) сохраниться в своем произведении, как в оссуарии, чтобы мы могли общаться с его духом в своих странствиях по жизни.
[1] Район Кракова (в прошлом отдельный город), часть которого составляет исторический еврейский квартал.
[2] Миква (микве) – в иудаизме водный резервуар для ритуального очищения.
[3] Древний индоарийский язык Индийского полуострова.
[4] Традиционная народная музыка восточноевропейских евреев; исполнители музыки в этом стиле – клéзмеры.
[5] Анамнез (от греч. ἀνάμνησις) – воспоминание.
Зарисовки из Арля и окрестностей
Арль. Вместо вступления
Le patrimoine commence et demeure là, ou nous naissons, marchons et vivons. A Arles les yeux possèdent tout.
J’en reconnaîtrais entre cent mille les pores drus de la Pierre douce, le profil des rues, la physionomie des façades, le regard des fenêtres. «J’entends» Arles (les trains portés par le mistral, les claquements du vent, mots de làet pas d’ailleurs, bruits et rumeurs des Lices, clameur et fureur des arènes, glas des heures). Arles se «touche» (parapets rugueux, marbres lisses, ferronneries rafraîchissantes), se «respire» (l’air de la mer et de la Camargue au-dessus du Rhône, les figuiers de la canicule, l’humidité des palais obscurs), et se «goûte» (mais là on n’en finirait pas, de l’ail à l’anis).
Le patrimoine, c’est tout cela et aussi le caractère si particulier que ces pierres perpétuent chez ceux qui les habitent (rétifs, excessifs, exigeants, indolents, pudiques, excentriques), leur travail, l’Histoire et les histoires de toutes ces familles, sagas locales ou cultures d’adoption…
Arles est populaire et impériale, rustique et aristocratique, chrétienne et paienne, modeste, brusque et baroque, austère, échevelée.
Apollon et Dionysos. En noir et blanc et en couleurs…
Christian Lacroix
Наше наследие там, где мы рождаемся, ходим, живем. В Арле всё у нас перед глазами.
Из сотни тысяч подобных я узнал бы пóры теплого камня, профиль улиц, облик фасадов, взгляд окон. Я «слышу» Арль (приносимые мистралем голоса поездов, аплодисменты ветра, слова – не откуда-нибудь, а только отсюда, шумы и шорохи с бульвара Лис, крики и неистовство арен, бой часов). К Арлю «прикасаешься» (шероховатые парапеты, гладкий мрамор, освежающая прохлада металла), им «дышишь» (воздух с моря и из Камарга [1] в дельте Роны, смоковницы в летнюю жару, сырость мрачных дворцов), чувствуешь его «вкус» (от чеснока до аниса… перечислять можно бесконечно).
Наследие – все это плюс особый склад живущих среди этих камней людей (упрямых, вспыльчивых, требовательных, ленивых, сдержанных, эксцентричных), их работа, История и истории всех здешних семей, местные саги и усвоенная чужая культура…
Арль – простонародный и имперский, деревенский и аристократический, христианский и языческий, скромный, грубоватый и барочный, строгий, разнузданный…
Аполлон и Дионис. Черно-белый и цветной…
Кристиан Лакруа
(Текст на остановках городского транспорта в Арле)
[1] Камарг – болотистая местность в дельте Роны, где находится несколько заповедников; ландшафт – солончаки, тростниковые болота, морские лагуны, наносные песчаные острова. Здесь и далее примечания переводчика.
Встреча
Выходишь с вокзала, и сразу на тебя обрушивается ослепительный зной. Белая улочка и платаны под раскаленной синевой неба. Слева какая-то ограда, несколько прилепившихся один к другому невзрачных домов-коробочек, справа пустырь, заваленный грудами камней. Чуть подальше – цыганские фургоны, разноцветное белье на веревках, полуголые дети в майках не по росту. Еще дальше – набережная Роны. Реки не видно, но ее присутствие ощутимо: огромная, дышит как усыпленный зверь. Патетические пилоны моста, разбомбленного 15 августа 1944 года «Либерейторами» союзников; два каменных льва (лапа на геральдическом щите) над зеленовато-бурыми водоворотами. Свидетельство одной из тех бессмысленных бомбардировок, когда судьба войны уже предрешена, а жажда разрушения еще не утолена.
Это здесь утром 20 февраля 1888 года сошел с поезда Винсент Ван Гог, обросший щетиной, грязный, волосы слиплись от холодного пота после бессонной ночи в пути. Накануне вечером брат проводил его на Лионский вокзал в Париже, где он сел в поезд, веря, что убегает от неприкаянности, бесплодности и холода.
Железнодорожная станция в Арле, расположенная в километре от центра города, представляла собой беспорядочное скопление складов, мастерских, вокзальных помещений: пустой зал ожидания, телеграф, билетная касса. В глубине, на боковой ветке, ждали погрузки товарные вагоны, все в потеках воды и ржавчины, с полустершимися названиями пунктов отправления. Вокруг островки грязного снега; пронизывающий до костей ледяной северный ветер – мистраль – при безоблачном небе клонит к земле деревья, срывает с крыш черепицу. Той зимой с ним совсем уж не было сладу; прилетая с верховьев Роны, он безжалостно обрушивался на излучину реки, свистел в щелях неплотно закрытых ворот и рассохшихся оконных рам. Зима, в тот год долгая и сырая, тянулась бесконечно. От солнечного, лучезарного летом Прованса веяло подвальным холодом…
Короткая улочка с тротуарами, вымощенными неровными плитами, заканчивается обычным круговым перекрестком на фоне железнодорожного виадука XIX века. Чисто, зелено, безлико. Высокие платаны по правой стороне испестрили пятнами густой фиолетовой тени старую выщербленную брусчатку. От бывшей площади Ламартина осталось только название. На краю площади стоял Желтый дом, известный по картине Ван Гога, нескольким выцветшим фотографиям и акварели Поля Синьяка 1933 года. Об этом доме Винсент пишет в письме к брату Тео:
Помимо этого наброска «Звездная ночь», посылаю и другой, также с квадратного полотна размером в 30, изображающего мой дом и его окружение под солнцем цвета серы и небом цвета чистого кобальта. Сюжет невероятно труден, но потому-то я и хочу с ним сладить! Желтые дома на солнце, несравненная свежесть голубизны – все это дьявольски сложно. Земля и та желтая [1].́
На одной из сохранившихся фотографий за распахнутой настежь дверью виден бар: оцинкованная стойка, посыпанный опилками пол, фрагмент рекламного плаката «Suze, aperitif à la gentiane» [2] и какая-то темная, к нам спиной, фигура в круглой шляпе. В правом крыле этого дома Винсент за 15 франков в месяц снимал четыре комнатушки. Дом, как и соседние строения, был разбомблен. Развалины убрали, площадь расчистили, земельный участок поделили между собой наследники; никому и в голову не пришло восстановить дом.
Когда-то, в XII веке, здесь заканчивался quartier de la Cavalerie [3], получивший свое название от основанной в 1140 году командории тамплиеров, – оживленный шумный район extra murоs [4] со множеством ремесленных мастерских, домов терпимости, постоялых дворов и таверн. Нищие и прокаженные, подозрительные сделки, тайные встречи в темных уголках притонов, не раз заканчивавшиеся поножовщиной. Район захирел уже в XVII веке, но конец ему пришел в первой половине XIX, с началом строительства железной дороги Париж – Лион – Марсель. Именно тогда неподалеку отсюда рельсы перерéзали надвое самый большой некрополь античного мира – Алискамп (Aliskamp: от Elysium, champs élysées – элизиум, елисейские поля). На одной, разрушенной, половине построили железнодорожные мастерские, предварительно очистив участок от римских саркофагов; из некоторых соорудили алтарные тумбы в церквях, другие переработали в известь. Приметы XIX века – вера в прогресс и творческие способности человеческого разума, восхищение возможностями науки и техники, наконец, презрение к минувшим эпохам – принесли здесь больше урона, чем самые опустошительные войны.
Дальше – остатки стен и ворота между двумя приземистыми бастионами. В город, как в обжитую многими поколениями квартиру, входишь с чувством некоторой неловкости, осознавая, что переступаешь невидимый порог чужого, сокровенного мира. За этим порогом – словно обведенное мелом магическое пространство, куда можно войти, лишь получив временное соизволение. Очень важна первая встреча: часто она предопределяет дальнейшие отношения.
Французский писатель Жюльен Грак в пространном эссе о Нанте «Форма одного города» размышляет, почему некоторые города – не очень большие и не особенно живописные, скорее, аристократически скромные, без величественных дворцов и великолепных перспектив, – производят огромное впечатление, тогда как другие, такие же или даже превосходящие их размером, лучше расположенные, красивые, выглядят безнадежно провинциальными, а жители их смахивают на селян, приехавших на один день за покупками?
Арль самодостаточен и, кажется, не сильно зависим от своих земных и речных корней; он словно бы вскормлен чисто городскими питательными смесями и в поддержке иного рода не нуждается, а человек, оказавшийся в нем впервые, эту независимость ощущает и испытывает желание не осматривать город, а в него погрузиться, пережить что-то важное, проникнуть в неуловимую тайну его особости.
На Юге любой город – не просто скопление домов, а живое и теплое телесное существо, имеющее костяк, систему кровообращения, пучки нервных волокон. Его материя – не только доступные взгляду дома, парки, площади, но и вкрапления сгущенного пространства на месте уже не существующих домов, парков, площадей, срубленных деревьев; а еще воздух, впитавший голоса, запахи людей и животных, проклятия и брань; а еще тишина, насыщенная стихшим гомоном. В его реальную архитектонику вплетена иллюзорная, складывающаяся из света и тени, из невидимых предметов, фигур, незримых линий – силовых потоков, которые то бегут параллельно, то пересекаются, а то вдруг завязываются в узлы там, где, кажется, вообще ничего нет.
Такой город, как правило, очень медленно и неохотно открывает свои секреты. Когда познакомишься с ним поближе, начинаешь различать отдельные напластования. Их много; можно годами пребывать в одном, понятия не имея о других; можно переходить из пласта в пласт, и всякий раз это будет другой город. Для тех, кто способен с ним сосуществовать, он дружелюбен и открыт, даже ласков – а по отношению к другим безразличен или враждебен; он наделен яркой индивидуальностью, и, как у всякой незаурядной личности, у него бывают капризы, случаются хорошие и плохие дни. Он то кокетничает с вами, то дуется; может и зло на вас сорвать. Хорошо вам с ним будет весенним утром: окна домов глядят приветливо, к звону колоколов примешивается чириканье стрижей, уличный гам – обрывки разговоров, окрики, призывы торговцев – звучит как музыка, из открытых дверей пекарен бьет запах свежего хлеба, а в прогалины между рыжеватыми крышами, будто из алхимической реторты, вливается ультрамарин неба. Но бывает он и хмурым, и мрачным, словно уже с раннего утра взвалил на себя безотрадный груз дня; во все щели проникает недобрый свинцово-синий свет; из полуоткрытых ворот, как смрадное дыхание смерти, сочится могильный запах подвалов, и даже трещины в камне складываются в какие-то зловещие знаки.
Города Юга просыпаются поздно, но до самой ночи живут интенсивно, в постоянном возбуждении, в вечной лихорадке. Настоящая жизнь – на улице. Дом – это место, где рождаются и умирают, где плодят детей, проводят часы сиесты, трапезничают, прячутся от холода и дождя. Всякая активность, с рассвета до заката, – вне дома; все действительно важное происходит под солнцем, на воздухе, среди людей. В Арле пространство сформировано так, чтобы его составляющие – скверы с фонтанами, бары, бодеги [5], террасы кафе, даже отдельные столики и стулья, расставленные в переулках, где гуляет свежий ветер с реки, – удовлетворяли потребность горожан во встречах, совместных переживаниях, предоставляли возможность оказать услугу, обменяться любезностями и поделиться мыслями.
Однако внимательному наблюдателю не составит труда заметить, что шумный и яркий уличный театр – лишь внешняя часть жизни; есть еще и подспудный пласт, куда неохотно впускают чужаков. Для повседневного самодостаточного существования городу необходим подобный сети подземных пещер замкнутый анклав, где можно с утра до вечера и с вечера до рассвета кормиться исключительно собой. Возможно, особая здешняя атмосфера, сложившаяся в ходе долгой и тщательной обработки при содействии истории, географии и философии, рождает загадочную красоту и неотразимую притягательность Арля.
Средиземноморская культура создала два основных типа городов. Город первого типа (назовем его castrum) построен по образцу римского военного лагеря; он имеет две оси – cardo и decumanus (расположенные под небольшим углом к сторонам света, чтобы не служить коридорами ветрам) – и рациональную прямоугольную планировку, полон свободного пространства и света, спроектирован в согласии с теорией целых чисел и евклидовой геометрией, с использованием – с начала и до конца – витрувианской линейки и циркуля; таким городом легко управлять и его легко оборонять. Увиденный с большой высоты глазком спутниковой фотокамеры, он был бы похож на скелет экзотической птицы, отпечатавшийся в доисторической тине.
Город второго типа – более «биологический» (назовем этот тип agora [6]), растущий медленно, без заранее составленного плана, вокруг места публичных собраний (так годичные слои древесины растут вокруг сердцевины ствола); эти города с их беспорядочной на первый взгляд застройкой, путаницей улочек, обилием маленьких площадей, как правило, более восприимчивы к внешнему влиянию, менее благожелательны к централизованной власти, в них раньше складывается самоуправление.
Часто оба типа проникают один в другой, и в процессе исторического развития давний урбанистический замысел почти полностью стирается. Сегодня трудно отыскать изначальный центр – место рождения города. Можно лишь предположить, что это был какой-нибудь чудесный грот, бьющий из-под земли родник или просто-напросто рыночная площадь на пересечении торговых путей, а то и клочок земли возле брода в излучине реки.
Арль – характерный пример взаимопроникновения, а может быть, совмещения двух разных типов. Первое портовое поселение возникло в колене Роны (древнеримского Родана) на восточном берегу, чуть ниже места, где река разветвляется на два рукава. Древнегреческий историк, географ и путешественник Страбон, родившийся около 63 года до н. э. в Амасии, столице Понтийского царства, сообщает, что поселение было основано фокейцами из Массалии (Марсель), но, весьма вероятно, существовало еще до греческой колонизации побережья Средиземного моря, поскольку слово «арелат» (таково древнее название Арля) – кельтского происхождения и означает «город на болотах». При греках Арль назывался Телин («Arelatum illic civitas attollitur, Theline vocata sub priore saeculo Graio incolente» [7]).
В 49 году до н. э., во время гражданской войны (49–45 гг. до н. э.) между Гаем Юлием Цезарем, проконсулом Цизальпийской Галлии, и Гнеем Помпеем Великим, римским консулом, Цезарь построил на верфи в Тренкетае (сейчас – район Арля) на правом берегу Большого Родана двенадцать военных галер для осады Массалии, принявшей сторону Помпея; эти галеры участвовали в блокаде бухты Ласидон (сейчас район Старого порта, исторический и географический центр Марселя). В благодарность за оказанную помощь Цезарь поручил одному из своих доверенных военачальников, Тиберию Клавдию Нерону (около 78 г. до н. э. – 33 г. до н. э.), основать в этом месте колонию; туда была переселена многочисленная группа полузависимых крестьян (колонов), а также ветераны VI Железного легиона (Ferrata). Колония получила название Colonia Iulia Paterna Arelatanesium Sextanorum и стала одним из шести военных поселений, созданных Юлием Цезарем в 46–45 годах до н. э. Развивался Арелат быстро; уже при Августе он получил все права города: в нем появились собственные дуумвиры, эдилы, квесторы, свои фламины, свой понтифик и коллегия seviri augustales [8]. Как и пристало торговому городу и важному промышленному центру, в большом количестве были образованы различные ремесленные корпорации: цехи работников судоверфей (fabri navales), портных и торговцев одеждой (centonarii), плотников (fagni tignarii), а также корпорации мореходов (utricularii, navicularii marini) и команд плавающих по Родану парусников (nautae). Благодаря демократи-ческим выборам цеховых мастеров, городских чиновников и севиров сложился организм, обладающий чертами прочного гражданского сообщества, следы которого можно найти и сегодня: взять хотя бы бережно хранимые столетиями традиции ремесленных союзов и профессиональных братств.
Всякий, кто участвовал в майском празднике Братства пастухов святого Георгия (L’Antico Confrarié di Gardians de Saint-Jorge), деятельность которого не прерывается с 1512 года [9], знает, какую большую роль оно играет в жизни города и всего общества и сколь высок престиж его членов.
Четыреста лет мирной и богатой жизни возвели Арль в ранг одной из столиц империи. От великолепия римского периода остались выделяющиеся в провинциальном ныне городе монументальные постройки: огромный амфитеатр на 25 тысяч зрителей, ипподром, обнаруженный и частично раскопанный в 1995 году во время строительства Музея античности, театр с тройным рядом аркад, от которого сохранился только боковой вход, три аркады, две коринфские колонны (так называемые «Две вдовы»), проскений и первые ряды зрительских мест. В ходе начатых в XVII веке и продолжающихся по сей день археологических раскопок были обнаружены поочередно: знаменитая Венера Арльская, преподнесенная Людовику XIV; статуя Августа; прекрасная мраморная голова, получившая название «Женщина с поврежденным носом»; барельеф «Мученичество Марсия»; статуя Селена и многие-многие другие.
15 мая 2007 года ныряльщики из марсельского Управления подводной археологии, спустившись с борта корабля Nocibé II, пришвартованного у набережной древнего арлезианского порта Тренкетай, извлекли из ила на дне Роны мраморный бюст Юлия Цезаря, датированный 46 годом до н. э. Это единственный – если не считать изображений, отчеканенных монетарием Марком Меттием на серебряных динарах в 44 году, – прижизненный портрет Цезаря. Мы видим немолодого, но еще полного энергии человека за два года до смерти (императору тогда было 56 лет), с изрытым морщинами лицом, залысинами и запавшими от усталости глазами.
Почему бюст бросили в реку? Некоторые историки полагают, что после убийства Цезаря в мартовские иды 44 года жители Арля, перепуганные, не знающие, как поведут себя новые власти, предпочли избавиться от подозрительных предметов поклонения божественному основателю города.
От римского форума остались две гранитные колонны, вмурованные в фасад гостиницы Nord-Pinus, несколько фрагментов фасада терм, обширные подземелья, наконец, часть акведука, по которому в город поступала вода из источников в Малых Альпах, из водозаборов в окрестностях Сен-Реми.
В первые века нашей эры Арль был столицей королевства Прованс и, наряду с Римом, одним из важнейших городов Западной Римской империи. В конституции императора Феодосия он назван матерью Галлии (mater omnium Galliarum). Отголоски былого величия сохранились в языке: по сей день левый, восточный, берег Роны называется côte Royaume, а правый, западный, – côte l’Empire [10].
Человеку, впервые попавшему в Арль, разобраться в городе нетрудно. Тут невозможно заблудиться. Едва ощутимый наклон улиц (идешь, будто по речному руслу) направляет наши шаги к естественным центрам притяжения. Их образуют две расположенные в близком соседстве, точно соединенные невидимой осью, площади. Одна, небольшая, прямоугольная, пестрая и крикливая, – площадь Форума (Place du Forum, бывшая Place des Hommes – площадь Людей, названная так, поскольку там собирались сезонные работники в ожидании нанимателей). Днем на ней многолюдно: неустанное движение, бурная жестикуляция, возбужденные голоса, непоседливые солнечные пятна… Ночью, освещенная разноцветными фонариками, площадь похожа на сцену ярмарочного театра; из распахнутых настежь окон доносятся звяканье столовых приборов, стук стаканов, отзвуки супружеских перебранок, выплескиваются звуки музыки, сочится запах чеснока и оливкового масла. В глубине поблескивает желтый фасад Café de Nuit [11], а над ним, на темно-синем небе, как на знаменитой картине Ван Гога, горят огромные звезды. Слева – покрытый зеленой патиной памятник Фредерику Мистралю [12]: поэт стоит в широкополой камаргской шляпе, через согнутую в локте руку переброшен плащ.
Застройка площади воспроизводит очертания римского форума, под каменными плитами превосходно сохранились фрагменты портика, которые можно увидеть, спустившись в подземелье из притвора расположенной неподалеку церкви.
Вторая, гораздо более просторная и возникшая на несколько столетий позже площадь Республики, некогда называвшаяся Королевской, а еще раньше Базарной, – место публичных собраний и отправления религиозных обрядов. Посередине, будто огромный гнóмон [13], возвышается каменный римский обелиск. Когда-то он, кажется, стоял на спи´не – разделительном барьере между дорожками для гонок колесниц в цирке. Обелиск извлекли из ила Роны; в 1676 году он был установлен посреди площади в честь Людовика XIV.
Это здесь в раннем Средневековье проходили судилища; здесь во время эпидемии чумы, «черной смерти», опустошавшей Прованс в 1347–1352 годах, из романского портала собора Святого Трофима выходили покаянные процессии флагеллантов [14]; здесь 2 декабря 1400 года король Людовик II Анжуйский, женившись на Иоланде, дочери короля Арагона, сражался на конных ристалищах с цветом провансальского рыцарства; здесь, наконец, во времена Великой французской революции под ножом гильотины слетали с плеч аристократические головы, накануне казни причесанные по последней моде.
Сегодня перед зданием мэрии XVII века проходят народные гулянья, политические манифестации, предвыборные митинги; здесь же народ собирается на первомайские демонстрации. Начав свой путь от бывшей церкви Святой Анны, колонна демонстрантов под аккомпанемент провансальских свирелей и тамбуринов, с пением революционных песен времен гражданской войны в Испании движется по узким городским улочкам, сопровождаемая выкриками и осыпаемая цветами с балконов; шествие заканчивается под вековыми платанами Алискампа, где на трапезных столах демонстрантов ждут блюда местной кухни и батареи бутылок красного и розового вина.
Душа Арля всегда лежала к левым. По окончании гражданской войны в Испании, после падения Барселоны в январе 1939 года и кровавых расправ, учиненных войсками генерала Франко, немалая часть бойцов республиканской армии (в основном из Каталонии) спряталась в городах Прованса. Однажды на первомайской демонстрации – как всегда, больше смахивающей на дружеский хеппенинг, чем на политическую манифестацию, – я увидел двух мужчин моего возраста с черным флагом, которых во время пасхальной фиесты встречал на гитарных концертах в каталонском баре La Cueva. Они шли в группе людей, говорящих на каталанском языке. Когда я приблизился, оба приветственно подняли руки:
– Hola, Adam, com estàs?
Я присоединился к ним; по ходу разговора выяснилось, что из многочисленной в послевоенные годы группы каталонских анархистов в Арле остались только они двое. Третий их товарищ, Диего Камачо – свидетель и участник исторических событий, друг Буэнавентуры Дуррути [15], сражавшийся вместе с ним на Арагонском фронте, – умер год назад. Французские законы непререкаемы: чтобы официально зарегистрировать любое объединение, в нем должно быть не меньше трех человек.
– Я знаю Диего Камачо, – сказал я, – мы познакомились в Тулузе. Недавно я гостил у него в Барселоне. В годовщину смерти Дуррути мы вместе положили цветы на его оскверненную фашистами пустую могилу.
– Camarade. Это знакомство делает вам честь.
На следующий день на террасе кафе Malarte [16] я подписал соответствующее заявление и стал членом арльской секции l’Amicale des Anciens de Fédération Anarchiste de Catalunya [17].
Площадь Республики – городской салон. На Страстной неделе, в преддверии самого большого арлезианского праздника – пасхальной корриды, на площади крутятся разноцветные карусели и маршируют оркестры.
Когда пятнадцать лет назад я в очередной раз приехал в Арль, была поздняя осень. Уже редко отзывались цикады; в прозрачном, как жидкое стекло, воздухе на пустые столики кафе на бульваре Лис кружась падали желтые листья платанов; на рассвете по улицам проплывали легкие клочья тумана; город без туристов вновь обретал собственный облик и голос. Однажды вечером по местному телевидению после прогноза погоды показали чествование старейшей жительницы Арля Жанны Кальман [18], которой исполнилось сто двадцать лет. Юбилярша в арлезианском наряде (парча, кружева) и традиционном головном уборе, сидя в инвалидном кресле, принимала поздравления от перепоясанного трехцветной лентой мэра Арля, Мишеля Возеля, и членов муниципального совета. Оживленная, с румянцем на припудренном лице и бокалом шампанского в руке, она вспоминала времена своего детства: говорила о всеобщем чувстве униженности и печали после катастрофы под Седаном, о ленивой городской жизни, ценах на оливковое масло и вино, о принадлежавшей ее матери бакалейной лавке, полной диковинных товаров и забытых сегодня запахов, где Жанна – тринадцатилетняя, но уже зрелая, обещающая стать настоящей красавицей, – притаившись в уголке за прилавком, с испугом смотрела на рыжеволосого, пропахшего скипидаром и алкоголем художника в синей рабочей блузе и рубашке без воротничка, который покупал клей, маковое масло, цинковые белила для грунтовки холста и бутылку абсента. Она встречала его на улице с мольбертом за спиной, громко разговаривающего с невидимым собеседником и, как ветряная мельница, размахивающего руками.
– Будь осторожна, Жанетт, – говорила мать, – это опасный человек: иностранец и душевнобольной.
На следующий день после юбилея, направляясь за покупками в ближайший магазин на улице Жувен, я увидел Жанну Кальман в инвалидном кресле-коляске, которое везла ее приятельница и сиделка; на спинке кресла висела сумка, из которой торчал багет, упакованная в целлофан головка салата и горлышки двух бутылок Côtes du Rhône villages. Я поклонился. Жанна Кальман, внимательно ко мне приглядевшись, спросила:
– On se connaît, jeune homme?
– Je vous ai vue hier soir à la télé. Vous étiez superbe! Bon anniversaire, Madame.
– Oh, bon. Vous êtes gentil. Venez me voir l’année prochaine. J’invite toute la ville [19].
С Жанной Кальман мне больше не довелось встретиться, и я уже никогда не узнаю, каков был на вкус зеленый абсент, который так приятно потягивать субботним днем на террасе Café de Nuit, сколько стоил багет à l’ancienne [20] и что именно, размахивая руками, выкрикивал на улице неряшливо одетый рыжеволосый художник. Не дано мне заглянуть, хотя бы на минутку, в их настоящее. Навсегда захлопнулась дверь, в которую я по-воровски хотел проскользнуть, чтобы украдкой проникнуть в чужой мир.
«История – эхо прошедшего в будущем, отблеск будущего, падающий на прошедшее», – сказано у Виктора Гюго.
В Арле прошлое и настоящее неразделимы, как стóроны ленты Мёбиуса. И впрямь, что такое прошлое, если не бесконечная череда того, что когда-то было настоящим? Где его иллюзорные границы? «Прошлое, – писал Веслав Мысливский в „Трактате о лущении фасоли“ [21], – это что-то вроде смутной тоски, только по чему тоска? Не по тому ли, чего никогда не было и что тем не менее миновало?»
Через несколько дней на опустевший в преддверии зимы город снова обрушится мистраль. В каминах запылают дрова из плодовых деревьев, ароматный дым поплывет низко над землей, обовьет замершие фонтаны. На извилистых улочках, в закоулках квартала Ла Рокет – некогда рыбацкого предместья на берегу Родана – зажгутся фонари. В пятнах света на стенах мелькнут зеленые ящерицы, охотящиеся за последними осенними насекомыми, а на площади Патра [22] холодный ветер закружит сухие листья платанов и обрывки газет.
По улице Гамбетта [23] в сторону моста через Рону электровоз, громко сигналя, протащит за собой цепочку пустых вагончиков, будто позаимствованных из луна-парка. Со стороны Тренкетая прилетит, приглушенный вечерним туманом, голос рожка. На обоих берегах Большой Роны зажгутся окна, а на темно-синем небе вновь загорятся те же самые равнодушные звезды.
Монмажур
Если не дует мистраль, на велосипеде путь от площади Ламартина до бенедиктинского аббатства Монмажур занимает меньше получаса. Проехав под железнодорожным виадуком XIX века, по бесконечно длинной avenue de Stalingrad через безобразное промышленное предместье Le Trébon добираешься до горбатого мостика, пересекаешь по нему канал, дальше немного в горку – и ты уже на круговом перекрестке. Здесь заканчивается город и начинается извилистая проселочная дорога, обсаженная вековыми платанами. По обеим сторонам, куда ни кинь взгляд, – рисовые поля, покрытые тоненьким слоем воды, разделенные низкими дамбами, на которых весной ярким желтым пламенем горят кусты дрока. Рядом с заброшенным строением, заросшим бурьяном вплоть до выкрашенных в синий цвет ставен (может, тут когда-то была городская застава?), у подножия поросшего лесом скалистого холма дорога резко сворачивает влево и дальше бежит, петляя, в гуще колючего кустарника, карликовых дубов и черных акаций. Отсюда начинается нелегкий подъем на вершину. Последние метры приходится преодолевать пешком, ведя велосипед за руль. Наконец высоко над головой, в просветах между ветвей, над макушками деревьев показываются мощные стены крепости-аббатства, увенчанные огромным донжоном с кружевным зубчатым верхом. Это Монмажур.
Когда эти стены вырастают за последним поворотом дороги, первое ощущение – изумление и страх. Точнее, особая разновидность страха, который охватывает нас, когда мы внезапно, без подготовки, сталкиваемся с чем-то невероятным, когда, пораженные, затаив дыхание, тщетно ищем хоть какую-нибудь аналогию, когда вдруг узнаём о существовании других духовных миров, куда у нас нет доступа, ибо они начинаются там, где исчерпываются возможности познания.
Ибо вся эта фантасмагорическая архитектура (речь идет о романской архитектуре и ранней готике), по словам Ортега-и-Гассета, «вооруженная фантазией западня, предназначенная для поимки страшного чудовища, каковым является бесконечность».
Что тут можно сделать? Только смиренно признать, что любые трезвые, рассудочные попытки понять, какое мистическое воодушевление или безумие позволяло возводить до небес такие строения, по-детски наивны.
Что же остается, если не считать недоверия? Только потрясение и восторг…
Мчащиеся по небу тучи увлекают за собой огромный неф из сна и камня, который будто вплывает в сказочные ландшафты «Великолепного часословова герцога Беррийского» [24] – плод поэтической фантазии, облеченная в слова извечная тоска по недостижимой гармонии и божественному покою, – в волшебное пространство, где обитают Красавицы и Чудовища, ручные единороги, хищники с красивыми глазами и змеи небесного цвета; где, кажется, должна сбыться несбыточная мечта о чуде, о чем возвещает трижды отраженным эхом голос рога странствующего рыцаря; где можно увидеть инкрустированные синей эмалью стройные башни и зубцы крепостных стен, под которыми святой Георгий в серебристых доспехах сражается не на жизнь, а на смерть с перепончатокрылым змеем (а может, с самим собой?), а Прекрасная Дама из окна башни простирает белоснежные персты к трубадуру, который, аккомпанируя себе на фиделе [25], услаждает ее слух изысканной мелодией canso [26].
Такие монастыри можно увидеть в сказочных пейзажах кисти провансальских и тосканских художников либо во сне: по выгоревшим склонам холмов причудливо петляют дороги, кроны растущих купами пиний похожи на раскрытые зонты, а вдалеке сверкает зеркальная гладь моря, по которой скользят высокие галеры с туго надутыми парусами.
Начинающаяся глубоко во тьме веков история Монмажура представляет собой смесь фактов и легенд. Сегодня невозможно отделить реальность от сказки, правду от вымысла – как невозможно, глядя на это необыкновенное сооружение, каменное творение человеческих рук, забыть, что, одновременно символическое и метафизическое, оно возникло как не лишенная гордыни безумная попытка внести в обычную жизнь хотя бы малую толику вечности.
История аббатства напоминает яркую ткань с полустершимся узором; в подлинные сюжеты то и дело вплетаются цветные нити домыслов и выдумок. Это плод воображения, то есть равноправная часть истории; приближаться к нему следует осторожно, на цыпочках, поскольку бесчувственная, холодная любознательность уплощает правду и отпугивает тайну.
Известно, что монастырь был основан в 948 году прибывшими с Леринских островов монахами ордена святого Бенедикта. Но известно также, что задолго до ухода древних богов и окончательной победы христианства это было место отправления гораздо более древнего культа, о чем свидетельствуют постоянные новые находки: высеченные в скале кельтские крипты, декоративные элементы римской архитектуры, наконец, раннехристианская подземная церковь, которую местная легенда связывает с пастырским служением первых епископов Арля – святого Трофима и святого Цезария. В этой же легенде говорится, что в рассеянных вокруг церкви скальных могильниках похоронены франконские [27] рыцари, пэры Карла Великого, павшие в битве с сарацинами в Ронсевальском ущелье.
Когда впервые видишь мощные стены аббатства, напрашивается вопрос: почему здесь? Такие строения ведь не появлялись в случайных местах. Чем же определялся выбор? Что было решающим: традиция более ранних культов, память о необычных (либо сверхъестественных) явлениях, чудесах, откровениях – или с трудом поддающийся объяснению, своеобразный genius loci, повелевший именно тут, а не где-либо еще увидеть окруженное ореолом тайны «избранное место»?
А может, мотивы выбора были чисто практическими? Соблюдались просто-напросто требования безопасности: удобное для обороны расположение (на вершине горы или на крутом склоне), доступность снабжения продовольствием и водой, близкое соседство военного гарнизона, легкость коммуникации? Принимались в расчет расстояние до каменоломен, условия транспортировки, наличие местной рабочей силы, возможность привлечь достаточно много камнетесов и каменщиков, кузнецов и плотников, объединенных в свободные цеховые корпорации?
Строительство собора, аббатства или замка всегда было сложной логистической задачей со множеством параметров, осуществление замысла растягивалось во времени – порой на несколько поколений…
Когда смотришь на Монмажур, кажется, тут все ясно: непрерывность традиций; превосходное местоположение – вершина скалистой горы, доминирующая над просторной долиной Роны; близость города; удобные пути сообщения; наконец, находящиеся чуть ли не в двух шагах каменоломни в Фонвьей, откуда еще на пороге нашей эры, при Юлии Цезаре и Августе, добывали материал для строительства в Арле арены, амфитеатра, ипподрома и прочих монументальных сооружений.
Вместе с тем можно предположить, что этот вполне рациональный мудрый выбор был сделан с учетом еще одного серьезного обстоятельства: рядом проходила Via Aurelia [28] – одна из главных дорог Римской империи, некогда соединявшая Рим с Арлем, а позже, уже как Via Domitia [29], – с римскими провинциями в Испании. Правда, ко времени строительства монастыря дорога утратила свое первоначальное стратегическое значение, однако по-прежнему оставалась важным путем сообщения. Последний, провансальский, участок этой дороги, построенный в 6 году до н. э., назывался Via Julia Augusta. (Благодаря этой дороге Юлий Цезарь с эскортом могли верхом преодолеть расстояние от Рима до Арля за восемь дней, а выступив с целой армией из Porta Aurelia – сейчас Porta San Pancrazio, – форсированным маршем добраться до Испании меньше чем за четыре недели.)
Сегодня фрагменты дороги, проглядывающие из-под варварского асфальта, еще можно увидеть между Арлем и аббатством Сен-Жиль-дю-Гар, а также в Мори, Ле Параду и окрестностях Сен-Габриэля неподалеку от Тараскона. Именно там, близ бывшего римского Ernaginum (как некогда назывался Сен-Габриэль), сходились, образуя большой коммуникационный узел, три важнейшие дороги: Via Aurelia, Via Domitia и Via Agrippa [30].
Via Aurelia, которая в более поздние века стала южной ветвью паломнического маршрута в Сантьяго-де-Компостела к святому Иакову, сейчас носит название Voie d’Arles, или Via Tolosana, или Via Arelatensis.
Не раз на этой дороге, бегущей через заросшие жесткой травой и кермеком подмокшие пустоши, где там и сям на горизонте маячит одинокое стадо, я встречал паломников, направляющихся в Компостелу к могиле святого Иакова. Они шагали в одиночку, иногда по двое или по трое, реже более многочисленными группами, с большими рюкзаками; иногда кто-то тащил двухколесную тележку, кто-то вел за узду навьюченного багажом ослика. Я узнавал их по непременным принадлежностям пилигрима: суковатый посох (bourdon), странническая сума (besace), притороченный к поясу калебас (calebasse), шляпа, украшенная ракушками, – а так-же по утомленному, словно бы отсутствующему взгляду. Иногда они шли издалека, чаще всего с севера или с востока: из Англии, Швеции, Германии, Италии, Польши. Разными путями, на разных видах транспорта добирались до Парижа, Везеле, Пюи-ан-Веле либо до Арля, откуда, согласно старинной, датирующейся XI веком традиции, начинали пешее паломничество по одной из четырех ведущих на запад и юг дорог. Via Arelatensis вела в Пуэнте-ла-Рейну на территории бывшего Наваррского королевства и оттуда в Сантьяго через Camino francés [31], через несколько испанских провинций: La Rioja, Burgos, Palencia, Castilla y León, Lugo и La Coruňa [32].
Збигнев Херберт [33], черпая вдохновение у Кавафиса, писал:
«Путь» (из сборника «Элегия на уход»)
Какая сила гнала пилигримов по бездорожью? Что заставляло «тягаться с миром» [34], собой и собственной слабостью? Паломничество – это все равно что путь к святой горе Хорив [35]. Чем оно было для них? Актом веры, трансцендентным переживанием встречи с Богом? Приключением? Поиском невозможного, заколдованной страны в зазеркалье?
А может быть, как писал в 1687 году Мацуо Басё [36] в «Путевых дневниках», дорога – цель сама по себе, а цель странствия – само странствие?
Случалось, когда у меня спрашивали дорогу или далеко ли до города, я слезал с велосипеда, провожал путников до ближайшего поворота или присаживался с ними на обочине, чтобы отдохнуть и поговорить. Пока мы беседовали в тени придорожной яблони или вечером возле догорающего костра, время останавливалось, замирало, будто попавшись в ловушку пространственно-временного континуума. Вокруг простирался тот же самый, давно знакомый мне пейзаж, одуряюще пахли травы, между полями подсолнечников вилась та же самая проселочная дорога, мне же чудилось, будто я забрел в чужой сон. А ведь, казалось бы, период мистического воодушевления, ярких озарений, единоборства с Богом на пустых дорогах уже позади. И пускай эмпирия самоуверенно и упорно убеждает тебя, что поверх небесного купола, утыканного гвоздиками звезд, над орбитами планет уже нет эмпиреев – обители ангелов и демонов; сколько нас ни убеждай, никогда не удастся полностью загасить тлеющую в каждом потребность в чуде, подавить желание необычным образом разнообразить наше бессмысленное и до боли банальное существование, сделать достоверным недостоверное, нарушить заведенный порядок, внеся в него чуточку безумия. Такие мечты не уничтожить и не развеять; все добрые и злые духи, порожденные нашими страхами и фантазией, как мы ни стараемся ими пренебречь, забыть о них, живут в наших снах, предчувствиях, видениях, надеждах, сопутствуют нам в вечном поиске недосягаемого «где-то». Их голосов не заглушить. Наверняка любому из нас по меньшей мере раз в жизни хотелось – пускай во сне – взобраться на лестницу, которая, хоть и стоит на земле, верхушкой касается неба…
Мы расставались в сгущающихся сумерках; я возвращался домой, ведя за руль велосипед, ошеломленный, зачарованный, сам не зная, в каком измерении обнаружу себя, когда вернусь. С недалеких пойм Камарга поднимался туман, и крыши и башенки Арля выплывали из белесой мглы, будто флюгеры на мачтах.
Традиция паломничества к святым местам на Юге столь же стара, как стены самых старых романских монастырей, столь же прочно вросла в здешнюю землю, как самые старые оливковые деревья в Сент-Мари-де-ла-Мер. На этих путях формировалось сознание духовной общности людей разных рас и культур, разных языков и обычаев, здесь столетия назад родилось представление о европейском универсализме, опирающемся на общие истины и ценности, начиналось культурное и цивилизационное объединение Европы.
Общим, понятным для всех языком была латынь, и хотя не на классической латыни велись беседы на биваках, однако, когда гасили костры и паломники укладывались спать, когда сгущался мрак и первобытный страх сжимал горло, на этом языке отгоняли демонов и призраков, толпящихся на пороге тьмы, на этом языке просили приюта возле монастырской калитки, возносили молитвы и каялись в грехах.
Самый старый путеводитель для паломников, отправляющихся к могиле святого Иакова в Компостеле, известный как «Путеводитель для пилигримов» (Guide des pèlerins), или V книга кодекса Каликста (Liber Sancti Iacobi), – сейчас он хранится в архиве собора, – появился около 1130 года. Написан он был на латыни, предполагемый автор – Аймери (Эмерик) Пико, монах из Партене-ле-Вье в провинции Пуату. Там есть описание четырех ведущих к святыне дорог (via Turonensis, via Lemovicensis, via Podiensis, via Tolosana) и местностей, по которым проходят паломники, упомянуты названия городов, городков и деревень, указано, где находятся важнейшие церкви и монастыри, перечислены места обязательного поклонения священным реликвиям и названы грехи, которые могут быть отпущены, а также имеется множество практических советов и указаний: как заручиться расположением благочестивых людей, как уберечься от нападения разбойников, где искать приют в случае внезапной болезни, как по дороге отыскивать источники хорошей воды и как отличать ее от плохой. Некоторые фрагменты «Путеводителя» как по духу, так и по красочности языка напоминают тексты из «Рукописи, найденной в Сарагосе» Яна Потоцкого. Приведу один такой отрывок из «Путеводителя».
En un lieu dit Lorca, vers l’est, coule un fleuve appele le ruisseau sale; là, garde-toi bien d’en approcher ta bouche ou d’y abreuver ton cheval, car ce fleuve donne la mort. Sur ses bords, tandis que nous allions à Saint-Jacques, nous trouvâmes deux Navarrais assis, aiguisant leurs couteaux: ils ont l’habitude d’enlever la peau des montures des pèlerins qui boivent cette eau et en meurent. A notre question ils répondirent de façcon mensongère, disant que cette eau était bonne et potable; nous en donnâmes donc à boire à nos chevaux et aussitôt deux d’entre eux moururent, que ces gens écorchèrent sur-le-champ.
В местности под названием Лорка течет к востоку ручей, именуемый Соленым. Остерегайся приближать к нему уста свои или поить своего коня, ибо ручей этот несет погибель. На пути к святому Иакову мы повстречали двух наваррцев, сидевших на его берегу и точивших ножи; у них есть обычай сдирать шкуру с лошадей пилигримов, которые сдохли, напившись этой воды. На наш вопрос они дали лживый ответ: дескать, вода хорошая и пригодна для питья; мы напоили наших лошадей, и тотчас две из них сдохли, а люди эти, не сходя с места, их освежевали.
Много обязательных для паломников наставлений и запретов, а также полезную информацию можно найти в книгах религиозных сообществ, братств, ремесленных цехов и масонских лож.
Очень часто цеховые братства организовывали для своих членов, в особенности молодых, паломничества по святым местам, больше того, обязывали в них участвовать: нередко этот этап духовного совершенствования считался необходимым условием для перехода на более высокую ступень профессиональной иерархии.
Известно, что для паломников устанавливались четко сформулированные, жесткие, едва ли не монастырские правила. Дневные переходы были отмерены с точностью до мили; приюты загодя определены; время на сон, молитвы, трапезы строго регламентировано – как и способы отмечания в пути церковных праздников, и соблюдение постов; существовал перечень обязательных религиозных обрядов. Все указания скрупулезно исполнялись, особенно в период позднего Средневековья; постепенно правила становились менее строгими, а сейчас и вовсе забыты.
Однако внимательный исследователь найдет в рассеянных по миру текстах записи, где упомянуты так и не получившие объяснения, окутанные непроницаемой тайной практики и обряды инициации, существование которых подтверждают многочисленные устные и письменные источники, а также материальные следы. Можно предположить, что путешествие на Запад, которое во многих европейских культурах было символом странствия по жизни вплоть до врат смерти и последнего откровения, кроме религиозного, носило еще и мистический характер. Паломники, называвшие себя Jaquets, или Les fils du Mâitre Jacques (сыновья Учителя Иакова), в пути подвергали себя (или их подвергали) испытанию голодом, страданиями, одиночеством и – поднимаясь на очередные, все более высокие ступени духовного посвящения – посредством обряда инициации получали доступ к знаниям о природе мира и предназначении человека, достигая слияния с Источником, с Великим Единым, то есть состояния, в котором начинается процесс внутреннего Преображения и Возрождения. Они глубоко верили, что такое состояние дарует энергию, очищающую ум, эмоции, намерения, желания, склонности – всю физическую и духовную сущность человека.
Вокруг всего этого рождается множество теорий и мифов, создается множество ярких легенд, обрамляющих ореолом тайны практики и обычаи, непонятные сегодня, но не вызывавшие никаких вопросов в эпоху великих религиозных паломничеств.
Существует, например, немало более или менее достоверных работ, посвященных секретным кодам, которыми пользовались пилигримы: до сих пор длится спор о функции знаков и символов, оставленных на стенах хосписов [37] (странноприимных домов), в монастырских виридариях [38] и прочих приютах. Но не только там. Знаки и символы выбивали на придорожных камнях, каменных мостиках, римских дорожных столбах (bornes) и труднодоступных стенах каменоломен. Вдоль дорог, ведущих на запад, в сторону моря, обнаружена большая, хотя очень разнородная группа маринистских символов. Особо важное значение имеют три из них: ракушка, отпечаток гусиной лапы и символ галеры. Уже в легендарные эпохи, у кельтов и их предшественников, отпечаток гусиной лапы был священным знаком религиозных братств. Очень похожий на трезубец Посейдона, он в различных вариантах присутствует вдоль всей via Tolosana. В дельте Родана, в поймах Камарга трезубец, Le trident des Gardians [39], – символ самого старого на этих землях Братства пастухов Святого Георгия и одновременно повседневное орудие труда, использующееся при разведении и охране боевых быков. Трезубцем также заканчиваются перекладины креста на официальной эмблеме Братства – La Croix de Camarge [40].
Провансальский крест с перекладинами, заканчивающимися трезубцем, у дороги из Фурка в Бокер
Два сложенных вместе отпечатка гусиной лапы часто приобретают форму шестиконечной звезды – гексаграммы, называемой также печатью Соломона, одного из самых древних и наиболее загадочных символов.
Не случайно во многих письменных и устных источниках via Tolosana, ведущую на запад к могиле святого Иакова в Компостеле, называют еще и Звездной дорогой (Le Chemin des Etoiles), Путем гуся (Le Chemin de l’Oie) или Путем раковины (Le Chemin de la Coquille).
Среди многочисленных знаков, которыми усеян путь паломников, часто встречается более или менее узнаваемый мотив лабиринта (греч. Λαβύρινθος). А что такое лабиринт, если не символ блуждания во мраке? Отыскать правильный путь помогает свет веры – но также свет истинного знания, доступного лишь Просветленным. Дойти до скрытого центра по меандрам ложных путей иллюзий и заблуждений – это и значит совершить инициатическое путешествие.
Благополучный переход с периферии в центр через последовательные состояния смерти и возрождения, достижение цели путешествия, то есть состояния совершенства, доступно лишь тем, кто успешно выдержал инициатические испытания и достоин вступить на этот путь. Истинное знание получаешь благодаря духовным упражнениям и испытаниям. Лабиринт – символ инициации, и, как можно предположить, его размещали именно в местах инициатических обрядов, тайно отправляемых на очередных этапах паломничества.
Кинестетический лабиринт у входа в собор в Лукке (Италия)
В поисках наиболее вероятного объяснения, откуда взялись маринистские символы и знаки, стоит обратить внимание, что среди большинства кельтских племен, заселявших некогда территории, по которым проходили важные пути с востока на запад – к морю, бытовала легенда о неизвестных мореходах, которые, убегая от страшного катаклизма, быть может, потопа, высаживались на высоких прибрежных скалах Испании или клифах Бретани. Кто же они были? Многое указывает на то, что кельты, как и народы Древнего Египта, Индии и Греции, присвоили себе миф о гибели Атлантиды, о чудесном спасении горстки уцелевших в кораблекрушении, которые передали им свои знания, традиции, верования и обычаи. Эти верования и традиции, подвергшись христианизации, сохранились, однако не полностью, не в той мере, чтобы можно было распознать их изначальное происхождение. Сохранились в каком-то уголке генетической памяти, а поскольку стереть эту память невозможно, остались следы: постоянные попытки вернуться на запад, неизбывная тоска по морским просторам, по дому и утраченной родине предков.
Как иначе объяснить укоренившийся обычай завершать паломничество к могиле святого Иакова в месте, находящемся в трех днях пути от Сантьяго, на берегу Атлантического океана, на скалистом мысу, который носит название Финистерре (finis terrae – край земли) и считается самой западной точкой континентальной Европы? В античные времена и в Средневековье Финистерре считали истинным краем света, за которым простирается уже только страшное непреодолимое море, полное чудовищ и тайн. Прибыв туда, паломники по традиции сжигали дорожную одежду и – словно бы символически повторяя обряд крещения – совершали омовение в водах океана, оставляя позади прежнюю жизнь в надежде начать новую.
Nous qui sommes en ce siècle des voyageurs et des étrangers, nous devons nous rappeler continuellement que nous ne sommes pas encore arrivés chez nous.
Мы, странники и чужаки в нынешнем веке, должны непрестанно напоминать себе, что еще не пришли к себе самим, – сказал в 503 году святой Цезарий, епископ Арелатский.
Из Арля море ушло несколько веков назад. Однако осталась магия места и осталась память. И следы – знаки активного присутствия – тех, кто отправлялся отсюда в долгое странствие, забыв, кем был, бросив все: имущество, титулы, имена, расставаясь с прежним образом жизни на месяцы или годы, а порой навсегда.
Южный путь паломников – via Arelatensis, или via Tolosana – начинался сразу же за воротами аббатства Монмажур. Исторически подтверждено, что первое групповое паломничество к святому Иакову в Компостелу, названное Pardon de Montmajour [41], началось 3 мая 1019 года, сразу же после освящения крипты в первой церкви аббатства архиепископом Арля Понсом де Мариньяном. Обычай этот и название Pardon de Montmajour сохранились по сей день: 3 мая от стен аббатства отправляются в путь те, кто хотят укреплять свою веру преодолением повседневных слабостей.
Однако сейчас под романскими аркадами монастыря уже не звучит торжественное пение. Никто не благословляет уходящих пилигримов. Сегодня можно только вообразить, как проходила подготовка к великому паломничеству. Многого мы не знаем. Например, не знаем, были ли среди паломников женщины. Наверняка отсутствовали осужденные епископскими судами – если только паломничество не вменялось им как условие покаяния и отпущения грехов. Прежде чем надеть специальное облачение, пилигримы должны были исповедаться за всю свою жизнь, причаститься и получить благословение. Ночь перед тем, как отправиться в путь, они проводили на галереях виридария – спали, подложив под голову странническую суму, либо просто лежали на сухих тростниковых или соломенных подстилках, молясь или погрузившись в размышления. Кто-то из тех, кому не удавалось заснуть, кончиком ножа выцарапывал на стене знаки: корабли, звезды, инициалы, иногда благочестивые инвокации, а то и непристойные рисунки. И все равно в дорогу отправлялись с неуверенностью и опаской: «…Пуститься по ней в путь – все равно что отплыть в море» [42]