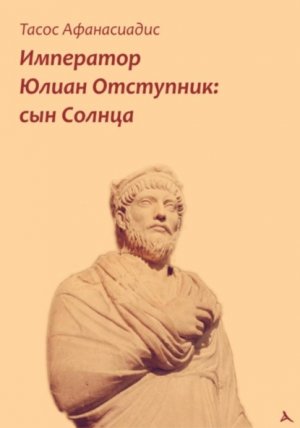
Часть первая
ЮНОСТЬ
331–355 гг.
«Его отец (Констанция) и мой отец были братьями, рожденными от одного отца. Потому-то этот человеколюбивый император так хорошо обошелся с нами, своими ближайшими родственниками! Шесть моих двоюродных братьев, которые были и его двоюродными братьями, моего отца, который был его дядей, и еще одного нашего дядю по отцу, а также моего старшего брата – всех их убил он без суда…».
Юлиан. «Воззвание к Совету и Народу Афинскому».
Глава первая
Вопросы, оставшиеся без ответа
Судьбе, прихоти которой делают историю более интересной, было угодно, чтобы два малолетних двоюродных брата императора Констанция, Галл и Юлиан, спаслись от резни 337 года, и династия Флавиев дала (в лице второго из них) еще одного императора Византии – причем самого своеобразного. Софист Либаний, который в восхищении своим учеником Юлианом зачастую сообщает неточные сведения, пишет, что Констанций подарил им жизнь, поскольку не посчитал опасными – Галлу, которому во время переворота было двенадцать лет, потому что он был тяжело, почти смертельно болен, и Юлиана, потому что он был еще младенцем, хотя в действительности ему было шесть лет. Христианский диакон Марк прятал обоих мальчиков, пока буря не минует. Мальчики были сыновьями убитого во время восстания Констанция Юлия Констанция, одного из трех родных братьев Константина Великого, по отцовской линии внуками Констанция Хлора, усмирителя Британии, и правнуками основателя династии Флавиев Клавдия Второго, победителя готов, «который был бережлив, скромен, исключительно честен и справедлив в управлении империей», согласно восхвалениям Евтропия.
Этой Юлий Констанций, бывший еще юношей, когда его родной брат взошел на престол, прожил жизнь, сменяя город за городом, преследуемый любовницей своего отца Еленой, которую христианская церковь провозгласила впоследствии «святой». Дочь содержателя постоялого двора, едва ее незаконный сын Хлор утвердился во дворце, незамедлительно явилась к нему, чтобы удовлетворить давнюю ненависть к сыновьям своей соперницы – императрицы Феодоры. По причине странствующего образа жизни своего отца Юлиан называл его Одиссеем. В конце концов, Юлий Констанций повстречал как-то своих братьев, Далмация и Ганнибалиана, в богатом университетском городе Тулузы Нарбоне где они вели уединенный образ жизни, как изгнанные родственники императора. Юлий Констанций, имевший определенные склонности к образованию, посещал там уроки прославленных философов и риторов.
В 324 году, когда исполнилось двадцать лет со времени восшествия на престол Константина Великого, император, всегда чтивший свою мать и доверенную советчицу, дарами и почестями, выпустил в честь ее серебряные монеты и возложил на ее главу венец августы. Тогда же он ощутил потребность установить тесные связи со своими братьями. Далмаций и Ганнибалиан получили высшие должности, однако Юлий Констанций предпочел приятное времяпровождение на вилле среди чарующей тосканской природы. Там он познакомился, а затем и женился на некоей благородной римлянке Галле, которая подарила ему сына Галла. Однако подогреваемая императрицей-матерью Еленой подозрительность императора по отношению к своим братьям не замедлила пробудиться снова. Так, Юлий Констанций был вынужден снова отправиться в странствия и оказался в Коринфе. Жители города встретили его гостеприимно. Пейзаж со склонами Парнаса и Киферона и водами залива восхищали его. Он решил, что обрел свою Итаку. Однако скитальческая натура этого неудовлетворенного bon viveur вскоре потребовала перемен. В Константинополе, где Юлий Констанций остановился после утраты жены, он женился во второй раз – на христианке Басилине, дочери вифинского архонта Юлия Юлиана, бывшего родственником всесильного во дворце Евсевия епископа Никомедийского, а затем Константинопольского. Юная Басилина, успевшая изучить благодаря своего отцу греческую литературу, родила в 331 году Флавия Клавдия Юлиана и умерла на следующий год. Будущий император отзывался всегда с уважением о своем деде со стороны матери, которому он был обязан чем-то особенно ценным в жизни – образованием. Вифинский архонт сумел отличить среди своих рабов некоего особо одаренного евнуха-скифа, дал ему образование, а тот учил впоследствии его дочь поэзии Гомера и Гесиода. Это был старый педагог Мардоний, «лучший страж благоразумия», как назвал его Либаний, посвятивший Юлиана в таинства эллинского духа и прививший ему чувство восхищения неповторимыми достижениями и жизненную мораль. Во многих своих произведениях Юлиан вспоминает о благом влиянии, которое оказал Мардоний на формирование его характера и его духовное развитие.
Оба брата, Галл и Юлиан, уже круглые сироты, лишенные отцовского имущества, которым завладел Констанций, составляли вместе разительное сочетание двух совершенно разных характеров. Кроме огромной физической силы (достоинство Флавиев) и белокурого цвета волос, между ними не было ничего общего. Голубоглазый Галл унаследовал от предков своего отца крутой и непокорный характер, тогда как Юлиан с черными живыми глазами казался изысканным плодом, словно появившимся на свет от прививки к стволу ветви другого дерева, будучи сыном вифинской аристократки и потомка иллирийского крестьянина Констанция Хлора.
Историк Зонара сообщает, что, когда Басилина была беременна Юлианом, ей приснилось, будто она родила Ахилла. На следующий день, когда она рассказывала мужу этот странный сон, и произошли безболезненные роды. Родители, естественно, возлагавшие на сына особые надежды не могли представить, что сон оказался пророческим: как и гомеровский герой, Юлиан прожил жизнь короткую и трагическую. Так и не узнав своей матери, Юлиан тем не менее с нежностью хранил память о ней, назвав Басилинополем город, основанный близ Ниссы. Незадолго до смерти он благодарил божественное провидение, которое преждевременно лишило его матери, чтобы той не пришлось видеть страданий и несчастий своего единственного сына…
Задумчивый мальчик, росший в те ужасные годы в легкомысленном христианском Константинополе в семье своей матери и под мягким присмотром арианского епископа Евсевия или же в пустынном дворце Никомедии, не мог представить, что роскошная столица, которую он открывал для себя во время очаровательных прогулок с педагогом Мардонием, скрывала в себе моральный распад. Полюбивший мальчика за искренность и любознательность старый скиф, догадываясь сколь мрачные, унаследованные от предков склонности таились в его душе, пытался (втайне от Евсевия, знаменитого мастера дворцовых интриг) обучить Юлиана придерживаться строгой добродетели, противопоставляя развращенным привычкам своего времени суровый идеал философствующего эллинского целомудрия. Впоследствии Юлиан расскажет в «Ненавистнике бороды» о своем воспитании Мардонием, воздерживаясь от какой бы то ни было оценки Евсевия.
Ненастными зимними ночами в пустынном дворце Никомедии Мардоний, как бы заменяя любящую мать, рассказывал у очага сказки. Этот замечательный воспитатель столь умело приводил в движение скрытый в каждом ребенке дивный механизм создавать благодаря воображению волшебные миры, что доверенный его попечению Юлиан зачастую восполнял то, чего сам оказался лишен, событиями из жизни героев своего любимого Гомера. Как впоследствии расскажет он с необычайной выразительностью в «Ненавистнике бороды», впечатления о знаменитых конных ристаний в столице, видеть которые сам Юлиан не мог, он получил, читая (по указке скифа) описания конных состязаний в гомеровских поэмах. А когда присутствующие говорили о пантомимах, Мардоний отсылал Юлиана к танцам юных феаков,… Из гомеровских поэм Юлиан взял себе в друзья кифареда Фемия и рапсода Демодока. Часто Юлиану казалось, что он сопровождает Одиссея и Навсикаю в чудесных рощах острова феаков. Калипсо, Кирка и Навсикая были влюблены в него, и он гостил у них в чудесных лесах, у ручьев с кристально чистой водой, у золотистых виноградников, где раздавалось пение неземных птиц. А лето он проводил снова в Халкедоне, на вилле своей бабушке по матери (женщины богатой и очень динамичной) с великолепным видом на острова Мраморного моря и Константинополь. Впоследствии, в одном из своих писем к своему любимому другу ритору Евагрию Юлиан сообщает, что дарит ему для отдыха эту виллу и с ностальгией пишет о летних месяцах своего детства – о том, как он наблюдал на берегу в утреннем свете за рыбаками, тащившими наполненные рыбой сети, за садовниками, ухаживавшими за деревьями, о том, как сам он занимался посадкой, как находился среди сборщиков винограда, распевавших песни в давильне (признаваясь, что не был другом вина), как поднимался на ближайшие возвышенности увидеть неповторимый закат солнца или как забывался по несколько часов кряду, восторженно глядя на усыпанный звездами небосвод…
* * * * *
Эта беззаботная жизнь у любимой бабушки Феодоры и дяди Юлиана, с ежедневными уроками Мардония окончилась внезапно в 342 году, когда умер занимавшийся интригами при дворе арианский епископ Евсевий. Император, всегда подозревавший, что окружение родственников в Никомедии может способствовать возникновению в душе младшего из двоюродных братьев злопамятности, которая впоследствии перерастет в ненависть непримиримого мстителя, решил отправить Юлиана и его воспитывавшегося при дворе брата Галла в Макелл – крепость в Каппадокии, чтобы они находились подальше от влияний столицы. Одиннадцатилетнему Юлиану, глубоко опечаленному расставанием с любимым учителем, оставалось только утешать себя мыслью, что рядом находится Галл.
Когда повозка с императорскими знаками двигалась по ущельям Тавра близ постоянно покрытых снегом вершин, у огромных меловых скал и по высокогорьям с девственными дубовыми лесами, Юлиан с ностальгией вспоминал ласковую природу у Пропонтиды, куда новости от родственников из Константинополя доходили очень быстро, и он вовсе не чувствовал себя изгнанником. Суровые исавры пасли коз и быков. С грохотом падали водопады. Сколько нежности было во взгляде бабушки, которая пристально смотрела на него, словно воссоздавая в его чертах лицо своей преждевременно умершей дочери Басилины… Добрый и рассудительный дядя Юлиан… При свете молнии непродолжительной грозы он увидел, как брат его Галл спит, похрапывая, в глубине повозки. Отчаяние охватило Юлиана. Духовным воспитанием Галла при дворе совсем пренебрегли. Галл вырос неотесанным мужланом. Полное одиночество! Юлиан принялся декламировать стихи «Илиады». Наконец, однажды под вечер они прибыли в огромное имение, окруженное высокими стенами. В полной тишине сияли гирлянды еловых ветвей, покрытых сверкающим белым снегом. Это была крепость-дворец Макелл. Посреди этого высокогорья возникало чувство, будто находишься вдали от жизни, на краю ойкумены, погребенный заживо.
Нетрудно догадаться, какими мыслями руководствовался император, отправляя их в это заточение, которое церковный историк Созомен назвал «местом отдохновения», потому что видел его глазами взрослого, тогда как в глазах Юлиана это был сущий ад. «Никому из посторонних не позволялось приблизиться к нам. Старым знакомым запрещали посещать нас. Мы жили, лишенные всякого образования, всякого свободного общения, росли среди толпы слуг, занимались телесными упражнениями вместе с рабами, словно это были наши друзья, поскольку общаться со сверстниками нам возбранялось…» – напишет он впоследствии в своем замечательном «Воззвании к Совету и Народу Афинскому», ставшем апологией его жизни в правление двоюродного брата. Даже Григорий Назианзин, вместо того, чтобы выступить против преступного Констанция, (который, помимо всего прочего, защищал его противников ариан, дойдя даже до того, что отправил в изгнание папу Либерия, председательствовавшего на Никейском соборе, и Афанасия Великого), желая опорочить вдохновителя языческой веры, утверждает, что Констанций из милосердия спас в 337 году двух своих двоюродных братьев от неминуемой смерти и, желая дать им подобающее императорам воспитание, чтобы впоследствии они помогали ему управлять империей, отправил их в Макелл! Правда, в своих энкомиях императрице Евсевии и Констанцию Юлиан часто выражает признательность двоюродному брату, признаваясь в следующем: «… С самого моего детства император выказал мне великую доброту. Он спас меня от опасностей, поскольку человеку в порыве юности трудно обрести спасение без некоего высшего божественного покровительства…». Однако не вызывает сомнения, что господствующий во всем этом тексте льстящий императору тон, вызванный страхом. Пока был жив Констанций, Юлиана постоянно пребывал в жутком страхе быть убитым. Впрочем, его собственных свидетельств в «Воззвании к Совету и Народу Афинскому» вполне достаточно для развенчания любого предыдущего энкомия. Великий защитник православия (наряду с различными верными свидетельствами о своем давнем соученике в Афинах) в своей ненависти к чуждой вере дошел до того, что повторяет даже небылицы, связанные с его пребыванием в безлюдном отдаленном от мира поместье. «Два брата, – пишет он, – с такой ревностью отдавались исполнению своего религиозного долга, что зачастую читали перед собравшимся народом священные тексты, чтобы вдохновляться пытками мучеников. Галл, несмотря на свою резкость, был более искренним, тогда как Юлиан скрывал за показным благочестием маловерие и склонность к греху. Однажды, соперничая друг с другом, братья решили построить две небольшие церкви в честь Святого Маманта. Тогда как труд Галла близился уже к завершению, стараниям Юлиана препятствовало колебание почвы – свидетельство того, что мученик не желал принимать ложного благочестия будущего отступника от Христа! Оба брата – продолжает Назианзин, – упражнялись также в риторике, принимая участие в философских диспутах. Однако Юлиан, якобы желая поупражняться «в доказательствах от противного», с особым жаром выступал на стороне многобожия! Совершенно в природе человеческой, что великим благочестивцам присуща злопамятность, как некоторым святым – грехи…
Нет ничего удивительного в том, что во время своего шестилетнего пребывания в Макелле Юлиан, несмотря на ежедневные наставления богословов и священников (при неизменном надзоре со стороны арианского епископа Каппадокийского, а затем Александрийского Георгия), оставался в глубине души чуждым их учению, тогда как подавляемая любовь к эллинской культуре становилась все сильнее. Среди суровой природы, создававшей свирепых воинов и угрюмых монахов, чувствительный юноша во время многочасовых обрядов (братья зачастую выступали в роли чтецов) в гнетущем полумраке с удушающим запахом ладана под зловещими многосвечниками, среди икон с суровыми ликами, нескончаемых псалмов с суровыми обещаниями посмертного бытия – конечно же, думал об изящных богах, покровительственно улыбавшихся за спиной у своих любимых героев, о светлых пейзажах, о гомеровских пирах, о добродушных ссорах на Олимпе, о ристаниях колесниц и о прекрасных телах атлетов в палестрах. А за всем этим пребывал незримо волшебник, открывавший ему жизнерадостный мир язычества, – Мардоний, место которого заняли угрюмые священники, слуги-доносчики и отвратительные рабы. Сердобольный отрок, очень рано углубившийся в свой внутренний мир, удивленно спрашивал себя, почему религия Христа, учившего любить даже врагов своих и считать убийство смертным грехом, вооружила руку его двоюродного брата на убийство его отца, и чем более свыкался с эллинскими мыслителями, чувствовал в себе «всяческое величие». Правда, дворцовое общество того времени было в большинстве своем арианским и догматические диспуты священников происходили по-варварски. Однако в юношеском возрасте Юлиан не мог еще разглядеть оттенков христианской метафизики. Впрочем, последующие «светочи» Каппадокии были его ровесниками и потому не могли посвятить его с помощью своей златоустой аргументации в то ранее неслыханное, что несла миру Нагорная проповедь, прежде чем отвращение к христианским нравам укоренилась навсегда в его душе. Впоследствии, встретившись с целой когортой боговдохновенных проповедников, неистово крушившей развалины многобожия, которые он пытался восстановить, Юлиан понял, сколько божественности таило в себе пламя христианства, способное заставить людей идти добровольно на смерть, тогда как язычество поддерживали только бездушные любители древности. Итак, «лжеблагочестие» («мое лицемерие», по его собственному признанию) было самозащитой. Тем не менее, иногда ему пришлось сражаться и за свою истину, подобно Дон Кихоту…
Во время прогулок с братом по обширному имению Юлиан не упускал случая поговорить о своем любимом учителе и о полученных от него духовных дарах или же комментировать противоречия между проповедью Евангелия и поведением христиан. Однако Галл, которого совершенно не трогали такого рода вопросы, только иронически усмехался и переводил разговор на соревнования и охоту. И тогда мудрый отрок снова замыкался в себе, будучи сам же постоянным своим слушателем – самым доверительным. А иногда он вдруг снова впадал в дивный экстаз и забывался, глядя на солнце, так что казалось, будто он становится единым с дневным светилом, либо смотрел ночью на звездное небо, чувствуя, что пребывает совсем далеко от людей…
Однажды в Макелл прибыл (во время одного из своих путешествий) священник, напоминавший своей внешностью эфиопа. Епископ Феофил Индиец, как называли его из-за смуглого цвета кожи, был широко известен в империи своей проповеднической деятельностью, во время которой посетил даже глубинные области Аравии и берега Красного моря. Пламенная проповедь христианского слова туземцам наряду с чудотворными лекарскими способностями (он даже воскресил некую иудейку) вызывали почтение к Феофилу и среди христиан, и среди язычников. Хотя Феофил был ревностным поборником Никейского символа, авторитет его среди арианского двора был огромен. Феофил потребовал от Констанция, который часто обращался к его советам, чтобы тот позволил ему высказывать свое мнение без каких-либо ограничений, и император согласился. Даже эгоцентрические характеры, которым нравится, чтобы другие взирали на них подобострастно, испытывают от возражения своего рода мазохистское наслаждение. Феофил неустанно напоминал императору о его прегрешениях, вызывая таким образом желание очиститься, которое зачастую толкало Констанция к совершению филантропических поступков. Между нежностью страстно любимой им императрицы и возражениями Феофила, ставшего вождем его совести, Констанций обретал – если, действительно, обретал, – некую внутреннюю уравновешенность. Поэтому вполне естественно, что визит Феофила в Макелл вызвал переполох среди священников и богословов. Епископ пожелал увидеть двоюродных братьев императора. Мальчики смотрели на него с испугом. Однако вскоре они осмелели: Феофил с нежностью опустил им на кудри свою ладонь и усмехался, слушая их вопросы. Феофил беседовал с епископом Георгием и наставниками юношей. Высказанное им мнение, что, поскольку Бог не даровал императору наследника, такового следовало выбрать среди его двоюродных братьев, произвело сильное впечатление. Естественно, что предпочтение было отдано старшему: Юлиан, как более склонный к учебе, мог продолжать свои занятия.
После отъезда епископа некоторое изменение в поведении окружающих, особенно по отношению к Галлу, заставило братьев призадуматься. Что за тайные распоряжения императора относительно их судеб привез в Макелл черный епископ? Не исключено, что непостоянный в решениях Констанций принял благоприятное для двоюродных братьев решение в какой-то то момент после посещения Феофила. Однако вскоре он снова вернулся к своей подозрительности. А братья – к своим обычным занятиям: Галл – к охоте за дичью и девушками из прислуги, Юлиан – к постоянному времяпровождению в библиотеке за чтением Платона, Аристотеля, Феофраста, Порфирия, Ямвлиха, поскольку, уехав в двухмесячный отпуск, епископ Георгий оставил ему ключ от книгохранилища. Некоторое время спустя Георгий стал епископом Александрийским вместо Афанасия Великого, изгнанного арианином Констанцием. Оттуда Георгий часто присылал Юлиану книги.
Внезапно среди однообразной жизни с военной дисциплиной, словно удар грома, раздалась весть, что император прибудет (из Анкиры, где он находился по пути в Гиераполь) и остановится в Макелле. Братья встревожились. Что могло означать это внезапное посещение их заточения, в особенности после визита Феофила? Предвещало ли оно добро или же новые испытания? Разве необходимо императору приезжать самому, чтобы возвестить об этом? Обо всем этом братья спрашивали друг друга вполголоса. И хотя Юлиан безропотно переносил лишения, неизменно испытывая страх быть убитым, в ту ночь он не мог уснуть, мучимый кошмарами. Однако в какое-то мгновение голос разума возобладал и успокоил его: поскольку Мардоний учил Юлиана рассматривать всякое ограничение как внутреннюю нравственную закалку, какое значение могли иметь для него внешние события? Так он одолел тревогу.
На следующий день Макелл проснулся на заре от звуков рогов и конского топота императорской свиты. Известный своим благочестием император перво-наперво отправился на службу в церковь. Поскольку все знали о его увлечении физическими упражнениями, были организованы состязания и охота. В соседнем заповеднике император убивал медведей, львов и пантер. Во время многочисленных пиров два брата должны были показывать силу своего тела и ума. Император выслушал доклад об их поведении, поговорил с педагогами и пожелал увидеть их лично. Галл был уже в восторге от этого крепкого русого мужчины с могучей борцовской шеей, пользовавшегося славой великолепного бегуна и стрелка из лука. Юлиан, конечно же, в растерянности проявил разного рода неумение. Однако даже самую удачливую жизнь за ослепительным внешним блеском может омрачать некая скрытая драма. Скорее всего, невероятно, чтобы Юлиан догадался об этой драме. Скорее всего, что этот спокойный человек с розоватой кожей и мелодичным голосом, умевший скрывать чувства за холодной фамильярностью, не понравился ему.
После отъезда Констанция Макелл снова вернулся к своей однообразной жизни. В течение некоторого времени братья, встревожено глядя в глаза учителям, пытались разгадать, какое решение об их судьбе принял их всемогущий двоюродный брат. Однако однообразные дни не замедлили снова возвести вокруг них мощные стены спокойствия, а повседневная жизнь уменьшить напряженность…
Глава вторая
В поисках Бога
Неизвестно, с каким впечатлением о своих двоюродных братьях уехал из Макелла Констанций. Должно быть, об открытом характере Галле он рассказывал императрице Евсевии с явной симпатией, тогда как Юлиан был скрытен, как и учил его Мардоний, и немногословен, и не вызвал интереса у императора.
И в какой-то момент частые восстания полководцев, которые, едва добившись популярности среди легионов благодаря своим подвигам, становились опасными для трона, заставили Констанция вспомнить о совете Феофила: чтобы получить верных помощников в деле управления империей, предпочтительнее обратиться за помощью к родственникам. Славившаяся добротой и благоразумием Евсевия, будучи постоянно опечалена отсутствием наследника, возможно, и указала мужу на Галла, следуя совету Феофила. Старшему из братьев было всего двадцать шесть лет. Судя по докладам осведомителей, у Констанция не было никаких оснований не доверять ему. И потому он решил вызвать обоих братьев в Константинополь.
В отличии от Галла, привыкшего к атмосфере двора еще до своего отъезда в Макелл, Юлиан чувствовал себя очень неуютно в этом мире соглядатаев и интриганов. Император, который не желал, чтобы он изучал науки, необходимые для занятия высших государственных должностей, или занимался атлетическими упражнения, закалявшими тело, весьма охотно предоставил двоюродному брату возможность заниматься философией. В то время Константинополь стал крупным центром духовной культуры с государственными школами, университетом, огромными библиотеками и мудрыми наставниками. Безразличный к соблазнам столицы (в которой звериные травли в цирках и конные ристания на ипподроме, пантомимы и выступления канатоходцев служили удовлетворению инстинктов толпы, напоминавших разнузданные нравы древнего Рима), Юлиан слушал лекции по риторике и грамматике, забываясь в огромной библиотеке с тысячами свитков, читая или наблюдая в тиши, как склонившиеся над пергаментом переписчики воспроизводят шедевры эллинского духа.
Констанций приставил к нему педагогом христианского софиста Гекеболия – мрачную личность, с огромным мастерством поворачивавшего от христианства к язычеству и наоборот, в зависимости от господствовавшей идеологии. Повинуясь указу императора, этот сребролюбивый учитель старался (наряду с придворными) ограничить непокорную одаренность своего ученика, используя догматы христианской метафизики в том виде, как их выражали новые богословы. Учение же софистики Юлиан считал несоответствующим своему серьезному характеру, поскольку Гекеболий имел обыкновение использовать примеры с мелодраматическим концом вместо того, чтобы обращаться к современным событиям. Однако его учеба у лаконичного Никокла была весьма результативна. Этот мудрец, которого его знаменитый собрат Либаний, несмотря на их профессиональное соперничество прозвал «жрецом Справедливости», преподавал Юлиану критику текста, этимологию, грамматику и лексикографию, метрику, просодию, историю, географию и мифологию, а также искусство стихосложения, которым он не пренебрегал, будучи императором. Насколько богаче была эта духовная пища по сравнению с той, которую давали ему соглядатаи в Макелле! Поэтому впоследствии в «Воззвании к Совету и Народу Афинскому» Юлиан сетовал, что его оставили без образования.
Однако от наслаждения высокой словесностью и изучения риторики Юлиан время от времени испытывал пресыщение. Теперь его снедало желание причаститься к верованиям, которые дали бы ему объяснение мира несколько отличное от лицемерной нравственности официального христианства с его посмертными воздаяниями в раю или в аду, к верованиям, которые соответствовали бы его тайным чаяниям. Он жаждал, чтобы перед ним открылись более широкие горизонты, жаждал постичь во всем драматическом величии эту переходную эпоху религиозного синкретизма*, удерживавшего в равновесии многонациональное общество империи в ее попытках достичь психологической реорганизации и соответствия духу времени, свергнув с престолов старых идолов, не утверждая однако при этом веры возведением на престол новых идолов. В головокружительной смене божеств на пьедесталы, где возвышались некогда понятные и простоватые боги греков и римлян, эта эпоха возвела кумиры Анатолии, звереголовые божества египтян и ассирийцев, кошмарные фригийские образы, иранских духов, желая в своем маловерии распознать таинство жизни, в то время как христианство мобилизовало своих самых мощных апологетов, желая убедить эту эпоху, что жертвенник «неизвестному богу» был предназначен для его Бога. В определенный период солнцепоклонничество перса Зороастра, оказавшее влияние на евреев, познакомившихся с ним в изгнании, завладело бы ойкуменой, если бы христианство не успело занять его место, позаимствовав у него некоторые элементы своей метафизики. Опять-таки манихейской ереси удалось стать официальной религией Римской империи в годы ее борьбы со смертью. Очарованный познанным на Востоке богом света и приняв посвящение в его религию, Адриан воздвиг ему в Риме огромную статую на месте, где некогда возвышалась статуя Нерона близ Колизея, которая должна была символизировать его происхождение – Aelius Adrianus. Константин Великий чеканил монеты с изображением Гелиоса и ввел у себя при дворе великолепие персидского церемониала. Кроме того, он, подобно Александру Македонскому, заимствовал персидский покрой официальных одеяний после завоевания царства Сасанидов – любил носить «персидскую китару», «белоснежный хитон» и «персидский пояс». Даже само «движение иконоборчества», столь сильно распалявшее противоборствующие партии в VIII-IX веках, – кроме религиозных и политических стимулов, – было, как утверждают серьезные историки возрождением «безыконного» духа Востока, было заложено в аффектном фоне империи…
При этом два основных соперника – христианство и многобожие – фанатично продолжали свой поединок, заимствуя появившиеся за столетие до этого столкновения аргументы друг против друга у Оригена (христиане) и Кельса (язычники). В одном лагере находились языческие софисты и философы Гимерий, Фемистий, Хрисанфий, Либаний, Евсевий, Максим, Эдесий, Приск и их ученики, обвинявшие христианскую религию в унижении человека созданным ею жалким космоидолом и искали выхода от душевной усталости в мистицизме. В другом лагере пребывали проповедники христианской морали – Афанасий Великий, Проэресий, затем Августин, каппадокийцы Григорий Назианзин, Василий Великий, Григорий Нисский, великий Хризостом, Иероним, приписывавшие убожество своего времени язычеству и жизни земной, ждали избавления от прихода «Града Божьего» или же уходили отшельниками в Фиваидскую пустыню и в Азию. Однако, презирая действительность, т.е. саму жизнь с ее неотъемлемыми правами, и язычники и христиане способствовали появлению серьезных расколов в своих рядах. А потому взаимные отступничества были одними из наиболее частых недугов…
Безопасность дорог, облегчавшая путешествия, предоставила языческим философам и софистам возможность основывать свои школы в крупных провинциальных центрах. В Афинах, Смирне, Эфесе, Пергаме, Прусе, Антиохи, Никомедии, Александрии, Газе, Берите и других местах выдающиеся учителя эллинства давали уроки в чисто предпринимательском духе – с агентами, облегчавшими групповые передвижения учеников, и «зазывалами» для их рекламы. Так возникло следующее явление: если в середине IV века драматическое соперничество двух религий склонялось в пользу христианства, внешне эллинский дух переживал второй период расцвета в своем вековом развитии (третий последовал в XIV веке, а четвертый – в XIX, утверждая тем самым его неистребимую жизнеспособность). Многочисленная молодежь, жаждущая знаний, собиралась вокруг светочей эллинского классицизма (независимо от своей склонности к христианству или многобожию), стремясь излечиться его свежей родниковой водой от сухости латинского образования. Эллинскому духу было суждено вскормить своих врагов! У Либания из Антиохи, который не соблаговолил выучить латинский язык, поскольку не мог научиться ничему оригинальному у лишенной свежести мысли Рима, была два ученика – каппадокийцы великий Хризостом и Феодор Мопсуэстийский, а также другие видные клирики. Григорий и Василий учились в идолопоклоннических Афинах. Популяризатор Плотина Ямвлих из Апамеи на Оронте, согласно язычникам и христианам, был продолжателем Пифагора и Платона. В котомке и рясе Отцов Церкви киники того времени усматривали продолжение символа униженной жизни своего учителя Диогена. На развалинах древних храмов и из их остатков сооружали христианские базилики. Древнегреческая метрика звучала в гимнах православной литургии. На одном саркофаге IV века из Малой Азии, находящемся в Берлинском Музее, мы видим рельеф Христа в образе античного оратора! Церковь рукополагала на епископские кафедры преподавателей эллинского языка, не занимаясь скрупулезно выяснением вопроса об их вере. Языческие софисты воспитывали не только интеллигенцию, но также судей и высших чиновников. Причем иногда, в трудные часы они даже осмеливались напоминать императорам о необходимости исполнять свои обязанности. Константин Великий провозгласил при открытии церкви речь, которую составил для него языческий ритор Берхамий! Наконец, характерно, что в лагере язычников «партию либералов» представляли риторы, довольно вяло отстаивавшие своих богов, а в лагере христиан – епископы, получившие эллинское образование, тогда как «партию консерваторов» представляли в лагере язычников философы, устремленные в славное прошлое, а в лагере христиан – низший клир и фанатичные монахи…
Юлиан не испытывал ни малейшего колебания в религиозной ориентации. Посвящение в эллинскую культуру, совершенное в его детстве Мардонием, с одной стороны, и угнетение, которому подвергали его дух арианские наставники, наряду с памятью об убийстве его родных христианином Констанцием, с другой, довольно рано привили ему любовь к многобожию. Так, со всем пылом юности отдался он этому странному сочетанию неоплатонизма и пифагореизма, приправленному сильным восточным мистицизмом, обладавшим очарованием запретного…
Внезапно юный Юлиан начал становиться популярным в столице. Своей скромностью (он появлялся на улицах как обычный гражданин) и прилежанием в учебе он вызывал к себе уважение и любовь. Нередко его прославляли. Следовавшие за ним соглядатаи не замедлили вызвать гнусную подозрительность у императора. Всегда чувствительный к такого рода наветам, Констанций приписал культивирование этой популярности тактике Юлиана: эту популярность юноша когда-нибудь направит против него! О, Константинополь был опасным кормильцем мести в душе этого тихони. Нужно, как можно скорее, удалить Юлиана из столицы, где тайные враги подогревают его честолюбие. Юлиан получил распоряжение удалиться в Никомедию. Трудно представить себе действие более необдуманное. Император, который уже много лет готовился преподнести своему младшему двоюродному брату хлеб и вино Христовы, сам же отправил его в логово идолопоклонников!
Однако до отъезда из Константинополя Юлиан приобрел там бесценного друга – императрицу Евсевию. Увидав Евсевию, он был ослеплен ее царственной красотой. Тщетно, распорядитель церемоний напоминал ему ритмичными ударами жезла о пол, что нужно поклониться и поцеловать край ее порфиры. Юлиан не отрывал восторженного взгляда от императрицы. Конечно же, августа спросила юношу о его духовных запросах. Тогда он с трудом смог заговорить о своих кумирах – о Гомере, об эллинских философах и риторах. Эта юная македонянка (вторая жена Констанция), дочь консула, стала его ангелом-хранителем. Подобно тому, как Мардоний стал его духовным кормильцем, Евсевия помогла ему своими неустанными заботами об учебе и жизни Юлиана. Возникло ли между ними чувство? Никто не оставил на этот счет убедительного свидетельства. Большинство исследователей жизни Юлиана исключают это, основываясь на добродетели их обоих. Конечно же, они встречались всего несколько раз, да и то в официальной обстановке. Возможно, что бездетная августа испытывала определенную нежность к юноше-сироте, а тот был несколько более смел с ней только в мечтах. Тайну такой любви уносят с собой, уходя из жизни… Джулиано Негри и Анатоль Франс считали, что они были влюблены друг в друга. Впрочем, можно утверждать с уверенностью (исходя из сочинений самого Юлиана и его темперамента), только, что Юлиан употребляет слово «любимая» только по отношению к двум городам – Афинам и Лютеции*. Жестокосердный Констанций был страстно влюблен в Евсевию. И, действительно, ее красота и ум соответствовали ее добродетели и духовности. Вместо того, чтобы направить эту страсть на удовлетворение женских прихотей, августа направляла ее на дела добродетельные и великодушные. В затаенной печали, вызванной отсутствием ребенка, убежищем для нее стал епископ Феофил Индиец. Смуглый старец обратил на нее свой пронзительный взгляд, чтобы сжечь тем самым все ее скорби. Феофил стал для нее тем, чем Распутин для русской царицы (естественно, без распутства последнего). В своем энкомии императрице Юлиан сравнивает ее по мудрости с Афиной, а по добродетели – с Пенелопой. Впрочем, удаление его из столицы произошло в соответствующий час. Для этого задумчивого юноши, жизненные обстоятельства для которого обретали ценность только тогда, когда имели отношение к сфере духовной, шумный Константинополь становился уже удручающим из-за своего формального образования и полицейского порядка.
Юлиан прибыл в Никомедию «с радостью нетленности в очах», как выразился Кавафис, создавая портрет одного из богов, бывшего его ровесником. Ему было около двадцати. Из отрывочных описаний его внешности, которые оставили Аммиан Марцеллин в своей «Истории» и Либаний в «Похоронной речи» (а также по карикатуре, составленной впоследствии его соучеником по Афинах Григорием Назианзином в порыве неукротимой ненависти) можно более-менее верно воссоздать его внешний вид. Русый и кудрявый, как все Флавии, с широкими плечами, придававшими ощущение силы его среднего роста, но внушительной фигуре, с черными живыми глазами, которым была присуща особая привлекательность. Неизменно опущенный застенчивый взгляд светился избытком молодости, полной лирического тепла. Правильный нос, тонкие брови, треугольная бородка придавали ему благородное выражение. Нервозность была присуща всей его внешности. Несмотря на запрет императора посещать уроки языческого софиста Либания (несомненно, после доклада Гекеболия), вскоре после этого Юлиан, как представляется, вбирал в себя в Никомедии благоухание изысканного язычества. О, здесь он обрел своего бога…
С начала христианской эпохи города Малой Азии (где шестьсот лет до того философы, обобщая свои наблюдения над природой, пытались ответить на вопрос: «Что есть вселенная?») были погружены во мрак суеверий и тайно отправляли культы самой примитивной формы. Здесь же нашел благодатную почву для своей деятельности знаменитый чудотворец Аполлоний Тианский. Несколько позднее Протей Перегрин и Александр из Абон Тейхоса увлекали здесь наивных людей своими лжепророчествами. Вполне закономерно, что в следующие века на столь плодородной почве должна была достигнуть расцвета софистика. Естественно, что софистика эта не имела никакой связи со своей славной предшественницей V-IV веков до н.э. Первая составила особый кодекс глубочайших наблюдений над человеческой личностью, формировавшейся в демократическом обществе. Развивали ее гениальные личности – учители жизни, ювелиры речи, носители культуры, которые, соблазняя юношей очарованием своих силлогизмов, соперничали в их душах с философией. Несомненно, правы были в своей ненависти к ним тоталитарные режимы Спарты и Тридцати тиранов в Афинах. С другой стороны, софистика, развившаяся в годы империи под покровительством Pax Romana, представляла собой выгодное ремесло. Тем не менее, в какой-то момент, опираясь на славное прошлое и на классическую литературу, вторая софистика питала надежды на возрождение первой. Однако вскоре она опустилась до предпринимательства, виной чему были торговцы словесным очарованием с тенденцией к шарлатанству, уже при самом своем появлении ставшие предметом нападок сатирика Лукиана. В начале IV века главный представитель риторики и софистики Либаний Антиохийский (глава, как сказали бы сегодня, «эллинской партии»), предпочетший Константинополю спокойствие Никомедии, поскольку противники чернили его при дворе, пребывал в зените славы. Восторженные юноши слушали его уроки, «заставлявшие их забыть риторов Нового Рима». Даже армянский софист Проэресий, приводивший аудиторию в восторг своими импровизациями, признавал за Либанием первенство в силе слова. Либаний родился в богатой семье в Антиохии, однако отличался слабым здоровьем. К частым головным болям (от нервного потрясения, вызванного ударом молнии, которая убила рядом с ним одного из его соучеников), к которым в тридцать лет добавились периодические воспаления артрита. Поэтому Либаний был раздражителен и саркастичен. В Афинах, где прошли годы его учения, талант его повергал в изумление. Ранняя популярность вызвала у него самолюбование. Он не соизволил выучить латинский язык, поскольку презирал культурную традицию Рима. И когда однажды императоры Констанций, Валерий и Феодосий Первый написали ему по-латыни, обращаясь за советом, он ответил им на своем богатом греческом. Из своего учения Либаний изъял мелодраматизм со сладостной приподнятостью, характерный из его современников для Гимерия. Превознося широту его кругозора, Евнапий сравнивал Либания с «госпожой, за которой следует целая толпа служанок, когда, омолодившись, выходит она из купели», имея в виду его филологический талант заново открывать омертвевшие в течение веков слова, освежать их и делать снова актуальными. С характерным для него высокомерием он почитал только (за духовную чистоту) ритора II века Элия Аристида, бюст которого украшал его рабочую комнату. Тем не менее, некоторые из современников (и язычники и христиане) считали несколько анахроничным его рафинированный аттицизм.
Драма двойной жизни Юлиана продолжалась: днем он на виду у всех изучал христианские писания и с притворным благочестием присутствовал на богослужениях, ночью – тайно изучал «меморандумы» Либания, которые приносили ему друзья. Вскоре Юлиан стал одним из самых прилежных учеников великого софиста. Весьма вероятно, что они тайно встречались друг с другом. Впоследствии Либаний признается с вполне оправданной гордостью, что, несмотря на отсутствие на его занятиях, Юлиан обладал душевной готовностью подражать его стилю с большей точностью, чем регулярные ученики. Так, изящную краткость посланий Юлиана, Либаний приписывал своему влиянию. Несомненно, зачастую язвительный тон, настрой исповеди, частые воззвания к богам, тенденция к назиданиям, мелодичность и вместе с тем некоторая монотонность, привычка цитировать или ссылаться на классиков (только в одной из его речей содержится более двадцати цитат из «Илиады»!) указывают на влияния Либания – одного из, как сказали бы мы сегодня, «кафаревусианистов»…
Вполне естественно, что соученики Юлиана, увлеченные его страстью к эллинству, однажды представили его общине язычников, отправлявших тайно свои религиозные обряды. Несмотря на опасность лишиться всего после очередного доноса императору (при его постоянном страхе это означало «лишиться головы»), Юлиан не замедлил вступить в контакт с общиной. Тогда-то и началась его жизнь в кругу непрерывной духовной и религиозной приподнятости – он стал видеть сны, видеть божества, верить, что умершие посылают ему вести. Он шел по следу своего бога! Однако о его посвящении в древнюю религию, несмотря на строжайшую тайну, стали шептаться язычники, жившие в постоянном страхе перед доносами. Узнав об этом событии, Либаний восторженно воскликнул: «Все благомысленные должны молиться, чтобы этот юноша стал правителем государства и положил предел уничтожению ойкумены (со стороны христианства), чтобы даже над больными в своих рассуждениях (христианам) был поставлен имеющий врачевать такого рода болезни (как заболевание христианством!)». Естественно, что Либаний выражается намеками из страха перед соглядатаями. Преследуемая любовь Юлиана к многобожию сразу же ожесточилась в его душе. Она стала его избавляющей религией. Тем не менее драма его усугублялась все более. С одной стороны он возносился в среде язычества, с другой – продолжал изображать веру в то, что ненавидел – в подобострастное христианство палача своей семьи Констанция. Чувство мести часто закипало в его душе – мести насилию, омрачившему его юные годы. В ее перепадах он с болью осознавал трагичность своего существования: жить до возмужания под пятой своего коварного двоюродного брата, не имея надежды освободиться от нее. Тем не менее, бывали минуты, когда он снова исполнялся отваги, видя в некоем экстазе, как «царь Солнце» сияет в голубом небе Никомедии, или устремлял – на несколько часов – взор свой к Гекате, очарованный таинством ночи. Нет! Когда-нибудь этот бог-благодетель непременно освободит его от уз – уз христианства – чтобы помочь осуществить свою цель…
Неожиданно в тихую Никомедию пришло сообщение, что император намеревается сделать Галла цезарем. Надежда воспрянула в душе Юлиана. Стало быть, угрызения совести, тяготившие братоубийцу Констанция, с течением времени привели к самым щедрым решениям относительно его двоюродных братьев? Постоянно окруженный сыщиками, Юлиан по чистоте душевной приписал внезапную перемену в Констанции его нравственному усовершенствованию, тогда как тот поступил так исключительно в силу необходимости, обратившись за помощью к старшему из двоюродных братьев, поскольку правление его переживало критический период. В Галлии, где находился император, вспыхнуло восстание легионов. Полководцы, видя, что император забавляется охотой и развлечениями со своими ничтожными фаворитами, были раздражены пренебрежением с его стороны к делам армии. Реакцией на это явился заговор, организованный интендантом Марцеллином. 18 января 350 года интендант под предлогом празднования для рождения сына устроил командованию армии большой пир в Отене. В полночь, когда пир был в разгаре, один из гостей, весьма представительной внешности, язычник Герман, начальник охраны Констанция, вышел на какое-то время из зала, а затем вернулся облаченный в императорскую порфиру и увенчанный диадемой. Приветствия и славословия сотрапезников самопровозглашенному императору показали, насколько шатким был престол нового государства: в армии язычество было все еще очень сильно. Вскоре Магненций стал повелителем западной половины империи. Однако во время продвижения в восточную часть непредвиденное препятствие остановило его порыв в Иллирии. Констанция, первородная сестра императора Констанция, удостоенная отцом титула августы, после убийства ее мужа, царя Армении Ганнибалиана Первого во время восстания 337 года, жила в Паннонии. Коварная дочь Константина Великого, решившая отказаться от своего уединения с целью предотвратить соединение дунайской армии с легионами Магненция, сумела (благодаря своему блеску и вероломству) разжечь тщеславие старого полководца Бетраниона. Этот безграмотный крестьянин, провозглашенный солдатами цезарем, желая заполучить престол (он даже начал учиться грамоте) оставил Магненция на произвол судьбы. Так, с помощью, предоставленной галлами и алеманнами, Констанцию удалось справиться с восстанием. Простоватый Бетранион, по просьбе Констанции вымолив на коленях прощение у Констанция, удалился в изгнание в Прусу Вифинскую. Приблизительно в то же время племянник Константина Великого Непотиан провозгласил себя в Риме императором, однако правление его продлилось всего двадцать восемь дней. Констанций, звезда которого посылала ему решительные победы, устроил так, что Непотиана убили.
Понятно, что все эти восстания заставили Констанция задуматься о том, что власть его будет весьма непрочной, пока у престола находятся честолюбивые полководцы. Чтобы расправиться с Магненцием, ему нужен был кто-то, кому можно было бы доверять. Тогда он вспомнил о Галле. Во время душещипательной встречи с Галлом Констанций признался в глубоком раскаянии и угрызениях совести из-за гибели его отца, Юлия Констанция, во время рокового восстания 337 года, когда ему, тем не менее, удалось спасти и его самого и его брата. Пришло время старой семейной вражде смениться братской помощью. Почему он должен раздавать высокие должности чужакам, подрывающим силу их династии? Несомненно, эта встреча завершилась пламенными объятиями со слезами на глазах. 15 марта 351 года Галл облачился в императорскую порфиру и был провозглашен цезарем – правителем Востока. Чтобы подтвердить свое доверие, император отдал ему в жены свою сестру Констанцию, исполнив тем самым перед ней старый семейный долг. Во время церемонии брака, который благословил епископ Феофил, новобрачные дали императору клятву в верности и покорности. Удостоившись второго звания в империи, Галл отправился вместе с супругой в Антиохию. Сопровождала его целая свита военных и высших сановников, созданная для слежки за ним. Неизменно подозрительный Констанций, по-видимому, решил, что, если Галл окажется клятвопреступником, ему представится возможность отрубить еще одну голову Лернейской гидры рода Флавиев – его собственного рода. Проезжая через Вифинию, Галл попрощался с Юлианом, который в течение нескольких дней находился в имении своей бабушки. Были ли это объятия их последними объятиями? В весенних сумерках неподвижно стоящий Юлиан задумчиво смотрел, как императорская повозка с его братом и Констанцией исчезает на фиолетовом горизонте Пропонтиды. О, эти высокие звания, привлекающие к себе молнии богов и ненависть людей… Как он их боялся…
Глава третья
Посвящение
Высокое положение Галла безусловно должно было оказать влияние и на судьбу Юлиана. Констанций возвратил ему наследство бабушки. Осмелев, Юлиан попросил у двоюродного брата большей свободы для завершения образования. Император не стал возражать. В конце концов было предпочтительнее, чтобы этот угрюмец проводил все время за книгами и пребывал в бездействии, не думая об уничтоженной семье и положении своих предков. Юлиан, который, благодаря состоятельности и вновь обретенному блеску, уже в большей степени распоряжался собственной жизнью, решил отправиться в путешествие по Малой Азии, где неоплатоновское учение переживало расцвет. Он жаждал пройти посвящение в теургию прославленного Ямвлиха, чтобы узреть его свет…
В то время плеяда учеников сирийца Ямвлиха («божественного», как называл его Юлиан, помещая рядом с Пифагором и Платоном), популяризатора неоплатонизма, умершего двадцать лет назад, – Эдесий, Хрисанфий, Евсевий, Гимерий, Приск, Фемистий, Максим – собирали на своих лекциях юношей, жаждавших знания, – язычников и христиан. Эти последователи Плотина, развивая учение Ямвлиха, «совершившего извращение платоновских и аристотелевских сочинений, чтобы обосновать на них свой восточно-эллинистический религиозный синкретизм, дойдя до того, что называл это Наукой», как замечают в своей «Истории философии» Целер и Нестле, излагали систему идей, в которой древняя традиция эллинства сочеталась с нравственными ценностями, становившимися актуальными благодаря христианству, – ценностями, по мере распространения христианства занимавшими господствующее положение. Несмотря на то, что каждый из упомянутых ученых создавал своими «тезисами» особое отклонение («ересь») от основных положений Ямвлиха, который, впервые был вынужден привить к аристократической системе Плотина мистические элементы, чтобы противостоять христианству, тем не менее эта популяризированная смесь из различных учений, в которой «Разум» Аристотеля уживался с «Идеей» Платона, а последняя – с «Атомом» Демокрита, затем – с «Числом» Пифагора, с «Единым всеобщим» Гераклита и, наконец, это великое «Единое» – с «Ничем» киника Диогена (исключена была только школа стоиков), эта популяризированная смесь обладала сильным очарованием. В особенности этика с ее трехстепенной ценностной градацией добродетелей («политических», «очистительных» и «гностических») очень сильно напоминала посвящение пифагорейцев. Весьма естественно, что неоплатонизм, желавший объединить с безличным божеством Плотина «Единое» (от которого произошел «разум», от него – «душа», а от нее, словно тень, – «материя») платоновскую антиномию «бог – космос», вынужденный соперничать с очаровывавшим массы христианством, присваивать (и творчески ассимилировать) его элементы, чтобы привлечь их на свою сторону, подобно тому, как (конечно, уже на совсем ином уровне) буржуазное общество заимствует «программы» социалистического. Многобожие в высшем стремлении своем преодолеть вред, нанесенный ему христианством, усваивало элементы всех верований прошлого, вызывая из-за встречающихся противоречий насмешки у апологетов христианства. Таким образом, наблюдается следующее явление: обе противоборствующие стороны согласны друг с другом не только в обвинении своей эпохи (бренность земной жизни, несовершенство человеческой природы, трудность приближения к богу), но и в средствах спасения (молитва, духовное созерцание, божья милость). Тем не менее, швейцарский исследователь духовных течений эпохи Юлиана Навилл делает следующее тонкое замечание: христиане верили, что избавление человека является делом Спасителя Христа, который вочеловечился для этого, тогда как неоплатоники полагали, что человек, наделенный божественной душой, способен сам добиться милости, спасения и бессмертия после долгой духовной аскезы…
В Пергаме, куда отправился Юлиан, преподавали неоплатоники Приск, Евсевий, Хрисанфий – словно яркие кольца ореола, окружавшие великое светило, Эдесия. Уже старый и очень больной, Эдесий, живя (как и все языческие философы) под наблюдением полиции, испугался, увидав среди своих учеников юношу из императорской семьи, поскольку наблюдение за ним становилось таким образом еще более строгим. Юлиан, сразу же оценивший своего нового учителя, желая выразить свою благодарность, стал делать ему роскошные подарки. Однако Эдесий не принимал их. В конце концов, поскольку Максим находился в Эфесе, а Приск путешествовал по Греции, Эдесий посоветовал Юлиану послушать лекции Евсевия или Хрисанфия, бывших его духовными сыновьями. Этот философ занимал весьма осуждающую позицию по отношению к мистическим нововведениям в своей школе, полагая, что только духовное освобождение, достигаемое благодаря философскому мышлению, может принести человеку избавление. Всякая теургия была для него шарлатанством. Юлиан почувствовал, что идеал его ранен.
На студенческих заседаниях этого небольшого университетского городка, куда его приглашали, полемика между различными учениками, отстаивавшими «тезисы» своих учителей, проходила весьма оживленно. Как-то в разгар пира один из учеников Хрисанфия, разойдясь, вдруг вызывающе протянул чашу в направлении учеников Евсевия, произнося импровизированное обвинение «блуднице материи». Ученики Евсевия, подражая жгучей иронии своего учителя, отвечали язвительными насмешками ученикам Хрисанфия, преподносившим платоновские идеи «под восточным соусом». В таверне стоял уже невообразимый шум от топота и хохота, когда один из пылких учеников Эдесия вскочил на сидение и, комически воздев ввысь руки, принялся молить дух Плотина удержать от падения извратителей его учения. Ученики Приска с тех пор, как учитель отправился в Афины, избегали возражать. Сдерживаясь среди этого шума и гама, христианские ревнители эллинской мудрости улыбками выказывали свое презрение к унижению неоплатонизма, который их великий Ориген считал родственным христианству, дойдя до того, что усматривал христианина во всяком эллине, видевшем логос во Христе. Возвращаясь поздно домой, Юлиан меланхолически думал о том, сколь неисчерпаемы сокровища христианства, которые просто не в силах разграбить полностью его противники. Он даже представить себе не мог, что через десять лет (уже будучи императором) он сам позаимствует многие элементы у христианства при восстановлении языческих культов…
В один из сияющих солнечных дней Юлиан поднялся на акрополь столицы Аттала Первого и Эвмена Второго, которая шесть веков назад была сердцем могущественного царства. Задумчиво стоял он среди дорийских колонн храма Траяна и святилища Афины, в алтаре Зевса. Затем он пошел на агору, где торговали знаменитым пергаментом, к городским фонтанам, в гимнасий, в Асклепийон, в Одеон, в Термы. Протекавший далеко на равнине вечно юный среброструйный Каик еще более подчеркивал бренность человеческого величия. Птицы весело порхали по его тенистым берегам, ящерицы грелись на солнце в щелях мрамора. Может быть, он говорил наедине с собой об эфемерности мирской славы, о тщетности стараний человека примириться с богом, о мачехе-истории… Какое несчастье родиться в эпоху, когда вихрь христианства увлек уже славное прошлое в забвение и пренебрежение! На глазах у него выступили слезы. Всякий раз, когда Юлиан узнавал о разрушении древнего храма и о постройке из его остатков церкви, на глазах у него выступали слезы. Вдруг до слуха его донеслись слова Христа из Нагорной Проповеди: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешениях их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших…». О, Зевс, сколь жалок обмен между верующими и их богом. И Юлиан, словно обезумев, бросился бежать среди развалин…
Недовольный учением у Евсевия, он как-то посетил Хрисанфия, чтобы тот дал ему некоторые разъяснения по поводу столь еретических идей своего духовного собрата. Однако тот, по природе своей осторожный, ответил, что единственно компетентным в этом вопросе был сам его собрат. Наконец, как-то Юлиан дерзнул спросить учителя об обосновании его полемики с неоплатоновским мистицизмом. Тогда Евсевий рассказал ему следующий случай. Однажды, когда он сопровождал Максима в святилище Гекаты, тот, совершив воскурения и прошептав молитву, сотворил чудо: статуя богини внезапно ожила и улыбнулась ему, а факел ее засиял… Какой смысл содержал уклончивый ответ Евсевия? Юлиан не мог понять этого. Несомненно, софист насмехался над чудотворством. Он резко поднялся с места и сказал: «Сиди и впредь над своими книгами. Ты указал мне того, кого искал я столько лет!…». Он простился с Хрисанфием и уехал в Эфес.
В те годы Эфес переживал свой великий расцвет. В порту его стояли десятки кораблей, привозивших товары и людей со всех концов света. Построенный полководцем Александра Македонского Лисимахом в центре огромного полукруга, образованного окрестными горами, город казался золотой чашей дня фруктов. По зеленым склонам гор богатые эфесяне, славившиеся своим коммерческим дарованием, построили роскошные виллы, окруженные цветниками роз. Сохранившаяся до сих пор Лисимахова стена, дерзко взбирающаяся от вершины к вершине, представляла собой неповторимое зрелище для тех, кто смотрел на город с моря. Огромный театр эллинистической эпохи, рассчитанный на двадцать пять тысяч зрителей, напоминал просторную чашу. По городской агоре, где торговали знаменитыми ювелирными изделиями из золота и серебра, прогуливались, беседуя о делах, граждане всех национальностей. Храм Артемиды (одно из семи чудес света, сожженный в ночь рождения Александра Македонского, а затем восстановленный) в полтора раза превышал размерами Кельнский собор. Крышу храма поддерживали 127 ионийских колонн, в основании которых находились искусно изваянные рельефы. Святилище украшали статуи Фидия, Поликлета, Скопаса и Праксителя, статуя Александра работы Лисиппа. Великие художники Парасий, Апеллес, Зевксис создали здесь замечательные росписи. Пестрые толпы паломников со всех концов земли двигались с песнями и танцами из города в храм, путь к которому занимал полчаса. Целое полчище жриц вместе со жрецами-евнухами охраняло статую богиню. Верховный жрец, так называемый мегабиз, был распорядителем храма, а храмовые служители – музыканты, жезлоносцы, волшебники, блудницы – предавались вакхическим оргиям и пляскам, с воплями и восторженными восклицаниями, напоминавшими одержимость мусульманских дервишей. Огромная статуя богини, вырезанная из почерневшего ствола винограда, согласно преданию, упала с неба, как и черный камень Матери Богов Кибелы в Пессинунте. Во время празднества богини, происходившего раз в четыре года (знаменитые «Эфесии», на которые собирались паломники со всех концов языческого мира), появлялась ее грубо высеченная статуя с магическими заклинаниями, начертанными в нижней части, несметным множеством грудей, с диадемой в виде крепостной стены на голове, с мощными руками, опирающимися о палицы: среди множества посвятительных даров возвышался образ древнейшей богини природы. Этот образ напоминал не эллинскую деву-охотницу, но сладострастное финикийское божество. Благодаря слепой вере, внушаемой богиней, храм ее использовали в качестве банка. Позади статуи, под ее покровительством богини хранилась сокровищница провинции. Жрецы вверяли ей казну и свои сбережения…
Естественно, что Юлиан, испытывавший сильную ностальгию по эллинскому миру и восстанавливавший в воображении древние развалины, испытал сильное волнение, оказавшись на улочках Эфеса. Его охватывал восторг при мысли, что здесь бродил слепой «божественный» Гомер с мальчиком-поводырем, державшим его за руку. Отсюда был родом аристократический и невыразимый Гераклит «Темный», впервые открывший божество внутренней жизни в своих высказываниях «Я познавал самого себя» и «Я один и великое множество». Здесь у Пифагора возникла идея основать на родном Самосе братство учеников, которое он впоследствии перенес в южно-италийский Кротон. Здесь творил свои «чудеса» Аполлоний Тианский. Здесь возникли оккультизм и черная магия, астрология и теософия, о чем свидетельствуют «эфесские письмена», как называли магические папирусы. Однако с весны 54 года, когда сюда прибыл апостол Павел, чтобы провозгласить слово Христово и обессмертить город в «Послании к эфесянам», традиционно склонные к мистицизму эфесяне ревностно обратились к христианству. На одной из здешних узких улочек написал свое Евангелие и Послания Иоанн. На другой – Павел диктовал свое великолепное «первое» из двух «Посланий к коринфянам», в котором по существу дал обоснование церкви. Однако в течение трех следующих веков, несмотря на поразительное распространение новой религии, Эфес не переставал издавать благоухание утонченного эллинского интернационализма, основанного на орфико-оккультных верованиях, которыми некогда жил город. Немногочисленная община язычников не переставала смотреть на «гнусных» христиан с тем же презрением, с каким взирают на плебеев обедневшие аристократы эпохи, слава которых осталась в истории, аристократы, знавшие, что под влиянием их эпохи все еще продолжается развитие человеческого духа…
Среди эфесских идолопоклонников Максим пользовался славой святого. Евнапий, заставший его уже с длинной белоснежной бородой, сохранил в предисловии к своей биографической хронике его характерный портрет: «… Даже тогда голос его еще был подобен голосу Афины или Аполлона. Ни с чем не могли сравниться блеск его зениц и его глаза, указывавшие на волнение души его. Зрение и слух впадали близ него в соблазн. Трудно было следить за его живым взглядом и его красноречием. Даже самые опытные и умелые собеседники не дерзали возражать, отдаваясь ему и слушая его, словно оратора, – столь сильное очарование струили уста его». Юлиан со всей страстью души своей отдался его учению. В «Ненавистнике бороды» он признается, что Максим сформировал его характер. Он обуздал стремление Юлиана к преувеличению, к неистовству. Как и другие языческие софисты, Максим учил, постоянно испытывая страх оказаться жертвой доноса. Поэтому он потребовал, чтобы Юлиан был сдержан и осмотрителен в его среде. Он главным образом и посвятил Юлиана в тайный культ, который посредством очищений, постов, изнурений тела и плотской воздержанности пытался освободить душу от материальных уз, чтобы та, ничем не ограниченная, соединилась с божеством. Все более углубляясь в посвящение, Юлиан убедился с радостью, что некоторые основные ценности – такие, как любовь к ближнему, приобретение духовных благ, самоограничение, заимствованные христианством у пифагорейцев, он опять находит в стоящем на крайних позициях неоплатоническом мистицизме, который обладал тем преимуществом, что превозносил земное существование, значение которого уменьшало и презирало христианство. Учение Максима было столь привлекательно, что Юлиан (как и все его соученики), слушая его, испытывал такое чувство, «будто лакомился лотосом». Сколько благородства содержало в себе соединение платонизма и мистицизма! Наконец, Юлиан открывал то, что скрывали от него годами – эллинский дух…
В те времена язычники, отправлявшие свои религиозные обряды с риском для свободы, были исполнены мессианского ожидания – ожидания того, что некто, посланный богами, сумеет восстановить древнюю религию во всем ее блеске. Эта вера воодушевляла их, помогая переносить гонения властей, как несколько десятилетий до того вера помогала христианам идти на мученическую смерть. Поэтому, когда среди язычников Никомедии стали распространяться слухи, что Юлиан склонялся к многобожию, Либаний с воодушевлением приветствовал решение своего ученика, видя в этом «спасение» империи, переживавшей тяжкие дни во время непоследовательного правления Констанция. Ученые, совершившие посвящение Юлиана, консервативного по своей природе и верившего, что возрождение империи связано с возвращением к религии предков, зная, сколь соблазнительной была для него такая надежда, не упускали случая напоминать Юлиану о его историческом предопределении. Впрочем, будучи по натуре своей деятельным и к тому же раздражительным из-за множества душевных травм, Юлиан непрестанно испытывал боязнь внезапного убийства и чувство одиночества и, вполне естественно, возбуждался, думая часами о том, что это может произойти… Итальянский исследователь Негри в своем выдающемся труде, посвященном Юлиану, сумел за аллегориями одного из гимнов Юлиана заметить его признание, что боги предопределили ему спасти империю, упразднив христианство, виновное якобы во всех ее бедам. Итак, вполне естественно, что Юлиан не испытывал чувства «отступничества», переходя в ряды язычников. В конце концов, как замечает Аммиан Марцеллин, если кто и заслуживал определения «отступник», так это Констанций, отказавшийся от традиций предков ради служения христианской религии…
Нужно подчеркнуть, что в тот период, когда христианство еще только формировало свое учение в страстных столкновениях православных и ариан и их взаимных анафемах, отступничества от новой религии к старой были столь частыми, что заставили (несколько позднее) Феодосия издать указ, угрожавший отступникам суровыми карами. При этом Церковь, осознавая опасность, начала предавать их яростному осуждению. Отступничество, становившееся в случае Юлиана особо тяжким в связи с его происхождением, для обычного гражданина не имело бы никакого значения. Так, Юлиан оказался типичным представителем определенного периода развития христианства, стремившегося сделать своими последователями всех граждан империи. Далее, помимо всякой политической целесообразности, обстоятельством, привлекшим Юлиана в лагерь язычников, было его отвращение к религии убийц его семьи и прежде всего – восхищение эллинской культурой. Отказываясь от христианства, Юлиан был настолько верен самому себе, что никто из его порицателей не может обвинить его в корыстолюбии. Верно, впрочем, отмечает Биде, что Юлиан, взяв себе в качестве идеала Марка Аврелия, душевно был слишком взволнован, чтобы воспринимать, подобно императору-философу, свою судьбу с беспристрастием стоика. В течение всей своей жизни тревога за собственную судьбу, за то, что должно было произойти, столь удручала его, что в конце концов стала будоражащим стимулом к преобразовательской деятельности. Так, его отказ от христианства был действенным протестом против его прозелитизма к религии, произошедшего без его согласия, протестом, получившим столь сильное выражение в его трактате «Против галилеян». Аргументацией ему, вполне вероятно, послужило то, что сохранилось в его памяти после многих часов чтения греческих текстов, а также (что еще более вероятно) некоторые заметки полемического характера арианского епископа Георгия в библиотеке Макелла. Что прозелитизм Юлиана в каппадокийской усадьбе мог стать более последовательным и в конце концов захватить его, однако арианские наставники с их сухостью не сумели передать ему свежести от живительных соков Нового Завета, как то полагают исследователи Негри и Аллар, маловероятно. Душевная травма детских лет была слишком глубока, чтобы Юлиан мог примириться с религией убийц его семьи…
Естественно, что мир язычников, злорадно наблюдавший за раздорами в среде христиан, подрывавшим основы их религии, тогда как эллинство, все столь же незыблемо стоявшее на своем пьедестале, привлекало к своей религии новых последователей и почитателей, естественно, что этот мир тайно организовывался для устранения (в результате «контрреволюции») «навязанной» религии. Такого рода «великая идея» вовсе не была беспочвенной в ту эпоху. Напротив, заговоры и попытки язычников упразднить официальную религию были обычным явлением. На это указывает успех восстания языческого полководца Магненция. Вскоре после гибели Юлиана его двоюродный брат полководец Прокопий и новый Феодор впоследствии попытались, как и Юлиан, восстановить многобожие. Впрочем, и плану полководца Луция убить Феодосия с целью восстановления идолопоклонничества пытались подражать в Риме Евгений, Максим и Анфемий. В Египте фанатичные язычники организовывались с такой же целью в вооруженные группы. Наконец, недоверие христианству со стороны личностей этой эпохи было весьма характерным явлением. Некий христианский священник вместе со своей женой утверждал, что одной только религии для того, чтобы приблизиться к богу, не достаточно. Другой епископ тайно верил в бога Гелиоса. Историк Созомен рассказывает случай с Аполлинарием, который шокировал христиан, посещая обряды язычников, чтобы послушать музыку дионисийских гимнов. А впоследствии (об этом нам напоминает Биде) епископ Синесий, друг знаменитой женщины-математика и философа Гипатии Александрийской, пройдя посвящение в неоплатоновский мистицизм, отказался принять руководство церковью в Киренаике, если ему не разрешат продолжать преподавание учения старой религии…
Эти «случаи» указывают на «контрреволюционный» дух, возбуждавший язычников. Было ясно, что язычники вновь собирали силы, выжидая удобного случая для упразднения христианской религии. К этому решению (с надеждой на прозелитизм в свои ряды) их подталкивала наблюдавшаяся нестабильность религиозных воззрений в значительной части безымянной массы христиан, которые в случае любого, даже малейшего бедствия (землетрясения, наводнения, неурожаи, эпидемии) немедленно утрачивали веру в единого бога (затрудняясь даже уверовать в его всемогущество) и обращались за заступничеством к старым богам, все еще жившим в их подсознании. На Западе, особенно в Риме (как показывает переписка родителей с учителями того времени) аристократия доверяла воспитание детей педагогам-язычникам, считая христиан отсталыми и реакционными. В эпоху Возрождения (в Италии и Франции) многие ученые в своем преклонении перед эллинским духом известны стали менее преданы христианской вере. В Мистре Гемист составляет в середине XV века гимны в честь неоплатоников, а поэт и ученый Михаил Марулл Тарханиот, отправившись в добровольное изгнание в Италию, пишет в ту же эпоху гимны древним богам и заявляет о своем предпочтении политеизма. Аббат Рейрак в XVIII веке, вдохновляется на составление гимна богу Гелиосу. Вот всего несколько известных обращений в политеизм вследствие углубленного классического образования.
Когда Юлиан находился еще в Никомедии, преемники Ямвлиха, не проповедовавшие таинства Исиды, Кибелы или Митры, проявили особое рвение к культу, основанному на оккультном произведении халдейского мага Юлиана «Халдейские слова». Этот тезка будущего императора, теософию которого усвоил Ямвлих, был сыном некоего вавилонского чудотворца, прибывшего в Рим, когда победы Траяна породили среди римлян интерес к экзотике живописной страны персов. В этой книге содержалась методичное посвящение в культ огня, которому мистицизм Востока приписывал божественное свойство открывать двойственность вселенной, противопоставляя – неизменно в соответствии с диалектикой платонизма – духовный мир чувственному.
Культ, начала которого (восточные и эллинские) восходили к теориям Пифагора и Платона, естественно, был охотно воспринят неоплатониками-мистиками Пергама и Эфеса. Выдающийся исследователь Юлиана Биде пишет: «Как те примиряли Аристотеля с Платоном, так и Ямвлих в своих знаменитых схолиях сочетал теософию «Халдейских слов» с теософией других мистерий, пытаясь открыть общий смысл, скрытый в откровениях греческих, под влиянием Орфея, и прочих почтенных теологов». Объясняя свою теургию, Ямвлих обращается к пифагорейской теории «всемирной симпатии», в которой божественное в гармонии числа открывает звенья в апокрифической генеалогической цепи, соединяющей различные элементы мира – от звездных высей до земных недр. А боги для этого открытия не требуют ничего, кроме простого признания верующего, что он готов принять их приход, который они предвещают восклицанием, дуновением, пламенем, светом – знаками, способными очистить его разум и приготовить его тем самым к их восприятию. «Иератическое искусство Ямвлиха, – поясняет Биде, – использует генеалогическую взаимосвязь между земными и небесными явлениями, чтобы достичь снисхождения богов к нам с целью нашего просвещения или, если угодно, с целью нашего приближения к ним и открытия их посредством богосозерцания и богоявления и соединения нашей мысли с их мыслью в духовном общении посредством интеллектуальных гимнов».
Несмотря на отсутствие письменных свидетельств и Юлиана и других авторов о стадиях посвящения будущего императора, совершенного Максимом, мы располагаем язвительным описанием их, составленным обвинителем Юлиана Григорием Назианзином, которое, хотя и является рекламой, остается свидетельством христианина. «Юлиан спустился в одну из тех подземных пещер, недоступных для многих и ужасных, вместе каким-то знатоком лживых чудотворств, более мудрствующим (софистом), чем мудрецом. Действительно, люди этого рода занимаются своего рода мантикой, для которой, чтобы открыть будущее, требуются темные места и подземные демоны. По мере продвижения нашего героя, к нему приближалось нечто ужасное, огромное и страшное. Говорят, что был слышен поземный грохот, чувствовались отвратительные запахи, являлись призраки в пламени и не знаю какие еще бессмысленные измышления этих пройдох. Поскольку он был посвящаем в эти глупости впервые, необычайное видение пугало его. Чтобы заставить причину своего страха удалиться, он прибегнул к старому лекарству – перекрестился. Таким образом он унял свой страх. Однако продолжение оказалось еще страшнее. Крестный знак дал свои последствия: демоны отступали, ужасы прекращались. Грешник собрался с духом, осмелел. И снова двинулся вперед. Однако ужасный шум раздался снова. Снова крестное знамение, снова молчание демонов. Снова посвящаемый почувствовал растерянность. Однако находившийся рядом посвящающий на свой лад объяснил происходящее: «Мы внушили им страх, но не испугали их. Зло побеждено». Этими словами он убедил своего ученика и тем увлек его в глубину гибельной пещеры. Что еще сказал ему вожатый? Что сделал ему? Чем еще обманул прежде, чем подняться снова на поверхность земли? Все это тайны, ведомые лишь посвящаемым и посвящающим. Как бы то ни было, с того дня Юлиан стал жертвой этого злодеяния, демоны возобладали внутри него…». Но вот Либаний, дух которого не имел ничего общего с мистицизмом, после долгих бесед с неоплатониками Никомедии приходит защитить эти священнодействия и символы, которые использовал в своем посвящении Максим. «Юлиан обрел (нравственное) спасение, когда встретился с людьми, усвоившими теории Платона, услышав, как они говорят о богах и демонах, о существах, сотворивших мироздание и хранят ее, узнав от них, что есть душа, откуда она приходит и куда уходит, что приводит ее к падению, что возвышает, что угнетает ее, что ее возносит, какое значение имеют для нее рабство и свобода, как она может избежать первого и как ей надеяться на вторую. Таким образом он отказался от несуразностей, в которые верил прежде, чтобы утвердить в душе своей свет и истину, словно восстановив в великом храме статуи богов, поруганные в прошлом». Был ли пристрастен в своей защите язычник Либаний, как в обвинениях христианин Назианзин? Как бы то ни было, в этих «посвящениях» утешением Юлиану служило то, что взгляд бога Солнца (как явствует из его гимна «К царю Гелиосу») был обращен к нему, обещая свое покровительство, очищение его семьи, напоминая о его божественном происхождении и о великом посмертном мгновении, когда он воссоединится с ним! Биде, подозревая, что истина не была ни на стороне Либания, ни на стороне Назианзина, создает в своем воображении слова, которые якобы бы были произнесены в пещере неизменно незримым иерофантом внушающим тоном: «… Обрати внимание, какая опасность грозит империи, как страдает ее правящая династия! Этот истинный бог, непобедимое Солнце, спаситель, расточающий дары свои по всему мирозданию, создавший лето и зиму, животных и растения, движущий сонмом звезд и управляющий божественной гармонией сфер, Гелиос, пребывает в презрении, а жрецы его преданы поруганию (христианами). Но кто же ты, в конце концов, если глумящийся преследователь (Констанций) низвел тебя до уровня гнусного (христианского) жречества? Ты – последний представитель самой божественной из всех династий, которому предопределен ее славный скипетр. Душа твоя спустилась сюда с искрой божественного пламени, властной над жизнью даже отца зримого солнца. Бог устремил на тебя свой взгляд. Он призовет тебя в надлежащий миг к спасению эллинства и империи…».
Действительно, надежда, что Юлиан обретет когда-нибудь силу и восстановит многобожие начала становиться мессианским чаянием среди тайных язычников Эфеса. Конечно, ошибкой было бы полагать, что Юлиан, увлеченный своими метафизическими поисками, с безразличием узнавал о столь благочестивых чаяниях. Совсем напротив. Либаний утверждает, что Юлиан желал получить власть – не из желания обладать могуществом, но из честолюбивого стремления воспользоваться этой властью для восстановления былого блеска древней религии. Он верил вместе со всей языческой интеллигенцией, что в упадке империи виновен злой демон – «христианство».
* * * * *
Тем не менее, несмотря на все старания скрыть свое обращение к многобожию за маской набожного христианина, учение у Максима и других теургов не замедлило вызвать подозрения у христиан. Проведав об этом, обеспокоенный Галл отправил из Антиохии, где он находился вместе с супругой, в Эфес доверенное лицо, по имени Аэций, вразумить брата. Аэций представлял собой невероятное смешение воспитанного на эллинской культуре арианина и обворожительного авантюриста. Он побывал во многих городах и сменил множество профессий, прежде чем обратился в христианство и вошел в доверие к цезарю. Однако в подсознании его (как и многих клириков того времени) сохранился восторг перед божественной диадой Платон-Аристотель. Оба эти поклонника классической культуры с первой же встречи пришли в восторг от знакомства. Беседам их не было конца. Юлиан столь убедительно сыграл роль доброго христианина, что обманутый Аэций составил доклад, полный похвал благочестию оклеветанного юношу, успокоивший Галла.
Поступок Галла, естественно, заставил Юлиана быть более осторожным, а его друзей – более обеспокоенными. Часто у них возникало чувство, что в Эфесе их окружают доносчики. Испытывая такого рода опасения, Юлиан чувствовал себя более свободно только в своем имении в Никомедии. Во время отдыха он всякий раз отправлялся туда, чтобы свободно думать и беседовать без предосторожностей. Часто за ужином, на который он приглашал друзей и философов, атмосфера напоминала платоновские симпосии. Это были дни счастья, поскольку, наряду с душевным отдыхом в прекрасной приморской местности он радовался также своей популярности среди вифинян – популярности, созданной его простотой и человечностью, без какой-либо корыстолюбивой цели, в чем его подозревал Констанций, когда его тайные агенты обнаружили существование этой популярности и в Константинополе. В конце концов разве было еще что-нибудь более подобающее христианину, чем просить у своего брата цезаря поддержки бедным и нуждающимся? О, конечно же и язычники и христиане, зная по сколь огромному числу трупов пришлось пройти Констанцию, чтобы достичь единовластия, и в какие бедствия повергнуть при этом государство, молились, чтобы два брата поскорее сменили его на престоле. При этом один из софистов, Гимерий, даже сравнивал Галла с утренней звездой, освещающей престол, а Юлиана – с гордым быком-вожаком в стаде своих молодых ровесников… К сожалению, Юлиан не мог даже представить себе, что те счастливые дни были обманчивым предвестием звонкого дождя, среди которого гром еще страшнее молнии.
Однажды утром на берега Пропонтиды пришло известие, что Галл обезглавлен по приказу Констанция. Юлиан почувствовал, как счастливые дни мгновенно стали далеким прошлым, а над головой его уже занесен меч императора. О, то, что для других зовется «юностью», для него было неустанной борьбой за то, чтобы вырвать еще несколько дней у смерти. Он остался последним в роду Флавиев. Перед мысленным взором его снова предстало то прощание на берегу весенним вечером три года назад…
Юлиан думал о трагической иронии судьбы. Если брат беспокоился о том, как бы его религиозные убеждения не вызвали гнев императора, своей деятельностью в Азии он сделал все для того, чтобы этот гнев привел к роковым последствиям в его жизни. Несомненно, демон возобладал в нем, потому что иначе разве мог он добиться, чтобы блеск его среди множества побед превратился в отвращение, а любовь, которую питали к нему антиохийцы по причине его юного возраста, – в ненависть? Мало-помалу до слуха перепуганного Юлиана стали доходить подробности, касающиеся поведения Галла в Антиохи, давшие неизменно подозрительному Констанцию повод принять решение о его казни, оставляя самого Юлиана в ужасе дожидаться, когда наступит и его черед…
С помощью своих полководцев цезарю удалось ликвидировать банды разбойников-исавров в Киликии и подавить восстания евреев и персов. Однако вскоре Галл показал отсутствие качеств, необходимых правителю, а вскоре после триумфа, устроенного по случаю успехов, превратился в деспота. Антиохия была залита кровью бессмысленных убийств. Пиршественные оргии оскорбляли христиан. Внезапные аресты граждан среди ночи на улицах и в тавернах с целью обнаружения тайных заговоров порождали страх. Несмотря на все советы, даваемые местной знатью, он не принял надлежащих мер для предотвращения голода. В гневе, вызванном тем, что его полководец вынудил его заключить мир с германцами, снижая тем самым его авторитет, император не стал дожидаться других проступков, чтобы вынести Галлу приговор. Легкомысленный цезарь своим поведением еще более снижал престиж династии. Скрывая свои замыслы, император, стал отдалять его от войска и в то же время лестными посланиями, в которых речь шла об успехах Галла, звал его Медиолан. Там им якобы предстояло решить вдвоем жизненно важные для государства вопросы. Императору будет очень приятно, – гласило послание, – если цезарь возьмет с собой и его любимую сестру, по которой он так соскучился. Заподозрив в ласковом тоне императора недоброе, хитрая Констанция, несмотря на первоначальные колебания, решила сопровождать мужа. В конце концов, она могла примирить их в случае ссоры. Галл двинулся в западню. Пренебрегая советами своих приближенных, Галл не упускал возможностей уничтожить самого себя: в Гиераполе он отдал разъяренному войску своих хулителей – префекта Монтия и квестора Домиция, которых протащили связанными по улицам, затоптали ногами и бросили затем их трупы в воды Оронта. Злая судьба способствовала его гибели: в Вифинии Констанция свалилась в страшном жару. Спасти ее оказалось невозможно. Ее похоронили в усыпальнице в окрестностях Рима. Саркофаг, в течение веков хранивший останки Констанции, находится ныне в Ватиканском Музее. Однако ореол «девы» и «святой», которым пытались окружить ее льстецы, вскоре был рассеян. «Сама она стала причиной пролития крови не менее обильного, чем проливают ее дикие звери…», – гласит о Констанции составленная несколько позднее эпиграмма.
Со смертью Констанции Галл почувствовал, что лишился защитника. Тогда-то он осознал опасность. Что если сладкоречивый император, поверив клеветникам, вызвал его в Медиолан, чтобы лишить звания цезаря или еще для чего-то еще более страшного? Тем не менее, беспечность его не знала границ. Вместо того, чтобы ублажить Констанция впечатляющими доказательствами преданности, пусть даже в последний час (во время периодически повторяющихся мучений от одиночества, вызываемых чувством вины за убийство родственников, Констанций то и дело раздраженно требовал от окружающих действенных доказательств любви и преданности) еще один необдуманный поступок Галла заставил патологически подозрительного императора снова предполагать его причастность к заговорам и бунтам. Вступив, словно триумфатор, в Константинополь, несмотря на траур, Галл решил организовать ристания колесниц. Чтобы придать зрелищу больше торжественности, он собственными руками возложил венок на голову победителя Корака перед толпами славившего его народа. Аммиан Марцеллин иронизирует над этим его поступком, проводя следующий афоризм: «Попал в огонь, спасаясь от дыма…». Констанцию не требовалось других доказательств того, что цезарь злоумышляет против его популярности, чтобы самому занять престол в результате восстания, венчав в качестве императора-соправителя своего брата.
По мере приближения к лагерю Констанция приступы страха все стльнее тревожили Гала: его жертвы во главе с Монтием и Домицием являлись ему во сне кошмарными видениями. Едва Галл прибыл в Петовий, поведение его окружения изменилось. Стража окружила его жилище. В один из декабрьских вечеров военачальник Барбатион, нарушая неприкосновенность цезаря, сорвал с Галла императорскую порфиру, заставив надеть обычный хитом, посадил на колесницу и в сопровождении усиленной стражи увез в Полу в Истрии – в тот самый город, где сорок лет назад Константин Великий убил своего сына Криспа. Галл понял, что решение о его казни уже принято. Во время допроса, который проводил первый министр евнух Евсевий, желая улучшить свое положение, Галл необдуманно объяснил большинство своих бессмысленных действий тем, что следовал советам своей жены Констанции. Вне себя от гнева из-за попрания светлой памяти любимой сестры император отдал приказ обезглавить его. Однако вскоре Констанция стали мучить угрызения совести. Он спешно отправил в Полу письмо, отменявшее прежнее распоряжение. Однако было уже поздно… Мрачный Евсевий позаботился о том, чтобы это письмо палачи получили уже после казни. Это было последнее убийство родственника Констанцием. На следующий день сановник Аподем принес украшенные золотом и пурпуром сандалии казненного и бросил их к ногам императора. Галлу не было еще тридцати. (Впоследствии Юлиан объяснял в своем «Послании к Совету и Народу Афинскому», готовясь уже встретиться с Констанцием как равный с равным, что причиной резкости Галла были недостатки его воспитания при дворе Констанция и интриги приближенных, раздражающе воздействовавших на его грубый характер.) Император запретил хоронить проявившего неверность двоюродного брата в родовой усыпальнице и называть его «покойным», т.е. «счастливым»…
Глава четверная
По святым местам эллинского духа
Зная, что мстительность Констанция не имеет границ, Юлиан в страхе ожидал, когда наступит его черед. Кого-нибудь из толпы «доверенных лиц» Констанций, должно быть, избрал на роль соглядатая. На этот счет иллюзий не было. Юлиана обвиняли в том, что под предлогом учения в Малой Азии, он вместе с Галлом принимал участие в заговоре против императора, и поэтому помчался в Константинополь, когда его брат оказался там. Констанций вызвал Юлиана для дачи «некоторых объяснений» в Медиолан. Однако, будучи осведомлен о популярности Юлиана и желая предупредить возможное противодействие его сторонников, Констанций дал его вооруженной свите приказ в пути относиться к Юлиану с почтением.
С сильным волнением в душе относительно грядущего Юлиан плыл по Геллеспонту. Он не упустил случая сделать остановку в Троаде. Легендарный Илион, очаровавший его в детстве благодаря стихам Гомера, обладал для Юлиана такой же святостью, как Святые Места для христиан. Страстно желая увидеть город Приама, проснулся он на рассвете. К Илиону прибыли только в полдень. Народ оказал ему радушный прием на агоре. Арианский епископ Пегасий, бывший в тайне пламенным почитателем Гелиоса, под предлогом показа достопримечательностей повел Юлиана в святилища. С благоговением стоял Юлиан у героона под открытым небом с медной статуей Гектора напротив статуи Ахилла. Юлиан словно ощутил некую сладость на устах, едва на память ему пришли стихи из «Илиады», в которых божественный Гомер давал описание их ужасающего поединка. Какое героическое время! Жертвенники, еще несколько лет назад почитавшиеся язычниками, выглядели так, словно на них до сих пор зажигали священное пламя. В святилище Афины Илионской Юлиан с радостью убедился, что статуи все еще стоят там в целости и сохранности. Их безмятежные лица оставались неоскверненными: христиане имели гнусную привычку марать их «знаком святотатства» – крестом. В благочестивых грезах Юлиан молил богиню защитить его от убийственных рук императора. Его нисколько не интересовали слава и чины, почести и величие. В сиротстве своем он не ожидал и человеческого утешения – единственное, что ему оставалось, это его собственная теплота. Они всегда так хорошо понимали друг друга! Враги могли лишить его всех земных благ, которые, впрочем, представлялись ему столь бренными. Но могли ли они лишить его мысли, заставить его восторгаться тем, что противоречило его желаниям? Если бы это им удалось, это было бы воистину чудо, – с равным успехом можно стараться оставить запись на воде, сварить камень или отыскать следы птиц в воздухе… А коль скоро никто не мог лишить свободы его мысли, он был собеседником для самого себя. Афина Илионская посылала ночной мрак на мысли его врагов, но его мысли хранила светлыми, чтобы вести его сквозь мрак будущего…
В Ахиллейоне, куда повел его Пегасий, не было ни души. Шум с агоры долетал, словно грохот разъяренного моря. Несмотря на слухи о ее разрушении, гробница сохранилась великолепно. Было ли это следствием благочестия какого-то непреклонного язычника? Исполинский образ благороднейшего из эллинов предстал перед Юлианом. В упадочную эпоху, которая дошла до того, что называла тело «гробницей души», легендарный сын Фетиды благодаря своей доблести стал в его глазах высоким идеалом язычества, вдохновлявшим создание непревзойденных шедевров классического искусства. «В здоровом теле здоровый дух».
Долина Скамандра была залита солнцем. Несколько быков медленно пахали тучную землю. Лениво жевали траву стада коз и овец. Река сверкала декабрьскими отблесками. Какая пустынность в этот выхолощенный век! «О, Гектор, Деифоб, Эней, Сарпедон, благородные троянцы!» – воскликнул Юлиан. В ответ раздалось мычание. Рыдания душили его, подступая к горлу…
Из Илиона он уехал совершенно спокойный. Боги не оставят его беззащитным под мечом Констанция. Однако, прибыв в Медиолан, Юлиан почувствовал вокруг тяжелую атмосферу. Демоническая диада Евсевий-Алисида со своей тайной полицией держала людей в страхе. Никто из сановников не был уверен в собственной безопасности. Преследования и ареста были самыми обычными явлениями. Многие друзья и приближенные Галла были казнены или отправлены в изгнание. Епископ Феофил Индиец, некогда пользовавший огромным авторитетом при дворе, оказался в толпе впавших в немилость.
Стоически ожидая решения своей судьбы, Юлиан с негодованием отверг обвинение в том, что участвовал вместе с братом в заговоре против императора. Галла он не видел даже во сне. Они никогда не встречались. Между ними не существовало никакого общения. Галл писал ему крайне редко и по вопросам совершенно другого рода. Юлиан потребовал аудиенции у императора. Однако верховный смотритель императорских покоев Евсевий, опасаясь, что аудиенция может привести к примирению, то и дело находил какой-нибудь предлог, чтобы перенести ее.
Длившаяся семь месяцев неуверенность в собственной судьбе оказала отрицательное психологическое воздействие. Испытывая ощущение постоянной слежки, Юлиан, тем не менее, пользовался определенными удобствами: он мог свободно передвигаться по городу и вести переписку. Естественно, чей-то глаз неизменно проверял его письма прежде, чем их доставляли по назначению. Особенно часто писал он софисту Фемистию, который после энкомия Констанцию в речи «О человеколюбии», настолько завладел душой императора, что тот называл в сенате философию «украшением его правления». Не исключено, что этот мастер раболепия и вместе с тем искусный ритор, который за маской религиозной терпимости и умеренности сумел сделать своими друзьями пятерых императоров, добившись того, что в честь его воздвигали статуи, а также высоких должностей и симпатий могущественных христиан и язычников, выступил перед Констанцием в качестве посредника, чтобы улучшить положение Юлиана. Возможно, что доведенный до отчаяния Юлиан сам просил его об этом. Юлиан даже не мог представить себе, что некий ангел-хранитель неустанно бдел над его жизнью – императрица Евсевия.
Наконец, по настоянию августы Констанций дал ему желанную аудиенцию. Мы не знаем, о чем говорили двоюродные братья. Несомненно, желая обезопасить себе жизнь, Юлиан пошел на какое-то унижение. Произошло то, чего боялся Евсевий: объяснения Юлиана убедили Констанция в его невиновности и позволили ему возвратиться в имение бабушки близ Никомедии. В обратном пути его сопровождала стража из доверенных лиц императора. Испытав чувство облегчения после многих месяцев тревоги, Юлиан остановился весной на короткий отдых у Комо – озера с изящными холмами и живописными виллами. Однако отдохнуть ему не было суждено. По дороге в Малую Азию Юлиан получил приказ императора, как можно скорее возвратиться в Медиолан. В расстроенных чувствах он подозревал уже, что причиной тому были какие-нибудь новые козни Евсевия или Палладия. Однако все оказалось не так. Констанций, внушающее отвращение поведение и жестокость которого приводило к бунтам полководцев, отправившись в Малую Азию, чтобы предупредить заговор, испугался, как бы враги не сделали его двоюродного брата орудием в своих руках, и предпочел держать его у себя при дворе.
Юлиан возвратился в Медиолан в ожидании худшего. Однако судьба, которая уже столько раз вносила в его жизнь то свет, то мрак, теперь в лице Евсевии преподнесла ему неожиданную радость: императрица убедила находившегося еще в Малой Азии Констанция, что предпочтительнее отправить Юлиана для учебы в Афины. Так его было бы легче держать под надзором.
Внезапно Юлиану показалось, что мечта его становится действительностью. Его отправляли в Иерусалим классического духа – туда, где, как сказал Петроний, «средь леса храмов, алтарей, статуй, портиков, скульптур легче встретить бога, чем человека…».
В ту эпоху Афины, благодаря своим философским школам, в которых учили прославленные риторы и софисты, а также своему славному историческому прошлому, пользовались наибольшим признанием среди университетских городов империи. Со всех концов огромного государства богатые родители, а также бедные, отдававшие ради этой цели свои скудные средства, посылали своих сыновей получать образование в «город наук». Даже ревнители христианской мудрости считали необходимым завершить свое образование на родине Платона. Учившиеся в Афинах пользовались таким авторитетом, что прочие испытывали рядом с ними своего рода комплекс неполноценности. «Божественный град» переживал новую фазу своего духовного расцвета в дни длительных сумерек свого упадка, продолжавшего около девяноста лет, пока окончательно не погрузился во мрак, когда христианские императоры решили положить конец стремлениям молодежи к получению эллинского образования, поскольку это наносило ущерб делу христианства или же потому что необычайное распространение последнего делало неактуальной родину классического духа…
В середине IV века Афины были многолюдным университетским городом с космополитическим колоритом. По улицам города прогуливались, ведя громкие диспуты, толпы учащихся в одеяниях самых разных народов – африканцы, египтяне, евреи, арабы, греки, азиаты, галлы, италийцы. Несмотря на то, что после «золотой эпохи» прошло уже восемьсот лет, в течение которых грабежи, пожары, землетрясения, конечно же, изменили архитектурный облик города, тем не менее, Парфенон на Акрополе, все еще нетронутый, с хризэлефантиновой статуей Афины внутри, Пникс, статуи, алтари, городские стены, храмы, театры, одеоны, фонтаны, термы, палестры, портики, стадион, Керамик, Агора – и все это, озаренное божественным светом, – холмы, рощи, памятники, святилища, тенистые платаны на берегах Илисса, дороги в Академию и Ликей, розоватые горы вокруг, ласковое море у Фалера и Пирея производили ложное впечатление на заранее подготовленных психологически посетителей, который слышали прекрасную аттическую речь потомственных афинян и присутствовали на старинных празднествах (Панафинеях, Ленеях, Дионисиях), впечатление, что город Перикла продолжал жить кипящей жизнью, несмотря на ход времени. «Душа становится чистой, воздушной и легкой, когда видишь Афины», – признавался ритор Элий Аристид. Даже Либаний, вынужденный отказаться здесь от преподавательской деятельности из зависти коллег, с восторгом называл этот город «оком Эллады». Тем не менее, Василий Великий, в отличии от своего соученика и задушевного друга Григория Назианзина, называвшего Афины «золотыми», с пуританизмом фанатичного христианина называл их «пустым блаженством». Несомненно, очарование этого бастиона язычества распространялось далеко за пределы его развалины. Своей щедрой духовной пищей, а также прочими жизненными соблазнами, Афины привлекали к себе юношей, словно магнит…
В ту эпоху афинские школы насчитывали около двух тысяч слушателей. Достигшие двадцатилетнего возраста считались уже «пожилыми». Относительно женщин, неизвестно, какие науки они изучали, за исключением знаменитого математика из Александрии Гипатии.
В философских школах Афин IV века преподавали выдающиеся ученые – софисты с глубокими знаниями классической словесности, искрометные риторы, очаровывавшие молодежь. Некоторые из них – такие, как Юлиан, Проэресий, Гимерий – мудростью и добродетелью своей возвысились до идеальных «воспитателей душ», о которых мечтал в своих «Диалогах» Платон. Благодаря своей высокой нравственности и захватывающему обучению, они стали подлинными мерилами совести в эпоху, когда постоянная перемена ценностей делала молодежь столь податливой искушениям…
Софист-неоплатоник Юлиан, учивший в начале IV века, был язычником из Каппадокии. Сила его красноречия и представительная внешность придавали его занятиям особую зрелищность. Его добродетельная жизнь напоминала жизнь христианского святого. Молодежь боготворила его. Однако коллеги, избегая всякого диспута с Юлианом, смертельно ненавидели его за эту популярность. Он быль сеятелем добра в душах своих учеников, многие из которых стали знаменитыми. Самым любимым из них, Проэресием, удостоилась восхищаться «краса» империи. Проэресий был христианином из Армении. Родители его были очень бедными и не имели средств для обучения сына. Однако тот, жаждя получить высшее образование, прибыл вместе со своим другом Гефестионом в Афины, решив добиться признания. Оба прибывших вошли в круг учеников своего соотечественника Юлиана. Жили они в столь великой нужде, что делили на двоих один гиматий и один хитон. Поэтому, когда один из них находился в университете, другой оставался полуголым под общей кровлей переписывать «конспекты» уроков. Проэресий не замедлил отличиться среди учеников Юлиана. На суде учителя он защищал его дело с таким красноречием, что вызвал бурю аплодисментов со стороны учеников его противника Апсина. Юлиан откликнулся на чувства Проэресия, оставив ему после смерти свой скромный домик в Афинах. Проэресию пришлось выдержать борьбу с пятью соперниками за право занять место Юлиана. Соперники, как и было принято, имели рукописные списки речей и заранее готовую аплодировать аудиторию. Однако проконсул решил, что они должны произносить речи без подготовки на темы, которые сам же дал им. Пять соперников отказались и вышли из борьбы, а Проэресий согласился и вызвал восторг своими импровизациями. Однако в конце концов соперникам Проэресия с помощью подкупа удалось аннулировать его назначение. Спустя некоторое время все они получили назначение. Проэресий между тем стал уже знаменитостью. Император Констант вызвал его в Галлию и окружил великими почестями, тогда как галлы, не понимавшие его языка, восхищались только его исполинским ростом. И, действительно, обладая прекрасной наружностью и ростом в девять стоп, Проэресий казался колоссом даже рядом с самыми высокими мужчинами. Выражая свое восхищение, римляне воздвигли в его честь медную статую с надписью: «Царь мира Рим царю красноречия». Никто не мог сравниться с ним славой. Он обладал сияющим взглядом, низким голосом, мягким характером, радостным выражением лица. Переписчики не поспевали записывать, когда он произносил речи. Его современник Гимерий, дерзнувший состязаться с Проэресием публично, потерпел поражение. Только Либания Проэресий признавал выше себя. Евнапий, познакомившийся с Проэресием, когда тому было уже 87 лет, оставил следующее его описание: «Волосы у него были белые, как серебристая пена волн. Дух его, все еще юный, поддерживал тяжелое тело. Красноречие его неизменно сохраняло свою силу. Смотря на него, мне казалось, что передо мной бессмертный человек». Это был единственный христианский учитель в Афинском университете. (Когда Юлиан уже стал императором и своим знаменитым указом запретил христианам учить эллинской словесности, он решил, что это распоряжение не должно распространяться на его учителя Проэресия, однако тот не принял этой милости и даже не ответил на приглашение приехать к Юлиану в Константинополь). Немногочисленные отрывки из произведений Проэресия, цитируемые в текстах других авторов, сохранили его имя для истории. Умер он, прожив более девяноста лет.
Духовную традицию софиста Юлиана продолжил Гимерий, бывший в течение краткого времени учеником Проэресия. В отличии от учителя, ему посчастливилось родиться в богатой семье в Прусе Вифинской. «Любовь моя к тебе, о, божественное красноречие, заставила меня отказаться от счастливой жизни в отчем доме и жить на чужбине, на берегах Илисса…», – писал он. Это была богатая натура, несколько напыщенная – лирический характер с чувством изящества и умеренности. Речам его были присущи особый риторический сюжет и особая словесная архитектоника. После преподавания в Константинополе и Малой Азии, в возрасте сорока лет он снова возвратился в Афины, основал школу, стал афинским гражданином (возможно, и членом Ареопага), женился на знатной афинянке и имел от нее двух детей. Наконец, Гимерий был назначен государственным софистом и получал плату из государственной казны. Естественно, из-за господствовавшего духа взаимной ненависти между школами, вынудившего Либания отказаться от преподавания, а Проэресия предстать перед судом, успехи Гимерия порождали зависть коллег, которым удалось отправить его в изгнание. Однако любовь к городу Афинам вернула Гимерия обратно. Во время одной из ссор, враги ранили Гимерия и сожгли его дом, однако ученики отстроили дом учителя вскладчину. Будучи язычником, Гимерий тем не менее симпатизировал религии христиан. Влияние Нагорной Проповеди ощутимо в его произведениях. Среди его многочисленных учеников были также Василий Великий и Григорий. (Император Юлиан пригласил учителя в Константинополь и почтил его там высокими званиями. При этом однако не известно, был ли Гимерий секретарем Юлиана, как утверждает Цец).
* * * * *
Стараясь избегать выражения народной любви, столь неприятно действовавшего на императора, Юлиан решил путешествовать и жить неприметно. За помощью в осуществлении этого замысла он обратился к своему учителю Либанию. Либаний написал своему другу Кельсу (аристократу из Антиохи, уже давно обосновавшемуся в Афинах), прося оказать Юлиану гостеприимство в своем доме.
И вот, в конце мая 355 года Юлиан сел в Анконе на корабль, идущий в Константинополь. Главную часть его багажа составляли книги, подаренные Евсевией. Путешествие через Адриатику, бывшее в старину рискованным предприятием из-за пиратов, в те времена стало уже приятной поездкой. Стоя в стороне от множества других попутчиков и держась за борт, Юлиан погрузился в мечты, глядя на звезды. Часто ему становилось страшно. Пробуждение от сна к действительности казалось совершенно невероятным! Стало быть, он ехал в город, где произносил речи Перикл, где учил Сократ, где выступал юношей в хоре Софокл? То и дело Юлиан воздевал руки к небу. «Нет ничего в мироздании, чем бы ни был ты, Зевс!» – восторженно повторял он шепотом стих из «Трахинянок». Какова была его жизнь до того часа? Кошмарное существование между намерением императора казнить его и попытками Евсевии спасти. Но, несмотря на мучительное чувство опасности, сколь высокого смысла был полон каждый день его жизни! Богиня Афина, направлявшая его мысли и его действия, не могла оставить своего молящего. Несомненно, она пребывала рядом и помогала вместе со стражами, которых дали ей Гелиос и Селена!
Наконец, после нескольких дней плавания при благоприятном ветре в утренней мгле показались берега Аттики. Дыхание перехватило от волнения: перистиль храма Посейдона на Сунии, возвышаясь в утреннем свете, напоминал исполинскую лиру! С самого рассвета Юлиан стоял на носу, впившись взглядом в горизонт…
В Пирее бухты Мунихии и Зеи казались высеченными в скале. На кружевном берегу древнего Кандара кишел муравейником рабочий люд, трудившийся на причалах и верфях. Этот порт, сооруженный великим поклонником красоты архитектором Гипподамом из Милета, был воистину изящным произведением искусства. Стоявший всюду запах рыбы, мешаясь с запахом смолы и обрабатываемой кожи, неприятно бил в нос. Грузчики разгружали корабли, пришедшие из Сицилии, Италии, Египта, Сирии, Финикии. Перламутр и бычьи шкуры из Кирены, скумбрия и соленая рыба с Геллеспонта, зерно и бычьи ребра из Фессалии, свиньи из Сиракуз, парусина и папирус из Египта, благовония из Сирии, кипарисовое дерево с Крита, слоновая кость из Ливии, фрукты и тучные овцы с Эвбеи, сосуды с Эгины… В отдалении от прочих кораблей греется на солнце галера проконсула Ахайи, мачты которой украшены флажками. Чайки кричат среди солнечных лучей, падающих на волны и скалы. Юлиан с восторгом смотрит на этот зелено-голубой водоворот, который кружился в пространстве, разбрасывая всюду расплавленное серебро и пестрые цветочные ковры. Это и был знаменитый свет Аттики, воспетый поэтами и писателями. На память пришли восторженные слова Элия Аристида: «Свет Аттики – самый яркий в мире, а атмосфера нигде не бывает столь воздушной и чистой…». Едва ступив на набережную, он ощутил желание не идти, а летать. Майское солнце палило. Несколько рыбаков в соломенных шляпах сушили сети, другие чинили их. Юлиан устремил взгляд в шумную толпу. Какой-то юноша у повозки следил за его движениями. Юлиан улыбкой подозвал его к себе. Юноша почтительно поздоровался. Это был посланный Кельса. Растроганный Юлиан поднялся в коляску.
Чтобы преодолеть расстояние до города, понадобилось около двух часов. По мере того, как под взволнованным взглядом Юлиана разворачивался пейзаж со скалами, масличными деревьями, рыжеватыми кустами, виллами, пересохшими руслами ручьев, в памяти его восстанавливалась картина, созданная при чтении книг. Цикады трещали на жаре. Пыль от проезжающих повозок поднималась столбом. Развалины Длинных Стен Фемистокла то появлялись, то снова исчезали, словно жизнь Афин в течение девяти столетий. Юлиан зачарованно рассматривал все вокруг. Где-то здесь Главкон добродушно крикнул идущему впереди Аполлодору: «Эй, фалерец, подожди немного!». И, как и подобает болтливым афинянам, они начали беседу о столько раз обсуждавшемся «Пире» в доме поэта-трагика Агафона, где Сократ произнес неслыханные ранее слова о любви, изреченные якобы устами прорицательницы Диотимы из Мантинеи.
И вдруг Юлиан вздрогнул всем телом: копье медный статуи Афины Промахос над Пропилеями сияло золотом, словно охваченное пламенем! Он простер вперед руки, словно желая обнять видение: «Возлюбленная Афина… Возлюбленная Афина… Возлюбленная… Возлюбленная…», – шептал восторженно Юлиан на родине эллинского духа. Слезы заструились по его щекам. Повозка чуть задержалась на перекрестке, чтобы двинуться затем по большой, усаженной деревьями дороге к Академии. Они проехали через Дипилонские ворота. У храма Зевса Олимпийского выстроился отряд тяжеловооруженных легионеров. Сразу же за вратами Адриана показался дом Кельса. Это был небольшой дворец на берегу Илисса, осененный густой тенью платанов…
С первого же вечера, после роскошного ужина у Кельса Юлиан понял, что этот «вечный студент», щедро тративший полученное в наследство состояние на пиры с флейтистками и гетерами, менее всего мог помочь ему составить представление об учителях и школах, а Юлиан торопился, поскольку учебный год оканчивался. Конечно, при желании он мог бы посещать летние занятия – Афина была всегда щедра к тем, у кого было желание учиться. Однако дом Кельса, настоящий «притон распутства», не соответствовал жизни, посвященной духовным исканиям, как его жизнь. Несомненно, что этот щегольски одетый bon viveur, у которого за ночными оргиями следовали дни праздности, в то время, когда с ним познакомился Либаний, был совсем другим, – иначе Либаний не рекомендовал бы Кельса Юлиану, зная его отвращение к такого рода наслаждениям…
На следующий день Юлиан поднялся на Акрополь, чтобы совершить молитву Афине Деве, удостоившей его счастья взойти на свою священную скалу. Неподвижно стоя перед статуей богини из золота и слоновой кости, Юлиан проникновенно рассказывал о своих страданиях по вине Констанция и умолял помочь ему исполнить свое предназначение в этой жизни – стать достойным того, чтобы великий царь Гелиос призвал его в свои нежные объятия… Пожар, учиненный в 267 году германским племенем герулов и сильно разрушивший город, на Акрополе оставил по себе лишь незначительные следы: пострадали фактически только внутренний потолок целлы и опистодома, а также деревянная основа статуи Афины. Весь день, даже не думая о еде, Юлиан рассматривал шедевры Фидия и Праксителя. Панорама, открывавшаяся с перистиля Парфенона в золотисто-пурпурных сумерках, с силуэтами Саламина и Эгины в лазурной дали, вызывала на глазах у него слезы. Сколь прекрасную перспективу обретала вдруг славная эпоха, о которой мечтали в дни упадка, подобного его времени…
Юлиан без особого труда снял тихий домик, который стал ему приютом на время духовных исканий. Из числа окружавших его юношей Юлиан сделал своими друзьями двух язычников. Эвмений и Фариан с восторгом отзывались о Проэресии и Гимерии, отличавшихся нравственностью и методичностью преподавания от других учителей – таких, как Гефестион, Диофант, Епифаний, Сополид, Парнассий. Поскольку о двух этих философах из Азии Юлиан уже слышал в Пергаме, он решил посещать их занятия. Либаний сообщает, что во время принятой испытательной беседы оказалось, что Юлиан обладает знаниями большими, чем его учителя! Сколько бы язвительности по отношению к своим коллегам не таило за преувеличениями посмертной хвалебной речи в честь его ученика это утверждение исполненного самолюбования антиохийца, в ней содержалась значительная доля правды. Конечно, достигший уже (по тем временам) солидного возраста двадцатипятилетний человек, насыщенная речь которого сопровождалась заиканиями и жестами, произвел сильное впечатление своей философской образованностью и потрясающей памятью на экзаменаторов, как и впоследствии на двух своих спутников в продолжительных прогулках…
Действительно, когда Юлиан находился наедине или вместе с двумя друзьями в каком-нибудь прославленном месте Афин или у знаменитых развалин, память его сразу же воссоздавала их изначальный вид. Тогда, словно с помощью волшебной палочки воображения, сам он превращался в историческую личность, а друзья – в его слушателей, воспроизводя ту или иную сцену, упоминаемую в тестах древних авторов… Зачастую, желая цитировать Платона, он изображал Сократа: на берегах Илисса он произносил Федру свою «Палинодию»; у его Темницы развивал перед Критоном свои мысли об уважении к законам государства, спрашивая Кебета и Симия, согласны ли они, что невозможно познать истину посредством тела; во время скромных обедов развивал свои соображения относительно «порождения в красоте», которым был «небесный эрос». На тенистых улочках близ Академии и Ликея, два друга Юлиана зачарованно слушали его речи об «идее», «добродетели», «познании», «логосе», «благе», «справедливости», «воспоминаниях», «вечности», о том волшебном инструменте – диалоге, с помощью которого Сократ, обратившись к мифу, аллегории, иронии, добивался того, что уста ничего не подозревавших учеников сами собой снова произносили истину: «О, какой божественный дар это головокружительное путешествие от чувственного к разумному, путешествие, которое из всех живых существ может совершить только человек, чтобы узреть «благо» среди пространства идей, как солнце среди небесного свода! Задумывались ли вы, Эвмений и Фариан, о том, как это прекрасно?».
Скользя серебряными ручейками по листве, свет создавал на своем пути хрустальные многогранники. Цикады оглушительно звенели на платанах у Илисса. Ветер с моря освежал их мысли на берегу Фалера. Соловьи рассыпались страстными трелями в садах Гиппиевого Колона. В рощах вокруг Акрополя влюбленные юноши гонялись в тени за девушками. Голубая дымка полуденного жара обволакивала Парнеф и Гиметт розовой сетью. Словно изнуренный непрестанной рубкой мрамора, склонил свою главу Пентеликон. От взволнованных движений его русые волосы сбились клоками, треугольная бородка поблескивала на солнце золотом, а черные глаза словно видели то, что недоступно видеть другим. «Приходилось ли вам задумываться об этом восхитительном путешествии от чувственного к разумному, Эвмений и Фариан? Приходилось ли вам задумываться о том, какой это божественный дар?»…
Зная, что характер города проявляется на его рынке, однажды утром Юлиан отправился на агору, чтобы убедиться в том, настолько отличны нравы современных Афин от Афин классических. С грустью вспомнил он исполненные пафоса слова оратора Эсхина: «Памятники всех великих дел наших находятся на агоре». Тщетно пытался Юлиан распознать в бакалейщиках, громко расхваливавших отвратительными голосами свой товар, их сладкоречивых предков, в булочниках – славившихся юмором и «рыночной насмешкой» пекарей, в ленивых цветочниках – расторопнейших продавцов «мирры» и миртовых венков, использовавшихся при жертвоприношениях. В стоявшем всюду шуме, от которого уши закладывало, торговцы маслом с грязными пифосами, лошадники с захудалыми четвероногими, горшечники со своей непривлекательной посудой, торговцы овощами, мясом, колбасами, медом, вином в засаленных бурдюках – все, спрятавшись под навесом от знойного солнца, отгоняли конскими хвостами мух подальше от своего товара. Ни одного прекрасного потомка Алкивиада, гордящегося своими искусно причесанными, уложенными в букли и надушенными кудрями. Ни одного атлета с мускулами, блестящими от масла палестры. Ни одного кифареда, который среди варварского говора и стона напомнил бы о том, что конечная цель всех этих отвратительных яств и бренных украшений для тела – радовать душу, создающую Слово.
После полудня Юлиан отправился в портики, где ораторы классических Афин выступали с речами, давая оценку действиям государственных мужей в области экономики, вооружений, колоний. И здесь его ждало разочарование: его современники старались получить сведения о цене льна в Египте и масла на Лесбосе.
Однако во время праздника Великих Панафиней Юлиан получил удовлетворение, глубоко тронувшее его сердце язычника. Это знаменитое празднество в честь богини Афины, хотя и дошло до его времени в поблекшем виде, тем не менее, благодаря своей зрелищности, еще несло в себе некий радовавший Юлиана жизненный блеск. И это в эпоху, когда угрюмые священнодействия христиан вызывали только грусть. В качестве чужеземца Юлиан присутствовал при живописных местных обрядах все десять дней со «священным бдением», «Всенощной» и всеми музыкальными, гимническими, конными и хорегиальными состязаниями. В течение целого ряда часов он испытывал обманное ощущение, будто живет в счастливые времена многобожия! Восторг его достиг высшего предела, когда Юлиан вместе с Эвмением и Фарианом оказался в праздничной процессии, сопровождавшей пеплос Афины из Керамика на вершину Акрополя.
Гимерий оставил нам яркое описание этой процессии. «Священный корабль на колесах, казалось, плыл по спокойному морю, поднимаясь по ровной и широкой улице с двумя рядами колонн, среди которых прохаживались афиняне и чужестранцы. Парусник был заполнен жрецами и жрицами из знатных родов в златотканных одеждах, а на головах у толпы были венки из цветов и с плодами. Корабль, возглавлявший шествие, поднимаясь беспрепятственно все выше, словно покачиваясь на легких волнах, приближался к холму, с которого наблюдала за священнодействием богиня. Когда же на какое-то мгновение паруса сникали, шествие возносило молитву Ветру, тот дул благосклонно, и паруса мгновенно раздувались вновь. Внутри Парфенона под звуки гимнов и молитв статую богини из золота и слоновой кости облачали в новый пеплос». Юлиан вспомнил, что в древние времена пеплос вышивали «аррефоры» вместе с «эргастинами». Тогда за этим следовали жертвоприношения Афине Полиаде и Афине Гигейе. Куски жертвенного мяса раздавали народу. Наконец, победители в состязаниях получали в награду «панафинейские амфоры»…
Взволнованный Юлиан спустился с Акрополя. Праздник со священнодействием произвел на него сильное впечатление. Он тихо беседовал с двумя друзьями, словно углубившись в глубокие раздумья. У театра Диониса им повстречались несколько соучеников-христиан, наблюдавших за обрядом. Юлиан учтиво снял с головы венок, чтобы не обидеть их. Это были неразлучные каппадокийцы Василий и Григорий со своей неизменной компанией – Гесихием, Теренцием, Софронием и Евсевием. Все они отличались прилежанием и замкнутостью характера. Встреч с другими товарищами они избегали. При этом Василий пользовался среди соучеников особым авторитетом после того, как, будучи главой каппадокийцев, одержал в риторике верх над заносчивыми армянами. Юлиан обрадовался, узнав, что в Малой Азии учителем их был Либаний. Он был счастлив обрести столь достойных друзей. Однако вскоре их фанатизм разочаровал Юлиана. Тем не менее, к слабосильному коротышке Василию, сыну аристократа-юриста, он относился с особым почтением. Это был единственный, кто мог соперничать с ним в философии.
Они стали все вместе спускаться вниз, беседуя о празднике. Несмотря на свою немногословность, Василий неустанно порицал «язычников» афинян за их неразумную настырность: они продолжали традицию, лишенную содержания, в эпоху, когда христианство уже восторжествовало… Смотря в упор на Юлиана, Григорий воззвал к долготерпению «единого и истинного Бога», чтобы тот простил неразумных афинян. Спина этого немощного поповича ссутулилась под дырявой одеждой от слабосилия и долгих часов учебы. В свои двадцать лет он уже облысел. Юлиан почувствовал на себе его испытывающий взгляд. Тем не менее, играя роль христианина, восхищающегося эллинским духом (как и они), он несколько раздраженно заметил, что в конечном итоге только добродетель определяет достоинство человека. В частице души Христа мог прекрасно продолжать жить какой-нибудь Пифагор или Сократ. И наоборот… Василий встрепенулся, словно громом пораженный: «Такое сравнение – чистейшее богохульство!» Он яростно глянул на Юлиана. «Христос – сын Божий, рожденный пред всеми веками». «Однако человеческая природа его, сколь бы ее не поглощала природа божественная, существовала…, – возразил Юлиан, сохраняя хладнокровие. – Именно потому, что она существовала, Христос с такой нежностью понял грешного мытаря, простил грешного разбойника, признал первенство за заблудшей овцой… Высочайшая вершина эллинского духа сияла христианской нравственностью. Это мы видим у Проэресия и у Гимерия – в этом духе они и учат…». Григорий сделал осуждающий жест. Может быть, его удержало сознание, что он говорит с родственником императора? Однако вскоре фанатизм возобладал, и он напомнил Юлиану, что «добродетель», о которой говорит Платон в «Государстве», названа там «бесхозной», так что одни ее почитают, а другие презирают…. Юлиан резко остановился. Этот фанатичный крестьянин из Назианза с тяжелым каппадокийским произношением ниспровергал его высочайшие нравственные ценности. Он глянул на обоих своих соперников горящим взглядом, содрогнувшись от возмущения. «Невозможно, чтобы добродетель была схожа с публичной женщиной, которая отдается всякому, кто пожелает ее… – язвительно сказал Юлиан. – Платон оставляет ответственность выбора за человеком, чтобы дать ему оценку по степени его собственной инициативы… Добродетель – не маска, за которой мы прячемся…». Василий вскинул голову, желая высказаться. «Нет добродетели вне Спасителя нашего Христа…» – резко сказал он. Раздраженный его враждебным тоном, Юлиан предпочел промолчать. Всякий раз разговор с каппадокийцами завершался ссорой, – это он знал со школы…
Они уже подошли к Часам Андроника Кирреста, остановились на мгновение и переглянулись в растерянности. Наконец, Юлиан улыбнулся и попрощался первым. Тем не менее, несмотря на любезные жесты, ни один взгляд не выражал любви. Собравшись уж было уйти, Юлиан вдруг задержался и посмотрел двум догматикам прямо в глаза. «Философия, – сказал он, – в свой высший час своего расцвета, создав диалектику Платона, учила, что фанатизм – враг Истины…». Он почувствовал, будто метнул в них парфянскую стрелу. Однако, несмотря на все свою раздраженность и схватку с каппадокийцами, домой Юлиан возвратился в хорошем настроении. Восторг, полученный от праздника, продолжался до глубокой ночи, не давая уснуть. В какое-то мгновение он сорвался с ложа. Нет! Назло Василию, Григорию и всем им подобным возможно в один прекрасный день возродить религию многобожия – только тогда империя снова обретет былую славу и добродетель!
С приходом осени Юлиан с головой ушел в учебу. Нередко он даже забывал поесть. Пальцы его были постоянно черны от «конспектов», составлявшихся в часы учебы. Он не любил бывать подолгу ни в лекционных залах, ни на ипподроме, ни на стадионе, ни в палестре. Держался в стороне и от театральных представлений. Не присутствовал на общих обедах учеников, напоминавших шумные словопрения в Пергаме. Избегал и общества женщин, будучи по натуре своей застенчив с ними. Единственным утешением в его одиночестве было знакомство с членами общины язычников. Неизменно веря (как впоследствии признается Юлиан в «Ненавистнике бороды») в то, что «стремление к более совершенному сильнее стремления к худшему», он чувствовал, что благодаря ограничению удовлетворяет чувство самообладания так же, как другие – благодаря удовольствиям удовлетворяют инстинкт эвдемонизма. Страстью его была философия, а великой радостью – получать посылки с новыми изданиями из Александрии, которые отправляла ему Евсевия. Для Юлиана это было ни с чем не сравнимым наслаждением. Он читал книги громко вслух, чтобы одолжить затем друзьям, начиная с каппадокийцев. Проэресий, хотя и был христианином, пользовался у него уважением, однако как ритор. («Изобилие твоих речей подобно водам рек, разливающихся по равнинам, в красноречии ты соперничаешь с Периклом», – напишет ему Юлиан впоследствии в одном из писем.) А Гимерий, вызывавший у него чувство сыновней любви, очаровывал его своим лиричным характером и мистицизмом, хотя его неологизмы Юлиан находил слишком театральными…
Пребывая в этом напряженном душевном настрое, однажды вечером Юлиан получил от Кельса сообщение, что у него остановился по пути в Италию ритор Фемистий. Охваченный волнением поспешил Юлиан в роскошный дом «вечного студента» приветствовать своего покровителя. Разве мог он забыть, что Фемистий оказал ему в решающий момент поддержку в его отношениях с Констанцием? Неделя в его обществе стала для Юлиана духовным пиршеством с нескончаемыми беседами и спорами. Видавший виды софист, умевший получать за свои удачные энкомии сильным мира сего (и христианам и язычникам) в качестве вознаграждения почести и статуи, не уставал повторять во время продолжительных прогулок, что философ должен уметь сочетать теорию с практикой и принимать активное участие в политической жизни. (Так он оправдывал свое звание сенатора, полученное от Констанция). Возражая ему, Юлиан приводил великий пример Сократа: «Цель философа – формировать души – достойных граждан. Нет! Философ не должен становиться политиком, – он должен давать городу высоконравственных государственных мужей. Платон, обладавший тщеславием стать политиком, однажды понял это… Человечество обязано Александром Македонским Аристотелю…». Фемистий резко остановился, удрученный настойчивостью Юлиана в дискриминации людей действия. Они шли по роще Академа. Осенний вечер бросал на деревья и на мрамор фиолетовые тени. Софист принял горделивую позу, в которой обычно изображают героев ваятели, и строго спросил: «А что если тебя когда-нибудь тебя призовут занять престол? Ты откажешься?». Юлиан на мгновение молча опустил долу взгляд, а затем ответил: «Представим себе человека, состояние тела которого требует, чтобы он упражнялся дома, с большими усилиями и делать ограниченное число упражнений. И вот вдруг приходишь ты и сообщаешь ему: «Теперь ты находишься в Олимпии, покинул свою домашнюю палестру, пришел на стадион Зевса, где зрителями являются все эллины, а в переднем ряду сидят твои сограждане, за честь которых должен бороться. Будут там и варвары, которых ты должен поразить, показав, используя свои возможности, что твоя родина способна внушать уважение…». И что же? Испугают ли его твои слова, повергнув в трепет еще до начала состязания? Вот что чувствую я сейчас…». Фемистий опустил голову, затем посмотрел Юлиану прямо в глаза. «Ты честолюбив, Юлиан, однако еще не осознал этого. В будущем твоем я усматриваю только одну миссию… Теория и практика, как душа и тело, составляют на этой земле благословенные богами пары. От первых рождается плодотворное дело, от вторых – верная мысль…». Юлиан вспомнил двусмысленные слова софиста, когда несколько дней спустя прощался с ним в Пирее: «Теория и практика, душа и тело, Фемистий?». «Да, Юлиан. Ничто не заставит меня изменить мнение. Прощай!»
Однажды солнечным утром во время перерыва, беседуя с каппадокийцами в саду школы, Юлиан без обиняков высказал мысль: «В Афинах есть достойные софисты и риторы, однако нет ни одного истинного философа!». Ему показалось, что на устах у каппадокийцев появилась язвительная усмешка. «Не испытываешь ли ты ностальгии по иерофантам Эфеса и Пергама?» – спросил Григорий, смотря Юлиану прямо в глаза, словно желая прочесть самые сокровенные его мысли. Юлиан понял намек, но счел трусостью скрываться за уклончивым ответом. Впрочем, не впервые эти неразлучные друзья намекали, что сомневаются искренности его веры во Христа. Однако сколь часто ни приходилось Юлиану спорить с ними, он не перестал чтить их душевную честность. «Для меня философия достигает своей цели с посвящением, то есть когда становишься достойным общаться с мистическими силами мироздания…», – ответил Юлиан, опустив взгляд. Григорий осуждающе покачал своей плешивой головой: «Таково назначение религии, Юлиан! Смешение их целей вызвано нравственным упадком нашей эпохи… Цель философии – организовать мысль, чтобы она могла постигать во всем высшую истину. Злой час философии начался тогда, когда эпигоны неоплатонизма пожелали привить ему элементы мистицизма для противостояния христианству, не учтя того, что христианство – религия откровения, что тебе должна быть дана милость Божья общаться с Богом, а не с мошенничеством теургов…». Юлиан почувствовал, как кровь мгновенно прильнула ему к лицу. Плечи его судорожно вздрагивали, словно реагируя на какой-то лежащий на них груз. Конечно же, младший из каппадокийцев метил в Ямвлиха! Сколь безрассудно ни было защищать язычника в логове христиан, Юлиан не мог позволить оскорблять своего духовного наставника. «Эллинский дух в своем вековом развитии следовал гениальной диалектике дерзких сочетаний тезисов и антитезисов, и поэтому всегда оставался актуален. Неоплатоники, следовавшие за Аммонием Сакком, Плотином и Порфирием только выражали дух своего времени… Дух, который в нравственном видении мира и человека созвучен христианскому, поскольку Клемент Александрийский подготовил появление Оригена… Следовательно, их последователи испытали влияние двух родственных течений…». Назианзин, не перестававший во время речи Юлиана следить за ним суровым взглядом, засмеялся. Однако Василий, который успел уже помрачнеть, раздраженно поднял руку. «Христианство – не система идей, Юлиан! Об этом тебе говорил и Григорий. Ты всегда забываешь об этом, потому что по складу характера своего склонен к рассуждению… Мы, христиане, изучаем эллинское наследие, потому что это оттачивает нашу мысль, потому что это помогает осмыслить христианское учение. Однако за искусностью его мы видим его неспособность постичь высшую истину – существование единого и истинного Бога Спасителя… Вместо создателя эллинский дух узрел создание, вместо его святого лика – идолов, вместо его света неугасимого – отблески волхвований… Древняя мудрость дает нам не саму добродетель, но только отображение добродетели… Я собираюсь написать когда-нибудь труд, в котором дам советы юношам, какие из текстов древних авторов могут оказаться им полезными…». Юлиан вздрогнул, словно пораженный стрелой. Лицо его исказилось. «Гераклит, Пифагор, Сократ, Платон… были воплощениями добродетели, зрели лик единого бога…» – прерывающимся от волнения голосом произнес он. Василий усмехнулся, непоколебимый в своей уверенности: «Однако у них не было силы возвестить о своей вере из страха мученичества, тогда как смиренные христиане стремились к тому, сотнями восходя на костры…». Юлиан затрясся всем телом. «Сократ!… Сократ!… Разве он не презрел смерть?». Григорий подошел и, спокойно став рядом, сказал: «Он выпил цикуту, чтобы защитить условные человеческие законы… А в последнее мгновение даже напомнил ученику, чтобы тот принес в жертву Асклепию петуха…».
Звон колокольчика позвал их в зал. Они разошлись. Чуть позднее, склонившись, чтобы сделать записи урока астрономии, Юлиан глянул на Назианзина. Ему показалось, что во взгляде поповича он увидел его образ таким, как его преображал фанатизм нетерпимости, – с дряблой шеей, нервно подрагивающими плечами, испуганными глазами, вращавшимися, словно у маньяка, непрестанно двигающимися ногами, носом, который выражает презрение, комическими гримасами, астматическим смешком и быстрой, прерывистой манерой речи, привыкшей переходить от одной теме к другой без всякой связи, задавая бессмысленные вопросы и давая невразумительные ответы. Тем не менее, Юлиан улыбнулся ему незлобиво…
В один из холодных дней, возвратившись с обычной прогулки в рощу Академа, Юлиан увидел Эвмения и Фариана, которые ожидали его у дома. Товарищи по учебе принесли неожиданную весть: давно уже путешествовавший по Греции Приск прибыл из Коринфа в Афины! Он остановился в доме у Гимерия. Юлиан воодушевился. Наконец судьба устроила их встречу в городе Паллады. В тот же вечер Юлиан посетил в доме Гимерия любимого ученика великого Эдесия. Софист сразу же очаровал его своей внушительной внешностью и прекрасным лицом. Юлиан много слышал о его исключительности: это был ужасно замкнутый человек, со строгими нравами. Чувство собственного достоинства удерживало его в стороне от кичливых диспутов коллег, которые называли его по этой причине «невеждой», а он их – «мотами», потому что они разглашали, словно дешевый товар, свои идеи вместо того, чтобы хранить их как сокровище. Говорил он медленно, как-то церемонно, не спеша излагая свои мысли. Чувство достоинства присутствовало в каждом его движении. (Тем не менее Евнапий характеризовал его как «скрытного».) Юлиан почувствовал неодолимую привлекательность его личности. Он не замедлил довериться в своем разочаровании господствовавшим в Афинах рационализмом, который был показом знаний и красноречия, лишенным свежести истинной мудрости. Все это создавало ощущение духовного бесплодия. Единственной радостью для него здесь было находиться среди прославленных развалин, а также знакомство с общиной язычников, упорно придерживавшихся своих обычаев. Тем не менее, язычники его времени уже сильно отличались от динамичных афинян времен апостола Павла, которые триста лет назад разразились смехом, услыхав на Пниксе, как тот рассказывает о «воскресении из мертвых», и ушли, иронично ответив: «Об этом мы тебя послушаем в другой раз…». Нынешние афиняне были робкими фаталистами… Юлиан заговорил тише: «Однако все они, богатые и бедные, молодые и старые, мужчины и женщины, искренне верят, что многобожие снова станет официальной религией». Когда Юлиан тайно встречался с ними, они говорили: «Храмы восстановят, снова разрешат жертвоприношения, снова спустятся с Олимпа радостные боги…». Он испытывал ностальгию по иерофантам Пергама и Эфеса. Как недоставало ему их мистического учения! Ему не посчастливилось в течение длительного времени слушать великого Эдесия. Уже глубокий старик, теург опасался, как бы присутствие Юлиана среди его учеников не вызвало подозрений у полиции. Однако посвящение, совершенное Максимом, было великим часом в его жизни… Молча слушавший Юлиана Приск в какое-то мгновение простер руку и погладил его по кудрявым волосам. Сильное впечатление произвела на него непосредственность Юлиана: его черные глаза словно метали огонь. Приск подсел к Юлиану ближе. Ему нужно посетить Элевсин. Иерофант Несторий исцелит его душу от тоски. Он тоже долго беседовал с тамошними жрецами… Быстрым движением Юлиан поднес руку софиста к своим губам. Тот же совет дал ему и Максим в Эфесе. Уже давно он думает о путешествии на Пелопоннес. Несомненно, Элевсин станет для души его целительным источником. После этого они молча смотрели друг на друга – как много еще предстоит им говорить…
Нежданное ненастье заставило Юлиана отложить поездку на Пелопоннес. Когда погода улучшилась, Эвмений и Фариан, знавшие об истинной цели путешествия, предоставили ему повозку. Волнение охватило Юлиана, когда однажды осенним утром он выехал на Священную Дорогу. Смотря рассеянно на воспетую Софоклом масличную рощу, он думал о тех славных днях, когда великое шествие во главе с элевсинским иерофантом, несущим «тайные святыни», и «иакхогом», несущим кумир Иакха, двигалось по Священной Дороге в Элевсин. Тысячи участников нескончаемой процессии, прибывших со всех концов Греции, с миртовыми венками на голове двигались чинно, торжественным шагом. На мосту через Кефис элевсинцы встречали их восторженными возгласами и насмешками, а потомки древнего царя Крокона, едва процессия подходила к Ретам, надевали каждому посвященному повязку на предплечье и на ногу. Уже ночью вступали в Элевсин, держа в руках горящие факелы. В святилище, где происходил «прием Иакха», «тайные святыни» клали на то место, откуда их взяли шесть дней назад, чтобы унести в Афины. Наконец, в ограде святилища, входить куда имели право только посвященные, происходил обряд Великий Мистерий…
Глядя на Саламин, Юлиан вдруг резко остановил повозку. Руки его, державшие вожжи, задрожали. В волнении ему показалось, что он видит место, где варварская материя вступила в бой с Аполлоновым духом… Битва исполинов! Разве теперь кто-нибудь помнил об этих святых местах, кто прибывал сюда поклониться им? Неблагодарное время: люди, почитавшие древность прятались в страхе; вредоносные галилеяне целыми стадами устремлялись в Иерусалим; Греции грозила потеря даже собственного имени!
Исполненный благоговения, вступил Юлиан в святилище Деметры и Персефоны. Конечно же, Эдесий и Приск хорошо помнили иерофанта Нестория, советуя Юлиану пройти у него посвящение.
Присутствие Юлиана обрадовало элевсинское жречество. Во времена полного упадка посещение столь знатной особы придавало смелости и вселяло надежду. На следующий же день Юлиан начал проходить обрядовое приготовление, во время которой, пройдя очищение, увенчанный миртовым венком он удостоился вступить в святая святых двух подземных богинь. Там ему было позволено зреть символы, находившиеся в священной корзине. Он увидел друга Триптолема – змею между плодами граната и ветвями смоковницы. Он принял участие в символической трапезе, выпил «кикеон» и прикоснулся к священным сладостям. В сумраке ночи освещенные огромные статуи казались фантасмагорией. Он присутствовал при обрядах и священных плясках. Дважды опрокинул «племохою», напомненную неизвестной жидкостью (вызывавшей галлюцинации), пролив ее в земные скважины, поворачивая на восток и на запад и повторяя слова: «Konx, ompax», бывшие прозвищами богини Деметры, способствовавшими произрастанию плодов. Он услышал, как иерофант (в длинном до пят хитоне и с волосами, развевающимися волосами, собранными вверху под пурпурной повязкой) вдохновенно произносит наставления посвященным: «Лей, оплодотворяй!», «Святого отрока Брима родила владычица Бримо»…
В следующие дни Юлиану была предоставлена возможность беседовать с иерофантом Несторием, который, согласно преданию, происходил из рода Эвмолпидов, а также с факелоносцем, который должен был происходить из рода Кериков. Беседовали они о значении Элевсинских мистерий, в которых иерофант олицетворял бога-творца Гелиоса, жрица алтаря – Селену-Артемиду, а жрец-глашатай – Гермеса. Юлиану дали сохранившиеся с давних времен толкования, касающиеся великого осеннего праздника, символизировавшего возвращение богини плодородия в свое подземное царство с целью спасения земли от разрушительных сил зимы. По вечерам, после благочестивого ужина, в кругу храмового жречества – жрицы алтаря, жрицы Деметры, спондофоров, пресвятой жрицы, пресвятых жрецов, иакхога, жреца и жрицы бога и богини Эвбулея, певцов и певиц гимнов – Юлиан уже без опасений говорил о деле многобожия, выслушивал мнения и надежды, обсуждал перспективы на будущее… Имена Эдесия, Приска и других теургов из Пергама и Эфеса часто звучали из их уст. В тоне панегирика к Юлиану взывали, умоляя не забывать о богах предков, если судьба удостоит его стать императором…
Святилище Юлиан покинул, очистившись телом и душой. Элевсин оказался целебным источником, как он и ожидал. Однако, если в Телестерии он открыл свое сердце без каких-либо опасений, с язычниками, с которыми довелось общаться во время своего путешествия по Пелопоннесу, Юлиан держался весьма настороженно из опасения доноса. Везде, где он побывал – в Аргосе, Коринфе, Сикионе, Спарте – люди всех возрастов и сословий, взволнованные его присутствием, тайно вверяли ему свое великое чаяние: взойдя на престол империи, он должен стать спасителем языческого мира, восстановить религию многобожия во всем ее былом блеске. Юлиан не скрывал своего восторга перед почитателями эллинской мудрости. Стало быть, это не была утопия: эллинский дух молча совершал свое дело, подрывая устои христианской религии…
Юлиан возвратился в Афины, воспрянув духом, и был потрясен там нежданным известием: Констанций вызывал его в Медиолан! Подозрения сразу же пали на Евсевия. Конечно же, этот «проклятый андрогин» со своей кликой, не мог успокоится, пока Юлиан пребывает вдали от его сетей, подбил непрестанно подозрительного императора на принятие этого внезапного решения, несмотря на противодействия Евсевии. Но достигли ли слуха императора обвинения в тесных связях Юлиана с язычниками? Ведь и благочестивый христианин мог из любопытства принимать участие в Панафинейских торжествах. Однако присутствие там его, Юлиана, могло бросить тень на императора. В таком случае совсем необдуманным было его посещение Телестерия в Элевсине. И его путешествие на Пелопоннес. И разговоры, которые он вел в школе. И встреча с Приском. Юлиан не мог уснуть, думая о своих ошибках, совершенных за семь месяцев пребывания в Афинах. Какой тревогой он снова расплачивался за духовные наслаждения! О, это кошмарное напряжение, колебание между кажущейся свободой и угрозой казни, терзавшие его душу вот уже двадцать четыре года…