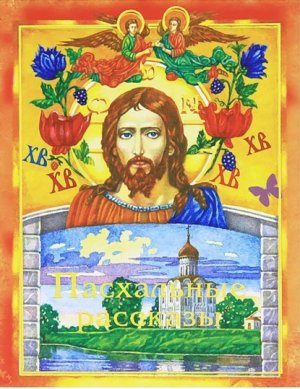
© ООО «Издательство «Лепта Книга», оформление, 2024
Варвара Брюн де Сент-Иполит
Торжество Пасхи в Иерусалиме
В прошлом 1859 году, отправляясь в Иерусалим, я желала поклониться Св. Гробу в уединении, а не в толпе поклонников, не во время Страстной недели и Пасхи, когда Иерусалимский храм осаждаем бывает множеством народа. Недалеки были мои странствования по окружностям; меня что-то приковывало особенно к Голгофе и Гефсимании – у гроба Пресвятой Богородицы.
Исполнившись чувством святой любви к нашему Спасителю, посетив омытые пречистой Его кровью священные места, где все осязательно напоминает о Евангельских событиях, чего еще могла я желать? Но Божию милосердию угодно было даровать мне возможность видеть и то, как в Иерусалиме совершается торжество торжеств Православной нашей Церкви. Позвольте поделиться с вами тогдашними моими впечатлениями. Прежде всего скажу о сошествии Благодатного огня в Великую Субботу, совершающемся ежегодно в одно и то же время над самым Гробом Господа. Пусть ученые-естествоиспытатели придут и посмотрят на это чудесное явление, которое объяснить человеческий ум никак не в состоянии. Положивши предел морским волнам, остановил здесь полет гордого ума и пленяет его в послушание веры.
В Великую Субботу в Феодоровском монастыре рано утром все поклонницы ленточками связывали в пучки маленькие пестрые свечи, так, чтобы каждый пучок состоял из 33 свечей – в память числа лет Христа Спасителя. В 10 часов утра, после обедни католической, наши православные на Гробе Господнем потушили все лампады, а в церкви – все свечи. Во всем городе и даже в окружности не осталось ни у кого и одной искры огня. Только в домах католиков, евреев и протестантов огонь не угасает. Даже турки следуют обычаю православных и в этот день тоже приходят в храм Гроба Господня. Я видела, как дети их держали в своих руках пучки свечей, и говорила с ними через переводчицу. С этими детьми были и возрастные. Но приступим к описанию самого события.
В 12 часов пополудни двери храма отворены и собор полон народа. Все без исключения – старый и малый – идут в церковь. На переходе из Воскресенского храма в кувуклию есть особенные места, где расположено несколько широких лестниц за решеткой. С этих возвышений открывается вид и в Воскресенский, и в Кувуклию. Греки в большие праздники предоставляют их русским дамам. По множеству народа мы с трудом пробрались туда. Кавас русского нашего преосвященного пришел и поставил нас на хорошие места. Толпами поклонников не только наполнены были все пять ярусов хор, но и на стенах, где только можно было сколько-нибудь держаться, везде сели арабы. Один обратил на себя особенное внимание: он уселся на ручке большого канделябра пред иконой и еще посадил на колени дочь свою, девочку лет семи, и во все время оставался на своем месте. В храм набежали с гор бедуины с бритыми головами, женщины с нанизанными на голове и на носу деньгами и прикрытые белыми чадрами. С ними были и дети разных возрастов. Все это суетилось, хлопотало и нетерпеливо ожидало Благодатного огня. Между народом стояли турецкие солдаты и унимали ружьями волнующихся арабов. На эту пеструю картину смотрели с любопытством католические монахи-иезуиты, между которыми находился и наш русский князь Гагарин, 18 лет тому назад перешедший в Латинскую Церковь.
Царские врата Воскресенского собора были отворены, и там виднелось высшее духовенство всех христианских вероисповеданий. Иерусалимскому патриарху ныне случилось в первый раз присутствовать на этой церемонии, потому что в прежние годы Его блаженство проживал в Константинополе. Однако в алтаре распоряжался наместник его, митрополит Петр-Мелетий, и сам принимал Благодатный огонь. То же было и теперь. Он с воскресенья (Недели Ваий) ничего не вкушал, кроме просфоры, и даже не позволял себе выпить воды; от этого заметно был бледнее обыкновенного, впрочем, спокойно говорил с причтом. Каждый присутствующий имел в руках большой пук свечей; а другие, стоявшие вверху на хорах, спустили на проволоках несколько таких пучков, и эти пучки висели по стенам в ожидании небесного огня. Все лампы налиты новым маслом, в люстрах поставлены новые свечи, но фитили нигде не обожжены. Иноверцы с недоверчивостью, тщательно вытирают все углы в Кувуклии и сами кладут вату на мраморную доску Гроба Господня… Торжественная минута приближается, у каждого невольно бьется сердце… Так как все сосредоточены в одной мысли о сверхъестественном явлении, то у одних при этом возникает сильное сомнение; другие, более благочестивые, молятся от души, с сердечным убеждением и надеждой на милость Божию; а иные по одному любопытству равнодушно ждут, что будет…
Вот наконец луч солнца блеснул в отверстие над Кувуклией и осветил эту картину… Погода ясная, в воздухе жарко, весенний ясный день востока! Вдруг показалась туча и заслонила то самое отверстие, в которое падал луч солнца.
Туча угрожала дождем и стояла над самой кувуклией Гроба Господня. Я испугалась: мне показалось, что сейчас прольет дождь на всю эту толпу, что уже не будет Благодатного огня и что народ от досады растерзает преосвященного наместника. Сомнение омрачило мое сердце; я стала укорять себя, зачем осталась. Разве не довольно было ожидать несбыточного явления?
И, размышляя таким образом, все более и более волновалась. Вдруг в церкви все стемнело… мне стало грустно до слез… я усердно молилась… Арабы начали кричать, петь, ударяли себя в грудь, молились вслух, поднимали руки к небу; кавасы и турецкие солдаты стали унимать их. Картина была страшная, тревога всеобщая!.. Между тем в алтаре, начинают облачать наместника – не без участия в этом иноверцев. Клир помогает ему надеть серебряный стихарь, подпоясывает его серебряным шнурком, обувает – и все это совершается в присутствии духовенства армянского, римского и протестантского. Облачив его таким образом, ведут под руки с обнаженной головой из Воскресенского храма между двух стен солдат, в предшествии нарядных кавасов, до двери Кувуклии и запирают за ним дверь. И вот он один у Гроба Господня. Опять тишина. Облако спускается на народ крупной росой… досталось и мне на мое белое батистовое платье.
В передней комнате с обеих сторон Кувуклии есть в стенах круглые отверстия, чрез которые игумены и настоятели окрестных монастырей подают высокопреосвященному наместнику свечи. Нельзя себе вообразить ту минуту, когда затворяется дверь за настоятелем в Кувуклии… В толпе обнаруживается невольное благоговение. В ожидании знамения с неба, все смолкает… но не надолго; вот опять беспокойство: кричат, мечутся, молятся; волнующихся снова унимают. Наша миссия была на кафедре над царскими вратами; мне видно было благоговейное ожидание преосвященного Кирилла. Взглянула я также на стоявшего в толпе князя Гагарина. Лицо его мне было хорошо видно: оно выражало грусть; Гагарин пристально всматривался в Кувуклию… Вдруг из бокового отверстия показывается пук зажженных свечей… В один миг игумен, архимандрит Серафим передает свечи народу. Вверху Кувуклии все зажигается: лампады, люстры; все кричат, радуются, крестятся, плачут от радости; сотни, тысячи свечей передают свет одна другой…
Арабы опаляют себе бороды, арабки подносят огонь к обнаженной шее. В этой тесноте огонь пронизывает толпы: но не было примера, чтобы в подобном случае произошел пожар. Общего восторга описать нельзя, изобразить картину невозможно; это чудо неизобразимое. После солнца тотчас облако, потом роса и вследствие росы – огонь. Роса падает на вату, которая лежит на Гробе Господнем, – и мокрая вата вдруг загорается голубым огнем. Наместник необожженными свечами прикасается к вате – и свечи зажигаются тусклым голубоватым пламенем. Зажженные таким образом свечи владыка передает стоящим у отверстий лицам. Замечательно, что вначале от такого множества свечей в церкви – полусвет: лиц не видно, вся толпа в каком-то голубом тумане; но потом все освещается и огонь ярко горит. Передав всем огонь, наместник выходит из Кувуклии с двумя огромными пуками зажженных свечей, будто с факелами. Арабы хотели, по обыкновению, нести его на руках; но владыка от них уклонился и сам, как в тумане, прошел скорыми шагами из Кувуклии в Воскресенский собор. Каждый старался зажечь свою свечу от его свечей; я была на пути его шествия и тоже зажгла. Он казался прозрачным; седые его волосы развевались по плечам; широкое чело было без морщин, но лицо подернулось необыкновенной бледностью; весь он был в белом: два факела в его руках, глаза устремлены к небу, вдохновение горело в его очах: народ видел в нем вестника небесного. Все плакали от радости. Но вот между народом прошел невнятный гул. Я нечаянно взглянула на князя Гагарина – вижу, у него градом текут слезы и радостью сияет лицо… Как с этим выражением в одном и том же человеке соединить вчерашнюю его проповедь на Голгофе, которую он произнес на французском языке и заключил так: «Теперь остается пожелать одного – чтобы мы все сделались католиками и покорились папе». Вчера произносил он преимущества своего исповедания; а сегодня, пораженный явлением благодати, льет слезы. Не есть ли это порыв забытой веры, возбужденный общим восторгом? Не есть ли это поздний плод тайного раскаяния и отклик души некогда православной, но легкомысленно отпавшей от единой истинной и спасительной Церкви Христовой? Где же он, представитель искреннего своего убеждения: там ли, на возвышении кафедры со словом поборничества за права папы, или здесь – в толпе народа, со слезами на глазах, как с невольной данью родному чувству, призывающему его воздать Божие Богови?
Но возвратимся опять к избранному Богом стражу Гроба Господня. Надо было видеть, с каким торжеством этого вестника благодати Божией принял в свои объятия патриарх; да и все духовные наши наперерыв обнимали его и принимали из святых его рук зажженные свечи. За этим последовала обедня, которую служил сам патриарх со всем духовенством, облеченным в блестящие золотые ризы. Между тем бедуины в диком восторге берутся в кружок и пляшут посередине церкви как бы вне себя от радости; становятся друг другу на плечи, поют и молятся по-своему, пока изнуренные падают. Никто не останавливает их – как детей, выражающих восторженное состояние своей души по-своему. После обедни все бегут домой с огнем – зажигать лампады: кто к Илье пророку в Крестный монастырь, кто в Вифлеем, кто в Гефсиманию. Огни по улицам в продолжение дня, при солнечном свете: – картина необыкновенная, оригинальная! Это осязательное, так сказать, присутствие самого Бога на гробе Божественного Сына Его, в земле чудес, сильно развивает любовь к Православной Церкви и остается в памяти сердца неизгладимо.
Вечером патриарх прислал к нам своего секретаря, а наместник своего племянника, чтобы дать нам удобные места в храме. Так как наша Пасха в этот год пришлась вместе с латинской, то великолепно были освещены все части храма. У нас служба в Воскресенском соборе началась в 11 часов. Служил сам патриарх. У иноверцев в то же время начались крестные ходы с хоругвями. Сперва двинулись копты, которые имеют свой алтарь за Гробом Господним; потом абиссинцы, которых церковь против коптской; затем армяне, в предшествии своего великолепно одетого патриарха, и наконец латиняне с музыкой и органом. Ровно в 12 часов наши православные, остановившись с крестным ходом у самого гроба Христа Спасителя, запели «crisoj £ne/sth» (Христос воскресе)! Великолепие крестного хода описать невозможно. На патриархе блестящие золотые ризы с изображением Воскресения Христова, изящно вышитые и унизанные драгоценными каменьями; в руках его новый крест с частицей Животворящего Древа, отделанный в Константинополе; в таком же облачении и наместник с драгоценным крестом в руках; потом следует русский архиерей в новой золотой ризе. Все эти облачения и кресты – приношение константинопольских греков. Процессия вступила в собор, – и началась греческая служба. Евангелие читалось на девяти языках.
Патриарх благословил русских служить в Кувуклии на гробе Спасителя. Греческий архимандрит отец Виссарион, который хорошо говорит по-русски, и миссионер отец Леонид, с архиерейскими певчими, пели обедню, в пении которой участвовали также многие поклонники и поклонницы, именно: Л.И. Казнакова, княгиня Шаховская, О.Н. Брянчанинова, И.А. Смирнова и я; князь Волконский, И.И. Карцов, Н.И. Брянчанинов, г. Абресков, г. Дурново, А.И. Макшеев. Дам поставили на возвышение на мраморные скамьи подле Кувуклии. С каким радостным чувством пели мы «Христос воскресе!» на том самом месте и в тот самый час, когда совершилось многовековое предсказание о пришествии Искупителя рода человеческого! Куда делась наша усталость! Мы пели вполголоса, но вокруг нас царствовала тишина. Иноверческие службы кончились, и тогда все, не оставляя храма, подошли к нам. Латинские духовные стояли ближе всех, и с ними опять стоял князь Гагарин. Стоя в толпе, он и не думал, что мы сверху можем видеть его. Тут я снова заметила, что Православие трогало его. Он, заплаканный, молился с чувством и, как видно было, слушал пение наше с удовольствием.
В два часа ночи все кончилось. Мы по-русски похристосовались между собой. На лестнице монахи из патриархии раздавали приходящим красные яйца и вино. Находясь здесь, невольно переносишься мыслью в то блаженное время, когда земля освящалась присутствием Христа Спасителя.
Все события Его жизни представляются так живо, что сердце трепещет от радости и питается духовным утешением! Многие из русских причащались на Гробе Господнем, а я причастилась еще накануне, в Архангельской церкви Русской миссии.
После нескольких часов отдыха мне нужно было поздравить его высокопреосвященство наместника Петра-Мелетия. Хотя во время десятимесячного моего пребывания в Иерусалиме я привыкла с ним обращаться как с добрым отцом, но тут, представляя в нем орудие небесной благодати, преподанной нам свыше чрез его святые руки, не смела приблизиться к нему и со страхом стояла у порога скромной его кельи. Владыка сидел на барсовой коже на полу, где обыкновенно сиживал. Заметив мою робость, он улыбнулся и сказал: «Чего ты боишься? Вот уже тридцать лет, как Бог сподобляет меня принимать Благодатный огонь. Прежде ты не боялась меня – не бойся и теперь, подойди; я тот же грешник. Христос воскресе!» Я ободрилась и подошла, стала на колени и приняла его благословение. Он очень похудел и побледнел, но выражение его лица было тем приятнее и характеризовалось необыкновенным спокойствием. Он смотрел на меня внимательно и, прозорливо угадывая совершенное мое убеждение в знамении Божией благодати, сказал: «Ныне благодать уже сошла на гроб Спасителя, когда я взошел в Кувуклию: видно вы все усердно молились, и Бог услышал ваши молитвы. Бывало, долго молюсь со слезами, и огонь Божий не сходил с небес до двух часов, а на этот раз я уже увидел его, лишь только заперли за мною дверь!» Я откровенно призналась ему в колебавшем меня сомнении и в испуге от набежавшего облака. Потом он спросил: «Не правда ли, что половина церкви была в тени?» Помню, что, не принимая еще благодати, я заметила это. «А на тебя пала ли роса благодатная?» Я отвечала, что и теперь еще видны следы на моем платье, будто восковые пятна. «Они навсегда останутся», – сказал владыка. Это так и вышло:
12 раз отдавала я мыть платье, но пятна все те же. После того я спросила, что преосвященнейший чувствовал, когда выходил из Кувуклии, и отчего так скоро шел? «Я был как слепой, ничего не видел, – отвечал он. – Если бы не поддерживали меня, упал бы!» Это и приметно было; глаза у него будто не глядели, хотя открыты были. Тут я рассказала ему наш восторг, что нам позволено было участвовать в пении в светлое Воскресенье у Гроба Господня. На это он улыбнулся и сказал: «Русские у нас свои. Видишь, какая ты счастливая: Бог сподобил тебя послужить Ему на том месте, где сам воскрес. Ты и ко Гробу приложилась без труда во время литургии. Не забывай никогда этого дня. Много бывает в мире и почестей, и удовольствий; но такого счастья немногие из русских твоего сословия могут в жизни удостоиться. Вспомни меня: где бы ты ни встретилась с твоими товарищами настоящего дня, везде встретишься с ними как с родными. Тут сообщаются духовные чувства». Мы пошли к нашему архиерею, там по-русски разговорились; он принимает ласково и радушно. Потом отправились поздравить патриарха – доброго старца, замечательного по простоте радушного приема.
Вечерню служили соборно. Евангелие читалось опять на 9 языках. После вечерни все духовенство, начиная с патриарха, сидело в креслах лицом к народу, с крестами в руках.
Народ ко всякому духовному лицу подходил христосоваться и давал ему красное яйцо. На другой день караваны всех вероисповеданий потянулись назад восвояси.
Н. Колосов
Не может быть
В. Розанов
- По убогой, запущенной церкви ходит священник.
- Кадит и поет: «Хвалите имя Господне,
- хвалите, рабы Господа»… Поет и кадит,
- а рабов-то и нет: в церкви пусто…
У же с середины поста у о. Петра по обыкновению стало создаваться предпраздничное настроение. Самый пост становился о. Петру все ближе и дороже. Он не только привыкал к строгому воздержанию, но находил в нем особенную прелесть и сладость. Пост усугублял радость ожидания. И часто о. Петр думал:
– А некоторые не любят поста. Бог с ними, но я не понимаю: зачем они умаляют радость праздника? В пост как-то углубляешься в мысли о Христе, об Его уничижении, об Его терпении и страстях. В пост страдаешь вместе со Христом, а потом в воскресении вместе с Ним воскресаешь.
И о. Петр простаивал долгие покаянные службы, довольствовался супом с грибами и чаем с медом, с улыбкой смотрел, как все ниже и ниже падают снежные сугробы, как по утрам покрываются они глянцевитым ледяным слоем, который серебристыми брызгами горит на великолепном – веселом и вместе меланхолическом – солнышке.
– А вот здесь и не тает, – говорил про себя о. Петр, когда, проходя из церкви после исповеди, видел близ узкой извилистой тропинки доску или клок соломы, под которыми снег не таял и стоял маленьким, но задорным бугорком.
О. Петр перебрасывал доску или солому на другое место и радовался, когда, проходя по узкой извилистой тропинке на другой день, уже не видел задорного бугорка.
– Быстро тает. Скоро Пасха.
И чем дальше шло время, тем напряженнее становилось у о. Петра чувство ожидания праздника. Он чувствовал, будто сердце у него ширится и растет в груди. С половины шестой недели начались уже и приготовления к празднику. В церкви очищались от пыли иконы, киоты, мылись стены и пол, наводился блеск на золотые вещи, на сосуды, приготовлялись лампадки и фонари для иллюминации, пересматривалась ризница, псаломщик в церковной школе устраивал спевки к празднику. Готовили концерт «Да воскреснет Бог». Псаломщик назначал спевки по вечерам, около 6 часов. Часов в деревне было немного, а те, какие были, показывали время по-разному. Поэтому некоторые дисканты и альты приходили в школу около 4 часов и раньше. Кроме певчих, к школе собирались любители пения, и около школы всегда толпился народ. От этого казалось, что праздник совсем близко, что его уже вышли встречать. Школьный сторож Трофимыч чувствовал себя на спевках чем-то вроде героя и виновника торжества, с важностью генерала ходил по школе, зачем-то передвигал парты, делал сердитые замечания шаловливым дискантам и жарко-прежарко топил печку, ни под каким видом не позволяя зажигать ламп:
– Нынче керосин-то дорог.
Пели с восковыми свечами. И это пение в полутьме большой классной комнаты, с темными силуэтами слушателей по углам и с красными, дрожащими бликами по стенам от горящих дров в печке, придавало спевкам отпечаток чего-то необычного, с одной стороны, торжественного, важного, с другой – спешного, торопливого, экстренного.
О. Петр любил заходить на собрания в школе после вечерен, и необычная обстановка спевок еще более усиливала предпраздничность его настроения:
– Скоро Пасха.
Со Страстной недели начались приготовления и в самом доме о. Петра. Здесь тоже чистили, мыли, скоблили, рубили. Все в доме было в движении, все шумело, суетилось, воскрикивало, восклицало, скрипело, стучало, звенело. В доме о. Петра приготовления велись совсем не так, как в церкви или на спевках, без торжественности и без внутренней сосредоточенности. Здесь, наоборот, все было нервно и иногда вздорно и смешно. И тем не менее, когда о. Петр видел, как кухарка, растрепанная, грязная и сердитая, моя квашню и посуду, безпощадно плескала воду направо и налево и глухо ворчала что-то себе под нос по адресу матушки, – о. Петр и в этом ворчании кухарки слышал одно:
– Скоро Пасха.
Сегодня Страстная суббота. Последний день… Пасха завтра… Во время обедни за пением «Воскресни Боже» переменили облачение на престоле, на жертвеннике, на всех аналоях. Вместо темного надели все белое, сверкающее. Раскрыли ярко вычищенные подсвечники и паникадила с вставленными в них высокими белыми, с позолотой свечами. В церкви сразу стало как-то непривычно бело, светло и чисто. После обедни благочестивые женщины еще раз вымыли пол, украсили иконы и подсвечники розовыми и белыми цветами; староста со сторожем расставили по иконостасу и по аркам лампадки с маслом так, что они образовывали вензеля «Х.В.» и целые фразы: «Радуйтеся людие! И паки реку: радуйтеся!», «Несть зде, но воста» и т. д. В 7 часов о. Петр положил начало чтению «Деяний», потом пришел домой, немного закусил, выпил два стакана чаю и, чтоб подкрепиться силами к служению праздничной утрени, прилег отдохнуть, распорядившись непременно разбудить его к половине одиннадцатого.
О. Петр сильно устал от службы и от поста на Страстной неделе. Предыдущую ночь он совсем не спал. Утреню служили около часу ночи. Спать хотелось, но как-то странно было спать в необычайный, таинственный вечер пред пасхальной заутреней. Тем не менее о. Петр прилег. Усталость чувствовалась во всех членах. Все тело как будто каменело, но в груди было так много жизни и острого, горячего чувства праздничной радости, что о. Петр долго ворочался с боку на бок, как это бывает при нервной взвинченности во время бессонницы. Но, как бы то ни было, усталость превозмогла напор чувств, и о. Петр забылся.
И каково же было его смятение, его ужас и страх, когда он, проснувшись, увидел, что часы показывают… половину второго.
– Боже мой! – растерялся о. Петр, – полночь давно прошла… Что же это такое! Как случилось?.. Не разбудили… Не разбудили… Как это так? Как это… Но где же все?
О. Петр в замешательстве метался по комнате, хватался то за одно, то за другое, брал не то, что было нужно, путался, задевал за стулья, уронил лампу, разбил стекло у часов.
– Боже мой! Ничего не найдешь… Да где же все? Уехали в другое село? Боже! Что такое? Кто здесь? Кто здесь? – вскрикивал о. Петр.
Кое-как ему удалось набросить на себя рясу, и он с взъерошенными волосами, горячий, потный, стремглав бросился на улицу. Но едва он вышел за калитку двора, как в онемении остановился.
– Что это?
На площади вокруг церкви было совершенно темно и пусто. Ни в одном окне не было видно ни огонька. Не было слышно ни звука. Это совсем не так, как в пасхальную ночь. Тогда церковь и изнутри и снаружи горит сотнями огней. Тогда гул голосов на площади несется далеко за реку и эхом отдается где-то там в горах. А это? Боже!..
О. Петр не мог двинуться с места. Взгляд его упал на деревню. И тут все было как обычно. Ночь как ночь. Самая обыкновенная ночь. В крестьянских избах темно. Вокруг ничто не зашелохнет. Слышно, как работает на реке водяная мельница.
– Работают! – ужаснулся о. Петр, – в такой день работают!.. И он почти прокричал:
– Не понимаю! Ничего не понимаю.
На крик о. Петра отозвалась где-то на деревне собака. На чьем-то дворе звякнуло ведро, и послышался голос:
– Да тпру, стой!.. Тпру…
Ничего похожего на пасхальную ночь.
О. Петр в недоумении бросился опять к себе в дом. Везде тишина. Но в столовой накрыт стол. Белоснежная скатерть блестит. На ней кулич, сыр, яйца, ветчина, все как нужно для Пасхи. На всем в доме чистота и праздничность.
– Нет… Пасха, Пасха… Но как же так? Что же церковь?.. О. Петр опрометью направился к церкви. Подошел к двери, взялся за скобку – заперта. Посмотрел на сторожку – темно.
– Это все сторож… Прохорыч, – решил почему-то о. Петр, – это он проспал. Он. Потому так это все и… Потому…
О. Петр подбежал к сторожке и беспощадно застучал по подоконнику:
– Прохорыч! Прохорыч! Проспал! Заутреню проспал!.. Скорее!.. – Ответа не было.
– Прохорыч! – еще громче кричал о. Петр и еще громче стучал кулаком по подоконнику.
Окно отворилось, но высунулась из него голова не Прохорыча, а кого-то другого, бритого и похожего на швейцара.
– Какой Прохорыч? Что такое? Пожар? Где пожар? – спрашивала голова. – А? что?
– Да проспали заутреню, – горячился о. Петр. – Звони скорее… Скорее!.. Понял, что ли? Сегодня Пасха… К заутрене скорее… Ну?
Голова несколько мгновений в недоумении помолчала, потом сощурила заспанные глаза, внимательно и подозрительно окинула взором фигуру о. Петра и наконец заговорила:
– Заутреня? Пасха?.. Гм… Чудно!.. Какая такая заутреня?
– О Господи Боже мой, – волновался о. Петр, – он еще не понимает! – Да ведь нынче же Пасха, Пасха… Сейчас заутреню нужно… Пасхальную заутреню…
Голова опять промычала «гм», опять подозрительным взглядом окинула о. Петра и, изобразив гримасу удивления и досады на лице, промолвила:
– Я сейчас к вам выйду.
Через несколько минут пред о. Петром стоял человек, одетый в какую-то форменную одежду и похожий не то на швейцара, не то на английского кучера.
– Простите, – начал он, – я вас совсем не могу понять. Прежде всего скажите, пожалуйста, кто вы?
– Как кто? – почти с плачем отвечал о. Петр. – Я здешний священник! Священник здешний! И сегодня Пасха. Нужно служить, но я проспал, и все проспали… Что же вы молчите? Господи! Я тоже ничего не понимаю.
– А я начинаю понимать, – с расстановкой произнес человек в форме, – вы, очевидно, слишком много занимались своими делами или еще что-нибудь такое и упустили из виду, что теперь не существует ни Пасхи, ни заутрени, ничего такого…
У о. Петра зашевелились волосы на голове. Он стоял и широко раскрытыми, неподвижными глазами смотрел на человека в форме.
– Вот, присядьте, прошу вас, предложил сторож, – здесь у меня скамейка. Вы очень слабы. Или, если угодно, я провожу вас до дому?
– Куда проводить? До какого до дому? – простонал о. Петр. – Я хочу служить. Пасха, Пасха сегодня. Сегодня великий праздник…
– Ах, да нет же, – раздражаясь уже, проговорил человек в форме, – я же вам говорю, что теперь упразднены все праздники.
И вдруг словно молния прорезала мысль о. Петра. Он вспомнил, как недавно, совсем – кажется ему – недавно кто-то говорил, что у нас слишком много праздников, что храмы, попы и церковные школы – это только один вред для народа, что службы и пост, – это только доходная статья для духовенства и т. д. и т. д. Вспомнил о. Петр и о том, как раз один мужик, когда о. Петр говорил ему о необходимости говения и исповеди и пользе бодрствования душою, дерзко и нетерпеливо сказал ему:
– А плевать бы я хотел на все это. Какая там еще душа? Брюхо – вот это я понимаю. Да вот разве еще кулак. А остальное? Да по мне вы свои церкви хоть запечатайте совсем. И не почешусь.
О. Петр понял все и тихо уже, робким и убитым тоном спросил:
– Значит, запечатана?
– Да. Запечатана… То есть не то чтобы совсем запечатана… Иногда отпираем. Для посетителей. Интересуются некоторые, как это там было раньше.
Отец Петр улыбнулся неестественной, болезненной улыбкой.
– Как музей? – спросил он, глядя исподлобья.
– Вот-вот. Как музей. Именно…
– Пустите меня! – тихо и просительно проговорил о. Петр, и в тоне его голоса слышалась невероятная скорбь, гнетущая тоска и вместе огненное желание быть в церкви, видеть святой алтарь, а также и боязнь, что человек в форме не пустит его в церковь. Ведь теперь все зависит уже от него.
Человек в форме с состраданием посмотрел на о. Петра и проговорил:
– У нас вход бывает открыт только два раза в неделю от 12 до 3-х. Вот пожалуйте во вторник. А теперь уже и поздно.
– Но ведь нынче же Пасха, Пасха! Как же во вторник! – прокричал о. Петр. – А как вы пускаете? За плату?
– 15 копеек с персоны.
– Послушайте! – схватил о. Петр сторожа за руку. – Я вам заплачу 15 рублей. Мало? Я вам отдам все, что у меня есть. Но пустите меня сейчас. Сейчас.
Сторож постоял с минуту в нерешительности.
– Ну, уж что с вами делать! – решил он наконец.
Когда сторож, запасшись фонарем, отпер знакомый о. Петру замок знакомой ему тяжелой, обитой железом и скрипучей двери, им овладела нервная дрожь: «Господи, спаси и помилуй! Господи!»
Сторож смотрел на о. Петра с удивлением.
Отперли и вторую дверь, и о. Петр очутился в церкви.
Чем-то непривычным и жутким пахнуло на о. Петра. По-видимому, все в церкви было как и раньше. Осталось все прежнее. Да. Прежнее, прежнее. Вот прежние иконы. Те самые, пред которыми о. Петр отслужил столько литургий, отпел столько молебнов и акафистов, пред которыми ставил свечи и кадил ладаном. И сколько глаз устремлялось бывало к этим иконам, сколько пред ними было пролито слез и горестных, и радостных, и благодарных!.. Те самые иконы… Тогдашние… И все тогдашнее… И плащаница здесь, у стены. И панихидный столик… И этот ореховый киот с иконой Пантелеймона. Да все, все… Но как все это посиротело, как одиноко все и уныло. Подсвечники покосились – и да, да – покрылись ржавчиной. Вот, видно даже при фонаре. Резьба искрошилась и то там, то здесь валяется на полу. Под ногами даже трещит. Отец Петр поднял веночек с потускневшей позолотой. Но куда его? Он был там, наверху киота. Отец Петр бережно положил веночек на окно. Руку его сейчас же опутала густая, липкая паутина. Батюшка пошел дальше. Под ногами хрустела резьба и трещали стекла. Должно быть, были разбиты окна. Отец Петр взглянул вверх. По арке были расставлены стаканчики. Можно было разобрать вензеля.
– Боже мой! – обрадовался о. Петр. – Как тогда!
Но многие стаканчики выпали и с застывшим маслом валялись на полу.
– Какое запустение! – подумал о. Петр. – Хоть бы убрали…
Ходя по церкви из угла в угол, о. Петр с нежностью, с чисто материнской ласковостью дотрагивался то до одной вещи, то до другой, прижимал к себе, подолгу держал в руках, целовал и крестился.
Пришли на клирос. Все было по-прежнему. Вот столик, за которым читали шестопсалмие, часы и проч. Вот место, где всегда стоял бас Никанорыч. Шкапик с книгами. И книги все те же… Апостол, Часослов…
– Боже мой! – пугался о. Петр. – Ужели это я? Я, отец Петр, здешний священник? И ужели это та церковь, где я служил? Боже мой!..
Отец Петр прошел на амвон. Все по-старому. Обратился к западным дверям и долго стоял неподвижно.
«Это Пасха? – думал он. – А бывало? А? Сколько радостных, оживленных лиц видно было с этого амвона! Какой чувствовался религиозный подъем! Праздничные одежды, бывало… Свечи в руках…»
– Мир все-ем! – протянул о. Петр, и голос у него оборвался. Лицо перекосила судорога.
«Можно ли больше надругаться над верующей душой? – подумал он, поистине зол и мстителен сатана. Где пасхальные цветы? Где огни пасхальные? Где радость? Где восторг? Где ликующие гимны? О-о!..»
О. Петр отыскал в шкапу Цветную Триодь и открыл ее на первых страницах. Сторож поставил фонарь в сторону, а сам присел на сундук в углу и задремал. О. Петр попробовал читать по Триоди, но было темно.
Нет ли где здесь свечи? На клиросе всегда были свечи…
Действительно, тут же на окне оказался желтый огарок, твердый, как гвоздь. О. Петр подошел к фонарю и приложил огарок к огню. Огарок затрещал, и о. Петр радостно улыбнулся. Он всегда любил этот треск свечи ранними утрами, когда он еще до рассвета приходил в церковь и сам зажигал первую свечу. Он и вообще любил свечу именно желтую, восковую, такую пахучую. Любил ее запах, ее скромный и пугливый огонек, любил он молиться со свечой. Она как будто зажигала что-то в душе, как будто говорила ей что-то. Она сама была как будто что-то живое и нежное. О. Петр долгим, любовным взглядом посмотрел на свечу и поднес ее к Триоди.
Им опять овладела нервная дрожь.
Какие слова! Как все это близко! Как дорого!
«Об часе утреннем параекклисиарх… вшед во храм, вжигает свещи вся, и кандила: устрояет же сосуды два со углем горящим, и влагает в них фимиама много благовоннаго… яко да исполнится церковь вся благовония. Также настоятель… со иереи и диаконы облачатся в весь светлейший сан».
И дальше: «Сей день егоже сотвори Господь, возрадуемся»…
Знакомые, любимые, священные страницы! Помнит о. Петр, как еще будучи учеником духовного училища, любил он Великим постом заглядывать в эти заветные страницы, и как тогда еще святые и торжественные слова наполняли его благоговейным трепетом.
О. Петр медленным шепотом читал страницу за страницей: «Очистим чувствия и узрим… Христа блистающая… Да празднует же мир – Христос бо воста… Веселие вечное.
– Вечное! – остановился о. Петр и продолжал читать дальше: «… из гроба Красное правды нам возсия Солнце… О другини! Приидите вонями помажем Тело живоносное… Возведи окрест очи твои, Сионе, и виждь: се бо приидоша к тебе, яко богосветлая светила, от запада, и севера, и моря, и востока чада твоя, в тебе благословящая Христа во веки!»
– Во веки… Во веки… – повторял о. Петр.
В глазах у него зарябило. И дышащие радостью слова священных песен, и восковые капли на листах Триоди, и какой-то особенный, ни с чем не сравнимый запах от церковных кожаных книг – все это казалось о. Петру до того сродным, во всем этом было так много души о. Петра, а также души его отца, деда, прадеда, души дьячка Ивана Кузьмича и всех его предков, души церковного старосты, церковного сторожа, здесь было так много подлинной, живой души каждого русского мужика, всего русского народа, что взять все это и куда-то запереть, взять Цветную Триодь и не дать возможности держать ее в пасхальную заутреню пред радостными, возбужденными лицами певчих, не капать на ее листы воском, не петь по ним веселыми играющими напевами сладостных песней – да это… это невозможно! Это просто невероятно! Это значит – взять душу у о. Петра, у Ивана Кузьмича, у всех мужиков, у всего народа и совершить над этою душою, живою и не думающею умирать, совершить какое-то тяжкое и гнусное преступление… Нет! Это невозможно. И не может быть сомнения, что вот нынче же, сейчас, в эту же ночь запоют по старым, закапанным страницам Триоди, оживят эти страницы, а также жизнью наполнят и все вокруг… Это несомненно.
Но о. Петр оглянулся назад, увидел грязь и пустоту церкви, услышал храп сторожа в темном углу, и стремительный поток его радужных мыслей разом оборвался. Он посмотрел на книгу, горько усмехнулся, оглянулся на сторожа и робко, стыдливо как-то спросил:
– А послушайте… Господин!.. Послушайте… Можно здесь немного попеть?.. Я потихоньку бы… А?
Совсем было заснувший сторож приподнялся на локте, посмотрел вокруг, увидел, что ничего особенного не произошло, и пробормотал:
– Ладно… Пожалуйста…
О. Петр торопливым шагом на цыпочках подошел к ризничному шкапу и отворил его. Двери на ржавых петлях заскрипели незнакомым, режущим звуком. О. Петр брал то одну ризу, то другую…
– Вот, вот она… Пасхальная, – произнес он и, благословив белую отсыревшую ризу, облачился.
Торопливо и осторожно, куда-то спеша и чего-то опасаясь, прошел он в алтарь. Стал пред престолом и неуверенным, дрожащим от волнения голосом возгласил:
– Слава святой… и неразделимой Троице… И сам же запел: – Ами-инь.
И затем продолжал:
– Христос воскресе из ме-ертвых, смертию смерть попра-ав…
Голос о. Петра звучал в пустой, заброшенной церкви глухо и странно. И в звуках этого одинокого голоса пустота и заброшенность церкви сказывались как-то резче, больнее и несноснее.
– И сущим во гробе-ех…
Но здесь голос о. Петра опять оборвался. Он бессильно опустился пред престолом на колена, положил на него свою голову и громко и безудержно зарыдал:
– Господи, Господи! – говорил он между рыданиями. – Великий Боже! За что такое наказание? За что мука такая? Ужас, ужас! Господи! Лучше возьми меня от этого кошмара. Возьми к Себе. Господи! Возьми к Себе. Или пошли, Господи, людям веру! Пошли любовь! Утверди, Господи, веру их. Растопи лед их сердец. Воскресни, Господи, в душах наших. Соедини нас во имя Твое. Господи! Помоги неверию нашему. Или… возьми… возьми меня к Себе… Не дай мне видеть этого страшного позора… Возьми…
О. Петр рыдал все громче. Все его тело судорожно вздрагивало. Он чувствовал, что облачение престола стало мокро от его слез. Но слезам как будто не было конца.
– Господи! Возьми, возьми меня к Себе…
– Батюшка, а батюшка! – раздалось вдруг над ухом о. Петра. – Да батюшка!! Господи, заспался что-то… Батюшка! К утрени пора! В Новоселках благовестят уже. И у нас все готово. Батюшка!
О. Петр вскочил со своей постели встрепанный, раскрасневшийся от волнения, потный.
Несколько секунд он, как пораженный громом, стоял неподвижно напротив церковного сторожа Прохорыча и не говорил ни слова.
Потом он порывисто перекрестился раз и другой. Оглянулся кругом, внимательно осмотрел Прохорыча и вдруг засмеялся веселым, радостным смехом.
– Так это, значит, сон! – вскричал он. – Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, Господи!
Он обернулся к иконам и опять перекрестился.
– Али сон худой приснился, батюшка? – спросил недоумевающий Прохорыч.
– И не говори! Такой худой сон… – отвечал о. Петр и побежал умываться. – Значит, сон, сон, – повторял он одно и то же, – слава Богу. Но какой же это был ужас! Какой ужас! Господи, благодарю Тебя! Это был сон… Да, конечно. Как же могло быть иначе? Разве это возможно в действительности? Безусловно нет. Это просто нелепо. Это совершенно невозможно. Этого никогда не может быть. Да. Да. Не может быть.
Отец Петр выглянул на площадь. Церковь была вся в огне и поднималась к небу, как одна колоссальная свеча. Вокруг церкви копошился и гудел народ. Собирались жечь смоляные бочки.
– Конечно, конечно, – торопливо говорил о. Петр, – ничего того не может быть. Не может быть. Такой праздник… Не может быть…
Когда о. Петр, одевшись, вышел на улицу, на него тепло и ласково пахнул весенний ветер. Слышался запах прелой земли и распускающихся почек. В мягком и влажном воздухе плавными, но упругими волнами колебались звуки торжественного, чистого благовеста в соседних селах.
– Как хорошо! – вырвалось у о. Петра. – Что может сравниться с этой ночью?
Войдя в церковь, о. Петр увидел горящие вензеля, алтарь, сияющий огнями и цветами. Изображение Воскресения все было увито цветами, белыми, розовыми, и казалось, что это Христос идет по цветам в саду Иосифа Аримафейского, чтобы сказать Магдалине и прочим:
– Радуйтеся!
О. Петр начал службу с особым подъемом чувства, с каким-то необычным трепетанием в груди. Он пред своими глазами видел все то, чего так беспомощно искал в кошмарном сне. Радость его была беспредельна и слышалась в каждом звуке его голоса, виделась в каждом его движении. Ответным аккордом эта радость о. Петра поднималась со глуби сердец богомольцев.
Когда после пения пред закрытыми дверями о. Петр вошел в искрящуюся огнями, наряженную цветами, блистающую церковь, до пафоса напряженным голосом возгласил: «Христос воскресе!» – религиозное возбуждение народной массы достигло апогея.
– Воистину, воистину воскресе, – гудела и ревела она, – воистину!..
И в этом «воистину» было что-то стихийное, здесь выражалось что-то непобедимое, как всякая стихия, что-то вечное, не подлежащее умиранию. В этом стихийном «воистину» выливалось все лучшее, что есть в человеке, все подлинно человеческое и свыше человеческое, здесь духовное, божественное начало в человеке как бы облекалось плотью и костьми, принимало конкретные формы и становилось очевидным, осязаемым, реальным…
– Воистину!
– Христос воскресе! – еще и еще возглашал о. Петр под аккомпанемент ликующего пения.
В ответ ему еще и еще несся стихийный гул, заглушавший и голос о. Петра, и пение всего хора:
– Воистину, воистину!..
А о. Петр в этом гуле слышал свое собственное:
– Не может быть… Не может быть…
И он служил с такой силой чувства, с такой любовью ко Христу воскресшему и с таким огнем священного воодушевления, как, казалось ему, никогда раньше.
– Как хорошо-то, батюшка, как хорошо, – прошептал сторож Прохорыч, подавая о. Петру в конце заутрени трисвечник, – как в раю… И солнце играет…
В глазах старика стояли слезы.
И о. Петр не удержался и заплакал. Но не теми слезами тоски и отчаяния, которыми он так недавно – казалось – плакал пред этим же престолом, а слезами детской радости и чистого восторга.
Неизвестный автор
Канун Пасхи
– Коля, не вертись под рукой… иди в детскую… увидишь завтра и пасхи и куличи! – уговаривает меня бабушка. Я не в силах удалиться от бабушки. Мне хочется посмотреть, как удалась наша маленькая миндальная пасха, рассыпчатая… как сама бабушка будет украшать ее изюмом, цельным миндалем, ког да выложит ее из сырницы на блюдце с голубенькими цветочками…
– Бабушка! – пристаю я к старушке. – Наша пасха рассыпчатая?
– Да, да, милый, рассыпчатая… Завтра будешь ее кушать и увидишь, теперь иди себе…
– И крест на ней будет?
– Будет и крест… изюмом его обложу…
– Изюмом?.. А писанки готовишь нам с Сашей?
– Видишь, горшочек на плите… там ваши писанки варятся в шелковых лоскутках… мраморные будут… яички маленькие, рябенькой шпанки, – говорит бабушка, обливая глазурью высокий кулич.
Эти сведения так радуют меня, что я опрометью бросаюсь на галерею. На галерее я никого не встретил и побежал во двор. У крыльца рылась в свежем песке сестра Саша и разговаривала сама с собой. Весной и летом она, бывало, по целым часам копается в песке и разговаривает вслух одна.
– Саша, знаешь что?.. У нас завтра будут мраморные яички от твоей рябенькой шпанки и… рассыпчатая пасха! Бабушка сказала… яички уже варятся в горшочке.
– Зачем взяли яички у моей шпанки? Зачем?.. – пищит Саша.
– Бабушка так захотела, бабушка!.. Захныкала-а! – крикнул я громко.
«Бум-бум-бум!» – загудел протяжно, густо в теплом воздухе колокол с высокой колокольни, и кругом разлилось что-то торжественное, радостное…
На широком дворе мне стало тесно, и я юркнул за калитку. Передо мной открылась Волга.
По всей поверхности ее то тут, то там плыли желтоватые льдины, шумно перешептываясь, собираясь толпою, наползая одна на другую; вдали синели уже свободные чистые воды родной реки; над нашим домом кружили ласточки, радостно тивикая: «тви, тви!» – точно кликали: «Весна, весна пришла, с теплом, с зеленью, радуйтесь, тви, тви!»
По улице двигался народ; в церковной ограде, на берегу самой Волги, на старых могилках толпами сидели старики, старушки и ребятенки, любуясь ледоходом, прислушиваясь к весеннему шепоту прибивающихся к берегу льдин. Я издали видел ласковые, добрые лица – и бегом направился туда.
– Андрей, Андрюша! – крикнул я смуглолицему мальчику, сыну нашего соседа. – Ты куда?
– А ты куда?
– В ограду.
– Ну, и я туда.
– У вас красили яйца?
– Как же… только мало… с десяток, поди, не больше… Мама бережет яйца-то… под наседку… для цыплят.
– А у нас куличей, Андрюша, пасок, яиц крашеных много готовит бабушка.
– А-а!.. у нас поросенка кололи… Гляди, какая рубаха-то… – И Андрюша обдернул предо мною свою новую, розовую рубашку.
– А пояс… хорош?
– Да-а, все хорошо! – ощупывал я розовую, цветочками рубашку Андрюши и голубой пояс с кисточками: – Хорошо-о!…
– Пояс-то тетка подарила… рубаху – мама… тятя обещал картуз, да не привез пока из города… продержали, вишь долго на базаре… ну, лавки-то и заперли… потом привезет, как поедет опять в город…
– Ты спать будешь в эту ночь?
– Разве это можно?.. Грех… Подожду, когда Христос воскреснет… похристосуюсь со всеми, там и спать…
– Грех спать?
– Грех, мама говорит.
Шли мы к ограде и разговаривали с Андрюшей.
Народ шел в церковь; на могилках еще многие сидели. Мы подошли к ближней кучке народа, где велись разговоры.
– Нынче весна рано пришла… лет двадцать такой не бывало… гляди, могилки-то травой покрылись… Теперь и покойникам легче лежать под травой! – говорил старик с седой бородой клином.
– Дедушка Василий, а скоро ты на лодке начнешь нырять по водам? – перебил его мальчик, сидевший в сторонке.
– Вижу, милый, крепко тебе хочется к деду в лодку… Погоди денька три, там и нырнем. Вот нынче ночью Христос воскреснет… с образами пойдут по избам, у деда пропоют Пасху, тогда и в лодку… раньше нельзя… не такие дни…
– А Христос где будет воскресать, дедушка? – переспросил Андрюша.
– Во всем мире – где!.. Страдал он за весь мир, ну – для всех и воскреснет… и для нас с тобой!..
– Ночью это будет?
– Ночью… в самую полночь.
Это глубоко запало мне в голову. У меня явилось настойчивое желание увидеть, как воскреснет Христос. «Буду сидеть всю ночь, – шептал я, – никому ничего не скажу… буду молча ждать… один…»
Эта мысль так охватила меня, что я уже ничего не слышал, никого не видел, стал бродить один кругом церкви и думать, думать… Сколько времени я бродил, ничего не замечая, не помню… Очнулся я в церкви… кругом полумрак… большие свечи тихо мигали у плащаницы… ни души… Я робко подошел к плащанице, припал к ногам Спасителя, где были видны темные ранки от гвоздей… мне казалось, что я ощущаю кровь… Я затрепетал и приподнялся… Взор мой был точно прикован к лику Христа. Он лежал передо мной спокойный, бледный, с закрытыми очами. Мне послышался даже вздох – не тут, на плащанице, а там, где-то вдали… и я очнулся… Надо домой, скорее домой!.. Не прошло минуты, я был уже на паперти. У сторожки возился с метлою наш сторож Власыч, усердно разметая землю. Он не заметил меня… Был уже вечер; звезды ярко горели в глубоком небе.
– Где ты пропал, милый? – встретила меня бабушка. – Пора и успокоиться – ночь… Сосни до заутрени, а там и христосоваться будем… разговеемся пасхой, куличом…
Я ничего не ответил бабушке; на меня нашла какая-то немота… Я скрылся в детской, на цыпочках прошел в уголок, к окну, и там уселся в большое кресло… Саша сладко спала в своей кроватке… Я опустил голову на руку, устремил взор на полоску креста церковной колокольни, и из этой темной точки ждал света… В гостиной зашипели часы… пробило девять. С колокольни раздался протяжный звук: один, другой, третий… Звонили к стоянию. «Ну, теперь недолго: часа два-три и – Он воскреснет», – думалось мне. Время двигалось медленно. Минутами я дремал, вздрагивая, поднимал голову и шептал: «Ай, просплю… не увижу»… – и опять смотрел на церковь… Вдруг церковь исчезла: я в саду… Кругом густые деревья… Я заблудился, ищу выхода… Вижу просвет, слава Богу!.. Открытое место, зелень, цветы, высокий кедр… Что это?.. Пещера… У пещеры два суровых воина, на них латы… Зачем они тут?.. Я растерялся, замер на месте… Вдруг над пещерой будто упал звездный дождь… воины исчезли… под кедром сиял тот дивный лик, который видел я на плащанице. Лик был прост и спокоен… На устах кроткая улыбка… У меня на сердце стало легко, весело… Я шептал:
«Это Христос… Христос воскрес!»
Тихою стопою Он шел ко мне. Я крикнул от радости: «Христос воскресе!» и поднял голову… Торжественный звон колоколов раздавался на нашей церкви; вся она горела огнями, и из церковной ограды доносилось громкое пение:
«Христос воскресе из мертвых»… В детскую входила бабушка.
– Ты не спишь, Коля?
– Нет, бабушка, нет… Я видел сейчас, как Христос воскрес…
– Да, родной, Он воистину воскрес!
И мы похристосовались с бабушкой.
– Вот тебе и яичко мраморное, – сказала она, вводя меня за руку в гостиную, – а вот, смотри, твоя пасха и куличик миндальный.
Я любовался своей пасхой, своим куличом и яйцами, горкой возвышавшимися на тарелках; каких цветов яиц тут не было: розовые, лиловые, палевые, красные! Любовался и думал: Воскрес Христос, воистину воскрес!
И. Островной
В Христову ночь
Батюшка о. Христофор так и говорил: у меня народ за семь недель поста проголодался. Постимся мы не так, как у вас в городе, а по-настоящему. И каждому хочется поскорее вкусить тех око соблазняющих яств, что наготовлены бабами и ароматом коих насыщен воздух не токмо в хатах, но и на деревенской улице. Да к тому же к службе приезжают многие хуторяне, а им после обедни надобно еще семь верст тащиться на свои хутора, чтобы разговеться.
Так говорил о. Христофор городским жителям, когда его упрекали за слишком раннее начало пасхальной службы.
И в самом деле уже в одиннадцать часов с деревенской колокольни раздавался призывный благовест, правда, еще медленный и тихий, с оттенком великопостной грусти. Но все в деревне знали, что это только так себе, лишь ради соблюдения церковного приличия, и что сторож церковный Клим, сидя там, на колокольне, только прикидывается печальным, а в сущности, глаза у него уже горят радостным пасхальным блеском, а руки так и чешутся схватить качаемые ветром веревочки от остальных колоколов и весело пуститься «во все звоны», что он и сделает в самом скором времени.
Нет, что уж там ни говорите, а пост кончился. Отговелись, очистили души от грехов, а тело проморили на квашеной капусте, на галушках да пампушках с постным маслом, сильно сдобренным луком и чесноком, и с этим делом покончено уж на целый год.
И, внимая колокольному призыву, потянулись деревенские жители к церкви. На площади вокруг и в самой ограде еще темно, да и в церкви горят только лампадки да несколько свечей, поставленных благочестивыми прихожанами еще с утра. Но народу уже набралось столько, что нельзя и пробраться.
Площадь вся занята возами. Спозаранку приехали хуторяне, распрягли лошадей, дали им сена, а сами отправились в церковь и заняли там передние места.
Хуторяне народ богатый, земля у них хотя и не своя, а арендная, да много ее, и хозяйства у них большие. Оттого и одеты они не в свитки и не в пеньковые шаровары, подпоясанные красными поясами, а в городские пиджаки, и шеи у них повязаны шелковыми платками, жены же их покрывают головы сеточками со стеклярусом, носят шерстяные кофты с фасонами, а на плечах у них расписные шали.
Так им, понятно, по праву принадлежат передние места в церкви, поближе к клиросу и к алтарю, чтобы по окончании обедни они могли первые поцеловать крест и батюшкину руку и поскорее снарядить свои возы и отправиться на хутора.
Ограда тоже полна народу, но это все деревенская молодежь. Только около самой паперти двумя длинными рядами в обе стороны уселись бабы с узелками, в которых они принесли разное брашно для свечения.
Хотя Клим, сидя на колокольне, еще тянет свой великопостный звон, подолгу выжидая после каждого удара, пока звук его не замрет там, где-то в камышах, по ту сторону ставка, но парни уже настроены по-пасхальному и, желая засвидетельствовать дивчатам свое расположение, отвешивают им, каждый своей избраннице, увесистые и звонкие удары ладонью по спине, и раздается сдержанный, но уже явственно веселый смех.
В церкви дьяк Евтихий тусклым голосом, торопливо и пропуская слова, видимо, соблюдая лишь формальность, дочитывает «Деяния Апостолов». Он постился не меньше других, и ему тоже хочется поскорее разговеться.
И все чувствуют, что эта, как бы покрытая полупрозрачной грусти, остатная служба – что-то временное, какой-то неизбежный великопостный финал, но вот-вот чья-то невидимая рука сорвет пелену – и церковь огласится звуками радости.
Так это и случилось. Батюшка вышел из алтаря в светлых ризах. Забрали хоругви и вышли из церкви. И когда там остались только церковный староста да с ним еще два-три особенно благочестивых прихожанина, все двери – на западе, на севере и на юге – затворились.
Был крестный ход вокруг церкви, а когда потом с радостным пением «Христос воскресе» вошли в церковь, то она уже была залита огнями. Горели паникадила, все лампадки и множество свечей перед иконами и в алтаре.
И народ наполнил церковь, держа в руках горящие свечи, а пел на клиросе уже не дьяк Евтихий, у которого и голоса-то никакого не было, а деревенский хор под управлением учителя Ипостасова.
И лица у всех сияли радостью, когда ясные и звонкие голоса школьников высокими дискантами возгласили весть о том, что узнали жены-мироносицы, придя ко гробу Христа, а басы – тоже деревенские молодцы, раньше учившиеся в школе, но успевшие уже пожениться и завести свои хозяйства, – зычными голосами поддержали их.
Но в то самое время, когда в церкви происходило это духовное ликование, на деревне случилось событие до того невиданное и не похожее на то, чего можно было ожидать в эту ночь, и так противоречившее общему настроению, что в первые минуты никто даже не хотел верить.
В церкви как раз в это время начали петь ирмос. О. Христофор высоким тенором из алтаря возгласил «Воскресения день, просветимся, людие», а хор подхватил, вся церковь, объятая восторгом, как бы понеслась к разверстым небесам.
И вдруг в раскрытые двери из ограды донесся какой-то смешанный гул голосов, сперва сдержанно, потом все громче и громче, как будто в самую церковь стремилась ворваться какая-то громада. Казалось, что там, в ограде, с треском отворяются ворота и калитка, а может быть, даже ломается самая ограда: и слышался топот человеческих ног, а потом с площади лошадиное ржание и неистовый лай собак из деревни.
Молившиеся прихожане вздрогнули и невольно, даже совершая этим грех, начали оглядываться на дверь.
Певчие вдруг остановились посреди песнопения. О. Христофор вышел из алтаря. Лицо его было смущенно и бледно. Непонимающими глазами смотрел он на народ и видел, что у входа уже началось движение.
Деревенские жители, почуяв беду, выходили из церкви и в ограде присоединялись к бегущим, а скоро церковь почти совершенно опустела.
Остались в ней только батюшка, да дьяк Евтихий, да певчие, да некоторые из хуторян, до которых лично не могло касаться то, что происходило на селе.
Тогда и о. Христофор прервал утреню.
А случилась, в сущности, довольно обычная деревенская беда, но только в эту ночь она всем казалась изумительной и даже невероятной.
В Пасхальную ночь, когда благость Господня разлита по всей земле и ангелы, глядящие с неба, радостно улыбаются, приветствуя ликующих людей, не может на земле произойти несчастье. В эту ночь лукавый враг рода человеческого, неусыпно искушающий его на злые дела, уходит в преисподнюю, и тот, кому он успел уже внушить злодейство, откладывает его на другие дни. В эту ночь люди безгрешны, и небо не карает их за прежние грехи.
И тем не менее это случилось. Парни и дивчата в церковной ограде беззаботно предавались увлечению игрой «навбытки», вынимая из-за пазух крашенки и состязаясь в крепости их, когда в отдаленном конце села, как видно, около самого оврага, за которым начинались уже пахотные поля, над двумя рядами хат, тянувшихся по обе стороны широкой улицы, зигзагом мелькнуло что-то вроде молнии.
Кто-то из парней заметил это страшное явление и сказал другим. Подняли головы и стали смотреть. Опять выскочило из-за хат что-то яркое и точно лизнуло воздух своим длинным языком, лизнуло и исчезло.
Да неужто же молния? А грома не слышно. Да и откуда оно могло взяться, когда над головой висит чистая глубокая синева неба, усеянная яркими звездами?
Уж не вздумал ли кто зажечь там смоляные бочки? Так нет же, две бочки, приготовленные еще со вчерашнего вечера, стоят на берегу ставка, тут же, неподалеку от церкви, и целая орава охочих парней и мальчуганов и сейчас возится около них, чтобы зажечь их ради торжественной ночи.
Но огненные языки стали часто вылетать из-за хат и лизать воздух. Один за другим, и небо в той стороне осветилось ярким заревом, как будто кто-то и на небе зажег, да не две, а целую тысячу смоляных бочек.
Эге, да это горит чья-то хата. Теперь уж это стало для всех очевидно. И, должно быть, здорово горит, потому что за целую версту видно, как отдельные огненные языки соединялись в одно огромное полымя, которое подымалось все выше и выше и силилось достать до неба.
Вот тут-то и поднялся шум, раздались крики, бабий визг и беготня. Молодежь повалила вон из ограды, ломали ворота, как и забор, раздвигали по пути возы на площади, взбудоражили коней, привязанных к возам и мирно жевавших сено, и подняли лай деревенские собаки.
Все, что только было живого в селе, двинулось туда, на край его, где, спускаясь к ставку, шел глубокий овраг, и все бежали по деревенской улице.
Дома были наглухо закрыты, ни в одном окошке не светился огонь, потому что в эту ночь ни одна душа – ни молодая, ни старая – не сидела дома, а все были в церкви или около нее. Даже грудных ребят бабы забрали с собой и в случае надобности кормили тут же, присев на ступеньках паперти.
И никто не знал, что именно горит. Думали, не загорелась ли мельница местного богача Антона Чумака, стоявшая по ту сторону оврага и моловшая муку на всю деревню. И думавшие бежали с веселым духом, потому что не любили на селе Антона Чумака, пользовавшегося всякой бедой, чтобы выжать из человека лишнюю копейку, должно быть, и богатого.
И говорили даже между собой, что если горит в такую ночь мельница, то уж это, значит, Господь наказал Чумакова за особые грехи его. Очевидно, и там, на небе, стало невмоготу терпеть его злодейство.
Но когда прибежали на край села, то увидели, что мельница Антона Чумака стоит себе целехонькая по ту сторону оврага, и вечно вертящиеся крылья ее теперь отдыхают по случаю великого праздника. И смотрит она со своего возвышенного места, вся залитая ярко-багровым светом, словно принарядившаяся по случаю праздника, и как будто усмехается: «Вот, мол, думали, что я горю, а меня и огонь не берет, и стою я себе на пригорке да на вашу человеческую беду посматриваю».
А горела – это уже было для всех очевидно – хата Мирона Очкура, самого бедного человека во всем селе. И когда прибежавшие сельчане увидели это, то всех их охватило чувство ужаса и в то же время как бы некоего ропота по отношению к небу, которое теперь было все залито ярко огненным сиянием, и не видно было на нем ни одной звездочки.
Как же так? В такую ночь и на самого бедного человека этакая беда? И откуда? В доме, как видно, не оставалось ни души, да и все видели Мирона в церкви и жинку его Олену и двух ребят – шести и восьми лет, и даже маленького, который еще не ходит, она на руках держала. Так и видели их: двое старших держатся за ее юбку, а третьего на руках несет свиткой.
И старуху, Миронову мать, которая на его попечении живет, тоже видели в церкви. Значит, никого в доме не было.
Да и теперь это видно: горит себе хата, со всех сторон охваченная пламенем, с самых низов стены пылают, и крыша, и камышевая изгородь, и уже загорелся сарай – правда, пустой, потому что Мирон еще зимой продал на харчи да подати последнюю корову и пару свиней. И никто не бегает посреди огня, как безумный, не кричит, не воздевает к небу руки, не жалуется и не проклинает – потому что никого нет. Может, Мирон и его жинка теперь молятся и не подозревают, какая над ними стряслась беда.
Ну, народ, разумеется, бросился помогать. С криком да с гиканьем каждый старался что-нибудь сделать от себя. Привезли пожарную бочку, которая всегда стояла на волостном дворе, и начали качать, но ничего не выходило. Никто не умел и качать-то как следует. Может, совсем и не в ту сторону, а может, и бочка давно уже забыла, как надо действовать. Но, одним словом, вода из рукава не полилась.
Тогда стали таскать воду ведрами, как таски-вали встарь, и беспомощно поливали горевшие стены. Но от этого огонь как будто получал только новую пищу и не только не сдавался, а с новой, еще пущей силой разгорался.
Прибыл наконец и Мирон, высокий сухощавый мужик с длинной, выцветшей от солнечных лучей бородой, без сапог и без шапки. Прибыл, взглянул на свою убогую хату, которая вдруг сделалась такой красивой, упал на колени и завыл нечеловеческим голосом.
Тут же рядом голосила, как по покойнике, Олена, держа младшего ребенка на руках, а другие двое детишек уцепились за ее платье и беспомощно, испуганными большими глазами смотрели на все происходящее.
– Господи Ты Боже наш!.. Ты же милостив, Ты же справедлив!.. За что же покарал?.. В такую-то ночь!.. В Твою святую ночь!.. Господи, Царю Небесный!..
Так восклицал обезумевший Мирон, простирая руки к небу.
Но в это время все невольно обернулись назад. Из освещенной ярким заревом полосы даль деревенской улицы казалась беспросветно темной, как будто мир замыкался этим огненным кругом, а все, что было дальше, потерялось во тьме.
И из глубины той тьмы явственно доносится стройное пение пасхального тропаря. Высокие детские голоса рассекали ночной воздух, а им вторили бодрые, крепкие, дышавшие какой-то непоколебимой уверенностью басы и тенора.
И над всеми господствовал высокий и как бы согретый неким внутренним пламенем голос, такой знакомый каждому сельчанину, что он узнал бы его среди тысячи голосов.
«Смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!» – слышалось из невидимого пространства, и казалось, что там, в далекой, недостижимой вышине раскрылось небо, и до людского слуха дошло пение светлого сонма ангелов.
Но пели не ангелы. Через некоторое время на слабо освещенном пространстве стали вырисовываться человеческие фигуры. Их было много, но сперва нельзя было различить их. Но вот они вступили в полосу яркого света, и шествие их походило на волшебство.
Впереди шел о. Христофор в праздничных церковных ризах, держа высоко перед собой крест. Он весь казался красным и каким-то прозрачным от освещавшего его зарева.
За ним торопливой походкой, но стройно двигались певчие во главе с учителем Ипостасовым и дьяк Евтихий, а потом шла порядочная толпа, состоявшая из хуторян и сельчан – стариков и старух, не обладавших такими крепкими ногами, чтобы бежать вместе с другими. И все громче и яснее слышалось пение хора и горячий звук высокого голоса о. Христофора.
Пришли они к самой хате Мирона и в стройном порядке остановились. О. Христофор осенил крестом горящий дом вместе с подымавшимся из него пламенем, а потом и всех живых людей, густой толпой запрудивших улицу.
Пение окончилось, и в тот же миг водворилась глубокая тишина; только треск падавших с постройки бревен да шипение кипевшей в них смолы каким-то таинственным образом нарушало эту тишину.
– Не трудитесь тушить! – громко, отчетливо, так что слышно было каждой паре ушей, сказал о. Христофор. – Безполезно, ибо огонь уже пожрал все строение! И да утешатся плачущие. Встань, Мирон, встань и ты, Елена, и не токмо не ропщи на Господа, а возблагодари Его!..
Мирон, не подымаясь с колен, а только повернувшись к нему, протянул руки.
– Батюшка, отец Христофор! Да как же не роптать, когда пропало последнее наше прибежище! За что, Господи? За что?
О. Христофор осенил его крестом:
– А я говорю тебе, Мирон, не ропщи… Не должны мы допускать, что Господь в такую святую ночь не пощадил создание Свое – человека. Верь мне, что в сем кажущемся несчастии великая радость сокрыта. Верь, Мирон, вместе со мною… Ну, кто помоложе, пусть останется и оберегает соседний дом от пламени, – прибавил о. Христофор уже простым тоном житейского распоряжения, – а остальные пойдемте обратно в церковь и окончим божественную службу.
И запел, а певчие подхватили:
– Воскресение Христово видевшие, поклонимся…
И, еще раз осенив крестом пожарище и покорно вставших с колен Мирона и Олену с детьми, о. Христофор с пением повернул обратно и пошел по направлению к церкви, и вся толпа, за исключением немногих оставшихся, двинулась за ним.
И Бог знает, как уложились в душе прихожан слова о. Христофора, но как-то все они вдруг уверовали вместе с ним, что пожар, случившийся в такую ночь и истребивший все достояние Мирона, принесет Мирону счастье.
И сами собой раскрылись уста и запели все вместе с певчими и о. Христофором, кто как мог, и было это пение нестройно, но пламенно и величественно.
Так крестным ходом и дошли до церковной ограды, вошли в нее, а потом и в церковь, которая наполнилась народом вся до последнего уголка.
О. Христофор вошел в алтарь и произнес возглас, на котором была прервана утреня, хор запел канон, и служба продолжалась с таким благолепием, как будто ничего особенного не случилось и она не прерывалась.
Только голос о. Христофора звучал как-то вдохновенно, и, подчиняясь влиянию этого голоса, и певчие пели восторженно, и прихожане с глубоким чувством осеняли себя крестом.
И вот кончилась утреня. Народ, точно выкованной стеной, весь придвинулся поближе к алтарю. Ждали, что о. Христофор по обыкновению выйдет из алтаря и будет всем давать целование креста и христосоваться со всей своей паствой. Так уже водилось с незапамятных времен.
На маленьком столике ставился медный церковный таз, и каждый, христосуясь с о. Христофором, клал в этот таз крашенку.
Так было и на этот раз. Дьяк Евтихий вынес столик и поставил его на возвышенном месте около передних рядов молящихся, а на столике стоял таз. Вышел и о. Христофор из алтаря, и в правой руке его был крест.
Но не подошел он к столику и не начал благословлять крестом и христосоваться. Он остался поодаль. Лицо его было сосредоточенно и серьезно, и глаза горели каким-то огненным блеском, и он заговорил.
Прихожане всегда любили слушать, когда о. Христофор говорил в церкви. Случалось им слушать других проповедников в городе и в других селениях. Но их слушали они из уважения, мало понимая то, что они говорили.
Совсем другое были для них речи о. Христофора. Он говорил с ними попросту, так, как будто это была не проповедь, а самый обыкновенный разговор, только не с одним человеком, а с целым приходом. Не часто приходилось слушать его прихожанам. О. Христофор хотел, чтобы ценили его слово, и потому говорил в церкви только тогда, когда был особый для того повод. Случится что важное на селе, и все ходят с понуренными головами, а другие толкуют вкривь и вкось, и столько бывает мнений, сколько хат, а иной раз и в хате муж с женой разойдутся во взглядах. А в воскресенье все придут в церковь и ждут, что скажет о. Христофор. А уж он подумал за всех и так скажет, что всем станет ясно, и тогда все начинают думать одинаково.
Таков был о. Христофор. За это его и уважали, именно за то, что он умел думать за всех и толково думал, так что уж можно было на его думы положиться.
Заговорил и теперь о. Христофор:
– Вот, – сказал он, – православные люди, небывалое событие произошло на нашем селе: в Святую ночь Христова Воскресения, когда на земле всякая тварь радуется и славит Бога, от неведомого источника загорелась и, должно быть, теперь сгорела до основания хата Мирона Очкура. А кто же такой Мирон Очкур? Разве мы его не знаем? Разве не на наших глазах он был когда-то хорошим хозяином, а посетило его несчастье – пали от болезни две пары волов и три коровы, да в тот же год посетил его неурожай, и оскудело его хозяйство, и стал он беднейший между нами? А может быть, Мирон Очкур великий грешник? Не чтит Господа, не соблюдает Его заповедей, не милосерд к ближним, гневлив? Уж если Господь наслал на него такую кару в эту великую ночь, то, должно быть, он самый последний грешник из всех чад Божиих. Но мы же знаем Мирона Очкура, вот он стоит среди нас. Не святой, конечно, но и не грешнее каждого из нас. Потому я говорю: справедливый Господь не мог в нынешнюю ночь послать ему кару. А значит, то была не кара, а знамение, свидетельство его благоволения. Огнем захотел Господь очистить его от бедности. Поднять его от горя к радости, восстановить его захиревшее хозяйство и – слушайте же меня, чада мои – нас всех избрал Он орудием Своей воли. Вот сгорела хата Мирона.
Возлюбим же мы Мирона тою братской любовью, которая в нынешний день соединяет все человечество, и пусть каждый положит в сей сосуд из своего достатка, сколько ему по силам.
Богатый больше, а бедный – хотя бы и самую малость! А потом, земляки, как отойдут праздничные дни, соберемся и общими силами на месте сгоревшей хаты Мирона построим для него и для его семьи новую, и будет у Мирона и жилье и достаток, и восстановится его хозяйство, и возблагодарит он за это Бога. Вот я, старший среди вас и пастырь ваш – Бог не обидел меня достатком – кладу по мере своих средств и, кроме того, дарю Мирону корову и теленка из своего малого стада… Христос воскресе, православные!..
И начало осуществляться то, что вдохновенно предсказал о. Христофор. Трогательное волнение охватило всех присутствовавших в церкви. Все полезли в карманы, кто за голенище сапога, а кто за пазуху. Бабы развязывали узелки на углах своих платков и доставали оттуда медные монеты, припрятанные на покупку пряников для детей и семечек для собственного развлечения. Подходили поочередно, неторопливо к о. Христофору, целовали крест и христосовались с ним, а потом нагибались в ту сторону, где стоял столик, и каждый клал в церковный таз свою лепту.
Звенели медяки, сдержанно позвякивала серебряная монета, но случалось, что какой-нибудь богатый хуторянин раскошеливался и опускал в таз многозначительную цветную бумажку, да еще потом обращался к батюшке и говорил:
– А я ему еще кабанца молодого дарю, пускай придет за ним на хутор.
У другого нашелся молодой теленок, у третьего – двухгодовалый жеребенок.
Слушал все это о. Христофор, кивал головой и улыбался и всем отвечал: «Хорошо, хорошо, Охрим, либо Степан, спасибо тебе, уж пришлем, не забудем».
А Мирон стоял неподалеку на своем месте и слушал, растерянный и потрясенный. Что-то такое совершается вокруг него. Теперь уж, должно быть, от хаты его остался один пепел, а тут каким-то чудом вырастает новое его благосостояние. Все эти кабанцы, телята, жеребята, также и все то, что в виде заметной уже кучи возвышается в церковном тазу, – все это посылает Бог не кому другому, как ему. И казалось Мирону, что это не жизнь, а приснился ему какой-то необъяснимый и чудесный сон.
Когда кончилось целование креста и христосование батюшки, о. Христофор велел церковному старосте вместе с другими прихожанами подсчитать собранное, а сам вернулся в алтарь и сейчас же, без перерыва начал служить обедню.
Быстро и как-то радостно, почти веселым голосом читал он молитвы и ектении, сознательно торопясь, чтобы отпустить поскорее прихожан, которых так неожиданно задержал пожар, а после обедни вышел к народу и объявил, что собрано Мироновой семье что-то больше трех сотен.
– И вот теперь никто не должен сомневаться, что не кару Бог послал Мирону, а свидетельство Своего благоволения. Помните же, земляки, на четвертый день праздника соберемся и будем строить Мироновой семье хату.
Когда же народ стал расходиться, о. Христофор подозвал Мирона и сказал ему:
– Возьми свою жену Елену и ребят и иди ко мне в дом – будем вместе разговляться.
Мирон хотел было возразить, что и так, мол, благодарен батюшке и не смеет утруждать его, а разговеется где-нибудь у родни, но о. Христофор уже повернулся и ушел в алтарь, и пришлось Мирону и Олене идти к нему. Не мог он не исполнить желания о. Христофора.
А в доме о. Христофора в это время уже были зажжены яркие огни. В большой комнате был накрыт пасхальный стол. Матушка выстояла в церкви только утреню, а от обедни должна была уйти, так как нужно было все приготовить. А это было не так просто, как может показаться. У о. Христофора было довольно большое хозяйство. Он и землю засевал, и коров держал, и птичню, и при всех этих статьях, кроме работников и работниц по дому, были особые люди.
Отдельная кухня стояла во дворе, и там варилась пища для рабочих. Но в эту ночь в отдельной кухне вовсе не разводился огонь.
О. Христофор, в обычное время не чуждый мирской суеты, – он не только был пастырем своего духовного стада, но и наживал понемногу добро – в этот день хотел быть последовательным и проводить в жизнь те слова, которые он громогласно произносил в церкви, и в доме его в пасхальную ночь не делалось разницы между «чадами и домочадцами». За одним столом, накрытым в большой комнате его квартиры, украшенным зеленью и цветами, садился он сам и матушка, и все служащие при его хозяйстве.
Кучер Антип ради праздника смазывал свои сапоги чистым дегтем, птичница Матрена повязывала свою голову новым очипком, а доильщица коров, которых у о. Христофора было малое стадо с дюжину голов, никак не могла отмыться от навозного запаха, который впитывала в себя ежедневно при исполнении своих обязанностей.
И матушка, которая не особенно покровительствовала этому христианскому обычаю, а только делала уступку о. Христофору, должна была выносить все эти разнообразные ароматы у себя за столом.
Но она выносила их мужественно. Ведь это был всего только один день в году, когда о. Христофор настаивал, чтобы было по его, остальные же триста шестьдесят четыре дня все в доме делалось, как хотела матушка.
Поэтому, когда о. Христофор прислал из церкви сторожа Клима сказать ей, что за столом еще прибавится семейство Мирона Очкура, она приняла эту весть со стоическим терпением и только велела раздвинуть стол и вставить в него еще одну доску.
И вот вернулся из церкви о. Христофор. Все служащие ждали его прихода в сенях, так как при матушке не смели войти в комнаты. И разом в доме как будто прибавилось света. О. Христофор со всеми перехристосовался и пригласил всех за стол.
– А где же Мирон и Елена? – спросил он, так как не видел погорельцев в числе присутствующих.
Но их никто не видел, и неизвестно было их местопребывание. Тогда отправились во двор и нашли их тихо и смиренно сидящими на завалинке.
Робко ступая и оглядываясь, вошли они в большую, ярко освещенную комнату. Лица у них были какие-то смутные, точно они испытывали не действительность, а какую-то сказку. Мирону казалось, что сон все еще продолжается. Как-то слишком уж много заставила его судьба пережить в одну эту ночь.
И, когда все уселись за стол, большая комната в церковном доме представляла необыкновенное зрелище. Вокруг огромного стола, уставленного всевозможными пасхальными яствами, сидели люди различных положений, в разнообразных одеждах.
И о. Христофор от души, а матушка, хотя и скрепя сердце, но все же с видом искренней любезности угощали их, предлагали им яства и пития. О. Христофор собственноручно наливал водку в рюмки, чокался со своими работниками и пил вместе с ними.
Пил и Мирон, сам еще не понимая вполне, пьет ли он чару, поднесенную ему самим о. Христофором, с постигшего его горя, или по случаю предстоящей радости.
После розговен о. Христофор, желая довести до конца начатое дело, отвел Мирону и его семье небольшое помещение, где в самом скором времени должны были высиживать цыплят его куры. Теперь оно было еще свободно, и Мирон вместе с Оленой и тремя ребятами временно поселился в нем.
В первые три дня праздника о. Христофор был занят обходом и объездом своих прихожан. В самом селе ему вместе с дьячком Евтихием пришлось ходить два дня. Село было большое, и каждый прихожанин желал видеть у себя духовных лиц, и в один день обойти его не было возможности.
Посещение хат собственно было краткое. О. Христофор в эпитрахили и с крестом в руке входил в дом, а вслед за ним и Евтихий. Так как обход происходил поочередно, из хаты в хату, то хозяева ждали и были все в сборе. Пели пасхальный тропарь, о. Христофор давал всем благословение и поздравлял с праздником, и этим духовная часть дела кончалась.
После этого хозяйка уходила в кладовую, либо амбар, либо погреб и выносила оттуда заранее заготовленное то, что было в ее хозяйстве лучшим, что не стыдно было поднести духовенству. Кусок соленого сала, колбасы либо что-нибудь хлебное. За воротами стоял воз, запряженный парой батюшкиных коней, которыми управлял сторож Клим. В этот воз и складывали дары.
Но в иных домах, где были особенное тороватые хозяева, приходилось и посидеть, а иногда и засидеться. Батюшку и Евтихия усаживали за стол и заставляли «сделать честь». Кроме чести, надо же было и питаться, так как в течение целого дня домой о. Христофор не заходил.
Так было в первый и второй день. Набиралась изрядная гора всякого рода приношений, которые делила между о. Христофором и дьяком Евтихием уже сама матушка. Дележка была, однако, неравномерная, а по достоинству, благодаря чему дьяк Евтихий получал лишь четвертую часть и был доволен своей участью, ибо он не более как дьячок. Разумеется, кое-что тут перепадало и сторожу Климу.
К вечеру второго дня о. Христофор очень уставал. После двухдневной ходьбы у него болели ноги и ломило спину. Но это не мешало ему на третий день рано утром отправляться на хутора. Хутора входили в состав прихода, и хуторяне считали приезд духовенства особенным, исключительным праздником.
Тут о. Христофору не приходилось ходить по хатам, так как они были разбросаны на значительном пространстве, отделенные одна от другой обширными огородами и картофельными полями.
Избиралась какая-нибудь определенная хата, туда собирались все хуторяне, здесь служилось молебствие, а затем выносили во двор столы, накрывали белыми скатертями с вышитыми краями, и происходило пиршество. И за этим пиршеством на долю духовных лиц обычно выпадало гораздо больше даров, чем за целые два дня хождения по деревенским хатам.
Хуторяне были народ тороватый и любили одарить свое духовенство. И расщедривались они не каким-нибудь куском сала либо паляницы – тут сыпались в духовную казну целые мешки жита, пшеницы, проса, чего у кого было больше, и все это собиралось на несколько телег, и на другой день сами хуторяне привозили в церковный дом.
Но на этот раз у о. Христофора была еще и другая забота. Он отлично помнил все торжественные обещания, данные хуторянами в церкви для семьи Мирона, и теперь напомнил о них хуторянам. И каждый из хуторян подтвердил.
Пиршество затянулось до солнечного заката, и о. Христофор с дьячком Евтихием вернулись домой, когда уже спускались сумерки.
Всегда трезвый и осторожный в выборе пищи и питья, о. Христофор для этого дня, один раз в году, делал некоторое исключение. Не было никакой возможности среди хуторян соблюсти умеренность, так они умели упрашивать и так были неотступны в своих просьбах. И так как от большей или меньшей уступчивости прямо зависело количество даров, то о. Христофору приходилось отступаться от своих принципов. Поэтому он вернулся домой с несколько затуманенной головой и, как человек непривычный, сейчас же захотел спать, лег в постель и в эту длинную ночь, начавшуюся с семи часов вечера, выспался и отдохнул за все три дня.
А на другой день еще не взошло солнце, когда о. Христофор поднялся и отправился в волость. По дороге он останавливался около хат и своей толстой палкой стучал в окна сельских обывателей, чтоб те, которые слишком заспались, проснулись и поспешили собраться во дворе волости. И скоро там сошлись все хозяева.
– Ну, что же, – сказал им о. Христофор, – приступим. Время у вас свободное, все равно праздничную неделю пропьянствовали бы.
И хозяева подтвердили. А, разумеется, пропьянствовали бы, уж о. Христофор знает их лучше, чем они сами. Конечно, земляки порядочно уже поостыли от того воодушевления, которое охватило их тогда в церкви, в пасхальную ночь, после проповеди о. Христофора.
Но никому и в голову не пришло отказаться. Это было бы малодушием.
И вот вся деревня собралась на погорелом месте. О. Христофор облачился в светлые ризы и отслужил молебствие перед началом работ, а после этого начались и самые работы.
Это было нечто беспримерное. Обыкновенно с постройкой хаты мужик с бабой возятся уже самое меньшее два месяца. А произошло настоящее волшебство. Как-то мигом убрали с погорелого места все остатки от пожара, из всех дворов натаскали и дерева, и камыша, и глины, отыскались и доморощенные мастера, и каждый занялся тем, что знал лучше других. Стучали топоры, шипели пилы, долбило дыры долото. Бабы вязали пучки камыша и месили глину.
День, другой и третий и еще несколько дней – и, точно по щучьему веленью, выросла постройка, и на недавно опустелом месте стояла стройная новая хата, и камышовая крыша красовалась на ней с ровно остриженными краями и с красивым гребнем наверху. Оставалось только выждать время, пока она высохнет, чтобы можно было побелить ее глиной. Никогда и не мечтал Мирон о такой хате.
Сельчане и сами от себя не ожидали такого усердия. Это походило на какое-то состязание, каждый старался превзойти другого, особенно молодежь. Но душою всего дела был, конечно, о. Христофор. Никогда он не говорил пустых слов, славился этим, да и теперь не сказал. «Построим Мироновой семье хату» – это были его слова тогда в церкви, во время пасхальной заутрени, и он строил вместе с другими.
Он вставал раньше всех. Еще только едва-едва розовел восток и одна за другой начинали гаснуть звезды, как он уже был на ногах, надевал рясу, брал в руки палку и отправлялся по деревенской улице. К каждой хате подходил он и, если видел, что там еще спят, осторожно, но настойчиво стучал палкой в окно:
– Эй, эй, Вавило! Экий ты лентяй! Подымайся, а то солнце взойдет, и стыдно тебе будет перед ним. Вставай-ка и идем на постройку!
И ждал, пока Вавила, вскочив с постели, торопливо напяливал на себя одежду и еще с заспанным лицом выходил на улицу.
– Уж так скоро, батюшка, что даже и Богу помолиться не успел, – говорил, скрывая досаду, ленивый Вавила.
– Ничего, я за тебя помолюсь. Притом же работа для ближнего та же молитва, – отвечал о. Христофор и шел уже вместе с Вавилой дальше, останавливался у другой хаты и таким же образом подымал с постели какого-нибудь Михайлу или Илью.
И так проходил он всю деревенскую улицу, переходя с одной стороны, на другую и пробуждая спящих и ни одного не оставляя в хате. Он знал, что доброму хозяину ничего не стоит перевернуться на другой бок и опять заснуть. Каждого он вытаскивал из хаты и брал с собой.
И когда приходили на край села, где строилась хата для Мирона, это уже была порядочная компания во главе с о. Христофором.
И на постройке он проводил целые дни, отлучаясь только для выполнения треб да для принятия пищи. И все время пристально следил за работой, торопил и всячески поощрял.
– Ведь я знаю, – говорил он, – скоро начнутся полевые работы, и тогда вас сюда и калачом не заманишь.
Когда же не хватало каких-нибудь материалов для постройки, он просто делал набег на двор какого-нибудь богатого мужика.
– Эге, Степан, да у тебя сколько досок-то наготовлено, а нам и всего-то нужно с полдесятка: а ну-ка, свези их на постройку. А Бог, гляди, и простит тебе за это какой-нибудь грех.
И Степан почесывал затылок, но вез полдесятка досок, потому что никак не хотел огорчить батюшку. А то не свезешь, ведь пристыдит о. Христофор, при всех так и отпалит что-нибудь такое, отчего не будешь знать, куда и провалиться.
И была-таки одна такая история – с Антоном Чумаком, с тем самым, чья мельница стояла по ту сторону оврага, как раз против нового строения. Когда уже стены довели до потолка, и нужно было настилать потолок, как раз и оказалось, что бревна для настилки, пожертвованные кем-то из прихожан, коротки. Ничего нельзя было с ними поделать. Подумал о. Христофор, покачал головой и сам себя пожурил за то, что не рассчитал. Строили ведь по-домашнему, на глаз, как строятся все хаты в деревне.
Но, случайно подняв голову, взглянул отец Христофор на мельницу Антона Чумака. А там, около мельницы, как раз и лежала целая куча сложенных одно на другое бревен, и, насколько можно было судить издали, все подходящие.
– Да это же прямо Божье указание, – сказал отец Христофор мужикам. – Бревен нам не хватает, а бревна как раз тут лежат. Пойдем к Чумаку, да только миром.
Сомнительно покачали головами земляки: не даст Чумак, не такой человек. Он и то до сих пор ни одной камышинки на постройку не пожертвовал.
– А не даст – ему же и хуже будет! – И, прихватив мужиков, о. Христофор отправился через овраг к мельнице.
А Антон Чумак как раз в это время вместе с своим работником передвигали мельницу на оси, потому что повернулся ветер, и надо было крылья поставить как раз против ветра. При виде батюшки Антон прервал свою работу и почтительно снял шапку.
– Христос воскресе, – сказал о. Христофор.
Чумак ответил как полагается.
– Помогай Бог! – прибавил о. Христофор.
Чумак и на это сказал, как надо: спасибо, мол.
– А мы о твоей душе подумали, Антон. Вот ты до сих пор все никак придумать не можешь, что бы такое пожертвовать на нашу мирскую постройку, а мы нашли.
– Что же, отец Христофор… – мрачно насупив брови, откликнулся Антон, уже, очевидно, почуяв грозящую ему беду. – Постройка, она и без меня выросла, а я, может, когда-нибудь в другой раз… Да и нечем… У меня мука… Кроме муки, ничего и нет…
– Как же нет? Нам нужно потолки настилать, а у тебя как раз целая куча бревен лежит… И не много надо – десятка два бревен…
– Бревна самому нужны, отец Христофор. На то я покупал, что нужны, – упирался Антон.
– Так не дашь?
– Да уж как-нибудь обойдитесь, отец Христофор. А бревна мне самому нужны.
– Ну, ладно. Вот никогда не думал строить мельницу, а теперь построю. На зло тебе построю и отобью у тебя полдеревни. А не то еще лучше: соберемся да миром построим. И будет мирская мельница. Ведь выстроили хату.
Антон сделал вид, что понял это как шутку, но в душе он всегда именно этого больше всего на свете боялся – чтобы кто-нибудь не вздумал построить мельницу. Он ничего не сказал, но, когда о. Христофор с мужиками ушли, работник его привел к мельнице лошадь с телегой, снял с телеги ящик, нагрузил вместе с Антоном бревнами и привез их на постройку.
Прошло недели две. Хата Миронова высохла, ее побелили, и стояла она на краю села такая стройная и нарядная. О. Христофор назначил день для освящения ее и известил о том хуторян. И хуторяне явились со своими дарами, о которых дали обет в церкви, и разом наполнился двор всяким добром хозяйственным. Было торжественное освящение, после которого Мирон с семейством поселился в хате и начал в ней новую жизнь.
И хорошо пошли дела Мирона. Собранные в церкви триста рублей сильно помогли ему для начала. Стал он наряду с лучшими хозяевами прихода. Он посещал церковь, как все. Но никогда не видели его так пламенно молящимся, как в пасхальную ночь во время утрени.
С. Кипренский
Братский поцелуй
Судьба забросила меня в Лондон, где я по делам фирмы, у которой служил в Москве, должен был вместо предложенной недели просидеть целых три месяца. Мне было тогда двадцать пять лет, фирма моя была богатая, а я считался в ней полезным человеком, так как у меня были специальные познания и, кроме того, я владел языками. Мне платили хорошее жалованье, а во время командировок были еще щедрые приплаты.
Лондон – город, в котором молодой человек, желающий искать развлечений, может истратить много денег. И я не могу сказать, чтобы я не любил развлечений, напротив – в Москве я жил весело. Но там у меня был свой круг, и я не умел веселиться иначе, как в своем кругу. И лондонские забавы меня нисколько не пленяли. Оттого мне было нестерпимо скучно.
Как человек, не привыкший терять время даром, я скоро нашел себе занятие. Моей специальностью было котельное дело, поручение же было коммерческого свойства. Но я отыскал в окрестностях столицы великолепно устроенный завод по моей специальности и выхлопотал себе право ежедневно посещать его и учиться. Это значило скрасить мою скуку. Я проводил на заводе почти все дневные часы. Но оставался вечер, который мне некуда было девать. Я побывал в театрах, в цирках, выслушал тьму лекций по всевозможным вопросам, и это уже мне надоело.
Особенно грустно стало мне, когда наступила Масленица. Развеселое время в Москве. Вспомнились пикники за городом, ночи с цыганами и блины, которых я, в сущности, терпеть не мог, а теперь они вызывали во мне самые трогательные воспоминания.
Русских в Лондоне я не хотел искать. Это ведь все большей частью народ трудящийся, занятой, а я явился бы в их глазах каким-то приезжим бездельником, который пришел к ним от скуки.
И как раз в это время я познакомился с одним английским семейством, которое жило за городом, неподалеку от завода, где я учился. Знакомство было случайное. Из Лондона я каждый день ездил в трамвае на завод, и случилось так, что несколько раз подряд соседом моим был почтенный человек с густыми седыми волосами на голове и с совершенно бритым лицом. Он был приветлив, предупредительно отодвигался, когда я хотел занять место, любезно разъяснял мне, когда я по какому-нибудь поводу недоумевал. А после этого уж мы разговорились.
Он узнал, что я русский, и почему-то в его расширенных глазах появилось какое-то радостное сияние, и он долго и основательно объяснял мне, почему он рад знакомству со мною. У него была своего рода историческая теория. Он считал, что народы на расстоянии тысячелетий постоянно сменяют друг друга и что в самом непродолжительном времени должна наступить очередь русского народа, когда он станет впереди других. Русские, по его мнению, молодой народ, в котором скрываются поразительные способности. Он еще не проявил их, но проявит непременно.
Дальше я узнал, что он отставной военный, в чине, который приблизительно соответствовал нашему майору, что фамилия его Спайль, и что у него есть жена и дочь двадцати двух лет.
Я открыл ему свое имя и объяснил, почему живу в Лондоне и как скучаю. Это последнее мое признание было, может быть, и напрасно. Мой майор ухватился за него и сейчас же начал самым горячим образом предлагать мне развлечение от скуки в виде знакомства с его семейством.
«Жена и дочь, – подумал я, – мистрис Спайль и мисс Спайль! Едва ли это будет действительное лекарство от моей скуки». Я представил себе тихое буржуазное семейство, живущее на пенсию, получаемую майором, и не могу сказать, чтобы меня туда потянуло.
Но тут оказалось, что майор вовсе не довольствуется своей скромной пенсией и, будучи человеком еще сильным и здоровым, работает в какой-то типографии в самом Лондоне. Дочь же его, мисс Эмили Спайль, занимается переводами с немецкого языка и помещает их в журналах.
– Только вы не подумайте, что она суфражистка! Избави Бог! Она этих крайних мнений не разделяет.
Я не мог не пойти навстречу столь любезному приглашению и выразил полное удовольствие. Кстати, хотя я и бывал уже за границей и даже в Лондоне, но никогда не случалось мне заглядывать во внутренний семейный быт англичан. Это был случай пополнить пробел в моем образовании.
Мы условились с мистером Спайлем, что я посещу его семейство в ближайшее воскресенье, когда и он будет дома, в пять часов дня.
Когда мы расстались, я, признаюсь, пожалел о своей слабости. К чему было вступать в разговор? Можно было ограничиться обменом простых любезностей. Теперь надо идти куда-то в неизвестный дом и тянуть канитель знакомства. Мне представилось, что скука, которая и без того удручает меня, теперь еще увеличится. «Майор, его жена и дочь», – мелькало у меня в голове, и это трио рисовалось мне каким-то символом скуки.
Хуже всего было то, что я даже не мог по русскому способу просто-напросто увильнуть от знакомства. Просто не прийти в назначенный день и час, предоставить майору, его жене и дочери сколько угодно умозаключать из этого о русской невоспитанности. Майор неизменно попадался мне в вагоне – у него была ночная работа, и он возвращался домой только утром. Типография печатала газету, и он держал ночные корректуры. Надо было изумляться трудоспособности этого почтенного пятидесятипятилетнего человека.
В субботу он обязательно напомнил мне о моем обещании и прибавил, что его семейство с нетерпением ожидает меня и очень интересуется знакомством с русским, да еще москвичом.
Наступило и воскресенье. В этот день мне незачем был ехать в предместье, так как на заводе работы не было. Но и в Лондоне тоже было делать нечего. Все было закрыто, и город производил такое впечатление, как будто его только что, как Помпею, вырыли из-под пепла. В четыре часа я попытался сесть в вагон, но это было не так легко. Весь Лондон стремился за город, и места всюду брались с бою.
Стоял чудный весенний день, и там, за городом, действительно было хорошо. Но кое-как я отыскал себе место и пустился в путь. Майора, конечно, в соседстве со мною не было: он пользовался воскресным отдыхом.
Случайно я пришел к маленькому трехэтажному домику, когда было без одной минуты пять часов. Ну, право же, я об этом не старался.
– Это великолепно! – услышал я над головой знакомый, несколько скрипучий, но добродушный голос мистера Спайля. – Это великолепно! Если бы все русские были так аккуратны…
Я поднял голову. В открытом окне второго этажа я увидел фигуру мистера Спайля. Он держал в руке карманные часы и пальцем другой руки тыкал в циферблат:
– Без одной минуты пять часов… Вот сюда, в эту дверь. Я сейчас вам помогу.
Он скрылся, а через полминуты дверь отворилась, и меня приветствовал сам майор.
Меня пригласили в миниатюрный салон, где было убранство не совсем казенное. Широкий диван был закрыт очень потертым, но все же персидским ковром, и на стене тоже был персидский ковер. На окнах стояли цветы. В довольно большой железной клетке прыгали маленькие попугаи.
Дамы были здесь. Мистрис Спайль – высокая, сухощавая, очень сохранившаяся дама лет сорока пяти, улыбалась мне со всем радушием, на какое только была способна, и показывала свои здоровые, слишком крупные зубы.
Мисс Спайль оказалась роста невысокого, чуть пониже даже среднего, блондинка с черными бровями, очень миловидная и приветливая.
Дамы были в восторге, когда я заговорил по-английски, – они почему-то воображали, что я непременно должен на их языке лапти плести, а майор позабыл отрекомендовать меня с этой стороны.
Само собой разумеется, что начался бесконечный разговор о России. На меня посыпались расспросы. Любопытство их касалось московского Кремля и зернистой икры, русской архитектуры и казенной водки.
Наконец, когда подали огромные чашки, наполненные крепчайшим чаем, разговор перешел на мою особу: где я учился, моя специальность, где я служу, сколько мне лет, женат или холост, кто мой отец и т. д.
Я не видел никаких оснований отказать им в удовлетворении их любопытства. Стараясь одолеть бездонную чашку совершенно невероятной крепости чая, я рассказывал им о Москве, о России и о себе, а они слушали все это с таким глубоким вниманием, даже, как мне показалось, с умилением, как будто речь касалась священных для них предметов.
Так совершилось мое знакомство с семейством мистера Спайля.
На первый раз дело ограничилось формальным пятичасовым чаем. В половине седьмого я уже уехал в Лондон. Но с меня было взято слово, что в следующее воскресенье я проведу с ними целый день. Было названо какое-то очаровательное место в окрестностях, куда мы совершим экскурсию. Оказалось, что англичане не только в Швейцарии и Италии но и у себя дома совершают экскурсии.
Сказать, чтобы семейство Спайля очаровало меня и чтобы в наступившее воскресенье меня потянуло к ним, я не могу. Несомненно, люди они были добродушные, а мисс Эмили даже была мила, и особенно мне понравились ее зубы – в меру крупные, ровные и прямо какой-то поразительной белизны. Ее в общем миловидное, но довольно обыкновенное лицо делали интересным черные брови. В самом деле они были очень красивы при светлых, слегка золотистых волосах и голубовато-серых глазах.
Но всего этого было недостаточно, чтобы притянуть меня к себе.
Тем не менее я решил остаться верным не только своему слову, но и моей так неожиданно установленной репутации аккуратного, после того как я пришел ко Спайлям без одной минуты в пять часов.
Я поехал к ним и в полдень был уже в их маленьком коттедже с небольшим палисадничком, в котором уже расцвели вовсю нарциссы, издалека кричавшие о себе острым, слащавым ароматом.
Но перед путешествием мы побывали в столовой, такой же миниатюрной, как салон, и здесь приняли «легкий завтрак», состоявший из бифштексов, чрезвычайно сложного салата, сладкого омлета, фруктов и сыра. Затем началась экскурсия, сперва в трамвае, а потом пешком.
Местность была действительно очаровательная, и я нисколько не жалел о том, что поехал.
Страстной любительницей фотографии оказалась, к моему удивлению, не мисс Эмили, а мистрис Спайль. Ее маленький ручной сак был наполнен запасными катушками, и она истребляла их с невероятной быстротой. Решительно все оказывалось достойным запечатления – всякий пригород и всякое деревце и камень.
Мистер Спайль был плохим ходоком. Ноги у него были не особенно крепкие, и он часто присаживался для отдыха.
Мы же с мисс Эмили были неутомимы, ходили без остановки, болтали без умолку и успели отлично познакомиться. Она была интересна тем, что говорила не о себе. Она всю свою жизнь провела в Лондоне и его окрестностях. Путешествовать им не позволяли скромные средства мистера Спайля. Но зато она отлично знала жизнь того небольшого края, в котором прожила, и обладала способностью излагать свои наблюдения. Я слушал ее, как занимательно написанную книгу о нравах Лондона и его окрестностей. Зато и от меня потом потребовалось, чтобы я основательно познакомил ее с Россией.
– Вы интересуетесь Россией? – спросил я.
– О да. Если б я имела возможность, я непременно поехала бы в Россию, – ответила мисс Эмили.
– Что же вас туда привлекает?
– Но это страна Толстого. Он такой великий художник. В стране, где он мог собрать столько поразительно красочных наблюдений, должна быть очень интересная жизнь.
Я говорил о России все, что знал, и мисс Эмили поглощала мои слова. В пять часов мы где-то по пути пили молоко, причем мистер Спайль влил в свой стакан порядочную порцию коньяку, а к семи часам уже вернулись домой. На этот раз я остался обедать у Спайлей, а потом незаметно просидел до десяти часов.
Ну, а затем посещение Спайлей скоро вошло у меня в привычку. Завод я обыкновенно покидал часов в шесть, и было совершенно естественным делом завернуть по дороге в их коттедж.
Оказалось также очень удобным, чтобы я каждый день обедал у них. Они мне предложили, я попросил их назначить плату, и мистрис Спайль сделала это без малейших ужимок. Это было вполне справедливо. Она взяла бумагу и карандаш, произвела некоторые несложные выкладки, сказала мне цифру: ровно столько, сколько прибавится из-за меня к их бюджету. Это мне страшно понравилось, потому что никого не стесняло. Я стал обедать у них, и в десять часов мы вместе с мистером Спайлем уезжали: он – на свои ночные работы, я – спать.
Когда живешь на чужбине, в душе как-то обостряются воспоминания, выплывает на поверхность давно забытое, и начинаешь ценить такие переживания, которые на родине казались уже навсегда от тебя отошедшими.
Шел Великий пост. Помню, в Москве, живя в известном кругу, я совсем как-то не замечал его. Когда-то в детстве он играл в моей жизни большую роль. Я тогда веровал и постился, посещал церковные службы, предавался покаянию и говел. Но потом все это ушло из моей жизни, и пост ничем не отличался от всех других дней.
Тут вдруг все это вспомнилось. Я стал тосковать по давно забытому, и ярко рисовались мне картины, пережитые в детстве. Деревня, протяжный звон, сосредоточенные лица, сокрушенные взоры, покаянные слова, долгие службы с частыми усердными поклонами. По всей вероятности, это настроение отражалось в моих глазах, потому что дамы, с которыми я проводил большую часть времени, обратили на это внимание. Они спросили меня, о чем я тоскую. Неужели Англия так плоха, что не в состоянии заглушить во мне тоску по родине?
А для моей тоски это был выход. Я рассказал им о нашем посте и о связанных с ним обычаях. Я нашел внимательных слушательниц, и эти излияния облегчали меня. Подробнейшим образом, каждый день возвращаясь к этому предмету, я описывал перед ними все великопостные службы и долгое стояние во время «страстей» и особенно красочно рисовал обычаи седьмой недели, связанные с плащаницей.
Я познакомил их с особой психологией народа, так ярко переживающего ежегодно все горестные перипетии жизни Христа. И когда я дошел до пасхальной ночи, на меня, должно быть, снизошло истинное вдохновение. Я помню, что в эту минуту я поднялся, и голос мой зазвучал проникновенно. Я говорил о том, что в эту ночь, в миг, когда на церковной колокольне раздается пасхальный благовест, печаль сходит с лиц, и в глазах загорается радость. В церквах зажигаются огни, много огней, люди приходят со свечами и тоже зажигают их. Весь город, каждое селение расцвечивается радостными огнями.
– Вся Россия, подумайте, эта колоссальная страна с полуторастамиллионным населением, ликует с таким чувством, как будто действительно присутствует при Воскресении Христа. Торжественный звон колоколов всю ночь и весь день непрестанно. Праздник у всех в глазах и в душе. Забываются старые обиды, и вчерашние враги в этот день становятся друзьями. Все чувствуют себя братьями, и на каждом шагу раздаются братские поцелуи.
– Неужели все целуются? – спросила мистрис Спайль, видимо, изумленная таким обычаем.
Я подтвердил и подробно описал, как это делается. В особенности в деревнях, где каждый подходит к каждому, и никто в этот день не может отказать своему ближнему в братском поцелуе. Достаточно только произнести: «Христос воскресе» – как к вам уже протягиваются братские уста.
– «Христос воскресе»? – спросила мисс Эмили. – А как это по-английски?
Я перевел.
– Как это интересно! Какой удивительный обычай, – воскликнули обе дамы разом. – И женщины целуются с мужчинами?
– Но я же вам говорю, что в этот день нет женщин и мужчин, а есть только братья и сестры.
– Удивительно! Какой оригинальный ваш народ! Какая глубина душевного чувства в этом обычае!
Дамы были в восторге и в этот день как-то особенно заботливо ухаживали за мною, в особенности мисс Эмили, которая утверждала, что, когда я рассказывал о пасхальных обычаях моей страны, у меня как-то необыкновенно сияли глаза.
Я не могу сказать с уверенностью, было ли это так в действительности или мне только казалось, что мисс Эмили была ко мне неравнодушна. Будь это в России и будь на ее месте русская девушка – я, вероятно, узнал бы это наверное.
Мы не умеем слишком тщательно прятать наши чувства. Даже когда хотим скрыть их, они как-то сами выдают себя.
Но мисс Эмили была англичанка и никогда не забывала о правилах внешнего поведения. Мы часто бывали с нею наедине, гуляли по окрестностям и даже сидели в комнате, когда погода была плохая. Но никогда ни одним намеком она не выказала мне своего чувства. И тем не менее мне все же так казалось. Не знаю, почему.
Может быть, есть такие невидимые нити, в миллион раз тоньше паутины, которые протягиваются от взволнованного сердца к другому сердцу. Каким-то внутренним теплом веяло на меня от ее глаз. А то случалось, что она вдруг замолкала среди разговора, и, когда я говорил что-нибудь, ее глаза впивались в мое лицо.
Словом, я ничего не могу утверждать, но мне так чувствовалось. Отвечал ли я ей чем-нибудь похожим на интимное чувство, я тоже не знаю. Было что-то такое, что заставляло меня предпочитать оставаться с нею вдвоем. Мне было приятно сидеть против нее и смотреть в ее глаза. Но никогда не являлось у меня даже мысли о каком бы то ни было сближении, никогда я не представлял себе, что мог бы, например, поцеловать ее, обнять и даже пожать руку сильнее обыкновенного.
Я думаю, что это было просто мимовольное сближение двух молодых существ, которым часто приходилось быть вместе. По всей вероятности, для людей в диком состоянии этого было бы вполне достаточно, чтобы они сблизились.
Но между мной и мисс Эмили стояло так много культурных преград. Мы были люди различных наций и культур, мы так различались по воспитанию, привычкам, взглядам. И, несмотря на хорошее знакомство, я все-таки никогда не переставал в их семье чувствовать себя посторонним, «иностранцем».
Пост близился к концу. Уже миновала Пасха по новому стилю. Она прошла для меня как-то незаметно. Она показалась мне почти обыкновенным воскресным днем. Люди отдыхали от трудовой недели, как делали это всегда. И только незначительные внешние признаки напоминали об особом значении этого дня. Правда, был удивительный солнечный день, и мы со Спайлями, по обыкновению, «делали экскурсию».
Но зато с этого дня у меня на душе началось какое-то непрестанное ожидание, а вместе с ним выросла и моя тоска. Слишком долго уж я засиделся в этом прекрасном доме. Воображение с почти болезненной живостью рисовало мне картины нашей русской жизни. Величественное как-то причудливо смешивалось с житейским и сутолочным.
То мне представлялись московские храмы, наполненные молчаливо молящимися людьми, то вдруг мысль переносилась на бойкую торговую улицу, где толпа снует, суетится, бегает из лавки в лавку, закупая тысячами утробных предметов. Давка на рынке, громкий говор, толкотня.
Я побывал в русской церкви, узнал, в какие часы там происходит пасхальная служба, и решил быть там.
У Спайлей заметили мое настроение. Да я, впрочем, и не скрывал его. Мне просто было невмоготу таить в себе такое беспокойное переживание. И я сообщил им о своем намерении в нашу пасхальную ночь быть в русской церкви.
– Это, должно быть, в высшей степени величественная служба, – сказала мистрис Спайль. – Но можно, и не будучи русским, присутствовать там?
– О, разумеется. Вы можете присутствовать, если вас это интересует. Вы, конечно, не составите понятия о настоящей русской пасхальной ночи. Но все же это будет отголосок того настроения.
– О, так мы непременно приедем в русскую церковь. Ты ничего не имеешь против этого? – спросила мистрис Спайль, обратившись к майору.
Тот сделал всеразрешающий жест:
– Помилуй! Это, наверно, доставит такое удовольствие нашему русскому гостю. Я сам, к сожалению, не могу сделать этого, так как буду в это время сидеть в типографии. Вот если бы это было в следующую ночь…
Да, бедный мистер Спайль под воскресенье не освобождался. Зато спал всю ночь с воскресенья на понедельник, так как по понедельникам его газета не выходила.
И наступила наша пасхальная ночь. В русской церкви собралось довольно много народа, и служба была торжественная. Но, конечно, не могло быть того настроения, какое я испытывал в Москве. Публика была почти сплошь фешенебельная, разодетая, и это больше походило на бал, чем на молитву.
Дамы Спайль порядочно опоздали. Они приехали только тогда, когда уже началась обедня.
Мистрис Спайль слегка принарядилась, но все же недостаточно, чтобы не отличаться от остальной публики. Но зато мисс Эмили явилась в изящном белом платье и была свежа и прелестна. Они с большим любопытством слушали пение хора и следили за всеми подробностями богослужения. Особенное же внимание их вызвало общее целование креста в самом конце обедни. Священник вышел из алтаря, и публика подходила к нему, целовала крест, а затем христосовалась с ним.
– Может быть, и мы обязаны пойти туда? – тихонько спросила меня мистрис Спайль.
– Нет, никто не обязан, – ответил я, – это делается добровольно. Если у вас есть терпение, то подождите здесь.
И, сказав это, я присоединился к толпе и стал потихоньку пробираться к священнику. На это, однако, ушло минут десять. Наконец я подошел к нему и поцеловал крест.
– Христос воскресе, – сказал мне священник, как говорил он это всем, и мы поцеловались.
Я отошел и вернулся к своим дамам. В разных углах церкви в это время раздавались поцелуи. Знакомые христосовались между собой. Настроение у меня было радостное. Я повернулся к дамам и хотел что-то сказать им.
И вот я вижу: мисс Эмили как-то сосредоточенно смотрит на меня, лицо ее слегка побледнело, а глаза точно зажглись и горят. Я никогда еще не видел ее такою.
Я вижу, что она необычайно взволнована, и стараюсь разгадать причину. Вот она подходит ко мне и протягивает руку. Я беру ее руку и чувствую, что она горяча и дрожит. Она говорит по-английски точь-в-точь так, как я тогда перевел ей:
– Христос воскресе!
Но голова ее неподвижна, она как будто не решается приблизить ко мне свое лицо.
Я невольно искоса взглянул на мистрис Спайль и увидел в глазах ее ужас. Эти глаза как бы говорили: «Неужели это может случиться?»
Но это было только мгновение. Глаза мистрис Спайль меня не смутили. В горячих глазах Эмили я чувствовал ожидание. И вот я чуть-чуть подвинулся к ней – и мы поцеловались. Вот тут я в первый раз почувствовал крепкое пожатие ее руки.
После этого произошло что-то совсем странное. Мистрис Спайль схватила свою дочь за руку и строго сказала ей:
– Пойдем!
И быстро потащила ее к боковому выходу. Я заметил только, что Эмили, опустив голову, покорно шла за ней, и они вышли из церкви и скрылись.
Все это произошло так неожиданно и так странно, что я растерянно стоял несколько секунд на месте. Но этих нескольких секунд было достаточно, чтобы потерять моих дам. Я выбежал из церкви. Там было темно. Я смотрел во все глаза, не белеет ли где-нибудь платье мисс Эмили. Но ничего не мог разглядеть. Я спустился с паперти, попробовал пойти в одном направлении, потом в другом – напрасно. Мои дамы исчезли бесследно.
Досадное чувство овладело мной. Очевидно, случилось что-то, с точки зрения почтенной мистрис Спайль, неподобающее. Но я никак не мог понять, что именно. Мы похристосовались с мисс Эмили. Что же тут особенного? Если бы я подошел к ней на улице и всенародно поцеловал ее, – конечно, это было бы дерзко с моей стороны. Но тут в церкви раздавались поцелуи, обе мои дамы были предупреждены относительно нашего обычая. На мой взгляд, со стороны Эмили это было такое очаровательное движение. Я никак не мог предположить, что мне следовало отказать ей.
Жаль, что была испорчена пасхальная ночь; но, может быть, еще больше жалел я о том, что, по всей вероятности, испорчено и другое – мои милые отношения со Спайлями и в особенности с мисс Эмили. Именно после этого братского поцелуя она мне вдруг стала как-то душевно близка.
Мне оставалось отправиться к себе в гостиницу и лечь спать.
Я проснулся в десять часов, оделся и неторопливо пил кофе. Торопиться было некуда. К Спайлям я, конечно, не собирался. Мне казалось, что теперь, после вчерашнего непонятного эпизода, они не впустят меня в свой дом.
Скоро после одиннадцати часов ко мне в комнату постучались. Я не без недоумения попросил войти. Дверь отворилась, и передо мной очутился сам майор.
«Гм… – подумал я. – Вот и объяснение, вот и сам грозный судия».
Я быстрым взглядом посмотрел на его лицо. Оно было замкнуто, но в нем не было ничего враждебного, скорее всего мистер Спайль, ложившийся обыкновенно спать утром, в этот день совсем был лишен сна и, вероятно, испытывал по этому случаю усталость и негодование.
– Мистер Спайль? – с искренним удивлением воскликнул я.
Майор подал мне руку, а потом сказал:
– Извините, что так рано постучался к вам.
– Я очень рад… Я, признаюсь, беспокоился… Вчера… Ну, одним словом, я в чем-то виноват и не понимаю…
Мистер Спайль сел на диван.
– Нет, – сказал он, – вы ни в чем не виноваты; но жена моя – англичанка…
– Но в чем же дело, мистер Спайль? Чем огорчил я вашу уважаемую супругу? Вы, вероятно, знаете, что мы с мисс Эмили… Я не знаю, как это сказать по-английски, по-русски это называется «похристосоваться»; но ведь это у нас считается в порядке вещей. Я понял так, что мисс Эмили хочет оказать мне как иностранцу, как русскому, особое внимание.
– Но да, да… совершенно верно. И мы это потом, потолковав с женой, поняли, и она очень сожалела о своей слишком поспешной горячности. Но, понимаете ли, английская мать так уж воспитана. Она не может видеть спокойно, если кто-нибудь целует ее дочь. Это, конечно, к вам не имеет никакого отношения, но я все-таки объясню вам, что по английским законам вы должны были бы после этого или жениться на Эмили, или уплатить по определению судьи известную сумму. О, пожалуйста, прошу вас, не подумайте… Ничего подобного мы не имели в виду. Тут имеется налицо удовлетворительное объяснение. Но я это к тому, чтобы вы поняли поступок моей жены.
– Боже мой! – воскликнул я. – Неужели такой взгляд? В таком случае я понимаю, что мистрис Спайль могла понять меня дурно. Так вы говорите, что потом она поняла?
– Да, разумеется. Но все же, мой почтенный друг, нам придется лишиться вашего в высшей степени приятного общества.
– Как? Почему же?
– Да, придется. С английской точки зрения неудобно вам бывать в нашем доме и встречаться с Эмили.
– Это повергает меня в отчаяние.
– Меня тоже, если вам угодно знать… Мы ведь искренно полюбили вас. Но с английской точки зрения, – а мы ведь не можем стоять на другой, – нельзя этот вопрос разрешить иначе.
Тут он, видимо, неохотно поднялся с дивана и протянул мне руку.
– Позвольте поблагодарить вас за ваше приятное общество и пожелать вам всего лучшего, – сказал он, крепко пожимая мою руку. – Уверяю вас, что в моем доме останется о вас самое лучшее воспоминание.
– Простите, мистер Спайль, – но у меня есть маленькие счеты с мистрис Спайль… Я хотел бы просить вас передать ей…
– За обеды? Ну нет, я не возьму этого на себя. Вы можете прислать ей по почте.
Мы еще раз крепко пожали друг другу руки и расстались. Какой, однако, досадный конец там мило начавшейся истории! И случилось это именно в тот день, когда мисс Эмили особенно нравилась мне.
Без сомнения, если бы я вздумал сделать ей серьезное предложение и для этого приехал в коттедж Спайлей, то меня оттуда не выгнали бы… И если бы не случился этот преждевременный поцелуй, может быть, это едва начавшееся чувство разгорелось бы в настоящее, и… кто может знать, чем это кончилось бы.
Недели две пришлось еще мне просидеть в Лондоне. На завод я больше не ездил. Мне не хотелось встречаться в вагоне с мистером Спайлем и тем ставить его в затруднительное положение. Наконец я узнал, что дело, из-за которого я сидел в Лондоне, через неделю будет благополучно разрешено. Я стал готовиться к отъезду.
И в это время я получил письмо такого содержания: «Надеюсь, что вы никогда не будете дурного мнения о моих намерениях? Я хотела бы это знать. Э. С.», – и затем было указано одно из почтовых отделений Лондона. Я тотчас же ответил: «Вы можете быть совершенно уверены в этом, как и в том, что я на всю жизнь сохраню милое воспоминание о вас и о нашем братском поцелуе».
Я уехал в Россию. С мисс Эмили мы никогда больше не встречались.
М. Львова
Рубашка
Весна. Снег почти стаял. Земля чернеет и какой-то особенный свежий сырой запах говорит о весне. Мы все собрались у бабушки и усердно работаем: шьем рубашки бедным. Мама с няней кроят, бабушка сметывает рубашки, Наташенька быстро стачивает их на машинке, тетя Маша подрубает на руках, Вера обметывает петли и пришивает пуговицы. Даже крошки Коля и Машенька помогают: обрезают нитки и вдевают их в иголки.
– А ты расскажи нам, бабушка, – просит старший внук Николай, – почему у нас перед Пасхой шьют всегда мужские рубашки?»
– По завещанию моей бабушки, дружок мой… Это было давно – еще до революции. Моя бабушка, Надежда Сергеевна, проводила Великий Пост в строгом воздержании, молитве и в работе на бедных. Она сама и все домашние женщины и девушки шили одежды бедным: платья, сарафаны, рубашки. Все это складывалось и раздавалось на Страстной неделе нуждающимся, чтобы они имели возможность сходить к заутрене в новом чистом одеянии. Рубашки тогда шились не из ситца, как мы делаем теперь, а из белого домотканого холста, и сшивалось этих рубашек великое множество. Однажды, за год или за два до кончины, Надежда Сергеевна на Страстной неделе раздала все сшитые вещи бедным, и у нее осталась одна рубашка. С этой рубашкой происходило что-то странное: она несколько раз возвращалась к бабушке обратно. Один нищий уехал из города, другой умер, третий разбогател и больше не нуждался в милостыне. «Как странно, – сказала бабушка своей горничной Устеньке. – Видимо, эту рубашку Бог кому-то предназначил. Оставим ее у себя, и ты отдашь ее первому, кто придет просить Христа ради».
Прошло еще два дня, наступила Великая Суббота. Надежда Сергеевна сидела у своего окна, а Устенька уже заправляла лампады к празднику. Вдруг к окошку подошел высокий благообразный старик, одетый в наглухо застегнутый зипун. Он просил помочь ему Христа ради к Светлому Дню.
Бабушка послала Устеньку подать ему хлеба, денег, крашеных яичек. «Да еще не забудь рубашку, предназначенную ему, отдать», – крикнула бабушка уходящей Устеньке.
Та все передала старику, а когда вынула рубашку с просьбой надеть ее в церковь к Светлой Заутрене, старик внезапно поднял руки к небу и залился слезами. «Господи, благодарю Тебя за великую милость ко мне, грешному! – воскликнул он. – А тебя, добрая, милая благодетельница, да благословит Господь за то, что после стольких лет к Светлому Дню ты прикрыла меня!»
С этими словами он распахнул свой зипун, а не груди его ничего не было. «Вот уже 16 лет я хожу неприкрыто, а дал я обет такой перед Господом: ничего не просить для себя. Что подадут, за то и спасибо. Ты первая, ангельская душа, покрыла мою наготу! И в какой великий Святой День – в канун Светлого Праздника!» И он снова заплакал радостными слезами, плакала с ним и бабушка у своего окошка; поняла она, что Господь благословил и принял ее труд и работу.
И вот, когда она умирала, она и завещала своей дочери и мне, своей внучке, всегда Великим Постом шить бедным рубашки и тоже заповедовать своим детям и внукам. Мы и стараемся по мере сил исполнить бабушкино завещание, и я надеюсь, мои дружочки, что и вы его не забудете, – кончила бабушка свой рассказ.
Е. Опочинин
Блаженный и воевода
Нравен Тотемский воевода, князь Семен княж Петрович сын, Вяземский. Пока жил на Москве – где его, бывало, ни посадят, куда ни пошлют – все ему не в честь да не в место. Вот за то и велели ему ехать на воеводство подале, где похолоднее, авось де прохладится. А вышло ничего: прижился князь на Тотьме, в студеной лесной стороне, – второй уж год доходит, как он сидит на воеводстве.
Сказать по правде, нрава своего блажного он не переменил: по-старому крут и самоволен, и людям от него порою солоно приходится. Ну, да что ты будешь делать? Воевода ведь, и то сказать – не крестный, станется, и все они такие… Людишкам исстари заповедано, чтобы молчали и терпели. Ну, терпели и на Тотьме… Челом что ли будешь бить на воеводу? А куда? На Москву – далеко: еще придет али нет челобитье, а и придет, так в приказах-то своя братия, бояре, – знамо, своего не выдадут, покроют.
А временем чуден и затейлив был князь-воевода, и дивились люди, на него глядя. Пуще всего на свете возлюбил он песни. Игрецы всякие, гудочники, гусляры, домрачеи – были ему будто своя ровня. Бывало, сидит в судной избе с товарищами, а услышит, что на улице заиграли веселую песню, все бросит, выскочит и пойдет вприсядку. Ну, а люди тому и рады: где поклонами да слезами не возьмешь воеводу, там он все сделает за песню. И бывала же потеха! Чуть не каждый день песнями выманивали на улицу воеводу: играют ему с величаньем, а он ходит, ровно кочет, голову задравши, а товарищи с подьячими ждут-пождут в судной избе…
Чего там! Честью боярства не дорожил князь Семен Петрович из-за песен. Как-то был в Тотьме, проездом на Москву, посол голландский Кондратий Клинкин, так целую неделю проплясал воевода под немецкие цымбальцы. А как сказал ему посол, что есть у него в обозе еще мудреная мусикийская штука – палочки, в лад, аки гусли, подобраны, – князь стал посла молить, чтобы те палочки ему отдал. И говорил ему посол: «Палочки-де у него в обозе впереди, и взять их не мочно…» Тут князь-воевода кланялся ему земно, а как и это не взяло, заплакал, что малый ребенок…