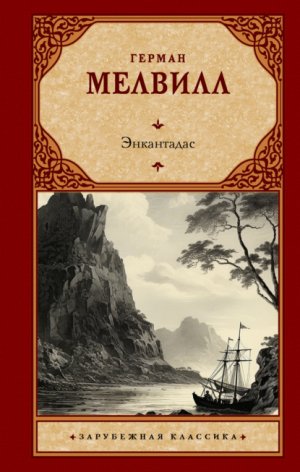
Серия «Зарубежная классика»
Перевод с английского
© Перевод. И. Бернштейн, наследники, 2023
© Перевод. М. Лорие, наследники, 2023
© Перевод. И. Гурова, наследники, 2023
© Перевод. В. Топоров, наследники, 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2023
Тайпи
I
Полгода в открытом море! Да, да, читатель, вообрази: полгода не видеть суши, гоняясь за кашалотами под палящими лучами экваториального солнца по широко катящимся валам Тихого океана – только небо вверху, только море и волны внизу, и больше ничегошеньки, ничего! Уже много недель, как у нас кончилась вся свежая провизия. Не осталось ни единой сладкой картофелины, ни единого клубня ямса. Великолепные грозди бананов, украшавшие прежде нашу корму и ют, увы! исчезли, нет больше и сладостных апельсинов, свисавших с наших штагов и рей. Все ушло, и нам ничего не осталось, кроме солонины и морских сухарей. О вы, путешествующие в пассажирских каютах, вы, которые столько шуму подымаете из-за какого-то двухнедельного плавания через Атлантику и с таким искренним ужасом повествуете о своих корабельных тяготах, – подумать только, ведь после целого дня завтраков, чаев, обедов из пяти блюд, светских бесед, виста и пунша вам приходится, бедненьким, запираться по своим отделанным красным деревом и мореным дубом каютам и спать по десяти часов кряду непробудным сном, разве только «эти негодники матросы» вдруг вздумают «орать и топать над головой», – что бы вы сказали, случись вам провести шесть месяцев в открытом море?!
Увидеть бы хоть одну травинку, освежающую глаз! Вдохнуть хоть бы один раз жирный аромат земли, размятой и благоухающей в горсти! Неужто ничего свежего, ничего зеленого нет вокруг нас?! Зелень-то, правда, есть. Наши борта изнутри выкрашены зеленой краской, но какого ядовитого, болезненного оттенка – будто ничто, даже отдаленно схожее с живой растительностью, не могло бы вынести этого тяжкого пути, уводящего прочь от твердой земли. Даже кора, державшаяся на дровах, ободрана и пожрана капитанской свиньей, да и сама та свинья уже съедена давным-давно.
И в загородке для птицы остался только один-единственный обитатель – некогда веселый лихой петушок, гордо расхаживавший в окружении жеманных кур. А теперь? Взгляните на него: вон он круглый день стоит, понурый, на своей одной неутомимой ноге. И с омерзением отворачивается от рассыпанных перед ним плесневелых зерен и от тухлой воды в корытце. Без сомнения, он предается трауру по своим погибшим подругам, которые были в буквальном смысле вырваны у него одна за другой и исчезли безвозвратно. Но дни его траура сочтены, ибо наш черный кок Мунго вчера сообщил мне, что получено наконец указание и смерть бедняги Педро предрешена. В будущее воскресенье его изможденный труп выставят для прощанья на капитанском столе, и задолго до наступления ночи он будет со всеми почестями похоронен под жилеткой сего почтенного джентльмена. Кто бы поверил, что может сыскаться столь жестокий человек, который желал бы казни страдальцу Педро? Однако эгоистичные матросы денно и нощно молят Бога о гибели злосчастной птицы. Утверждают, что капитан не повернет к берегу до тех пор, пока у него в запасе есть хоть один свежий мясной обед. Бедное пернатое обречено послужить ему последним таким обедом, и, как только оно будет поглощено, капитан должен образумиться. Я не желаю тебе худа, Петр, но раз уж ты все равно обречен рано или поздно разделить судьбу всего рода твоего и раз конец твоему существованию одновременно должен послужить знаком нашего освобождения, – да по мне, признаться, пусть бы тебе хоть сейчас перерезали горло; ибо, о, как я жажду снова увидеть живую землю! Даже сама наша старая шхуна мечтает опять взглянуть на сушу своими круглыми клюзами, и смельчак Джек Люис правильно ответил, когда на днях капитан обругал его за то, что он плохо держит курс:
– Да видите ли, капитан Вэнгс, я рулевой не хуже всякого, – сказал он, – да только нынче никто из нас не может удержать старушку на курсе. Не хочет она идти ни по ветру, ни бейдевинд; как ни смотришь за ней, она все норовит сойти с курса, а когда я, сэр, этак нежненько кладу руль на борт и добром приглашаю ее не увиливать от работы, она взбрыкнет и на другой галс перекатывается. А все потому, сэр, что она чует сушу с наветренной стороны и нипочем не хочет уходить дальше по ветру.
Твоя правда, Джек. Да и как может быть иначе? Разве ее толстые шпангоуты не выросли в свое время на твердой земле и разве у нее, как и у нас, нет своих чувств и привязанностей?
Бедная старая шхуна! Чего же ей еще желать? Да вы только посмотрите на нее. Вид ее так жалок! Краска на боках, выжженная палящим солнцем, пошла пузырями и лупится. И вон водоросли тащатся за нею хвостом, а под кормой что за безобразный нарост из уродливых полипов и рачков! И всякий раз, взбираясь на волну, она открывает миру оборванные, покореженные листы медной обшивки.
Бедная старая шхуна! Ведь ее полгода без передышки носит и мотает по волнам. Однако бодрись, старушка, скоро надеюсь увидеть тебя в зеленой бухте, мирно покачивающейся на якоре в надежном укрытии от неистовых ветров и так близко от веселых берегов, что просто рукой подать или добросить замшелым сухарем!
«Урра, братцы! Решено: через неделю мы берем курс на Маркизские острова!»
Маркизские острова! Какие странные, колдовские видения вызывает это имя! Нагие гурии, каннибальские пиршества, рощи кокосовых пальм, коралловые рифы, татуированные вожди и бамбуковые храмы; солнечные долины, усаженные хлебными деревьями; резные челноки, танцующие на ясных синих струях вод; дикие джунгли и их жуткие стражи – идолы; языческие обряды и человеческие жертвоприношения.
Таковы были странные, смутные предвкушения, томившие меня все время, пока мы туда плыли. Мне не терпелось как можно скорее увидеть острова, столь красочно описанные мореплавателями прошлых дней.
Архипелаг, на который мы держали курс, хотя и принадлежит к наиболее ранним открытиям европейцев в Южных морях (впервые они побывали там в 1595 году), остается по сей день обиталищем племени дикого и языческого. Миссионеры, отправлявшиеся в плавание по делам божиим, стороной миновали эти живописные берега, предоставляя их во власть деревянных и каменных идолов. А как необыкновенны обстоятельства, при которых они были открыты! На водной тропе Менданьи, рыскавшего по океану в поисках золотого берега, они встали как некий очарованный край, и на какое-то мгновение испанец поверил, что мечта его сбылась. В честь маркиза де Мендозы – в те времена вице-короля Перу, – под чьим покровительством было начато это плавание, Менданья дал островам имя, прославляющее титул его патрона, и по возвращении восторженно и туманно поведал миру об их великолепии. Но острова, годами никем не тревожимые, снова как бы канули во мрак неизвестности; все сведения, которыми мы о них располагаем, появились лишь в самое последнее время. А раз в полстолетие на них обязательно натыкался какой-нибудь отчаянный морской бродяга, нарушая их мирную дремоту, и готовый всякий раз приписать себе честь нового открытия.
Сведения о группе этих островов скудны – есть только случайные упоминания в книгах о плаваниях по Южным морям. Кук во время своих неоднократных кругосветных путешествий почти не задерживался у их берегов, и все, что мы знаем о них, почерпнуто из двух-трех повествований более общего характера. Среди них особого внимания заслуживают две книги: «Бортовой журнал плавания американского фрегата “Эссекс” по Тихому океану в годы минувшей войны» Портера, содержащая, как я слыхал, немало интересных подробностей об островитянах, хотя эту книгу мне ни разу не посчастливилось видеть самому; и «Плавание в Южных морях» Стюарта, капеллана американского военного шлюпа «Венсанн», где один из разделов также посвящен этой теме.
За последние несколько лет американские и английские суда, занятые китобойным промыслом в Тихом океане, испытывая недостаток в продовольствии, заходили время от времени в удобную бухту одного из Маркизских островов, но страх перед туземцами, коренящийся в памяти об ужасной судьбе, постигшей здесь многих белых людей, удерживал команды от общения с местным населением, достаточно близкого для того, чтобы познакомиться с их своеобразными обычаями.
Протестантские миссионеры, как видно, отчаялись когда-либо вырвать эти острова из цепких пут язычества. Встречи, которые им во всех без исключения случаях оказывали островитяне, запугали даже храбрейших из их числа. Эллис в своих «Полинезийских исследованиях» приводит интересный рассказ о неудачной попытке Таитянской миссии организовать филиал на одном из Маркизских островов. В связи с этим я не могу не передать довольно забавный случай, происшедший там незадолго до моего появления.
Один отважный миссионер, не устрашенный плачевным исходом всех прежних стараний умиротворить этих дикарей и твердо верующий в благотворную силу женского влияния, привез к ним молодую и красивую жену, первую белую женщину в тех краях. Вначале островитяне взирали на это чудо с немым восторгом и, видимо, полагали, что перед ними какое-то божество. Но вскоре, свыкнувшись с прелестным внешним обличием этого божества и негодуя на покровы, заслоняющие от них его истинные формы, они пожелали проникнуть взором священные ситцевые складки и, утоляя свое любопытство, столь недвусмысленно преступили правила благонравного поведения, что жестоко оскорбили чувство приличия этой достойной дамы. Но лишь только они установили ее пол, как молчаливое их обожание сменилось откровенным презрением; и не было счета оскорблениям, которыми осыпали ее эти возмущенные дикари, вообразившие, будто их желали бессовестно обмануть. К ужасу любящего супруга, с нее сорвали одежды и дали ясно понять, что больше ей не удастся безнаказанно водить их за нос. Благородная дама была не настолько возвышенна душой, чтобы терпеть все это, и, убоявшись дальнейших безобразий, заставила мужа отказаться от его начинания и возвратиться на Таити.
Такое стыдливое нежелание демонстрировать свои прелести отнюдь не было свойственно самой царице, прекрасной супруге царя острова Нукухива Мованны. Спустя два-три года после описываемых в этой книге приключений я как-то очутился у здешних берегов на борту военного корабля, на котором тогда плавал. В то время Маркизы находились во власти французов, и они с гордостью утверждали, что благотворное воздействие их законов уже успело сказаться на поведении жителей. Правда, при одной такой попытке усовершенствования нравов ими было перебито человек полтораста обитателей острова Уайтайху – но об этом умолчим. В те дни, о которых идет речь, в заливе Нукухива собрались все корабли французской эскадры; и в ходе беседы между одним их капитаном и нашим многоуважаемым коммодором француз выдвинул предложение, чтобы наш корабль, как флагман американской флотилии, принял с официальным визитом здешнюю царскую чету. При этом он с большим удовлетворением сообщил, что под их неусыпным руководством царь и царица усвоили надлежащий взгляд на собственное высокое положение и в торжественных случаях держатся со всей подобающей солидностью. На борту корабля начались приготовления – их величествам надо было устроить достойный прием.
И вот в ясный погожий день от одного из французских фрегатов отвалила пестро изукрашенная гичка и устремилась прямо к нам. На корме ее возлежал Мованна и рядом – его царственная супруга. Когда они приблизились к нам в достаточной мере, им были оказаны все королевские почести: команда усеяла реи, пушки грянули салют, и поднялся невообразимый шум.
Взойдя по трапу на палубу, где их со шляпой в руке приветствовал наш коммодор, они двинулись мимо выстроившегося на шканцах почетного караула, а оркестр грянул «Славься, царь каннибальских островов». Все шло как нельзя лучше. Французские офицеры ухмылялись и строили самодовольные гримасы вне себя от восторга, что августейшие особы так прилично себя ведут.
Их внешний вид, безусловно, был рассчитан на то, чтобы впечатлять. Его величество был облачен в великолепный военный мундир, колом стоявший от бессчетных шнуров и золотого шитья, между тем как его бритую макушку скрывала огромная chapeau bras[1] с плавно колышущимися страусовыми перьями. Одно только было неладно в его царственном облике: через все лицо шла вровень с глазами широкая полоса татуировки, создавая впечатление, будто его величество носит большие темные очки; а королевская особа в очках – это же бог знает что такое! В наряде же его прекрасной смуглолицей половины флотские портные поистине явили весь блеск своего национального вкуса. Она была обернута в легкое ярко-алое полотнище с желтой шелковой бахромой понизу, которая едва достигала колен и открывала всеобщему обозрению голые ноги, украшенные спирально татуировкой и несколько напоминающие две Трояновы колонны в уменьшенном масштабе. А на голове у нее красовался замысловатый тюрбан из лилового бархата с серебряными разводами, увенчанный плюмажем из всевозможных перьев и перышек.
Скоро внимание ее величества привлекли любопытствующие члены экипажа, столпившиеся на палубе. Из их числа она выделила одного старого морского волка, чьи голые руки, босые ноги и распахнутая грудь были исписаны китайской тушью гуще, чем крышка египетского саркофага. Невзирая на тактичные намеки и прямые возражения французских офицеров, она тут же приблизилась к нему и, заглядывая за пазуху его парусиновой робы, еще выше закатывая его широченные штанины, с восхищением рассматривала открывавшиеся при этом малиновые и синие узоры. Она прямо оторваться от него не могла, ласкала его, обнимала и выражала свой восторг разными непонятными восклицаниями и жестами. Легко себе представить смущение дипломатичных галлов при этих непредвиденных обстоятельствах. Вообразите же, каков был их ужас, когда сия августейшая дама, желая явить взглядам кое-какие иероглифы на своей собственной особе, вдруг быстро наклонилась и, отвернувшись от общества, вскинула свои юбки, открыв глазам присутствующих такое зрелище, от которого потрясенные французы бежали в тот же миг и, попрыгав в свою шлюпку, покинули сцену позорной катастрофы.
II
Не забыть мне те восемнадцать или двадцать дней, пока легкие пассаты безмолвно гнали нас к Маркизским островам. Мы промышляли кашалотов на самом экваторе, где-то градусах в двадцати к западу от Галапагосов, и, когда курс был проложен, наше дело было только обрасопить реи и держать по ветру, а об остальном уж позаботятся свежий ветер да добрый корабль. Вахтенный рулевой больше не изводил старушку беспрерывными рывками штурвального колеса, а, удобно облокотившись на спицы, часами блаженно дремал. Верная своему долгу, «Долли» твердо держалась курса и, как те люди, что лучше всего управятся с делом, если предоставить их самим себе, трусила своей дорогой, точно старый морской конь, каким она в действительности и была.
Какое божественное это было время, какая лень, какая истома царили кругом! Делать было нечего – положение вещей, как нельзя более отвечавшее нашей явной склонности к ничегонеделанию. Кубрик совсем обезлюдел, мы натянули на баке тент и целый божий день проводили под ним – спали, ели и предавались безделью. Всех словно каким-то зельем опоили. Даже офицеры, кому долг запрещает садиться, пока они находятся на палубе при исполнении служебных обязанностей, тщетно пытались удержаться на ногах и вынуждены были прибегать к компромиссу: они прислонялись к поручням и бездумно глядели за борт. О чтении нечего было и думать: стоило взять книгу в руки, и ты уже крепко спал.
Не в силах противостоять этому расслабляющему влиянию, я, однако, по временам стряхивал с себя на мгновение чары и успевал восхититься красотой всего, что было вокруг меня. Небо раскинулось широким сводом чистейшей нежной синевы, лишь по самому горизонту опушенное узкой каймой бледных облаков, день ото дня не меняющих ни формы, ни цвета. Плавно, размеренно, заупокойно колыхалось тихоокеанское лоно, и зеркальная выпуклая гладь огромных валов морщила и рябила солнечными зайчиками. Время от времени из-под форштевня взлетали вспугнутые стайки летучих рыбешек и тут же серебряным ливнем низвергались назад. Или вдруг великолепный тунец вырывался из воды, сверкая боками, и, описав дугу, вновь скрывался под водой. Порой вдалеке можно было видеть высокую играющую струю китового фонтана, а поближе – рыскающую тень акулы, этого коварного морского разбойника, украдкой с безопасного расстояния разглядывающего нас своим недобрым глазом. Иногда какое-нибудь бесформенное чудище глубин, всплывшее на поверхность, при нашем приближении начинало медленно погружаться, исчезая из виду в синей толще воды. Но всего примечательнее была почти полная тишина, царившая меж небом и водою. Не слышно было ни звука, разве фыркнет поблизости дельфин, да журчит, не умолкая, под форштевнем вода.
А когда мы приблизились к суше, я с радостью встречал бесчисленные полчища морских птиц. Издавая резкие крики и спиралью взлетая и опускаясь, они сопровождали корабль и даже садились на реи и ванты. Пернатый пират, заслуженно прозванный морским коршуном, сверкая кроваво-красным клювом и черным вороновым оперением, бывало, спускался к нам широкими кругами, постепенно их сужая, так что под конец можно было отчетливо видеть странный блеск его маленького глаза, а затем, словно удовлетворившись наблюдением, снова взмывал вверх и терялся из виду. Скоро стали заметны и другие признаки близости суши; прошло немного времени, и вот уже с фор-марса раздался радостный возглас: «Земля-а-а!», выведенный нараспев по всем правилам матросского искусства.
Капитан, выскочив из каюты на палубу, заорал, чтобы ему немедленно подавали подзорную трубу; первый помощник еще оглушительнее заорал марсовым: «Где-е?» Чернокожий кок высунул из камбуза курчавую голову, а пес по кличке Боцман стал носиться от борта к борту и яростно лаять. Земля! Земля! Ну да, вот она. Едва различимая неровная голубая полоска – провозвестница обрывистых, еще неразличимых круч и пиков Нукухивы.
Остров этот, хотя обыкновенно считается принадлежащим к Маркизскому архипелагу, многими мореплавателями рассматривается как составляющий вместе с близлежащими островками Рухука и Ропо самостоятельную группу. Все три они получили название Вашингтоновых островов. Они образуют треугольник, расположенный между 8°38ʹ и 9°32ʹ южной широты и 139°20ʹ и 140°10ʹ западной долготы (от Гринвича). Сколь мало у них оснований почитаться отдельной группой, будет ясно, если вспомнить, что, во‑первых, они лежат в непосредственной близости, то есть менее чем в одном градусе на северо-запад от остальных островов, и что, во‑вторых, их обитатели говорят на маркизском диалекте и у них одни и те же законы, религия и обычаи. Единственной причиной для такого условного выделения могло бы служить то удивительное обстоятельство, что мир ничего не знал об их существовании вплоть до 1791 года, когда они были обнаружены капитаном Ингреэмом из Бостона (штат Массачусетс) без малого на два столетия позже, чем были открыты соседние острова посланцем испанской короны. Как бы то ни было, я, в соответствии с мнением большинства мореплавателей, буду рассматривать эти три острова как часть Маркизского архипелага.
Нукухива – наиболее значительный из них, единственный, куда имеют обыкновение заходить корабли; это тот самый знаменитый остров, где хитроумный капитан Портер во время последней войны американцев с англичанами переоснастил свои суда и откуда он неожиданно напал на большую китобойную флотилию, плававшую тогда в ближних морях под вражеским флагом. Остров имеет около двадцати миль в длину и почти столько же в ширину. На его побережье есть три хорошие гавани, самую вместительную и удобную из них обитатели ее окрестностей обозначают именем Тайохи, а капитан Портер окрестил Массачусетским заливом. Среди различных племен, обитающих по берегам других бухт, а также среди мореплавателей она известна по имени самого острова – как гавань Нукухива. Ее обитатели уже подверглись за последнее время развращающему коммерческому влиянию европейцев, но там, где дело касается их своеобразных обычаев и нравов, они и сейчас находятся в том же первобытном природном состоянии, в каком впервые предстали взгляду белого человека. А враждующие между собой племена, населяющие более отдаленные части острова и почти не вступающие в общение с иноземцами, полностью сохранили свой примитивный образ жизни с древнейших времен.
Теперь и мы держали курс так, чтобы бросить якорь в бухте Нукухива. Лишь на закате стали видны силуэты гор, и, двигаясь всю ночь с очень слабым бризом, мы к утру оказались вблизи них; но поскольку гавань, в которую мы хотели попасть, была на противоположном конце острова, нам пришлось некоторое расстояние проплыть каботажем вдоль берега, и мы видели, проплывая мимо, цветущие долины, глубокие ущелья, водопады, трепетные рощи, заслоняемые тут и там крутыми обрывистыми утесами, каждую минуту открывающими все новые и новые красоты.
Тех, кто впервые попадает в Южные моря, обычно поражает вид островов с воды. По невнятным отзывам люди часто представляют себе их в виде едва выступающих над водой ярко-зеленых покатых холмов, осененных прелестными рощицами и орошенных сонно журчащими ручейками. Действительность же совсем не такова: высокий прибой ударяет в крутые каменистые берега, кое-где они отступают, образуя глубокие бухты с непроходимыми лесами по низменным берегам, а между ними стенами высятся отроги гор, одетые жесткой травой и спускающиеся к воде откуда-то из гористой сердцевины острова.
К полудню мы поравнялись с входом в залив, медленно обогнули выступающий мыс и выплыли на внутренний рейд Нукухивы. Никаким описанием нельзя передать красоты открывшегося нам зрелища. Но для меня она, увы, пропала, я видел только шесть трехцветных французских флагов, повисших на кормах шести кораблей, чьи корпуса своим черным цветом и раздутыми боками выдавали их воинственное предназначение. Вот они, все шестеро, покачиваются на серебристой глади вод, а зеленые горы с берегов глядят на них так миролюбиво, словно упрекая за эту воинственность. На мой взгляд, ничто не могло бы так нарушить гармонию, как присутствие здесь этих судов. Но вскоре мы узнали, каким образом они тут оказались. Незадолго перед тем сюда явился доблестный контр-адмирал дю Пти-Туар со всей эскадрой и именем непобедимой французской нации вступил во владение всей группой Маркизских островов.
Это известие мы получили от личности в высшей степени необыкновенной: от настоящего тихоокеанского бродяги. Лишь только мы вошли в залив, он подплыл к нам на вельботе и поднялся на палубу с помощью некоторых сочувствующих из числа команды – ибо находился в той степени опьянения, когда человек делается крайне любезным и совершенно беспомощным. Будучи явно не в состоянии прямо стоять на ногах или же переправить свою персону от одного борта к другому, он тем не менее великодушно предложил капитану свои услуги в качестве лоцмана, дабы провести нашу шхуну к месту удобной и надежной якорной стоянки. Капитан усомнился в его способности послужить нам лоцманом и отказался признать его в этом звании. Но наш уважаемый гость не собирался отступаться от своего намерения. Упорно карабкаясь, падая и карабкаясь снова, он взобрался в висевшую на шканцах шлюпку, встал в ней во весь рост, держась за ванты, и голосом на редкость оглушительным принялся выкрикивать команды, сопровождая их к тому же весьма своеобразной жестикуляцией. Разумеется, никто его не слушал, но утихомирить его не представлялось возможности, и мы плыли мимо кораблей французской эскадры, имея на борту этого клоуна, выделывавшего свои штуки на глазах у их офицеров.
Потом мы узнали, что наш странный знакомец был когда-то лейтенантом английского флота, но, опозорив флаг своей страны каким-то преступлением в одном из больших европейских портов, бежал и много лет провел, скитаясь по островам Тихого океана, пока новые французские власти в Нукухиве, где он случайно находился, когда они прибрали остров к рукам, не назначили его портовым лоцманом.
Мы медленно плыли по заливу, а с окрестных берегов отчаливали и устремлялись нам наперерез многочисленные туземные челноки, так что скоро нас окружала уже целая флотилия этих суденышек, и их смуглые гребцы теснили и отпихивали один другого, пытаясь вскарабкаться к нам на борт. Иногда при этом две такие легкие ладейки сцеплялись под водой своими выносными балансирами и грозили перевернуться, и тогда поднимался такой ералаш, какой не поддается описанию. Клянусь, что столь диких воплей и столь яростных телодвижений я не видел и не слышал никогда в жизни. Можно было подумать, что островитяне вот-вот вцепятся друг другу в глотки, между тем как они всего только дружелюбно обсуждали, как бы расцепить лодки.
Среди лодок на волнах там и сям покачивались связки кокосовых орехов, образуя на воде почему-то правильные кольца. По какой-то необъяснимой причине все эти орехи неуклонно приближались к нашему кораблю. Я перегнулся через борт, любопытствуя разгадать тайну их продвижения, и одна такая кольцеобразная связка, далеко опередившая остальные, привлекла мое внимание. В ее центре я заметил нечто показавшееся мне тоже кокосом, но если так, то кокосом в высшей степени странным. Он как-то по-особенному кружился и плясал среди остальных, и, когда они подплыли поближе, оказалось, что он замечательно походит на коричневую бритую голову туземца. Вскоре обнаружились два глаза, и я понял, что то, что я принимал за орех, в действительности и есть просто-напросто голова островитянина, который избрал этот своеобразный способ доставки товара к месту продажи. Все орехи были связаны между собой узкими полосами шелухи, в которую одета их скорлупа. И владелец всей связки, просунув голову в середину, продвигал свое кокосовое ожерелье вперед, работая под водой только ногами.
Удивило меня также, что среди многочисленных окружавших нас туземцев не было видно ни единой женщины. Я тогда еще не знал, что по обычаю табу женщинам острова строжайше запрещено плавать в лодках; даже войти в челн, вытащенный на берег, для женщины означает смерть; соответственно, если дама-маркизанка путешествует по воде, средством передвижения ей служат исключительно ее собственные руки и ноги.
Мы были уже, наверное, не далее чем в полутора милях от внутренней оконечности залива, когда туземцы, из которых многие сумели к этому времени вскарабкаться к нам на палубу, хотя и рисковали затопить свои челноки, обратили наше внимание на то, что вода впереди корабля непонятным образом бурлит и плещется. Сначала я подумал было, что это стайка рыб резвится на поверхности. Но наши дикие друзья заверили нас, что кипение воды вызвано стайкой вайхини (молодых девушек), которые выплыли нам навстречу, дабы нас приветствовать. Когда они подплыли ближе и я уже различал в волнах их колышущиеся формы и высунутые из воды правые руки, в которых они держали свои пояса из тапы, и длинные черные пряди волос, тянущиеся за ними в струях вод, я готов был вообразить, что это плывут волшебные морские девы-сирены; да они и вели себя как настоящие сирены.
До берега оставалось еще значительное расстояние; медленно двигаясь своим курсом, мы очутились в самой гуще стайки этих наяд, и в тот же миг они облепили судно со всех сторон: одни, карабкаясь по вант-путенсам, вылезали на руслени; другие, не боясь погибнуть под килем нашего корабля, умудрялись уцепиться за ватерштаги и, подтягивая гибкие тела, повисали, раскачиваясь в снастях над водой. Вода стекала по угольно-черным волосам, служившим единственным прикрытием их нагих сверкающих тел. А они, держась за снасти, со всей своей дикарской жизнерадостностью о чем-то громко переговаривались и заливисто, весело хохотали. При этом они не теряли времени даром, помогая друг другу совершать незамысловатый туалет: скручивали как можно туже и выжимали одна другой мокрые роскошные локоны, вытирались и, передавая из рук в руки круглую раковину с пахучими притираниями, умащивали свою смуглую кожу. В довершение всего они два-три раза свободно обматывали бедра куском белой тапы и в этом скромном наряде, отбросив всякую нерешительность, со всех сторон легко соскакивали на палубу. Скоро они уже резвились по всему кораблю. Одни толпились на баке, другие взбегали по бушприту, кто-то оседлал поручни юта, а некоторые растянулись во весь рост на днищах перевернутых шлюпок. Вот так зрелище для нас, холостяков матросов! Как не поддаться столь сильному искушению? Да и кому придет в голову вышвырнуть за борт этих бесхитростных детей природы, проплывших несколько миль для того, чтобы оказать нам гостеприимство?
Вид их совершенно ошеломил меня: их крайне юный возраст, светло-коричневый оттенок кожи, нежные черты и невыразимая грация движений, плавные линии их тел и полная свобода, непринужденность во всем казались столь же странными, сколь и прекрасными.
Старушкой «Долли» они завладели полностью. И смело скажу, никогда еще судно не попадало в руки такого бойкого, такого неотразимого захватчика! Ну а раз корабль наш был захвачен, нам ничего иного не оставалось, как признать себя пленниками. И все время, пока «Долли» стояла в заливе, она сама и вся ее команда находилась во власти сирен.
Вечером, после того как был брошен якорь, палуба была иллюминована цветными фонариками, и наши нимфы, в уборах из цветов и в одеяниях из тапы всех оттенков, задали нам бал по первому разряду. Эти юные дамы оказались страстными охотницами до танцев, и я не знаю никого, кто бы мог сравниться с ними дикой грацией и одушевлением. Танцы девушек-маркизанок разнообразны и необыкновенно красивы, но в них столько безудержного сладострастия, что я не рискну их описывать.
На корабле царили разгул и буйство. Не было ни малейших преград между греховными страстями матросов и необузданным их удовлетворением. Грубейший разврат и беспробудное пьянство продолжались все время, пока «Долли» стояла в Нукухиве, с редкими и плачевно краткими перерывами. Бедные дикари, подвергаемые воздействию таких губительных примеров! Доверчивые и немудрящие, они легко поддаются всякому пороку, и человечеству остается лишь оплакивать их гибель от руки беспощадных цивилизаторов-европейцев. Трижды счастливы те, кто, населяя ныне какой-либо неведомый остров, затерянный в океанских просторах, еще не вкусил развращающего общения с белым человеком.
III
Мы прибыли на Маркизы летом 1842 года. Уже несколько недель, как французы установили на островах свое владычество. За это время они успели посетить основные поселения на всех островах и высадить в различных пунктах побережья около пятисот отрядов. Солдат сразу же бросили на возведение оборонительных сооружений и на другие защитные мероприятия против предполагаемых набегов туземцев, от которых в любой момент ожидали открытия военных действий. Островитяне взирали на этих людей, столь рыцарственно захвативших их земли, со смешанным чувством страха и неприязни. Их ненависть была искренней и глубокой, но влияние ее на их поступки нейтрализовалось ужасом, который внушали плавучие батареи, чьи дула были многозначительно наведены не на укрепления и редуты, а на кучку бамбуковых хижин под сенью кокосовых пальм! Вне сомнения, доблестный воин этот контр-адмирал дю Пти-Туар, но в то же время и весьма осмотрительный. Четыре тяжелых двухпалубных фрегата и три корвета, чтобы внушить страх божий горстке голых дикарей и научить их послушанию! Шестьдесят восьмифунтовых орудий, чтобы разрушить хижины из кокосовых веток, и торпеды Конгрива, чтобы поджечь несколько лодочных сарайчиков.
В Нукухиве на берегу находилось человек сто солдат. Расквартированы они были в палатках из старой парусины и обломков рей, пожертвованных эскадрой. Лагерь был разбит внутри земляного укрепления, снабженного несколькими восьмифунтовыми пушками, и обведен рвом. Регулярно через день отряд в полном боевом снаряжении выводили из крепости, и он парадным маршем двигался на близлежащую лужайку, где в течение нескольких часов проделывал все военные кунстштюки, окруженный толпой туземцев, которые наблюдали это, по-дикарски восхищаясь представлением и так же по-дикарски ненавидя самих актеров. Полк Старой Гвардии на летнем смотру на Елисейских полях не выглядел бы безукоризненнее. Офицерские мундиры, сверкающие золотыми галунами и нашивками, словно нарочно предназначенные ослеплять бедных островитян, казалось, прибыли прямехонько из Парижа.
Всеобщее волнение на острове, вызванное приездом чужеземцев, отнюдь еще не улеглось ко времени, когда там очутились мы. Местные жители все еще толпились у ограды лагеря и с живейшим интересом наблюдали за всем, что там происходило. Кузнечный горн, установленный под сенью рощи у самого берега, привлекал такие толпы любопытствующих, что требовались отчаянные усилия расставленных вокруг часовых, чтобы кузнецы могли без особых помех заниматься своим делом. Но ничто не вызывало такого восхищения, как лошадь, привезенная из Вальпараисо на «Ашилле», одном из судов эскадры. Это превосходное животное свезли на берег и поместили в стойло из кокосовых веток внутри укрепленного лагеря. По временам его в пестрой сбруе и под ярким чепраком выводили за стены, и кто-нибудь из офицеров скакал на нем галопом по плотному прибрежному песку. Это неизменно вызывало бурные восторги зрителей; островитяне единодушно считали «пуарки нуи» (большого кабана) самым выдающимся представителем животного мира, когда-либо попадавшимся им на глаза.
Экспедиционная эскадра, имевшая целью захват Маркизских островов, отплыла из Бреста весной 1842 года, однако секрет ее назначения был известен одному только командиру эскадры. И ничего удивительного, если те, кто замыслил столь вопиющее нарушение человеческих прав, пытаются скрыть свое преступное намерение от глаз мира. А между тем французы, несмотря на эти и другие подобные беззакония, испокон веку объявляют себя самым культурным и гуманным народом.
Однако изысканность и утонченность, как видно, не очень-то успешно служат для подавления дурных наклонностей, и, если самую нашу цивилизацию оценивать по некоторым ее результатам, подумаешь, пожалуй, что для той части человечества, которую мы зовем варварской, быть может, лучше будет такой и оставаться.
Стоит, наверное, привести один пример того, к каким бессовестным уловкам прибегают французы, чтобы оправдать любые жестокости, какие им вздумается совершить над туземцами, дабы склонить их к подчинению. Под каким-то сомнительным предлогом царь Нукухивы Мованна, которого захватчики с помощью богатых подарков переманили на свою сторону и превратили в послушную марионетку, был провозглашен законным монархом всего архипелага – он по распоряжению свыше оказался единоличным властелином многочисленных племен, быть может, до этого веками считавших себя независимыми. Чтобы вернуть этому обездоленному монарху якобы утраченное некогда могущество его праотцов, совершенно незаинтересованные чужеземцы не пожалели трудов и приехали на остров из самой Франции; и теперь они не допустят, чтобы кто-то подрывал его престольные права. Так что если какое-нибудь племя упрямо отказывается поклониться расшитой шляпе Мованны и тем самым признать владычество французов, пусть пеняет на себя, последствия будут самые ужасные.
Под таким же предлогом совершались и совершаются избиения и всяческие беззакония на прекрасном острове Таити – жемчужине Южных морей. В грабительскую экспедицию на Таити контр-адмирал дю Пти-Туар снарядился потихоньку, оставив всю свою эскадру на Маркизах, к тому времени уже без малого полгода находившихся в его руках, и отплыл в сторону обреченного острова на одном только фрегате «Рэн Бланш». По прибытии он потребовал, чтобы ему за какие-то оскорбления, якобы нанесенные флагу его страны, были немедленно уплачены не то двадцать, не то тридцать тысяч долларов, угрожая в противном случае высадкой и захватом острова.
Фрегат, только что встав на якорь и подведясь на швартовых, выкатил пушки и с бомбардирами на местах развернулся бортом к Папеэте, наставив жерла на это мирное селение и спустив на воду все свои боевые катера, готовые в любую минуту высадить десант под прикрытием корабельных батарей. В такой грозной позиции они простояли несколько дней, между тем как велись какие-то неофициальные переговоры, а по всему острову распространялся страх. Поначалу многие среди таитян были склонны прибегнуть к оружию и отогнать насильников от своих берегов; но в конце концов возобладало мнение более осторожных и миролюбивых. Несчастная королева Помаре, бессильная противостоять опасности, устрашенная вызывающей дерзостью высокомерных французов и доведенная до полного отчаяния, ночью бежала в пироге на остров Эймео.
В эту пору всеобщего страха на Таити был совершен один подвиг женского героизма, о котором я не могу умолчать. У самой воды, во дворе знаменитого миссионера консула Причарда, находившегося тогда в отъезде в Лондоне, на высокой мачте, как всегда в дневное время, развевался на виду у французского фрегата консульский британский флаг. Однажды утром на веранде миссии появился в сопровождении небольшого отряда французский офицер и на ломаном английском языке спросил хозяйку дома. Эта почтенная дама вскоре к нему явилась, и галантный француз, отвесив изысканнейший из поклонов, изящно играя бахромой аксельбанта на груди, приступил к вежливому изложению цели своего прибытия: адмирал желает, чтобы спустили флаг – его превосходительство надеется, что возражений не будет, – люди готовы проделать все немедленно.
– Передайте вашему пирату-хозяину, – отвечала бесстрашная англичанка, величаво протянув руку, – что, если он желает спустить этот флаг, он должен будет сделать это сам, потому что больше никому я не позволю к нему прикоснуться.
С этими словами она высокомерно кивнула и удалилась в дом. Обескураженный офицер побрел через двор к берегу и, взглянув на мачту, только тогда заметил, что шнур, на котором держится флаг, от верхушки флагштока тянется над лужайкой прямо в открытое верхнее окно, за которым сидит только что покинувшая его дама и мирно вяжет на спицах. Был ли спущен флаг? Миссис Причард утверждает, что нет; и такого же мнения придерживается, как говорят, контр-адмирал дю Пти-Туар.
IV
Мы всего несколько дней простояли в гавани Нукухивы, когда я принял решение покинуть корабль. Понятно, у меня были на то причины многочисленные и веские, ведь иначе я бы не предпочел скорее вверить мою жизнь дикарям-островитянам, чем пуститься в новое плавание на борту нашей «Долли». Употребляя точное, сжатое выражение из матросского лексикона, я решился дать деру. Ну а поскольку смысл, заключенный в этих двух словах, обыкновенно бывает крайне нелестным для того, о ком они сказаны, мне надлежит здесь, дабы не пострадала моя репутация, пуститься в некоторые объяснения.
При поступлении на корабль я, естественно, подписал судовое соглашение, добровольно приняв на себя юридические обязательства выполнять определенную службу в течение предполагаемого плавания, и, разумеется, при прочих равных условиях, должен был это соглашение выполнить. Но во всяком договоре, если одна сторона не выполняет условий, разве другая тем самым не освобождается от обязательств? Найдется ли человек, который стал бы это отрицать?
Теперь, установив общий принцип, позвольте мне применить его к данным обстоятельствам. Не только подразумеваемые, но и специально оговоренные правила несчетное множество раз нарушались судном, на котором я плавал. Нравы на борту «Долли» были тиранические; больные подвергались бесчеловечному небрежению; провиант выдавали скупыми крохами, а рейсы недопустимо затягивались. Виновником этих злоупотреблений был капитан, и тщетно было ждать от него, что он их исправит или изменит свое деспотическое и свирепое обращение. На все жалобы и несогласия у него был один незамедлительный ответ – тычок вымбовкой, настолько убедительный, чтобы умолкло всякое недовольство.
А у кого можно было искать заступничества? Закон и справедливость мы оставили по ту сторону мыса Горн, да к тому же наш экипаж, за редкими исключениями, был составлен из разных темных и жалких личностей, разобщенных между собой и единодушных только в безвольном покорстве неограниченной капитанской тирании. И было бы чистым безумием со стороны всякого, кто вдвоем или втроем решился бы без поддержки остальных выступить против несправедливости капитана. Они лишь навлекли бы на себя сугубую ярость «корабельного бога» и подвергли бы товарищей еще большим тяготам.
Но в конце концов, все это можно было бы перетерпеть в течение какого-то срока, питай мы твердую надежду, что по своевременном завершении плавания нас ждет скорое освобождение от этого рабского ярма. Однако и здесь никакого просвета для нас не было. Продолжительность тихоокеанских китобойных рейсов вошла в пословицу, нередко они длятся года по четыре, а то и по пять. И как часто длиннокудрые, нежнолицые юноши, которые под объединенным влиянием капитана Мариетта и тяжелых времен садятся в Нантакете на корабль для совершения увеселительной экскурсии по Южным морям, получив от заботливых мамаш на дорогу дюжину бутылок молока, – как часто они возвращаются домой почтенными пожилыми мужчинами!
Одни сборы в такое плавание вполне могут запугать человека. Поскольку никакого груза судно с собой не увозит, его трюмы заполняют продовольствием для экипажа. Судовладельцы, выступающие, как правило, в роли поставщиков, снаряжают корабль в рейс, загружая кладовые грудами деликатесов. Куски говядины и свинины всех мыслимых форм и размеров, научно выкромсанные из туш, тщательно укладывают в рассол, залитый в кадушки, и это сулит вам в плавании бесконечное разнообразие стола в смысле жесткости кусков и степени их просоленности. Высококачественная тухлая вода, разлитая по величественным шестибареллевым бочкам, откуда она ежедневно выцеживается из расчета по две пинты на душу, и неистощимые запасы морских сухарей, приведенных предварительно в состояние окаменелости, чем они оберегаются от порчи, а заодно от поедания нормальными людьми, также в изобилии предоставляются для наполнения и услаждения матросских желудков.
Но если не говорить о качестве корабельного провианта, количества, в которых он загружается на китобоец, просто невероятны. Бывало, когда нам случалось проникнуть зачем-нибудь в трюм и глазам нашим открывались уходящие вглубь ряды бочонков, бочек, бочищ, содержимое которых нам со временем предстояло поглотить, душа моя ныряла в пятки.
Обыкновенно корабль, которому не попадаются киты, продолжает плавание до тех пор, пока из всех его запасов не остается разве едва достаточно на обратный путь, и тогда он тихо поворачивает и пускается восвояси подобру-поздорову; однако бывают случаи, когда обладающие железной волей капитаны умудряются преодолеть даже это, можно сказать, естественное препятствие к продолжению рейса; в каком-нибудь чилийском или перуанском порту они обменивают скудные плоды своих тяжких трудов на новые припасы продовольствия и с прежним пылом и упорством опять выходят в плавание. Напрасно будут судовладельцы слать такому капитану письма, требуя, чтобы он безотлагательно плыл домой и возвратил им корабль, пускай пустой, да хоть целый. Не на такого напали. Он ведь при всем честном народе поклялся, что наполнит судно до краев спермацетом и что иначе не видеть ему никогда американских берегов.
Мне рассказывали об одном китобойце, который после многолетнего отсутствия уже считался погибшим – последние полученные о нем весьма туманные известия говорили, что он будто бы заходил на отдаленный тихоокеанский островок, из тех, которые от одного издания лоции до другого с головокружительным непостоянством меняют свое местонахождение. Через какое-то время, однако, прошел новый слух, что «Персевиренс» – так звалась эта китобойная шхуна – объявилась где-то на краю земли; она плыла себе помаленьку, никуда не торопясь, паруса все латаны-перелатаны и сплошь простеганы каболкой, мачты и реи сколочены из обломков бочарными клепками, а снасти перевиты и перештопаны во всех направлениях. Команду ее составляли два десятка таких старых морских волков, что в пору бы в Гринвичскую матросскую богадельню – едва ковыляли по палубе. Все концы бегучего такелажа, кроме разве сигнальных фалов да ниралов на полуюте, были пропущены через канифас-блоки и заведены на шпиль или лебедку, так что ни одна рея не брасопилась и ни один парус не поднимался без содействия этих механизмов.
Корпус шхуны насквозь пророс раковинами, совершенно скрывшими собой обшивку. В хвосте за ней следовали три ручные акулы, каждый день подходя к борту попировать отбросами из камбуза, нарочно для них выплескиваемыми. А чуть позади шла большая стая бонитов и тунцов – также ее неразлучных спутников.
Такова была, как мне рассказывали, эта удивительная шхуна. Мысль о ней постоянно преследовала меня; что с ней в конце концов сталось, я так никогда и не узнал, во всяком случае домой она не возвратилась, и кто знает, быть может, и ныне курсирует, дважды в сутки меняя галсы, где-нибудь у Серно-Кислых островов или в виду пика Маунт-Педераст.
Теперь, после того как я достаточно распространился на тему о продолжительности китобойных плаваний, когда я скажу, что наше плавание, собственно, еще только начиналось – ведь и полутора лет не прошло, как мы оставили родные берега, и встречные суда все еще относились к нам как к новеньким и ждали от нас свежих вестей из дому, – читатель, я надеюсь, легко поймет, сколь малым утешением служило для нас будущее, тем более что у меня всегда было предчувствие, что плавание наше окажется неудачным, и покамест действительность подтверждала подобные опасения. (Здесь кстати будет заметить – и даю слово честного человека, это истинная правда, – что вышеупомянутое судно, которое я покинул три с лишком года тому назад, в настоящее время все еще пребывает в Тихом океане, и я как раз на днях читал в газетах сообщение о том, что оно заходило на Сандвичевы острова, откуда взяло курс к берегам Японии.)
Но вернемся к нашему рассказу. Оказавшись в столь тягостных обстоятельствах, без всякой надежды на то, что рано или поздно, останься я на судне, наступит облегчение, я решился не медля покинуть «Долли». Правда, это был довольно бесславный способ – вот так, украдкой, бежать от тех, кто причинял мне зло и обиды и на кого я даже не вправе был обижаться. Но что же еще мне оставалось? Ведь иного выхода не было. Приняв решение, я приступил к сбору сведений об острове и его обитателях, чтобы соответственно разработать план побега. Ниже я излагаю все, что мне удалось узнать, чтобы понятнее было последующее повествование.
Залив Нукухива, в котором мы тогда стояли, представляет собою водное пространство, по конфигурации напоминающее внутреннюю сторону лежащей подковы. Он имеет примерно девять миль в поперечнике. С моря в него ведет узкий проход, по обе стороны которого расположены два маленьких одинаковых островка, конусом уходящие футов на пятьсот вверх. От них берега расходятся двумя крутыми полукругами.
Берег на всем протяжении плавно поднимается над водой зелеными отлогими склонами от покатых холмов и небольших возвышенностей к высоким величавым вершинам, чьи синие контуры обступают залив во всех сторон, замыкая кругозор. Красоту берегов увеличивают глубокие живописные долины-ущелья, выходящие к воде через почти равные промежутки и берущие начало в каком-то общем центре, где их верховья теряются из виду в тени гор. По каждой такой долинке сбегает прозрачный ручей, там и сям ниспадающий узким каскадом, затем, невидимый, продолжающий путь, чтобы в новом месте снова явиться взору небольшим водопадом, уже пошумнее и пошире, и наконец, жеманно, не спеша, как бы нехотя, спуститься к морю.
В этих долинах под сенью кокосовых рощ разбросаны в беспорядке жилища островитян – изящные хижины, сплетенные, словно корзинки, из желтого бамбука и крытые внахлестку длинными сужающимися листьями карликовых пальм.
Ничто на свете не может сравниться с мирной красотой этих берегов. С палубы нашего корабля, стоящего на якоре посреди залива, они казались гигантским естественным амфитеатром, полуразрушенным и поросшим дикими лозами, а глубокие ущелья, рассекавшие его бока, выглядели словно огромные трещины – следы ударов сокрушительного времени. И часто, погрузившись в созерцание этой красоты, я с мимолетной болью думал о том, как жаль, что такие восхитительные картины сокрыты от мира в дальних Южных морях и лишь изредка ласкают взгляд наших горячих поклонников Природы.
Кроме этого залива, берега острова изрезаны и другими значительными углублениями, и к ним спускаются широкие цветущие долины. В каждой такой долине живет обособленное туземное племя, и, хотя племена эти говорят на родственных диалектах общего языка, имеют одну религию и одни законы, они с незапамятных времен, из поколения в поколение ведут друг против друга вечные войны. Горные кряжи высотою в две или три тысячи футов над уровнем моря служат географическими пределами владений этих враждующих племен, и они никогда их не переходят иначе как в военных или грабительских целях. Рядом с заливом Нукухива, отделенная от него горами, которые видны с воды, расположена прелестная долина Хаппар, чьи жители находятся с жителями Нукухивы в самых дружеских отношениях. Но по ту сторону к долине Хаппар примыкает роскошная долина, принадлежащая грозному племени тайпи – заклятым врагам обоих этих мирных племен.
Прославленные воины тайпи внушают непреодолимый страх всем остальным островитянам. Само их имя ужасно: слово «тайпи» на маркизском наречии означает «любитель человеческого мяса». Интересно, что принадлежит оно одному только этому племени, между тем как все здешнее население безнадежно закоснело в каннибализме. Видимо, это имя дано им за особую свирепость и несет в себе осудительный смысл.
Племя тайпи широко известно по всем островам архипелага. Жители Нукухивы не раз жестами и гримасами повествовали нам на корабле об их ужасных деяниях и показывали рубцы от ран, полученных в столкновениях с ними. А когда мы съезжали на берег, они делали попытки нас запугать, указывая на кого-нибудь из своих соплеменников и называя его «тайпи», и выказывали непритворное удивление, когда видели, что при таком страшном известии мы почему-то не обращаемся в бегство. Забавно было также видеть, с какой решительностью они отрицали какие бы то ни было каннибалические наклонности со своей стороны, разоблачая при этом своих врагов тайпийцев как закоренелых и неуемных людоедов, но об этой своеобразной черте я еще буду говорить.
И хотя я твердо знал, что туземцы, живущие по берегам нашего залива, такие же отъявленные каннибалы, как и все прочие обитатели острова, тем не менее я не мог не испытывать особенного, безграничного отвращения перед помянутыми тайпийцами. Еще до того, как я сам побывал на Маркизских островах, я слышал от людей, туда заходивших, страшные истории, связанные с этими дикарями; особенно свежа в моей памяти была повесть о злоключениях капитана «Катерины», который всего за несколько месяцев до нас вздумал с торговыми целями войти в бухту Тайпи на вооруженной шлюпке и был схвачен туземцами, увлечен в глубь долины и спасся от ужасной смерти только благодаря содействию одной девушки, указавшей ему ночью путь берегом в Нукухиву.
Слышал я также об одном английском судне, которое много лет назад после долгого и утомительного плавания решило искать пристанища в заливе Нукухива. Милях в двух или трех от берега их встретила большая туземная пирога, до отказа набитая людьми, и судну было сообщено, что ему укажут путь в искомую им тихую гавань. Капитан, незнакомый с побережьем, обрадовался и согласился – весла пироги ударили по воде, корабль двинулся следом. И действительно, вскоре они очутились в живописной бухте, где судно и бросило якорь в тени высоких берегов. В ту же самую ночь коварные тайпийцы, заманившие их в свою страшную бухту, сотнями набились на палубу обреченного корабля и по условленному знаку перерезали там всех до последнего человека.
Мне никогда не забыть слов одного нашего матроса на подходе к Нукухиве, когда мы медленно проплывали вход в бухту Тайпи. Мы все стояли у борта и любовались изумрудно-зелеными мысами, и вдруг Нед, указывая вытянутой рукой на предательский берег, воскликнул: «Там! Вон там долина Тайпи! Ох, какое отличное угощение устроили бы из нас эти чертовы людоеды, вздумай мы здесь высадиться. Впрочем, говорят, моряцкое мясо им не по вкусу – слишком соленое. Ну что, браток, хочешь, я тебя закину на берег, а?» И, содрогаясь от такого предложения, я никак не подозревал, что через каких-нибудь несколько недель я и впрямь окажусь пленником в этой самой долине.
Французы, правда, устроили церемонию поднятия своего государственного флага во всех основных поселениях на Маркизах – впрочем, всего на часок-другой, – но в бухте Тайпи они до сих пор не побывали, очевидно ожидая встретить там от дикарей яростный отпор, чего им сейчас по возможности желательно было избежать. Быть может, на эту, неожиданную в них, сдержанность французов натолкнуло воспоминание о воинственном приеме, оказанном жителями долины капитану Портеру году примерно в 1814, когда этот храбрый и опытный офицер предпринял попытку их поработить только для того, чтобы утолить смертельную ненависть к ним своих союзников – нукухивцев и хаппарцев. В тот раз, как мне рассказывали, значительный отряд морской пехоты и матросов с фрегата «Эссекс», сопровождаемый по меньшей мере двумя тысячами воинов хаппарцев и нукухивцев, высадился на шлюпках и пирогах в глубине бухты и, проникнув на некоторое расстояние вверх по долине, встретил отчаянное сопротивление ее обитателей. Доблестно, хотя и с большими потерями, отстаивали тайпийцы каждую пядь своей земли и после жестокого боя вынудили нападающих отступить и отказаться от всяких завоевательских намерений.
Отходя к морю, те решили утешить себя в поражении тем, что подожгли каждый дом и храм на своем пути, и длинная полоса курящихся руин исказила прежде ликующий лик долины, познакомив ее непросвещенных обитателей с истинным христианским духом этого воинства. Можно ли после этого удивляться смертельной вражде жителей долины Тайпи ко всем чужеземцам?
Вот каким способом те, кого мы именуем дикарями, обучаются вести себя сообразно с этим наименованием. Когда жители какого-либо отдаленного острова впервые видят «большую пирогу» европейцев, идущую к ним по синему лону вод, они толпами сбегаются на берег, готовые с распростертыми объятиями встретить пришельцев. Убийственное объятие! Они прижимают к груди змею, чье жало отравит им всякую радость, и природный порыв любви в их сердцах скоро оборачивается лютой ненавистью.
Жестокости, учиняемые в Южных морях над мирными обитателями некоторых островов, трудно даже себе представить. В цивилизованном мире о них редко становится известно; ведь эти вещи происходят где-то на краю земли, делаются они тихонько, в укромных далеких уголках, и некому о них свидетельствовать перед людьми. Но много, много шныряет по Южным морям купцов-крохоборов, которые бесстыдно грабят, похищают и убивают людей, увозя с собою от острова к острову все более тяжкий груз прегрешений, достаточный, наверное, чтобы увлечь преступный корпус корабля на самое дно океана.
А иной раз смутные слухи о таких действиях достигают нас у наших каминов, и тогда мы бесстрастно осуждаем их как неправедные, политически вредные, сверх меры суровые и чреватые опасностью для экипажей других судов. То ли дело, когда мы читаем красочный рассказ о том, как на Фиджи была перерезана команда «Хобомака»! Все наше сочувствие на стороне жертв, и мы с ужасом думаем об этих кровожадных нехристях, которые, в конце концов, только мстили за причиненное им без всякой их вины зло. Мы слышать ни о чем не хотим, кроме мести, и снаряжаем военные суда, дабы, пересекши океанские просторы, они могли покарать в один присест всех наших обидчиков. И военные суда жгут, крушат и убивают в соответствии с духом и буквой данных им инструкций и, отплыв обратно, оставляют за собой полное разорение, приглашая весь христианский мир умилиться их необыкновенной храбрости и праведному суду.
Как часто слово «дикари» употребляется не по назначению! Старые мореплаватели и первооткрыватели никогда не встречали на путях своих тех, к кому оно по праву может быть отнесено. На вновь открытых землях они находили варваров и язычников, которых впоследствии ужасными жестокостями доводили до дикарского состояния. Можно смело утверждать, что во всех случаях совершенных полинезийцами зверств первоначальными виновниками когда-то наверняка были европейцы, и жестокие кровожадные нравы некоторых островитян в действительности порождены воздействием их примера.
Но вернемся к нашему описанию. Из-за враждебных отношений между упомянутыми мною племенами горные области, разделяющие их территории, никем не заселены; туземцы живут только в своих долинах, чтобы обезопасить себя от грабительских набегов врагов-соседей, которые нередко прокрадываются к самому краю окружающего леса, всегда готовые наброситься на забредшего туда неразумного путника или разорить чье-нибудь одиноко стоящее жилище. Я встречал пожилых людей, которые по этой самой причине ни разу не бывали за пределами родной долины, иные за всю свою жизнь даже не поднялись по склону окружающих гор и, естественно, не имеют ни малейшего представления о том, как выглядят остальные части острова, хотя он весь-то, пожалуй, имеет не больше шестидесяти миль в окружности. Тесные пределы пространства, в которых проходит существование некоторых племен, кажутся просто невероятными.
Любопытным примером этому может служить долина Тиор. Ее населенная часть в длину насчитывает не больше четырех миль, а в ширину – от полумили до четверти мили и меньше. Справа над ней на полторы тысячи футов возвышаются отвесные, увитые лозой утесы, а напротив, поражая резким контрастом, одна за другой вздымаются цветущими террасами травянистые покатые горы. Сдавленная этими грандиозными ограждениями, долина оставалась бы совершенно отрезанной от мира, если бы в нее не было доступа со стороны моря, а также через узкий проход с противоположного верхнего конца.
Никогда не изгладится из моей памяти впечатление, произведенное на меня этой восхитительной долиной, какой она впервые предстала моему взору.
Я прибыл из Нукухивы водой на нашей судовой шлюпке. Когда мы вошли в бухту Тиор, был полдень. Стояла жара. Пока мы скользили по гладким широким океанским валам, ветра совсем не чувствовалось. Солнечные лучи изливали на нас свою ярость, а тут, вдобавок ко всему, мы еще забыли, пускаясь в путь, запастись питьевой водой. От жары и жажды я так исстрадался, что, когда мы наконец развернулись к берегу, я встал на носу шлюпки и приготовился к прыжку. И в тот миг, когда шлюпку, разогнанную несколькими дружными ударами весел, чуть не целиком вынесло на отлогий песок, я выскочил прямо в толпу молодых островитян, которые собрались у воды, чтобы оказать нам любезный прием, промчался по открытому побережью (а они с воплями – за мной, точно стая чертенят) и нырнул, как пловец, под сень первой попавшейся зеленой рощи.
Что за восхитительное чувство я там испытал! Я словно погрузился в какую-то незнакомую стихию, и она обтекала меня, наполняя слух мой бульканьем, плеском, журчанием. Говорят, что холодная ванна оказывает отличное освежающее действие, но я лично в разгоряченном состоянии выше всего ставлю теневые ванны Тиора, принимаемые под кокосовыми пальмами в восхитительной лесной прохладе.
А какими словами опишу я красоты пейзажа, представшие моему взгляду, пока я нежился под зелеными сводами! Узкая долина между крутыми тесными боками, изукрашенными дикой лозой, перекрытая сверху резными арками сплетенных ветвей, почти заслоняемая от взора пышной листвой, показалась мне похожей на гигантскую тенистую аллею, открывающую все новые виды и незаметно расширившуюся в прелестнейшую лужайку, когда-либо ласкавшую человеческий глаз.
Случилось так, что как раз, когда я был в Тиоре, туда торжественно прибыл из Нукухивы французский адмирал со всеми судами эскадры, дабы официально установить там свою власть. Он пробыл в долине около двух часов и имел за это время церемонную встречу с местным царем.
Патриарх и владыка Тиора был человек очень немолодой; но, хотя от старости он стал согбен и немощен, огромная его фигура не утратила внушительности и величия. Ступая медленно и с трудом, он вышел нетвердой походкой, держа в руке тяжелое боевое копье, служившее ему также посохом, и сопровождаемый свитой седобородых вождей, одному из которых он иногда грузно опирался на плечо. Адмирал шагнул ему навстречу с непокрытой головой, картинно протянув руку; старый царь приветствовал его, величественно взмахнув своим копьем. И вот они уже стояли один подле другого, эти два полюса человеческого общества – самоуверенный, вылощенный француз и бедный татуированный дикарь. Оба они были высокого роста и благородной внешности, но в остальном какой разительный контраст! Дю Пти-Туар прибыл при всех регалиях, присущих его высокому морскому рангу. Он был облачен в богато расшитый адмиральский мундир, в руке – широкополая шляпа с галунами, грудь увешана всевозможными орденами и ленточками. А простодушный островитянин, не считая узкого пояса на чреслах, явился во всей природной наготе.
Какое неизмеримое расстояние, подумал я, разделяет этих двух людей. В одном воплотились столетия развивающейся утонченной цивилизации, в конце концов превратившей человека в существо возвышенное и могущественное, другого все эти столетия не подвинули ни на шаг по пути совершенствования. «И все же, – молвил я себе, – уж не окажется ли дикарь, нечувствительный к тысячам современных нужд и недоступный бесконечным тревогам и заботам, из них двоих счастливейшим?» С такими мыслями взирал я на это небывалое зрелище. Честно признаюсь, оно было впечатляющим; вряд ли я его когда-нибудь забуду. Я и сейчас с живейшей ясностью представляю себе эту сцену во всех подробностях: глубокую тень деревьев, под которыми происходила встреча, роскошную тропическую растительность вокруг, живописную смешанную толпу солдат и туземцев и даже золотистую гроздь бананов у меня в руке, к которым я время от времени прикладывался, размышляя на вышеприведенные философские темы.
V
Окончательно решившись оставить тайно корабль и собрав все сведения о побережье, какие я только мог добыть в моем положении, я стал перебирать в уме все мыслимые способы побега, твердо вознамерившись действовать с наивеличайшей осторожностью, ибо попытка, окончившаяся неудачей, повлекла бы за собой множество неприятных последствий. Мысль, что меня могут схватить и с позором вернуть на борт корабля, была мне до того не по сердцу, что я вознамерился никоим образом не допускать поспешности и непродуманности, чтобы ничего подобного произойти не могло.
Я знал, что наш достойный капитан, столь отечески пекущийся о благе своей команды, никогда по доброй воле не согласится, чтобы один из лучших его матросов подвергал себя опасностям пребывания среди диких туземцев варварского острова; и я не сомневался, что в случае моего исчезновения отеческая забота побудит его посулить многие ярды набивного ситца в награду тому, кто меня схватит. Быть может, он даже оценит мою службу в целый мушкет, и тогда, как я отлично понимал, все население долины бросится меня выслеживать, вдохновленное столь щедрым обещанием.
Узнав, что туземцы, как говорилось выше, из соображений безопасности селятся лишь глубоко в долинах, а на возвышенных местах побережья вообще избегают появляться иначе как для того, чтобы спуститься ради войны или грабежа в соседнюю долину, я заключил, что если сумею незаметно пробраться в горы, то без труда могу пробыть там, питаясь плодами и фруктами, до отплытия моего корабля, о чем мне сразу же станет известно, благодаря моему возвышенному положению, так как мне будет открыт вид на весь залив.
План этот пришелся мне по душе. С одной стороны, он казался довольно легким, с другой – сулил доставить немало удовольствия: как восхитительно будет глядеть на осточертевшую старую посудину с высоты нескольких тысяч футов и среди зеленого изобилия вспоминать ее тесные палубы и мрачный кубрик! Даже думать об этом и то было приятно. И я принялся воображать, как сижу под кокосовой пальмой на верхушке горы, рядом, рукой подать, банановая роща, а я поглядываю вниз и посмеиваюсь над маневрами «Долли», пробирающейся к выходу из залива.
Был, правда, один существенный недостаток у моего соблазнительного плана: а вдруг я попаду в руки этих кровожадных тайпийцев, вышедших на поиски добычи; аппетит у них на свежем воздухе, наверное, разыграется, и они, не откладывая, тут же меня сожрут? Такая вероятность, должен признаться, была мне в высшей степени неприятна. Вообразите себе веселую компанию этих противоестественных гурманов, забравших себе в голову, что они могут приятнейшим образом закусить беднягой, который не имеет возможности ни защититься, ни удрать. Однако делать было нечего. Ради достижения цели я был готов рисковать и очень рассчитывал, что сумею в горах укрыться и улизнуть от этих рыскающих каннибалов. К тому же было десять шансов против одного, что никто из дикарей не покинет своих твердынь.
У меня не было намерения делиться с кем-либо из товарищей моим замыслом побега и тем менее – приглашать кого-то составить мне компанию. Но однажды ночью, стоя на палубе, я перебирал в мыслях все возможности бегства, как вдруг заметил у борта одного матроса: облокотясь, он глядел на воду, погруженный в глубокую задумчивость. Это был молодой парень, примерно мой ровесник; я с самого начала относился к нему с симпатией, и Тоби – так он у нас прозывался, ибо настоящего своего имени не открывал никому, – ее вполне заслуживал. Он был живого нрава и редкой храбрости, скор на дружескую услугу и совершенно бесстрашен и прям в выражении собственных чувств. Я не раз выручал его из неприятностей, к которым такое свойство его приводило, и не знаю, может быть, по этой причине, а может быть, из-за какой-то душевной общности, он всегда ко мне тянулся. Не одну вахту простояли мы с ним вместе, коротая томительные часы беседой, песней и рассказом и в изобилии сдабривая их сетованиями на общую нашу тяжкую участь.
Тоби, видно, как и я, вращался прежде в ином обществе, его нет-нет да и выдавала речь, как ни старался он скрыть это обстоятельство. Он был из тех мятежных духом, кого можно встретить порой на морских путях: кто они, какого роду-племени, где остался их отчий дом – об этом от них не услышишь, и бредут они по свету, словно гонимые таинственным злым роком, от которого нет им спасения.
Даже в облике Тоби были черты, привлекавшие меня к нему, ибо, в то время как все остальные члены экипажа были столь же грубы видом, сколь и духом, Тоби был одарен на редкость располагающей наружностью. В синей матросской куртке и парусиновых штанах, он казался таким франтом, какого только поискать среди бравых моряков. Маленького роста, худой и весь необычайно гибкий, с лицом смуглым от природы и еще потемневшим от загара под тропическим солнцем, с целой шапкой угольных кудрей, под тенью которых только чернее казались его большие черные глаза, он был существом необыкновенным, прихотливым, странным, подверженным приступам веселья и тоски – подчас даже угрюмости. Он был вспыльчив и горяч; если его разозлить, он приходил в ярость, подчас граничащую с безумием.
Странно, какую власть имеют сильный дух и глубокие страсти над более слабыми натурами. Я много раз видел, как здоровенный детина, отнюдь не страдающий недостатком обычной храбрости, позорно пасовал перед этим худеньким мальчуганом, охваченным одним из таких пароксизмов гнева. Впрочем, они случались с моим приятелем довольно редко, и в них его благородная натура разом давала выход накопившейся желчи, от которой личности более уравновешенные избавляются постепенно, пребывая в беспрерывном раздражении из-за самых недостойных пустяков.
Никто никогда не видел, чтобы Тоби смеялся, то есть до конца отдавался настоящему, во весь рот, сердечному веселью. Улыбаться он иногда улыбался, это верно, и обладал саркастическим, суховатым чувством юмора, особенно ощутимым из-за полной серьезности, с какой он отпускал свои шутки.
За последнее время я замечал, что Тоби стал гораздо печальнее, чем раньше, и с тех пор, как мы прибыли на остров, я часто видел его на палубе с тоской разглядывающим берега, в то время как вся остальная команда предавалась разгулу в кубрике. Мне было известно, как ненавидел он наше судно, и я не сомневался, что, если бы ему представилась верная возможность бежать, он бы с охотою воспользовался ею. Однако в нашем положении всякая попытка к бегству была сопряжена с такими опасностями, что, кроме меня, как я полагал, ни у кого на корабле не достало бы безрассудства даже думать об этом всерьез. И здесь я, как выяснилось, ошибался.
При виде Тоби, облокотившегося на фальшборт и погруженного в раздумье, у меня сразу же мелькнула мысль: а вдруг и он размышляет на те же темы, что и я? А если так, то разве он – не единственный из всех моих товарищей по плаванию, кого я хотел бы иметь спутником в моем рискованном предприятии? Да и почему бы мне не обзавестись спутником, который делил бы со мною опасность и облегчал тяготы предстоящего побега? Быть может, придется пробыть в горах целый месяц. Каково-то мне будет без товарища?
Эти мысли молниеносно промелькнули у меня в голове, и я только диву дался: как же я раньше об этом не подумал? Впрочем, было еще не поздно. Одного прикосновения к плечу Тоби было довольно, чтобы вывести его из задумчивости; предложение мое, как я и полагал, нашло у него прямой отклик, и с двух-трех слов между нами установилось полное согласие. А через час у нас уже было все переговорено и составлен план действий. Тогда мы подкрепили наш сговор, дружески соединив ладони, после чего, желая избежать подозрений, разошлись по своим койкам, чтобы провести на борту «Долли» последнюю ночь.
На следующий день вся наша вахта должна была получить увольнение на берег, и мы уговорились воспользоваться этой возможностью: как только представится случай, незаметно, не возбуждая подозрений, отстать от других и сразу же углубиться в горы. С воды вершины казались неприступными, но кое-где отроги контрфорсами спускались к самому морю, как бы подпирая величавые пики, с которыми они были соединены, и образуя те радиальные долины, о которых шла речь выше. Один из таких боковых хребтов выглядел доступнее остальных, и на него мы решили взобраться, полагая, что в конце концов он приведет нас к отдаленным вершинам. Поэтому мы постарались с корабля хорошенько запомнить, где он находится и как тянется, чтобы, очутившись на берегу, не искать его напрасно.
Мы преследовали только одну цель: найти себе надежное укрытие на тот срок, пока наше судно не покинет залива. После этого мы собирались попытать удачи, спустившись в Нукухиву в надежде, что туземцы окажут нам добрый прием, пробыть среди них на острове, сколько нам придется по вкусу, а тогда покинуть его при первой представившейся возможности.
VI
Назавтра рано поутру вся наша вахта уже стояла выстроенная на шканцах, и наш достойный капитан, остановившись у капитанского трапа, так разглагольствовал перед нами:
– Ну, ребята, вот мы с вами закончили полугодовое плавание и здесь в порту уже почти со всем управились, так что, я думаю, вам теперь охота на берег. Ладно, я вашей вахте даю сегодня увольнение, можете собираться и двигать хоть сейчас; но учтите, я вам это увольнение даю потому, что иначе вы, я знаю, такой вой подымете, что твоя канонада. Но хотите послушать моего совета, оставайтесь-ка вы все до единого на судне, не подворачивайтесь под руку кровожадным людоедам. Кто пойдет на берег, десять против одного, что попадет в переделку – ввяжется в драку, и тут ему и конец. Потому что стоит только этим татуированным гадам заманить вас в долину, и уж они вас сцапают, можете не сомневаться. Многие белые сошли здесь на берег и не вернулись. Взять, например, старую «Дидону», она заходила сюда года два тому назад, ну и отправили одну вахту целиком в увольнение на берег. Неделю о них ни слуху ни духу, туземцы клянутся, что знать о них ничего не знают, потом трое из всех вернулись на корабль; у одного лицо изуродовано на всю жизнь: чертовы язычники вытатуировали ему широкую полосу через всю личность. Да что толку вам говорить? Вижу, вы все равно решились идти на берег, и потому одно могу сказать: попадете туземцам на обед, меня не вините. Впрочем, у вас есть кое-какая надежда уйти от них живыми, если будете держаться поблизости от французского лагеря и вернетесь засветло на судно. Запомните хоть это, если остальные мои слова пропустили мимо ушей. Ну, двигайте. Соберитесь, снарядитесь и ждите сигнала. Как пробьет две склянки, на воду будет спущена шлюпка, которая доставит вас на берег, – и да сжалится над вами Бог!
Разные чувства выражались на лицах, пока звучала эта речь; но по завершении ее все, как один, устремились в кубрик, и скоро каждый из нас уже был по уши занят сборами и подготовкой к празднику, наступление которого столь зловещим образом было провозглашено шкипером. Пока собирались, обменивались весьма нелестными мнениями об его устрашающей проповеди, и один матрос, обозвав его лживым щукиным сыном, который жалеет для команды даже увольнения на вечерок, сказал, чертыхнувшись: «Ну нет, меня никакими россказнями не запугаешь, чтобы я от увольнения отказался; да я пошел бы на берег, даже будь там всякий камешек угольком, всякий прутик – вертелом, а вокруг – дикари и готовы из тебя жаркое состряпать, только ступишь на землю».
С духом, если не с буквой, этого заявления были согласны все члены экипажа. Было решено, что назло карканью капитана мы повеселимся на берегу от души.
Но у нас с Тоби была в этом деле своя ставка, и мы воспользовались суматохой, всегда возникающей на судне перед отправкой на берег, чтобы еще раз все обсудить и обо всем договориться окончательно. Поскольку наша цель была как можно быстрее убежать в горы, мы условились не обременять себя лишней одеждой, и в то время как остальные вырядились, словно на парад, мы с ним ограничились тем, что натянули новые парусиновые штаны, легкие парусиновые сандалии да плотные тельняшки, что вместе с матросскими шляпами и составило все наше обмундирование.
Когда кое-кто из товарищей выразил удивление по этому поводу, Тоби своим всегдашним странно-серьезным тоном объявил, что другие пусть как хотят, но он лично прибережет свою парадную одежду до Южной Америки – там хоть имеет значение, как у тебя завязан галстук, а что до голоштанных язычников, то ради них он не намерен лезть на дно своего рундучка, он скорее и сам явится среди них в чем мать родила. Матросы слушали и потешались его, как они считали, удивительным зазнайством, и всякие подозрения были от нас отведены.
Может показаться странным, что мы так опасались своих же собственных товарищей; однако среди нас были такие, кто, едва учуяв, откуда ветер дует, ради ничтожной надежды на вознаграждение, сразу же ринулись бы доносить на нас капитану.
Как только пробило две склянки, был получен приказ всем, кто сходит на берег, садиться в шлюпку. Я последним выходил из кубрика и, перед тем как подняться на палубу, обвел прощальным взглядом его знакомые переборки; случайно на глаза мне попались кадка с сухарями и чан из-под солонины, содержащие остатки нашего поспешного завтрака. И хотя до этой минуты я совершенно не задумывался о том, чтобы запастись на дорогу провиантом, полностью полагаясь на дары природы этого изобильного острова, я все-таки не мог удержаться, чтобы не прихватить кое-что из этих остатков нам на ужин. Я зачерпнул горсти две черствых, как кремни, раскрошенных сухарей, известных повсюду под именем «орешки гардемарина», и ссыпал за пазуху – просторное вместилище, куда я еще прежде упрятал несколько фунтов табаку да с десяток ярдов ситца; с помощью этих товаров я надеялся купить благорасположение островитян, когда после ухода корабля мы окажемся среди них.
Это последнее добавление к моим запасам создало спереди заметную выпуклость, но мне удалось частично ее пригладить, растряся сухари так, что они распространились равномерно вокруг пояса, и рассовав пачки табаку туда, где были складки одежды.
Едва только я покончил с этим, как послышалось мое имя, выкликаемое дюжиной голосов, я выскочил на палубу и увидел, что все уже расселись в шлюпке и только меня и ждут, чтобы отвалить от корабля. Я спустился за борт и уселся рядом с остальными на кормовых банках, бедняги вахтенные ударили веслами по воде и повезли нас к берегу.
Был как раз дождливый сезон в этих широтах, небеса с утра упорно грозили ливнем, какие столь часты на островах в это время года. Лишь только мы отвалили от нашей «Долли», как тяжелые крупные капли начали шлепаться на воду, а к тому времени, когда мы могли наконец выскочить на песок, с неба низвергались целые потоки. Мы добежали до большого лодочного сарая, стоявшего почти у самого берега, и там укрылись, выжидая, покуда утихнет первая ярость бури.
Но ливень не унимался; от монотонного шума дождя над головой клонило ко сну, матросы, растянувшись тут и там на днищах боевых челнов, постепенно перестали переговариваться и скоро уже все спали крепким сном.
Этого нам с Тоби только и надо было: мы тут же воспользовались представившейся возможностью, выскочили на дождь и со всех ног помчались к зарослям, начинавшимся неподалеку за сараем. Минут десять мы, задыхаясь от спешки, продирались через чащу, пока не выбрались на открытое место, откуда сквозь мутную пелену тропического ливня неясно, но не дальше чем в миле от нас проглядывал скалистый кряж, по которому мы намерены были подняться в горы. Прямая дорога к нему вела через довольно населенный участок побережья, но мы, чтобы не попадаться на глаза туземцам и беспрепятственно уйти в глубь острова, решились двинуться в обход по зарослям и вовсе не появляться вблизи человеческого жилья.
Ливень, по-прежнему не прекращавшийся, был нам на руку: он загнал в хижины островитян и уменьшил опасность случайных встреч. Наши плотные тельняшки скоро насквозь пропитались водой, и их тяжесть, а также вес всего того, что было у нас спрятано под ними, сильно затруднял продвижение. Но до того ли сейчас было, когда в любой момент на нас могла выскочить ватага дикарей и положить конец всему нашему предприятию?
С тех пор как мы покинули приютивший нас лодочный сарай, мы не обменялись с Тоби ни единым словом; но, выбравшись на узкую прогалину в лесу, откуда нам снова открылся вид на желанный кряж, я взял Тоби за локоть и, указывая пальцем туда, где постепенно вздымающийся хребет сливался с высокими горами в центре острова, тихо произнес:
– Теперь ни звука, Тоби, и ни взгляда назад, покуда мы не очутимся вон на той вершине, – устремимся же без промедления в путь и будем карабкаться, сколько у нас достанет сил; через несколько часов мы сможем кричать и смеяться вволю. Ты полегче и попроворнее меня, так что ступай вперед, а я за тобою.
– Ладно, брат, – ответил Тоби, – главное дело – быстро! Ты только смотри не отставай.
И, так сказав, он, словно молодой олень, одним прыжком перескочил через ручей, протекавший поперек нашей дороги, и стремительным легким шагом углубился в лес.
Когда мы подошли к подножию хребта, нам преградила путь сплошная стена высокого желтого тростника, крепкого и упругого, словно лес стальных прутьев; к великому нашему огорчению, оказалось, что такие густые заросли тростника тянутся до половины склона, по которому нам предстояло подняться.
Мы остановились и стали озираться в поисках какого-нибудь прохода; но было очевидно, что, если мы намерены двигаться дальше, нам ничего иного не оставалось, как пробиваться сквозь эту чащу. Тогда мы изменили наш боевой порядок, я, как сильнейший, пошел впереди, проламывая дорогу в тростнике, а Тоби двигался в арьергарде.
Сначала я попробовал протискиваться между гигантскими стеблями, старался раздвинуть и отогнуть их в стороны, чтобы они пропускали меня вперед, однако с таким же успехом лягушка могла бы пролезть сквозь зубья гребня.
Я отчаялся, и вне себя от этого неожиданного препятствия стал наваливаться всем телом на стену тростника и, падая, сокрушал своей тяжестью проклятые стебли; потом вскакивал и бросался на тростники снова. Так продолжалось минут двадцать, я совершенно обессилел от такого нечеловеческого занятия, однако за это время мы успели несколько углубиться в чащу. Тогда Тоби, который только пожинал плоды моих трудов, двигаясь позади меня, предложил поменяться со мной местами и пойти теперь первым, чтобы я пока отдохнул. Но у него мало что из этого получилось: он был слишком легкого телосложения, и я вскоре снова должен был занять место впереди идущего.
Так, надрываясь, прокладывали мы путь в тростниках, и пот ручьями струился по нашим телам, а острые края расщепленных стеблей немилосердно ранили нам руки и ноги; мы прошли уже, наверно, половину зарослей, как вдруг дождь прекратился, и сразу же в чаще сделалось невыносимо душно и парко. Упругие тростники тут же выпрямлялись позади нас, снова смыкаясь за нами по мере нашего продвижения, и ни ветерка, ни легкого дыхания свежего воздуха не проникало к нам сквозь эти преграды. К тому же тростник был настолько высок, что совершенно заслонял нам кругозор, и вполне могло статься, что мы давно уже идем в неверном направлении, ничего об этом не подозревая.
Измученный и задыхающийся, я чувствовал, что не в силах больше двинуть ни рукой, ни ногой. Я закатал мокрый рукав тельняшки и выжал несколько капель влаги себе в пересохший рот. Но облегчение было кратковременным, и я повалился на спину, охваченный глубокой тупой апатией. Из нее меня сразу же вывел Тоби – он изобрел способ, как нам вырваться из этих тенет, в которые мы, не чая того, попали.
Он яростно размахивал ножом, подсекая направо и налево высокие стебли, словно косец в траве, и вскоре выкосил вокруг нас целую прогалину. Зрелище это меня воодушевило, я тоже схватился за нож и принялся рубить и кромсать, сколько достало мочи. Но увы! Чем дальше мы продвигались, тем гуще и выше становились тростники, и, казалось, конца им не было.
Я уже начал подумывать, что мы пропали, что без пары добрых крыльев нам никогда не выбраться из этой живой ловушки, как вдруг впереди и справа между тростниками засинел дневной свет; я поделился с Тоби моим радостным открытием, мы со свежим воодушевлением принялись за работу и вскоре очутились на свободном от тростника склоне, где ничто уже больше не преграждало нам дороги к вершине хребта.
Несколько минут передышки, и мы начинаем подъем. И вот мы уже у верха. Однако, вместо того чтобы идти по самой бровке хребта, на виду у обитателей обеих долин, так что пожелай они, им ничего не стоило подстеречь нас где-нибудь впереди, мы осмотрительно избрали путь вдоль по склону и, словно две змеи, поползли на четвереньках, скрываемые от посторонних взоров густой травой. Час мы продвигались этим мало приятным способом, а потом наконец выпрямились во весь рост и храбро продолжили путь уже по гребню.
Этот главный отрог горного массива, возвышающегося над заливом, подымался от долины под острым углом и, если не считать двух-трех крутых уступов, представлял собою одну наклонную плоскость от моря и до дальних высот. Мы поднялись на него у его начала, где он был еще сравнительно невысок, и теперь наша дорога к вершинам лежала прямо по узкому гребню, в иных местах едва ли пяти футов шириною, выстланному роскошным зеленым ковром.
Возбужденные успехом, знаменовавшим покамест нашу затею, и освеженные чудесным целительным воздухом, который вдыхали полной грудью, мы с Тоби весело шагали вперед, как вдруг снизу, из долины, по обе стороны от нас, донеслись крики туземцев, заметивших наши фигуры, отчетливо обозначенные на фоне неба.
Бросив на ходу взгляд вниз, мы увидели, что обитатели обеих долин мечутся туда-сюда, видимо объятые внезапной тревогой. Они представлялись нам с высоты стайками взбудораженных пигмеев; а их жилища под белыми кровлями казались издалека игрушечными домиками. Глядя на островитян свысока, мы чувствовали себя в совершенной безопасности – уж конечно, вздумай они погнаться за нами, у них все равно бы ничего не вышло: ведь мы забрались уже довольно высоко, им пришлось бы карабкаться за нами в горы, а на это, как мы полагали, они не отважатся.
Однако на всякий случай мы решили поторопиться и, когда это представлялось возможным, пускались бегом по гребню. Дорогу внезапно преградила отвесная каменная стена, поначалу показавшаяся нам совершенно непреодолимым препятствием. Но потом, после долгих трудов, то и дело рискуя сломать себе шею, мы все-таки вскарабкались по ней и с прежним проворством продолжали путь.
Мы покинули побережье рано утром и после непрерывного подъема, по временам трудного и даже опасного, ни разу не оглянувшись назад, часа за три до заката вышли на самое возвышенное место в центре острова. Под ногами у нас был огромный скальный массив, составленный из базальтовых пород, с отвесными склонами, густо поросшими паразитической растительностью. Над уровнем моря мы находились, вероятно, более чем в трех тысячах футов, и вид, открывшийся с этой высоты, был великолепен.
Глубоко-глубоко внизу, так что корабли французской эскадры только редкими точками чернели на пустынной глади вод, покоился залив Нукухива, замкнутый в кольце обступивших его холмов, и эти зеленые склоны, там и сям перерезанные узкими ущельями или оттесненные от воды солнечными долинами, являли взору прекраснейшее зрелище, какое я когда-либо видел в жизни, и, доживи я хоть до ста лет, мне не забыть восхищения, которое я тогда испытал.
VII
Мне не терпелось узнать, что представляет собою местность по ту сторону горного массива; мы с Тоби предполагали, что, лишь только наше восхождение будет завершено, глазам откроются заливы Хаппар и Тайпи, простертые у наших ног справа, как слева простирался внизу залив Нукухива. Но ожидания эти не оправдались. Гора, на которую мы взобрались, вовсе не уходила с той стороны круто вниз, как мы думали, к просторным низменным долинам; местность и дальше оставалась возвышенной, только пересеченной разными хребтами и перепадами, и тянулась она вдаль, насколько хватал глаз; крутые обрывы были увиты пышно зелеными лозами, а на склонах колыхались рощи деревьев, среди которых, однако, не видно было тех пород, чьи плоды, по нашему замыслу, должны были служить нам верной пищей.
Этого мы никак не ожидали. Такой оборот дела грозил повергнуть во прах все наши расчеты. Ведь о том, чтобы спускаться за едой в долину Нукухива, и думать не приходилось – там мы едва ли избегли бы встречи с туземцами, и они в лучшем случае препроводили бы нас обратно на корабль в надежде на вознаграждение в виде ситца и побрякушек, которое наш капитан уже наверняка выдвинул как аргумент в пользу нашей поимки.
Что же делать? «Долли» отплывает дней через десять, не раньше, как же нам просуществовать все это время? Я горько раскаивался, что по недостатку предусмотрительности мы не запаслись хотя бы сухарями – ведь это так легко было сделать! С грустью я подумал о той жалкой горсти, которую засыпал перед отплытием себе за пазуху, мне захотелось проверить, много ли от нее осталось после всех тягот, выпавших на долю сухарей за время нашего восхождения. И я предложил Тоби устроить совместный смотр всего, что было нами унесено с корабля. Мы уселись на траву, и я, любопытствуя узнать, чем набил себе пазуху мой запасливый товарищ – ибо она у него топырилась не меньше, чем моя, – попросил его начать первым и выложить свои запасы.
Он сунул руку за тельняшку и из этого просторного вместилища извлек на свет божий примерно фунт табаку, еще не раскрошившегося, а составлявшего один кусок, снаружи густо облепленный хлебными крошками. Правда, он совершенно промок, словно его только что выловили со дна морского. Но меня не смутила гибель этого продукта, бесполезного для нас в нашем теперешнем положении, главное, я обнаружил признаки того, что у Тоби достало предусмотрительности запастись на дорогу также и съестным. Я спросил, велики ли его запасы. В ответ, порывшись еще под тельняшкой, он вытащил горсть какого-то вещества, настолько размякшего, раскисшего и ни на что не похожего, что поначалу он и сам не больше моего мог сказать, в результате какого таинственного процесса образовалась у него на груди эта злокачественная смесь. Я могу ее определить лишь как табачно-хлебную кашу, густо замешенную на поте и дожде. Но как тошнотворна она ни была, для нас она сейчас представляла величайшую ценность, и я, сорвав с куста большой лист, осторожно уложил на него этот липкий комок. Тоби объяснил, что утром сунул себе за пазуху два целых сухаря, чтобы пожевать в пути, если придет охота. Они-то и превратились в подозрительное месиво, которое я держал теперь на листе.
Еще одно погружение в недра тельняшки, и на свет появилось ярдов пять набивного ситца, изысканный узор на котором, впрочем, несколько портили желтые пятна от табака, лежавшего там же. А Тоби знай тянул из себя ситец дюйм за дюймом, словно факир, показывающий фокус с бесконечной лентой. Потом пошла добыча помельче: «матросский ридикюль» – мешочек с нитками, иглами и прочими швейными принадлежностями, бритвенный прибор и в довершение всего две или три плиточки черного паточного жевательного табака, выуженные со дна уже опустевшего хранилища. Оглядев все это имущество, я прибавил к нему то немногое, что было у меня.
Как и следовало ожидать, мои запасы провианта оказались в столь же плачевном состоянии, что и у моего товарища, и количество их катастрофически сократилось, – едва на один зуб голодному человеку, если только он достаточно благосклонен к табаку, чтобы потреблять его внутрь. Эти крохи, да добрые две сажени белого ситца, да несколько фунтов лучшего низкосортного табака составляли все мое богатство.
Общие наши запасы мы увязали в один узелок и уговорились нести его по очереди. Однако с жалкими остатками сухарей необходимо было особое обращение: от них одних, быть может, зависела при теперешних обстоятельствах судьба всего нашего побега. После краткого совещания, во время которого мы оба решительно высказались против того, чтобы спускаться в долину, пока не отплыл наш корабль, я предложил разделить весь наш хлебный запас, как ни скуден он был, на шесть равных частей, каждая из которых должна была служить однодневным рационом для нас обоих. Тоби согласился; я снял с шеи шелковый платок, разрезал его ножом на двенадцать квадратиков и приступил к тщательному разделу хлеба.
Тоби вздумал было весьма некстати привередничать, настаивая на том, чтобы выковырять из хлебной массы табачные крошки; но я решительно протестовал, потому что тем самым чувствительно уменьшился бы ее объем.
Осуществив раздел, мы увидели, что дневная порция на нас обоих была разве чуточку больше, чем поместилось бы в одну столовую ложку. Каждую такую порцию мы завернули в отдельный кусочек шелка, потом связали их все в один сверток, и я, воззвав к дружеской верности, вручил его на хранение Тоби. В тот день мы решили ничего не есть, так как оба подкрепились с утра завтраком. Мы поднялись и стали озираться кругом в поисках укрытия на ночь, ибо ночь, насколько можно было судить по виду небес, предстояла темная и бурная. Поблизости не видно было ни одного подходящего места; и тогда, повернувшись спиной к Нукухиве, мы стали разглядывать неведомые дали по ту сторону горы.
Здесь, насколько хватало глаз, не видно было ни малейших признаков человека, ничего даже, что говорило хотя бы о его временном пребывании. Весь ландшафт был одна нескончаемая пустыня – очевидно, внутренние области острова оставались не заселенными от сотворения мира, и, когда мы двинулись дальше, переговариваясь в этом безлюдье, человеческие голоса наши звучали странно, словно впервые тревожа зловещее безмолвие здешних мест, нарушаемое лишь бормотанием отдаленных водопадов.
Впрочем, наше огорчение из-за того, что здесь не оказалось райских плодов, какими мы надеялись упиваться, несколько умерилось, когда мы сообразили, что зато нам можно почти не опасаться случайных встреч с окрестными жителями, потому что, как известно, они обитают в тени тех же самых деревьев, плодами которых кормятся.
Мы брели, оглядывая каждый кустик, как вдруг, поднявшись на гребень очередного холма, какие бороздили плоскогорье, я увидел в траве что-то вроде едва приметной тропы, – она бежала вперед и примерно через полмили обрывалась у глубокого ущелья.
Наверно, Робинзон Крузо был не больше поражен человеческим следом на песке, чем мы этим мало приятным открытием. Моим первым побуждением было немедленно повернуть и уйти в другую сторону, однако желание выяснить, куда же все-таки ведет эта тропа, одержало верх, и мы зашагали вперед. Мы шли, и тропа становилась все отчетливее, пока наконец не привела нас на край обрыва; здесь тропа прекращалась.
– Гм, – пробормотал Тоби, заглядывая вниз, – стало быть, всякий, кто идет по этой дорожке, прыгает туда?
– Вовсе не обязательно, – возразил я. – Должно быть, тут можно как-нибудь спуститься. Послушай… попробуем, а?
– Но что, клянусь пещерами и угольными шахтами, надеешься ты найти на дне этой пропасти? Сломанную шею? Б-р-р! Да там чернее, чем было у нас в трюме, и от водопада стоит такой грохот, что в пору голове лопнуть.
– Полно, Тоби, – ответил я со смехом, – ей-богу, уж что-нибудь да есть там, иначе сюда не вела бы эта тропинка. И я намерен узнать, что там такое.
– Я тебе вот что скажу, любезный друг, – не уступал Тоби, – если ты вздумаешь совать нос во все, что возбуждает твое любопытство, ты и оглянуться не успеешь, как сломаешь шею. Можешь мне поверить, там внизу тебя уж, наверное, дожидается компания людоедов, и ты прямым ходом попадешь им в лапки, если не уймешь свою жажду открытий. Вряд ли тебя так уж прельщает встреча с дикарями, а? Послушай меня один раз: давай развернемся и ляжем на другой курс. Да и время уже не раннее, пора нам где-нибудь стать на якорь.
– А я о чем тебе толкую? – настаивал я. – По-моему, это ущелье как раз то, что нам надо. Видишь, место там укромное, но достаточно просторное, воды питьевой вдоволь, и от непогоды мы будем избавлены.
– От непогоды – не знаю, а вот от сна человеческого – это точно. Да еще заработаем ангину и ревматизм, – возражал Тоби, которому мой замысел пришелся не по сердцу.
– Ну хорошо, мой друг, – сказал я. – Раз ты со мной спускаться не хочешь, я полез один. Утром увидимся.
И, приблизившись к самому краю обрыва, я стал карабкаться вниз по спутанным корням и ветвям деревьев, растущих в расселинах скал. Тоби, как я и ожидал, сколько ни ругался, а тоже полез вслед за мною – быстрый и ловкий, как белка. Он скоро меня обогнал и приземлился на дно ущелья, когда я еще едва одолел половину спуска.
Зрелище, открывшееся тогда нам снизу, навсегда запечатлелось в моей памяти. Пять пенных струй, вырываясь из пяти узких расселин, вздутые и замутненные после недавних дождей, соединялись в один головокружительный каскад, с ревом обрушивающийся с восьмидесятифутовой высоты в глубокий черный котлован, выбитый в мрачных скалах, громоздящихся вокруг, а оттуда единым потоком устремлялись куда-то круто вниз в темную трещину, которая проникала, казалось, до самых недр земли. А сверху по обе стороны ущелья свисали огромные древесные корни, и влага сочилась по ним, сотрясаемым от грохота водопадов. Было время заката, и в слабых, неверных его отсветах, проникавших сюда под каменные кручи и лесные кроны, еще страннее, еще необычайнее казалось все вокруг, сурово напоминая нам, что недалек тот миг, когда мы окажемся в совершенной темноте.
Я рассматривал дно ущелья со все растущим недоумением: возможно ли, чтобы в это дикое место вел человеческий след? Пожалуй, я все-таки ошибся, и это вовсе не тропа, проложенная туземцами. Мысль такая была для нас скорее приятной, нежели наоборот, ибо тем самым уменьшалась опасность нежелательных встреч; и я в конце концов пришел к заключению, что, как ни ищи, нам никогда бы не найти укрытия более надежного, чем это ущелье, на которое мы так случайно набрели. Тоби со мной согласился, и мы тотчас приступили к сбору валежника, чтобы соорудить себе шалаш для ночлега. Нам пришлось поставить его у самого подножия водопада, ибо вода заливала почти все дно ущелья. Последние мгновенья, пока еще не сгустилась тьма, мы употребили на то, чтобы покрыть свой шалаш плоскими перьями особого вида травы, в изобилии росшей по всем расселинам. Хижина наша, если только она заслуживала такого названия, представляла собою несколько палок попрямее из того, что нам удалось найти, приставленных наискось к отвесной стене ущелья и воткнутых нижними концами не далее чем в футе от бурлящего потока. Мы покрыли их травой, подлезли внутрь и там, вконец измученные, расположились, как смогли, на отдых.
Забуду ли я когда-нибудь эту жуткую ночь? Из бедного Тоби мне не удалось вытянуть ни слова; а между тем звук его голоса мог бы послужить хоть каким-то утешением, но Тоби пролежал всю ту бесконечную ночь молча и только трясся, как паралитик, подтянув колени к подбородку и упираясь затылком в мокрую каменную стену. Кажется, в нашем распоряжении было все, чтобы сделать этот ночлег совершенно невыносимым. Хлестал дождь, против которого наша бедная кровля была как жалкая насмешка, – напрасно старался я спрятаться от изливающихся на меня струй: отодвигая один бок, я подставлял им другой, а дождь находил в крыше все новые отверстия, чтобы сквозь них обрушиваться на нас.
За жизнь мне не раз случалось промокнуть до нитки – такими вещами меня вообще-то не испугаешь. Но в ту жуткую ночь могильный холод на дне ущелья, непроницаемая тьма и непереносимое чувство затерянности и безнадежности едва не сломили меня.
Утром мы встали, как нетрудно догадаться, достаточно рано; лишь только нечто, отдаленно подобное первым проблескам дня, забрезжило сквозь тьму, как я стал трясти своего товарища за плечо, оповещая его о том, что наступил рассвет. Бедняга Тоби поднял голову и через минуту сипло произнес:
– Ну что ж, тогда, значит, приятель, мои бортовые огни погасли, потому что с открытыми глазами мне еще темнее, чем с закрытыми.
– Глупости! – отозвался я. – Ты еще просто не проснулся.
– Не проснулся? – вознегодовал Тоби. – Ты что хочешь сказать, что я спал, что ли? Да это просто оскорбление – предполагать, что человек мог уснуть в этой чертовой дыре!
Я стал извиняться за то, что столь превратно истолковал его ночное молчание, а тем временем свету еще немножко прибавилось, и мы выползли из своей берлоги. Дождь прекратился, но все вокруг сочилось и струилось. Мы сняли вымокшую одежду и, насколько возможно, отжали ее. Потом попытались восстановить кровообращение в застывших конечностях, изо всех сил растирая их руками, и, умывшись из ручья и снова натянув влажное платье, стали подумывать, что пора наконец нарушить наш затянувшийся пост, поскольку уже двадцать четыре часа во рту у нас не было ни крошки. И вот на свет был вытащен наш дневной рацион, и мы, усевшись на большой камень, стали совещаться, как нам с ним поступить. Прежде всего мы разделили его пополам и, тщательно завернув одну половину, отложили ее на ужин; остаток по возможности точно разделили еще пополам и бросили жребий, кому первому выбирать. Доставшуюся мне порцию я мог бы уместить на кончике пальца, но тем не менее я постарался растянуть трапезу и употребил целых десять минут на то, чтобы поглотить все до последней крошки. Как верно говорят: голод – лучшая приправа! Этот крохотный кусочек пищи доставил мне столь тонкое и острое гастрономическое наслаждение, какого при иных обстоятельствах я не испытал бы от самого изысканного блюда. Досыта напившись чистой воды из бегущего у наших ног ручья, мы тем закончили завтрак и встали на ноги, изрядно подкрепившиеся и готовые ко всему, что ни ожидало нас впереди.
Теперь мы решили более тщательно осмотреть провал, в котором провели ночь. Перейдя через ручей, мы выбрались на тот берег описанного мной выше котлована и там по несомненным признакам обнаружили, что совсем незадолго до нас здесь кто-то был. Пошарив вокруг, мы убедились, что место это посещалось неоднократно, – очевидно, как мы догадались по следам, здесь добывали некий корень, из которого местные жители получают красильное вещество.
Это открытие пробудило в нас решимость покинуть негостеприимное ущелье, прельстившее нас только своей мнимой необитаемостью. Задрав головы, мы стали выискивать по стенам путь вверх и вскоре нашли относительно удобный откос, по которому через каких-нибудь полчаса взобрались на тот самый обрыв, с которого спустились накануне вечером.
Я предложил Тоби, чтобы мы, вместо того чтобы рыскать без толку по острову, выставляя себя напоказ за каждым поворотом, избрали какое-нибудь постоянное место укрытия на все время, пока у нас хватит пищи, соорудили бы настоящую хижину, сидели бы там и вели бы себя разумно и осмотрительно. На все это он согласился, и мы сразу же приступили к осуществлению моего плана.
В поисках подходящего места мы осмотрели ближнюю лощинку, остались неудовлетворены и двинулись в путь. Мы одолели несколько гребней, пересекавших, как я уже упоминал, все плоскогорье, и к полудню оказались на широком пологом склоне, так и не найдя места, которое отвечало бы нашим нуждам. Низкие тяжелые облака предвещали новую бурю, и мы заторопились вверх по склону, который венчали густые заросли кустов, где мы и рассчитывали найти укрытие от непогоды. Поднявшись, мы спрятались под кустами и, надергав росшей вокруг высокой травы, укрылись с головой и стали ждать дождя.
Но ливень медлил, прошло несколько минут, и мой товарищ уже спал крепким сном, а вслед за ним и я готов был погрузиться в это блаженное бездумное состояние. Но тут как раз хлынул дождь, да такой сильный, что о сне нечего было больше и думать. Мы были прикрыты кустами и травой, но, несмотря на это, вскоре снова вымокли насквозь – а мы-то так старались высушить одежду. Вот досада! Впрочем, тут уж ничего нельзя было поделать – могу только порекомендовать мятежным юношам, убегающим с кораблей на экзотические острова в дождливый сезон, непременно захватывать с собою зонтик.
Через час ливень кончился. Тоби все это время проспал, во всяком случае, насколько можно было судить по виду. Но теперь у меня рука не поднималась его будить. Я лежал на спине, весь одетый листвой и зелеными травами, и ветви кустов склонялись к самому моему лицу, и поневоле мне вспомнились герои известной баллады – дети, потерявшиеся в лесу. Бедные маленькие страдальцы! Насколько им хуже пришлось, чем нам, какие тяготы выпали на их долю – неудивительно, что здоровье бедняжек не выдержало.
Пролежав так часа, наверное, два, я почувствовал, что со мною происходит что-то неладное – ночь, проведенная в холодном ущелье, как видно, не прошла даром: меня начало бросать то в жар, то в холод, и при этом одна нога моя так вдруг распухла и стала причинять такую острую боль, что я подумал, уж не ужалила ли меня ядовитая змея, какие, должно быть, без числа водятся на дне той мрачной пропасти. Попутно замечу, что, как я узнал впоследствии, на островах Полинезии, как и на острове Ирландия, по всеобщему мнению, совершенно не водятся ядовитые пресмыкающиеся, хотя заглядывал ли когда-нибудь на них святой Патрик, – на этот счет свидетельств не имеется.
Лихорадка моя все усиливалась, я стал метаться на своем ложе, но старался не потревожить спящего товарища и отполз от него немного в сторону. При этом я раздвинул какие-то ветви – и тут моему взору открылось зрелище, которое я и теперь вспоминаю со всей живостью и остротой первого впечатления. Явись передо мною вдруг сад Эдемский, я и тогда, наверное, восхитился бы не больше.
Сверху, где я лежал пораженный, мне видна стала зеленая долина, спускавшаяся покатыми, широкими террасами к далекому голубому морю. Где-то в середине проглядывали сквозь листву деревьев пальмовые кровли хижин, выбеленные зноем и ослепительно сверкающие на солнце. Вся долина была более трех лиг в длину и, наверное, с милю поперек в самом широком месте.
С обеих сторон ее теснили крутые травянистые склоны и там, где я лежал, сходились полукругом, затворяя долину стеной зеленых круч и обрывов в сотни футов высотой, по которым там и сям прыгали бесчисленные тоненькие водопадики. Но главную красоту составляла зелень – бесконечная, всепронизывающая, вечная зелень; в ней, я полагаю, таится прелесть всякого полинезийского ландшафта. Повсюду подо мною, прямо от подножия обрыва, над которым я, сам того не ведая, все это время лежал, тянулась зеленая туча листвы, такой роскошной и изобильной, что немыслимо было определить, кроны каких деревьев ее слагают. И может быть, всего более меня восхитили безмолвные крохотные водопады, серебристыми нитями влаги протянувшиеся с обрыва на обрыв и пропадавшие внизу в пышной зелени долины.
А надо всей этой сценой царил такой чуткий, трепетный покой, что мне было страшно чем-нибудь его потревожить, страшно, что от одного произнесенного слова нарушатся чары и растает, как в сказке, вся эта волшебная красота. И я долго лежал так, забыв о своем недуге и о товарище, спящем поблизости, и все глядел и глядел, не в силах понять, когда и как возникло передо мною это видение.
VIII
Когда я немного пришел в себя, то поспешил растолкать Тоби и объявил ему о своем открытии. Вдвоем мы подползли к краю обрыва, и мой друг был потрясен не меньше меня. Впрочем, удивляться, как мы быстро сообразили, тут было особенно нечему: ведь мы знали, что долины Хаппар и Тайпи, расположенные по соседству с Нукухивой, тянутся от побережья в глубину острова и где-то в этих местах должны кончаться.
Вопрос был в том, которую из двух долин мы сейчас видим? Тоби считал, что перед нами – место обитания хаппарцев, я же склонен был думать, что это – родная долина их заклятых врагов, кровожадных тайпийцев. Правда, полной уверенности у меня не было тоже, но, когда Тоби предложил спуститься и вкусить радостей местного гостеприимства, я стал спорить, что нельзя так рисковать, не имея сколько-нибудь основательных доказательств, что сначала нужно удостовериться.
А разница была существенная. Обитатели долины Хаппар не только жили в мире с Нукухивой, но даже поддерживали с ней в высшей степени дружеские отношения и, кроме того, вообще славились миролюбием и добротой, так что мы с полным основанием могли рассчитывать если не на сердечный прием, то уж, во всяком случае, на кров и пищу.
Другое дело – Тайпи. Само имя это вселяло ужас в мою душу, и я этого вовсе не скрывал. Мысль о том, чтобы добровольно отдаться в руки свирепых дикарей, казалась мне безумной; и не менее безумным представлялся мне замысел спуститься в долину, не зная, кто в ней живет. В том, что долину, лежащую у наших ног, населяет одно из этих двух племен, мы не сомневались, но которое – на этот счет мы находились в неведении.
Однако мой товарищ, видя, какое изобилие еды и прочих радостей жизни сулит нам роскошная долина, не в силах был противиться искушению и продолжал твердить свое, не слушая моих доводов. Я внушал ему, что мы ничего не знаем наверняка, и яркими красками живописал судьбу, которая нас ожидает, если мы безрассудно спустимся вниз и слишком поздно обнаружим свою ошибку, а он в ответ перечислял все тяготы и невзгоды, уготованные нам, останься мы там, где сидим.
Чтобы как-нибудь отвлечь его внимание – ибо переубедить его, как я понял, мне было не под силу, – я указал ему на солнечную безлесную полосу земли, которая прямо под нами спускалась вниз в долину из внутренней части острова. Там, говорил я ему, должно быть, лежит большая ненаселенная долина, изобилующая всевозможными тропическими плодами. Я слышал, что в глубине острова несколько таких долин, и теперь уговаривал Тоби направиться туда, ведь там, если только ожидания наши оправдаются, мы сможем пробыть, ничего не опасаясь, сколько захотим.
Он дал себя уговорить, и мы стали разглядывать склоны, выбирая дорогу. Но выбирать было особенно не из чего: чтобы добраться туда, куда мы задумали, нам надо было пересечь несколько ущелий и горных отрогов, тянувшихся поперек нашего пути.
Нелегкое путешествие! Но мы решились его предпринять, хотя я, например, с трудом представлял себе, как одолею такую дорогу: попеременно охватываемый то жаром, то холодом (не знаю, как иначе описать то, что со мной происходило), я к тому же теперь сильно хромал на одну ногу. А вдобавок еще дурнота, вызванная голодной диетой, – новая беда, от которой и Тоби страдал ничуть не меньше моего.
Впрочем, все это лишь усугубляло мое нетерпение добраться до надежного укрытия, где было бы вдоволь еды и можно было бы спокойно отдыхать, когда слабеющие силы вовсе меня оставят. И потому мы поспешили в путь. Начали мы с того, что спустились по крутому склону глубокого оврага, который весь щетинился зарослями тростника. Здесь у нас был только один способ передвижения: сесть и съехать вниз, хватаясь за встречный тростник и так направляя свой стремительный спуск. На такой скорости мы быстро добрались туда, где снова можно было воспользоваться ногами, и задержались над ручьем, который несся, бурля, по дну оврага.
Мы напились его освежающей воды и начали новый переход, куда более трудный, чем недавний спуск. Дюйм за дюймом надо было снова набирать потерянную высоту, карабкаясь вверх по другому склону, – занятие тем менее приятное, что, совершая эти вертикальные переходы, мы ни на шаг не приближались к цели. Однако, проявив беспримерное терпение, после полутора часов улиточного хода мы одолели уже, наверное, половину подъема, когда оставившая меня было лихорадка вдруг возвратилась и опалила таким жаром, породившим затем такую мучительную жажду, что у Тоби едва достало красноречия убедить меня не ринуться, жертвуя плодами всех трудов, с обрыва вниз, где так искусительно журчала в ручье вода. В тот миг все мои мечты и страхи как бы слились в одно неодолимое желание, и я не в силах был думать о том, что будет, когда я его удовлетворю. Я не знаю другого ощущения, ни приятного, ни мучительного, которому так же невозможно противостоять, как сильной жажде.
Тоби заклинал меня продолжать подъем. Еще несколько усилий, уговаривал он, и через каких-нибудь пять минут мы выйдем на берег следующего ручья, который наверняка течет по ту сторону отрога.
– Только не поворачивай назад! – кричал он мне. – Ведь мы уже вон куда поднялись. Так и знай, если мы снова очутимся внизу, ни у тебя, ни у меня не хватит духу снова начинать подъем.
Я еще не совсем потерял голову и потому внял его уговорам: продолжая карабкаться вверх, я тщетно пытался умерить терзавшую меня жажду мыслями о том, что вот сейчас, еще немного, и я смогу пить, сколько душе моей будет угодно.
И вот наконец мы на гребне самого высокого из отрогов, тянувшихся поперек нашего пути к той долине, в которую мы мечтали попасть. Отсюда, с высоты, нам открылось все пространство, лежащее между нами и желанным приютом, и от этого зрелища, хоть мне и прежде было невесело, душу мою исполнило беспросветное отчаяние: впереди, насколько хватало глаз, одна за другой тянулись глубокие мрачные пропасти, разделенные обрывистыми, острыми хребтами. И ни клочка ровной земли! Если бы мы могли шагать с хребта на хребет, переступая узкие глубокие пропасти, мы без труда достигли бы цели. Но ведь нам надо было спускаться на дно каждого из этих зияющих провалов и затем взбираться по их обрывистым бокам! Даже Тоби, не испытывавший моих мучений, дрогнул перед этим безнадежным зрелищем.
Впрочем, нам некогда было стоять и смотреть – я горел нетерпением как можно скорее очутиться у бегущего внизу ручья. И, не задумываясь об опасности столь головокружительного спуска, мы – страшно вспомнить – бросились в пропасть, будя первозданную тишину шорохом и гулом осыпей, и прыгали и скользили вниз, нимало не заботясь, прочно ли стоит под ногою камень и крепко ли держится кустик, за который схватился рукой, или же сейчас предательски выдернется с корнем. Я, во всяком случае, не мог бы с уверенностью сказать, то ли я просто-напросто падал с обрыва в пропасть, то ли этот устрашающе скорый спуск был актом моей свободной воли.
В несколько минут мы достигли дна ущелья, и, став коленями на влажную каменную плиту, я склонился к воде. Как я радовался, предвкушая первый глоток. Помедлив, чтобы сосредоточить все чувства на предстоящем наслаждении, я наконец погрузил губы в прозрачную текучую стихию.
Если бы яблоки Содома рассыпались пеплом у меня во рту, я и тогда не испытал бы более сильного отвращения. Первая же капля студеной влаги словно заморозила всю кровь у меня в жилах; жар, пылавший в моем теле, сразу же сменился мертвенным холодом, сотрясая меня с ног до головы, как электрическим током, и пот на лбу собрался в крупные ледяные капли. Жажды моей как не бывало, вода теперь была мне отвратительна. Я встал на ноги, весь дрожа, – от одного вида этих сочащихся влагою мрачных скал и черного ручья, несущегося по своему каменистому руслу, мне становилось еще холоднее, и я вдруг почувствовал такое же непреодолимое стремление вверх, к солнечному теплу, какое раньше вело меня сюда, на дно.
Еще два часа мы карабкались, выбиваясь из сил, и вот мы снова наверху – на гребне следующего хребта. Глядя назад, я просто глазам своим не верил: неужели мы вылезли вот из этой черной пропасти, зияющей у нас под ногами? Но впереди опять открылся все тот же безрадостный вид – спуски и подъемы, спуски и подъемы, – и я вдруг отчетливо понял, что нам нечего и думать о том, чтобы преодолеть все эти препятствия. Долина, лежащая где-то там, за ними, для нас недостижима. Но что нам делать, этого я не знал.
Возвратиться в Нукухиву, прежде чем мы удостоверимся, что наш корабль ушел, – такая мысль даже не приходила мне в голову; да и неизвестно еще, сумели бы мы туда добраться: расстояние, отделявшее нас от нее, мы даже примерно себе не представляли и направление после всех наших странствий тоже не могли бы определить. И мыслимо ли это – после стольких трудов отступить и от всего отказаться?
В трудную минуту человеку ничто так не противно, как движение «на месте, кругом и назад шагом марш!» – то есть полное повторение в обратном порядке того, что уже пройдено, тем более если человек любит опасное и неведомое, возвращаться назад он не согласен ни за что, покуда остается хотя бы тень надежды найти выход на новых, неизведанных путях.
Именно такое чувство толкало нас вперед, и мы опять спустились по другую сторону отрога, на который только что с таким трудом взобрались, – хотя зачем, мы и сами не знали.
Не обменявшись ни полсловом, мы с Тоби оба решили, что от теперешнего замысла приходится отказаться: на лице друг у друга мы увидели то выражение безнадежности, которое красноречивее всяких слов.
Смеркалось, когда мы с ним очутились на дне третьей пропасти, не в силах сделать больше ни шагу, покуда отдых и пища хоть как-то нас не подкрепят.
Выбрав наименее неудобное место, мы сели бок о бок, и Тоби вытащил из-за пазухи священный сверток. В молчании были съедены крохи, оставленные от утренней трапезы, и мы, даже в мыслях не покусившись на остальные запасы, поднялись, чтобы соорудить себе укрытие для ночлега, ибо сейчас мы всего более нуждались в сне.
По счастью, место на этот раз больше отвечало человеческим потребностям, чем наше пристанище накануне ночью. Мы расчистили маленький, но почти ровный клочок земли, свили из тростника некое подобие низенькой хижины, а поверх покрыли ее изрядным слоем длинных толстых листьев, которые росли на дереве рядом. Этими листьями мы старательно обложили все вокруг, оставив только совсем небольшое отверстие, чтобы протиснуться в укрытие.
В этих глубоких провалах, куда, казалось бы, нет доступа ветрам, хозяйничающим наверху, царит, однако, такой пронизывающий промозглый холод, какого трудно ожидать в здешних широтах; а так как, кроме шерстяных тельняшек и парусиновых штанов, у нас не было ничего, что бы согревало наши бренные тела, мы особенно позаботились сделать свою тростниковую хижину как можно теплее. Для этого мы оборвали чуть ли не все листья с ближних деревьев и кучей навалили их сверху да еще втащили охапку внутрь и соорудили из нее роскошное ложе.
В ту ночь, если бы не мучившая меня боль, я мог бы выспаться по-царски. Но я только забывался время от времени чутким сном, между тем как Тоби посапывал у меня под боком с таким вкусом, словно нежился на голландском полотне. Дождя в ту ночь, на наше счастье, не было, и мы были избавлены от мук холодной бани.
Утром меня разбудил громкий голос моего товарища, который звал меня из шалаша. Я выполз из-под кучи вчерашних листьев и поразился перемене, какую вызвала в нем одна хорошо проведенная ночь. Он был бодр и жизнерадостен, как молодая птица; для того чтобы умерить свой здоровый утренний аппетит; он жевал мягкую кору какого-то древесного побега, которую тут же предложил и мне, уверяя, что это чудеснейшее средство от голода.
Я же, хоть и чувствовал себя тоже несравненно лучше, чем накануне, тщетно пытался заглушить тревогу, которую внушала мне моя злосчастная нога, мучившая меня вот уже целые сутки сильными и частыми приступами боли. Но, не желая портить настроение моему другу, я пресек жалобы, готовые сорваться у меня с языка, и, весело пригласив Тоби поторопиться с нашим пиршеством, приступил к умыванию. После торжественного омовения мы съели, вернее, проглотили, медленно рассасывая каждую крошку, наши мизерные порции пищи и стали совещаться о дальнейших шагах, которые нам надлежало предпринять.
– Что же нам делать? – спросил я тоскливо.
– Как что? Спуститься в ту долину, что мы видели вчера, – отозвался Тоби таким зычным и решительным голосом, что мне пришло в голову серьезное подозрение, уж не умял ли он втайне от меня хороший бараний бок где-нибудь в кустах по соседству.
– Что же еще нам остается, как не это? – продолжал Тоби. – Ведь здесь мы с тобой в два счета с голоду подохнем. А все твои опасения насчет тайпийцев – сущий вздор. Обитатели такой прекрасной долины обязательно должны быть милейшими людьми. Может быть, конечно, ты согласен погибнуть голодной смертью в этой мокрой яме, но я, например, предпочитаю спуститься, и будь что будет.
– А кто будет нашим проводником? – уныло продолжал я. – Даже если мы изберем твой план, неужели нам опять карабкаться вверх и вниз по всем этим кручам, чтобы возвратиться к исходному месту и оттуда ласточкой с обрыва нырнуть в долину?
– Гм, черт, я об этом не подумал, – сказал Тоби. – Ведь и вправду, долину со всех сторон ограждали скалы.
– Отвесные, как борта линейного корабля, только в сто раз выше, – подтвердил я.
Товарищ мой повесил голову и задумался. Потом он вдруг вскочил и обратил ко мне взор, освещенный тем живым огнем, который знаменует возникновение блестящей идеи.
– Ну ясное дело! – воскликнул он. – Ведь все ручьи текут в одну сторону и наверняка попадают сначала в долину, а оттуда уже в море. Нам только нужно пойти по течению вот этого ручья, и рано или поздно он приведет нас в долину.
– Верно, Тоби! – воодушевился и я. – Твоя правда. И приведет очень скоро, потому что видишь, под каким уклоном бежит вода?
– Вижу! – обрадовался мой друг, услышав от меня подтверждение своей теории. – Конечно, так оно и есть! Ну пошли, пошли скорее. Да выкинь ты из головы все свои выдумки насчет тайпийцев и – да здравствует прекрасная долина Хаппар!
– Ты, значит, считаешь, что там живут безобидные хаппарцы. Дай Бог, чтобы ты оказался прав, любезный друг, – сказал я, покачав головой.
– Аминь! – отозвался Тоби, устремляясь вперед. – Я знаю, что это долина Хаппар, потому что больше и быть-то нечему. Такая роскошная долина – целые леса хлебных деревьев, кокосовые рощи, заросли гуавы. Ах, братец, не отставай. Клянусь всеми сочными плодами, я умираю от нетерпения за них приняться. Да ну же, веселей, живей! Ты ли у меня не молодец! И не гляди хмуро под ноги, а подвернется камень, сшибай его с дороги, вот как я. Завтра утром, помяни мое слово, мы с тобой будем как сыр в масле кататься. Вперед!
И с этими словами он как безумный припустился со всех ног вниз по ущелью, совершенно позабыв, что я не в силах за ним угнаться. Немного погодя он, впрочем, опомнился и, остановившись, подождал, пока я с ним поравняюсь.
IX
Бесстрашная уверенность Тоби была заразительна, и я тоже стал склоняться к хаппарской гипотезе. Но, пробираясь мрачным пустынным ущельем, я все-таки не мог унять волнения и тревоги. Идти сначала было совсем легко, но постепенно становилось все труднее и труднее. Русло потока часто оказывалось завалено обломками нависших вокруг скал, и вода ярилась и пенилась перед этими преградами, образуя маленькие водопады, разливаясь глубокими озерками и бешено обрушиваясь на каменные груды.
А ущелье было узким и стены его отвесными, так что приходилось брести по воде, то и дело спотыкаясь о невидимые камни, оскользаясь на подводных древесных корнях. Но самым досадным препятствием были корявые ветви деревьев, росших на отвесных склонах: они переплетались так густо и так низко, что приходилось просто проползать под их давящими сводами. И мы ползли на четвереньках по мокрым камням, проваливаясь с головой, когда вода разливалась, а мы не видели, потому что было почти совсем темно. Случалось, мы ударялись лбами о стволы деревьев, принимались, не чая беды, увлеченно тереть ушибленное место, и шлеп! – прямо носом на острие ребристого камня, и безжалостные потоки воды обдавали сверху наши простертые тела. Я думаю, Бельцони, протискивавшемуся в подземные переходы египетских катакомб, едва ли приходилось так туго, как нам. Однако мы мужественно преодолевали трудности, хорошо сознавая, что вся наша надежда в том, чтобы двигаться вперед.
На закате мы сделали привал и позаботились об устройстве ночлега. Снова соорудили шалаш наподобие прежних и, забравшись в него, попытались забыться сном. Товарищ мой, мне кажется, выспался отлично, но я, когда мы утром выползли на свет божий, почувствовал, что у меня, наверное, не хватит силы идти дальше. От этой немощи Тоби прописал мне принять внутрь и незамедлительно содержимое одного из наших шелковых сверточков. Но как он ни настаивал, я такой способ лечения решительно отверг, и мы, подкрепившись нашим обычным лилипутским завтраком, без дальних слов снова пустились в путь. Пошел уже четвертый день с тех пор, как мы покинули Нукухиву, и голод давал себя чувствовать все острее. Чтобы хоть как-то успокоить его мучения, мы жевали на ходу мягкую кору каких-то корней и молодых побегов, которая не могла нас напитать, но по крайней мере была приятна на вкус.
Мы медленно спускались по каменному ложу ручья. К полудню была пройдена всего одна миля. Именно в это время отдаленный гул падающей воды, смутно долетавший к нам еще утром, сделался настолько отчетливым, что мы не могли уже больше не обращать на него внимания. И вот путь нам преградил во всю ширину ущелья обрыв футов в сто высотой, вода единым бешеным каскадом обрушивалась с него прямо вниз. А справа и слева высились совершенно отвесные скалы, так что обойти водопад стороной нечего было и думать.
– Что будем делать теперь, Тоби? – спросил я.
– Гм. Не отступаться же, – ответил он. – Стало быть, пошли дальше.
– Золотые слова, друг мой Тоби. Но как, интересно, ты намерен это осуществить?
– Можно спрыгнуть в водопад, если не найдется другого способа, – твердо ответил мой товарищ. – Зато быстро. Но поскольку ты сейчас не в такой хорошей форме, как я, попробуем что-нибудь еще.
С этими словами он осторожно полез по скале вперед и заглянул в водяную пропасть, а я стоял сзади и не мог даже себе представить, как нам преодолеть это, на мой взгляд, совершенно непреодолимое новое препятствие. Когда Тоби закончил осмотр, я поспешил поинтересоваться, что он сумел высмотреть.
– Ах, тебя интересует, что я высмотрел, – отозвался он своим задумчиво-шутливым тоном. – Что ж, объяснить недолго. В настоящее время мне неясно только, чья шея, твоя или моя, удостоится чести быть сломанной в первую очередь, но я полагаю, что не менее ста шансов против одного в пользу того, кто прыгнет первым.
– Вот видишь, значит, невозможно? – хмуро сказал я.
– Напротив, любезный друг, ничего нет легче. Сложность только в том, каково достанется нашим костям там внизу и будем ли мы после этого способны к дальнейшим боевым действиям. Но подойди сюда, я покажу тебе, в чем наш единственный шанс.
Я полез вслед за ним к краю обрыва, и он показал мне, что отвесная каменная стена над водопадом и дальше вся топорщится какими-то странными толстыми корнями в несколько футов длиною, которые свисают чуть ли не из каждой трещины, заканчиваясь в воздухе наподобие черных сосулек. Нижние корни даже касались воды. Были среди них и гнилые, замшелые, с оторванными концами, а те, что свисали над самым водопадом, выглядели мокрыми и скользкими.
Замысел Тоби – совершенно отчаянный замысел – состоял в том, что мы должны были вверить свою жизнь этим подозрительным корням и по ним, скользя с одного на другой, съехать к подножию водопада.
– Ты готов на это? – серьезно спросил меня Тоби, не распространяясь о риске, трудности и прочем.
– Готов, – был мой ответ, ибо я видел, что иного выхода, если мы хотим продолжать путь, у нас нет, а об отступлении мы давно бросили думать.
Услышав о моем согласии, Тоби, не говоря больше ни слова, пополз вперед к самому краю выступа мокрой скалы, откуда он уже мог дотянуться до длиннейшего из болтавшихся в воздухе корней. Он дернул его к себе, корень изогнулся и, когда Тоби разжал руку, зазвенел, как толстый натянутый канат, когда по нему ударят. Удовлетворившись этим испытанием, мой легкий, ловкий товарищ ухватился и повис на корне, и, по-матросски обвив его ногами, съехал сразу футов на десять, где уже можно было своим весом раскачать корень наподобие маятника. Ниже спускаться было слишком рискованно, и Тоби, держась за него одной рукой, другой стал дергать свисавшие вокруг корни потоньше, выбирая самый надежный. Найдя новый подходящий корень, он перебрался на него и спустился еще ниже.
Все это прекрасно, думал я, но я ведь гораздо тяжелее, и до его обезьяньей ловкости мне далеко, тем более сейчас, когда я болен и хромаю. Но делать было нечего, и через минуту я уже висел прямо над его головой. А он, взглянув наверх и увидев меня, заметил со своей всегдашней невозмутимостью, словно никакие опасности его не касались: «Будь другом, подожди падать, пока я не уберусь в сторону». И, раскачавшись, перебрался на следующий корень. Я осторожно съехал вниз по толстому корню и дальше стал спускаться, держась одновременно за два тонких, рассудив, что двойная тетива вернее, – впрочем, я долго испытывал их прочность, прежде чем повис на них всем своим весом.
Съехав таким образом еще на одну ступень вниз, я стал дергать висевшие вокруг меня корни, но они, к моему ужасу, один за другим обрывались, словно хрупкие соломинки, и летели вниз, ударяясь о скалы и падая наконец в воду глубоко подо мною.
Предательские корни ломались и падали вниз, и сердце мое все глубже уходило в пятки. Я висел и качался на двух корнях над зияющей пропастью, ожидая, что в любую минуту они тоже не выдержат и оборвутся. В страхе я потянулся к единственному толстому корню, спускавшемуся поблизости, но не достал – пальцы мои были от него в нескольких дюймах. Тогда, вне себя от ужаса, я оттолкнулся ногой от скалы, сильно качнулся в ту сторону и успел на лету ухватиться за толстый корень. Я повис на нем, он заходил под моей тяжестью, но, по счастью, выдержал – не оборвался.
При мысли о том, какой страшной опасности я только что избежал, мне чуть не стало дурно, и я закрыл глаза, чтобы только не видеть бездны у себя под ногами. В ближайшие минуты опасность мне не угрожала, и я благочестиво восхвалял Господа за спасение.
– Молодец! – крикнул мне снизу Тоби. – Ты гораздо ловчее, чем я думал. Скачешь по веточкам, что твоя белка. А теперь, когда ты вдоволь налюбуешься пейзажем, советую тебе двигаться дальше.
– Будет исполнено, любезнейший, всему свое время. Еще два-три таких славных корешка, и я нагоню тебя.
Оставшийся спуск я проделал сравнительно легко: корней было множество, и в нескольких местах путь мне облегчали небольшие выступы в скале. Вскоре я уже стоял внизу рядом с Тоби.
Я подобрал себе новую толстую палку взамен той, что осталась там, над водопадом, и мы снова двинулись вниз по ущелью. Через некоторое время нас опять приветствовал издалека шум падающей воды – он становился громче и громче, по мере того как позади нас затихал рев первого водопада.
– Вот вам еще один обрывчик, – сказал я Тоби.
– И отлично: мы теперь умеем по ним лазить. Идем!
Ничто не могло запугать и остановить моего отважного товарища. Ниагара или Тайпи, ему все было по плечу. Он с готовностью устремлялся навстречу любым опасностям, а я не мог нарадоваться, что обзавелся таким чудесным спутником.
Через час впереди и вправду показался гребень нового водопада, еще более высокого, чем первый, а над ним возвышались такие же отвесные каменные стены; впрочем, на этот раз кое-где выдавались узкие уступы, и на них тонкий слой почвы, из которого росли какие-то кусты и даже деревья, красиво контрастируя ярко-зелеными кронами с пенным потоком внизу.
Тоби, возглавлявший нашу экспедицию, пошел на рекогносцировку. Вернувшись, он объявил, что справа уступы достаточно удобны и мы без особого труда и риска можем спуститься по ним к подножию водопада. Мы повернулись спиной к бурлящему гребню воды и поползли по покатым уступам, перебираясь с одного на другой, помогая друг другу или цепляясь за обнаженные корни каких-то растений. Но уступы становились все у´же, держаться на них было все труднее, пока наконец мы не увидели, что уступ, на котором мы очутились, впереди не расширяется, как мы надеялись, а, наоборот, обрывается вовсе и пройти дальше нет никакой возможности.
Тоби по-прежнему был впереди, и я молча ждал от него объяснений, как он думает преодолеть эту новую трудность.
– Ну, мой мальчик, – не выдержал я, когда прошло несколько минут, а он все еще не произнес ни слова, – что надо делать теперь?
Он спокойно ответил, что лучше всего, пожалуй, нам как можно скорее отсюда удалиться.
– Разумеется, мой милый Тоби, но как это сделать?
– Примерно вот таким манером, – ответил он и в тот же миг, к моему великому ужасу, боком соскользнул вниз и, на мой взгляд, просто чудом угодил на раскидистую верхушку пальмы, которая росла на одном из нижних уступов, выгнув кверху ствол и не доставая зеленой кроной футов двадцати до того места, где стояли мы. Я замер, ожидая, что сейчас мой друг, не удержавшись в ветвях дерева, провалится сквозь их хрупкую сферу и кувырком полетит дальше вниз. Этого, однако, к моему восторгу и удивлению, не произошло. Тоби прочно там зацепился и, раздвинув пострадавшие ветки, выглянул из своего зеленого гнезда. «Прыгай сюда! – весело крикнул он мне. – Смелее! Все равно другого выхода нет!»
Тут он нырнул в гущу листвы и, съехав по голому стволу, в следующее мгновение уже стоял между корней футах в пятидесяти подо мною на широком каменном уступе.
Чего бы я не отдал в ту минуту, чтобы стоять с ним рядом! То, что он только что у меня на глазах проделал, казалось мне едва ли не чудом, я просто глазам своим не верил – так велико было расстояние, которое он преодолел одним головокружительным прыжком.
Но Тоби кричал мне, подбадривая: «Давай, давай!» – и, чтобы окончательно не утратить мужества в сомнениях, я в последний раз примерился, закрыл глаза и с невнятным возгласом, долженствующим быть моей молитвой, наклонился над пропастью. Одно отчаянное мгновение, и я с треском вломился в гущу листвы, круша сучья и падая все ниже, покуда не застрял на какой-то толстой ветке.
Чуть погодя я уже стоял у подножия дерева, ощупывая себя и сгибая руки и ноги, чтобы выяснить, сколь велики полученные увечья. К моему удивлению, я отделался всего лишь несколькими пустяковыми ушибами, о которых не стоило и говорить. Дальше мы спустились без особого труда, а еще через полчаса, съев крохи нашего ужина и опять соорудив шалаш, устроились на ночлег.
Утром, как ни обессилены мы были и как жестоко ни терзали нас муки голода, хотя мы не признавались в этом друг другу, мы двинулись дальше по нашей темной и опасной дороге; нас поддерживала надежда, что еще немного – и впереди откроется долгожданная долина. Но вместо этого под вечер послышался отчетливый грохот нового водопада. Он уже давно звучал в ущелье глухим басовым аккомпанементом к мелодичному журчанию малых каскадов и перекатов, но теперь мы поняли, что приближаемся к чему-то грандиозному.
В сумерках мы остановились над обрывом в полных триста футов высотою, с которого одним, последним скачком срывалась черная масса воды. А внизу лежала долина – цель нашего путешествия. С обеих сторон водопад теснили гигантские отвесные стены скал, выходящие прямо в зеленое море долины, и точно такие же неприступные скальные бастионы замыкали ее широким полукругом. Над самым гребнем водопада сходились густые кроны каких-то деревьев, образуя зеленую амбразуру, сквозь которую, как в прекрасной раме, открывался чудесный вид вниз.
Итак, долина была перед нами. Но в нее вело вовсе не отлого спускающееся ложе потока, по которому мы до сих пор шли, и было очевидно, что все наши труды и старания должны пойти прахом. Но, горько разочарованные, мы все же не отчаивались.
Близилась ночь, и мы решили заночевать там, где остановились, с тем чтобы утром, подкрепившись сном и съев за один присест весь наш запас пищи, либо спуститься как-нибудь в долину, либо погибнуть, сорвавшись в бездну.
Я и теперь с содроганием вспоминаю, как мы устроились тогда на ночлег. Над самым водопадом, на небольшом каменном уступе, обдаваемом снопами брызг, застрял ствол дерева, занесенный туда, наверное, во время паводка. Он держался прислоненный к обрыву, нижним концом упираясь в край уступа. Мы уложили на него трухлявые обломки веток, в изобилии валявшиеся поблизости, сверху навалили листьев и под этим скатом-укрытием приготовились ждать наступления утра.
В ту ночь неумолчный грохот водопада, жалобный вой ветра в вершинах деревьев, шум дождя и глубокая, беспросветная тьма совсем подавили меня. Промокший, голодный, истерзанный мучившими меня болями, я скрючился на земле, без сил и без воли к сопротивлению, и даже мой товарищ поддался воздействию мрака и безнадежности и за всю ночь едва ли произнес два слова.
Наконец забрезжил рассвет, и мы, восстав с нашего жалкого ложа, размяв затекшие руки и ноги и съев весь оставшийся у нас хлеб, приготовились к последнему спуску.
Сколько раз мы оказывались на волосок от гибели, какие фантастические трудности преодолевали – всего этого я описывать не буду. Достаточно сказать, что после многих мучительных трудов и жестоких опасностей мы с Тоби, живые и относительно невредимые, очутились наконец в той самой долине, которая пять суток назад пленила нас своей роскошной панорамой, под тем самым обрывом, с которого она тогда вдруг открылась нашему взору.
X
Первой нашей заботой было найти, где растут плоды, которых здесь должно быть в избытке.
Тайпи или Хаппар? Что нас ждет: ужасная смерть от рук кровожадных людоедов или радушный прием миролюбивых дикарей, – бесполезно, да и поздно сейчас было размышлять о том, что все равно должно скоро разъясниться.
Этот конец долины показался нам необитаемым. Он весь был покрыт густыми непроходимыми зарослями, и в них не видно было ни одного из тех деревьев, на плоды которых мы так твердо рассчитывали. И мы зашагали вниз по течению ручья, обшаривая глазами его заросшие берега.
Мой товарищ, хотя замысел спуститься в долину принадлежал ему, стал проявлять осторожность, которой я от него никак не ожидал. Он предложил, чтобы мы, как только найдем съедобные плоды, остались возле них в этом необитаемом конце долины, где нам меньше угрожает встреча с местными жителями, кто бы они ни были, и не двигались дальше, пока достаточно не отдохнем и не окрепнем. Потом, запасшись необходимым количеством провианта, мы легко сможем перебраться в Нукухиву, дождавшись того времени, когда будем уверены, что наш корабль уже ушел.
Но я не согласился с его планом, каким бы разумным он ни представлялся на первый взгляд. Не зная местности, мы не нашли бы дороги на Нукухиву – я напомнил Тоби наши только что окончившиеся мучительные скитания. Словом, я утверждал, что раз уж мы решили спуститься в долину, то должны довести дело до конца и встретиться с ее обитателями, кто бы они ни были, тем более что у нас и выбора-то не было, нам оставалось только ввериться их гостеприимству; что до меня лично, объявил я, то мне необходим кров и отдых, без этого я совершенно неспособен к новым испытаниям, вроде тех, что мы только что перенесли. И с этим Тоби не мог не согласиться.
К нашему удивлению, сколько мы ни шли, справа и слева от нас тянулись все те же непроходимые чащи. Но я был уверен, что рано или поздно начнутся прогалины, и сговорился с Тоби, что мы будем высматривать, каждый со своей стороны, просветы в кустах, малейшие намеки на тропинку или что-нибудь еще, говорящее о присутствии туземцев.
Какими настороженными, жадными взорами пронизывали мы тенистые заросли! С каким замирающим сердцем шли вперед, понимая, что в любой момент нас может приветствовать из засады дротик затаившегося дикаря. Наконец мой товарищ, остановившись, указал мне на узкий просвет в листве. Мы свернули и вскоре по едва приметной тропе вышли на поляну, в дальнем конце которой росло несколько деревьев под местным названием аннуи, приносящих, как мы знали, сочные чудесные плоды.
Мы со всех ног бросились через поляну. Странная это была гонка: я с горем пополам тащился, хромая и припрыгивая, как дряхлый инвалид, а Тоби несся вперед, словно гончий пес. Он в три прыжка очутился под деревом, на котором висело несколько плодов, но, к великому нашему сожалению, они оказались сильно перезрелыми; кожура растрескалась, и сердцевина поклевана птицами. Тем не менее мы тут же их съели, и божественный нектар не показался бы нам вкуснее.
Потом мы огляделись, не зная, в какую сторону направить дальше шаги. Тропа, приведшая нас сюда, кончилась. Подумав, мы решили свернуть в рощу, зеленевшую невдалеке, но, не пройдя и сотни ярдов, я остановился как вкопанный: на опушке валялся зеленый молодой побег хлебного дереза, с которого, как видно, только что содрали нежную кору, – он был еще мокрый от сока, и казалось, его сию минуту бросили на землю. Я молча протянул Тоби этот неоспоримый знак близости туземцев.
Деревья росли здесь довольно густо. Через несколько шагов я увидел на земле целую связку таких же побегов, схваченных узкой полоской коры. А что, если ее бросил здесь какой-то бродивший в одиночестве дикарь, спугнутый нашим появлением и поспешивший прочь оповестить о нем своих соплеменников? Кто он, тайпиец или хаппарец? Однако отступать было поздно, и мы медленно двинулись дальше. Тоби шел впереди, бросая по сторонам под деревья настороженные взгляды. Вдруг я увидел, что он отпрянул назад, словно ужаленный змеей. Упав на колени, он одной рукой сделал мне знак остановиться, а другой раздвинул пышные ветви, загораживавшие от него какой-то необыкновенно интересный вид.
Я пренебрег его молчаливым запретом и, быстро подойдя туда, где он притаился, разглядел сквозь густую листву две человеческие фигуры: они стояли рядом, почти скрытые зеленью и совершенно неподвижные. Очевидно, они раньше заметили нас и спрятались в чаще.
Я сразу же принял решение. Выпустив из рук палку, я раскрыл сверток, в котором лежали захваченные нами с корабля вещи, и, развернув и перекинув через руку кусок пестрой ткани, вышел из кустов. Тоби я велел следовать за собой и, в знак миролюбия размахивая над головой зеленой веточкой, двинулся к стоявшим в отдалении людям.
Это оказались юноша и девушка, тонкие, стройные и совершенно нагие, если не считать узких поясов из древесной коры, с которых впереди и сзади свисали красные листья хлебного дерева. Одна рука юноши лежала на плечах девушки, скрытая ее густыми волосами, в другой он держал ее руку. Так они стояли бок о бок, наклонив голову, настороженно прислушиваясь к звуку наших шагов и выставив вперед одну ногу, вот-вот готовые сорваться с места и убежать.
Чем ближе мы подходили, тем явственнее становилась их тревога. Опасаясь их спугнуть, я остановился и стал делать им знаки приблизиться самим и принять от нас подарки. Они не пошевелились. Тогда я произнес несколько известных мне слов на их языке, не рассчитывая быть понятым, но надеясь показать им хотя бы, что мы не с неба свалились. И действительно, они как будто слегка успокоились, и я сделал еще несколько шагов, одной рукой протягивая им ткань, а в другой держа ветку. Они так же медленно отступали. Но в конце концов они подпустили нас к себе настолько, что мы смогли набросить им на плечи наш кусок ситца, давая им понять, что он теперь принадлежит им, и всевозможными жестами выражая наше к ним глубочайшее расположение.
Они стояли как зачарованные, пока мы из сил выбивались, чтобы внушить им, что нам от них нужно. Тоби разыграл перед ними целую пантомиму: он разевал рот до ушей, совал себе в глотку пальцы, скрежетал зубами и вращал глазами, так что испуганная парочка, наверное, сначала решила, что два белых людоеда готовятся их сожрать. Потом они как будто поняли, чего мы хотим, но готовности выполнить наши пожелания не выказали. Тут вдруг хлынул дождь, и мы стали жестами просить, чтобы нас отвели куда-нибудь, где можно укрыться от непогоды. Они поддались на наши бессловесные уговоры, но, идя впереди нас, весьма недвусмысленно проявляли страх, то и дело озираясь, разглядывая нас и следя за каждым нашим движением.
– Ну, Тоби, Тайпи или Хаппар? – спросил я, шагая вперед.
– Разумеется, Хаппар, – ответил мой друг уверенным тоном, пытаясь скрыть свои собственные сомнения.
– Ладно, сейчас увидим, – сказал я и, нагнав наших проводников, произнес вопросительным тоном оба эти имени, указывая пальцем в долину. Необходима была ясность, и немедленно. Но они в ответ принялись безо всякого выражения повторять вслед за мной эти два слова, и я был совершенно сбит с толку (уже впоследствии мы узнали, сколько было в этом сознательного коварства).
Желая во что бы то ни стало узнать, что нас ждет, я не отступался и выговорил с вопросительной интонацией два слова: «Хаппар» и «мортарки», из которых второе примерно равнозначно слову «хороший». Тут мои собеседники многозначительно переглянулись и выразили на лице недоумение. Но когда вопрос был повторен, они, посовещавшись, к великой радости Тоби, ответили утвердительно. Он пришел в невероятный восторг, потому что они не ограничились просто ответом, а без конца и весьма убедительно его повторяли, как бы говоря этим, что здесь, среди хаппарцев, мы можем считать себя в полной безопасности.
Я тоже, хоть кое-какие сомнения у меня еще оставались, выразил при этом известии удовольствие, а Тоби – тот разыграл новую пантомиму, красочно представляя наше отвращение к тайпийцам и бесконечную любовь к милым добрым хаппарцам. Между тем наши провожатые смущенно переглядывались, видимо обескураженные нашим странным поведением.
Потом они пошли дальше; мы поспешили за ними. Вдруг, совершенно для нас неожиданно, они испустили какой-то странный протяжный вопль, и он был подхвачен несколькими голосами за рощей. В следующее мгновение мы очутились на большой поляне. На ее дальнем конце мы увидели длинное низкое строение и перед ним – группу девушек. Едва завидев нас, они с визгом разбежались и попрятались в кустах, как испуганные косули. И вот уже вся окрестность зазвенела громкими голосами, и на поляну со всех сторон сбежались местные жители.
Вторгнись на их территорию вражеская армия, они и тогда бы, наверное, всполошились не больше. Скоро нас окружило плотное кольцо людей, которые, желая разглядеть нас, почти не давали нам идти; не меньше народу обступило наших юных провожатых, и те на редкость торопливой скороговоркой живо излагали, надо полагать, обстоятельства встречи с нами. Каждая новая подробность вызывала, видимо, у островитян все большее изумление. На нас бросали недоуменные взгляды.
Наконец мы приблизились к большому красивому сооружению из бамбука, и нам сделали знак войти. Туземцы расступились перед нами, мы двинулись по образовавшемуся проходу и вступили в дом. Войдя, мы без дальних церемоний повалились на устланный циновками пол и растянулись, предвкушая отдых для своих измученных тел. Но не прошло и минуты, как легкое строение наполнилось людьми, а те, кто не поместились и остались снаружи, глазели на нас сквозь прорехи в бамбуковых стенах.
Был уже вечер, и в сумерках мы могли смутно различить обступившие нас свирепые физиономии, горящие любопытством глаза, голые татуированные тела могучих воинов, кое-где тонкие фигуры девушек; все были вовлечены в настоящую бурю разговоров, единственной темой которых были, конечно, мы. Тут же были наши недавние провожатые, отвечавшие на бесконечные вопросы своих соплеменников. Вряд ли что-нибудь может сравниться с яростной жестикуляцией этих людей, когда они увлечены разговором; а в тот вечер они дали волю своему природному темпераменту и кричали и плясали от возбуждения, так что мы не на шутку перепугались.
Поблизости от того места, где мы лежали, сидели на корточках человек десять величавых старцев, очевидно вождей – как впоследствии и оказалось, – и, будучи гораздо сдержаннее остальных, разглядывали нас внимательно и сурово. От их ровных пристальных взглядов нам было очень не по себе. Один из них, судя по всему верховный вождь, уселся прямо лицом к лицу со мной, и перед его каменными чертами я затрепетал. Он ни разу не растворил плотно сжатых губ, а просто глядел и глядел, не сводя с меня глаз. Мне никогда не приходилось встречать такого взгляда; он никак не выдавал того, что было на уме у старого дикаря, но меня, казалось, проницал насквозь.
Нервы у меня не выдержали, и, чтобы по возможности прекратить эту муку, а заодно завоевать расположение военачальника, я вытащил из-за пазухи пачку табаку и протянул ему. Он невозмутимо отклонил мой дар и знаком повелел убрать его назад.
Из моего прежнего общения с жителями Нукухивы и Тиора я знал, что, получив в подарок пачку табаку, любой из них будет служить тебе верой и правдой. Что же тогда этот жест вождя – знак вражды? «Тайпи или Хаппар?» – мысленно спрашивал я себя.
Я вздрогнул, потому что в ту же минуту тот же самый вопрос задал мне он – сидевший напротив меня загадочный человек. Я взглянул на Тоби: в дрожащих лучах туземного светильника его лицо при этом роковом вопросе вытянулось и позеленело. Я замер на миг и, подчиняясь бог весть какому наитию, ответил: «Тайпи!» Черное изваяние передо мной зашевелилось, кивнуло и пробормотало: «Мортарки».
– Мортарки, – подхватил я без дальнейших колебаний. – Тайпи мортарки!
Что тут вдруг произошло! Темные сидящие фигуры сразу выпрямились, повскакали, восторженно захлопали в ладоши, снова и снова выкрикивая эту сакраментальную фразу, очевидно разрешившую все затруднения.
Когда всеобщее ликование несколько поутихло, верховный вождь снова уселся на корточки передо мною и, неожиданно распалясь, произнес длинную филиппику, направленную, как я без труда понял по часто встречавшемуся в ней слову «Хаппар», против жителей соседней долины. На все его возмущенные речи мы с Тоби согласно кивали, а затем и сами выступили с восхвалением воинственного племени Тайпи. Правда, наш панегирик отличался определенной лаконичностью, поскольку состоял лишь из многократно повторенного этого славного имени в сочетании с красочным эпитетом «мортарки». Однако этого оказалось довольно, чтобы завоевать расположение туземцев, которых, как видно, ничто так не подкупало в нас, как наше с ними полное единодушие в этом серьезном вопросе.
Наконец запас ярости вождя истощился, и он снова сделался спокоен и невозмутим. Положив ладонь на грудь, он дал мне понять, что его зовут Мехеви и что он также желает узнать мое имя. Я подумал, что, пожалуй, мое настоящее имя ему не выговорить и, руководствуясь самыми лучшими побуждениями, назвался ему просто-напросто Томом. Однако выбор мой оказался крайне неудачным; как он ни бился, овладеть этим словом ему не удалось. У него получалось: «Томмо», «Томма», «Томми» – все что угодно, но не «Том». Поскольку он упорствовал в желании украсить мое имя добавочным слогом, я пошел на компромисс, и мы остановились на варианте «Томмо» – под этим прозвищем я значился все время нашего пребывания в долине Тайпи. То же повторилось с Тоби, но его благозвучная кличка была усвоена тайпийцами без труда.
Обмен именами у этих простодушных людей равнозначен подписанию договора об установлении добрых дружеских отношений. Мы это знали и потому особенно радовались.
Разлегшись на циновках, мы теперь устроили своего рода дипломатический прием, давая аудиенцию всем туземцам, которые по очереди группами подходили к нам, представлялись и, выслушав в ответ наши имена, отходили чрезвычайно довольные. В продолжение всей этой церемонии среди туземцев царило большое веселье, чуть не каждая реплика сопровождалась новыми взрывами смеха, и это навело меня на мысль, что кое-кто из них, должно быть, подсмеивается над нами и потешает честную компанию, награждая себя рядом вымышленных титулов, с остроумием, которого мы с Тоби оценить не могли.
На все это ушло около часа. Наконец толпа начала редеть, и тогда я обратился к Мехеви и дал ему понять, что мы нуждаемся в пище и отдыхе. Любезный вождь тут же произнес несколько слов, кто-то из туземцев выбежал вон и через две минуты возвратился, держа в руках сухую тыкву со знаменитым кушаньем пои-пои и три или четыре молодых кокосовых ореха, очищенных от шелухи, с надбитой скорлупою. Мы оба поспешно поднесли к губам эти естественные кубки и осушили их в несколько освежающих глотков. Затем перед нами была поставлена пои-пои, однако, как ни голодны мы были, мы все же не сразу на нее набросились, ибо не знали, как ее едят.
Это главное кушанье обитателей Маркизских островов изготовляется из плодов хлебного дерева. Оно напоминает густой клей, каким пользуются у нас в переплетном деле, имеет желтый цвет и на вкус слегка терпко.
Таково было угощение, достоинства которого мне не терпелось исследовать. Несколько мгновений я взирал на него в замешательстве, потом не выдержал и, отбросив всякие церемонии, погрузил ладонь прямо в мягкую массу, а затем вытащил, к бурному восторгу туземцев, всю в липкой пои-пои, длинными нитями тянущейся с каждого пальца. Эта пои-пои оказалась такой клейкой и тягучей, что, поднеся облепленную руку ко рту, я тем самым едва не вытянул все содержимое из тыквенной миски на пол. Такая неловкость, проявленная и мной, и моим другом Тоби, вызвала у наших зрителей настоящие судороги смеха.
Когда всеобщее веселье немного улеглось, Мехеви, сделав нам знак внимательно следить за ним, торжественно опустил в миску указательный палец правой руки и, совершив быстрый, тонко рассчитанный поворот, вытащил его покрытым толстым слоем этого питательного месива. Вторым вращательным движением, не дав ни капли пои-пои отвалиться, он поднес палец ко рту, куда его тут же и погрузил, через мгновение вынув совершенно чистым. Все это он, как видно, проделал в назидание нам. Я попытался действовать в согласии с преподанными правилами, но успеха не добился.
Впрочем, голодный человек не склонен особенно заботиться о приличиях, тем более на каком-то богом забытом острове. И потому мы с Тоби в конце концов поужинали на свой корявый лад, перемазав при этом липкой кашей себе лицо и по самое запястье погружая в месиво руку. Блюдо это вполне приемлемо на вкус европейца, только способ, каким его едят, поначалу может не понравиться. Я, например, уже через несколько дней свыкся с его своеобразным привкусом и питал к нему с тех пор необыкновенную любовь.
После первой перемены нам подавали и другие блюда, из которых иные я нашел просто восхитительными. В заключение пиршества мы с Тоби опрокинули еще по кокосу, после чего долго услаждали себя ароматным табачным дымом, который вдыхали через замысловато выгнутую трубку, ходившую по кругу.
Пока мы ели, островитяне разглядывали нас с превеликим любопытством, замечая малейшие наши жесты и, видимо, находя для себя очень много интересного, так как всякий пустяк подвергали многословному обсуждению. Так, удивлению их не было предела, когда у них на глазах мы начали стаскивать с себя промокшие тяжелые одежды. Потрясенные, они рассматривали наши белые тела, так необъяснимо отличающиеся цветом от наших же смуглых лиц, пропеченных дочерна за полгода работы на экваторе. Они щупали нашу кожу, как торговец шелками щупает образцы особо тонкого атласа; а кое-кто в своих изысканиях зашел так далеко, что воспользовался даже органом обоняния.
Такое необычное поведение заставило меня сначала предположить, что они вообще никогда не видели белого человека; но это, как я тут же понял, было бы просто невероятно: впоследствии я нашел этим их странностям более правдоподобное объяснение.
Дело в том, что корабли европейцев, запуганных ужасными рассказами о тайпийцах, не заходили к ним в бухту, а враждебные отношения с соседними племенами не позволяли им посещать другие долины, где обычно можно застать стоящие на якоре суда. Только изредка какой-нибудь отважный капитан бросал якорь у входа в их залив и отправлял к берегу две-три вооруженные шлюпки и переводчика. Обитатели прибрежной полосы издалека замечают гостей и, хорошо зная цель их прибытия, громогласно оповещают о нем остальных. С помощью особого рода голосового телеграфа весть эта в невообразимо короткий срок передается в дальние уголки долины, и все ее население собирается на берегу, стаскивая к воде горы плодов и фруктов. Переводчик – обычно это «канака табу»[2] – выскакивает на песок с товарами, предназначенными к обмену, между тем как шлюпки с веслами в уключинах, с гребцами на местах держатся поблизости, готовые при первом же подозрительном движении унестись в открытое море. Лишь только сделка заключена, одна из шлюпок подходит вплотную к берегу и под надежным прикрытием мушкетов с других шлюпок быстро загружается вымененными плодами, после чего мимолетные гости спешат удалиться из таких опасных, по их справедливому суждению, вод.
Неудивительно, что после столь поверхностного и краткого знакомства с другими европейцами жители долины Тайпи выказали такое повышенное любопытство в отношении нас, когда мы неожиданно очутились в их среде. Не сомневаюсь, что мы были первыми белыми людьми, проникшими в их долину на такое расстояние, во всяком случае первыми, пришедшими с внутренней стороны. Как мы там очутились, этого они не могли взять в толк, и мы, весьма слабо владея их языком, не умели им объяснить. В ответ на все их недоумения, выраженные в таких красноречивых жестах, что не понять их было нельзя, мы смогли только ответить, что прибыли из Нукухивы, с жителями которой, как помнит читатель, у них была прямая война. Такое известие заметно их переполошило. «Нукухива мортарки?» – спрашивали нас. И разумеется, мы, как могли, поспешили ответить отрицательно.
После этого нас засыпали сотнями вопросов, из которых мы только поняли, что речь идет о французах, яростно ими ненавидимых. Им так нужны были какие-то о них сведения, что многие продолжали задавать вопросы даже тогда, когда стало уже совершенно ясно, что мы на них ответить не в силах. Только иногда мы как будто угадывали общий смысл какого-нибудь вопроса и тогда изо всех сил старались как-то сообщить то, что знали сами. Это их приводило в восторг, и попытки объясниться с нами возобновлялись. Но все было бесполезно; под конец они отчаялись и стали смотреть на нас с досадой, как на кладезь сведений полезных, но недоступных.
Вскоре толпившийся вокруг нас народ начал понемногу расходиться, и к полуночи мы были оставлены наедине с теми, кто обитал в этом доме. Наши хозяева постелили нам свежие циновки, укрыли нас сложенными несколько раз кусками тапы, а потом, задув горевшие светильники, улеглись рядом с нами и, перекинувшись друг с другом двумя-тремя фразами, уснули крепким сном.
XI
Сложными и противоречивыми были мысли, одолевавшие меня в те безмолвные часы, что последовали за событиями, описанными в предыдущей главе. Тоби, измученный путешествием, спал подле меня тяжелым беспробудным сном; но мне неотступно терзавшая боль не давала сомкнуть глаз, и все немыслимые сложности нашего теперешнего положения сохраняли для меня пугающую реальность. Возможно ли, что мы после всех мук и лишений действительно попали в ужасную долину Тайпи и находимся в руках ее жителей, свирепого, беспощадного дикарского племени?
Тайпи или Хаппар? Я содрогался, сознавая, что никаких сомнений больше не было, что мы пропали, что с нами случилось именно то, о чем одна лишь мысль еще недавно внушала нам такой ужас. Что нас ждало теперь? Правда, до сих пор ничего плохого нам не сделали, наоборот, нас приняли радушно и любезно. Но можно ли полагаться на переменчивые страсти, пылающие в груди дикаря? Его непостоянство и коварство общеизвестны. Что, если под этой любезной внешностью островитяне скрывают какой-нибудь кровожадный замысел и дружелюбный прием их – всего лишь прелюдия к жестокой расправе? Всю ночь меня неотступно преследовали ужасные опасения, и я лежал без сна на ложе из циновок, а справа и слева от меня смутно темнели спящие фигуры тех, кого я так боялся.
Под утро среди этих страшных мыслей я забылся тревожной дремотой; мне приснился какой-то жуткий сон, и я, вздрогнув, проснулся: прямо надо мной склонялись возбужденные дикарские лица.
Было уже совсем светло; я увидел, что в дом набилось множество молодых женщин в пышных уборах из цветов, и они-то и разглядывали меня с детским восторгом и интересом, живо отражавшимся на их физиономиях. Разбудив также и Тоби, они уселись в кружок на циновки и дали волю любопытству, каким с незапамятных времен славился прекрасный пол.
Над этими резвыми молодыми созданиями не было никакого надзирающего ока, и они вели себя совсем безыскусно, нимало не заботясь о сдержанности и приличии. Нас почтили таким пристальным и тщательным разглядыванием и так при этом искренне веселились, что я чувствовал себя последним дураком, а Тоби подобная бесцеремонность привела в совершенную ярость. В то же время юные леди держались с отменной любезностью и вниманием: отгоняли от нас мух, одаривали разными угощениями и от души сочувствовали мне в моих недугах. Однако, несмотря на все их льстивые уловки, мое чувство благопристойности было глубоко оскорблено – я был убежден, что они нарушают неоспоримые законы скромности.
Навеселившись вволю, наши прелестные гостьи удалились, и на смену им стали появляться группы мужчин, сменявшие один другого чуть не до полудня, когда, пожалуй, бо`льшая часть обитателей долины с нашего милостивого согласия уже искупалась в лучах нашей славы.
Наконец толпа посетителей поредела, и у входа появилась могучая фигура какого-то воина, он пригнул украшенную высоким убором из перьев голову и вошел. По тому, с каким почтением встретили его туземцы, с какой поспешностью расступились перед ним, я сразу понял, что это – важное лицо. Вид его был величав. Над головой из густой шапки коротких пестрых перьев колышущейся аркой вздымались длинные хвостовые перья какой-то тропической птицы, вставленные в шитый бисером обруч, который стягивал ему лоб. Шею обвивало в несколько нитей тяжелое ожерелье из кабаньих клыков, отполированных, как слоновая кость, и нанизанных в таком порядке, чтобы самые длинные и большие лежали посреди его широкой груди. А сквозь огромные отверстия в мочках ушей торчали два покрытых мелкой замысловатой резьбой кашалотовых зуба корневыми впадинами вперед, и в них вставлены были свежие листья. Эти варварские серьги, украшенные зеленью с широкого конца и заканчивающиеся изогнутыми остриями, очень напоминали два маленьких рога изобилия.
Чресла воина были препоясаны тяжелыми складками тапы с кистями спереди и сзади, а руки и ноги его украшали браслеты из человеческих волос, довершавшие роскошный наряд. В правой руке он держал красивое резное копье-весло без малого пятнадцати футов длиною, вырезанное из полированного дерева коар: на одном конце его было смертоносное острие, а на другом – плоское расширение вроде лопасти весла. На поясе в петле из лианы наискось висела богатая трубка; тонкая тростинка черенка была выкрашена красной краской и увита, так же как и чашечка, изображавшая какого-то идола, лентами прозрачной тапы.
Но всего примечательнее в наружности этого превосходного воина была изощренная татуировка, покрывавшая с головы до ног все тело. Всевозможные линии, завитки и геометрические фигуры испещряли его кожу, замысловатым многообразием напоминая разве что сложные узоры дорогих кружев. Самый простой и удивительный орнамент украшал его лицо. Татуировка шла двумя широкими полосами, которые расходились от бритой макушки наискось, захватывая глаза, покрывая веки и оканчиваясь пониже ушей, где они сливались с нижней прямой полосой, которая тянулась через рот, образуя основание своего рода треугольника. Этот воин, судя по великолепному сложению, безусловно, принадлежал к высшему сословию природы, и возможно, что рисунок на его лице как раз и был знаком такового отличия.
Грозный гость молча уселся неподалеку от нас с Тоби, и остальные дикари стали выжидательно и нетерпеливо поглядывать то на него, то на нас. Между тем внимательно присматриваясь к лицу вождя и восхищаясь его разрисовкой, я нашел, что черты его мне отдаленно знакомы. И только когда он обратил прямо ко мне свои заштрихованные глаза, я узнал неподвижный загадочный взгляд, под которым мне было так не по себе вчера, – передо мной сидел Мехеви, хотя и преображенный. Я назвал его по имени. Он сейчас же подошел ко мне с самым дружеским видом, очень довольный тем впечатлением, какое произвел на меня его варварский убор.
Тогда-то я и решился во что бы то ни стало завоевать расположение почтенного вождя, чувствуя, что он обладает властью над соплеменниками и что дальнейшая наша судьба во многом зависит от него. Он отнесся ко мне благосклонно, выказывая в общении со мною и моим товарищем дружелюбие необычайное. Растянувшись могучим телом на полу подле нас, он всячески старался выразить свои к нам добрые чувства. А из-за того, что изъясняться друг с другом мы почти не могли, горю его не было предела. Он дал нам понять, что всем сердцем жаждет просветиться относительно обычаев и порядков, царящих в той далекой стране, из которой мы, по его мнению, прибыли и которую он многократно поминал в своих речах под именем Маника.
Но всего более его занимали «франи», как он называл французов, стоящих в бухте Нукухива. Эта тема была неисчерпаема, он мог расспрашивать о них без конца. Но мы сумели только ему сообщить, что в то время, когда мы покинули территорию их врагов, в гавани стояло шесть французских военных кораблей. Услышав это известие, Мехеви с помощью пальцев произвел ряд сложных подсчетов, очевидно выясняя, сколько всего французов в эскадре.
В самый разгар этих математических операций Мехеви вдруг заметил мою распухшую ногу. Он тут же осмотрел ее с величайшим вниманием и немедленно отправил с каким-то поручением оказавшегося поблизости мальчика.
По прошествии некоторого времени юнец возвратился в сопровождении дряхлого старца – настоящего туземного Гиппократа. Голова его была гола, как скорлупа кокоса, каковую в точности напоминала также цветом и лоском, длинная седая борода свисала до самого пояса. На лбу лежал венок, свитый из листьев дерева ому, листья спускались прямо на глаза, защищая, вероятно, его слабое зрение от ослепительных лучей солнца. По-старчески семеня, он опирался на длинный тонкий посох, напоминавший мне волшебный жезл, с каким у нас выходят на сцену театральные колдуны. В другой руке он держал зеленый веер из только что сплетенных молодых кокосовых побегов. А с плеч его свободными складками свисала разноцветная мантия из тапы, придавая особое величие его согбенной фигуре.
Мехеви приветствовал старца и, усадив его между собой и мной, открыл ему мою ногу и пригласил начать осмотр. Знахарь перевел с меня на Тоби испытующий взгляд, а затем приступил к делу. Внимательно оглядев мою многострадальную конечность, он перешел к ощупыванию и, полагая, видимо, что опухоль сделала ее совершенно нечувствительной, стал мять ее и щипать с такой силой, что я буквально взвыл от боли. Я решил, что щипками и шлепками я и сам могу лечиться, и попробовал отклонить его услуги. Но вырваться из когтей старого чародея оказалось нелегко – он вцепился в мою ногу, будто всю жизнь только о ней и мечтал, и, бормоча какие-то заклинания, продолжал свое черное дело, барабаня по ней так, что я едва с ума не сошел от боли, а тем временем Мехеви, руководствуясь, очевидно, такими же соображениями, по каким любящая мамаша удерживает свое орущее чадо в зубоврачебном кресле, заключил меня в могучие объятия, предоставляя злодею продолжать свои пытки.
Ошалев от ярости и боли, я вопил как полоумный, а Тоби, словно искусный танцор и мим, пытался жестами и гримасами выразить туземцам свой гневный протест против такого обращения – движимый состраданием и тщась положить конец моим мукам, он являл собою воплощенную азбуку глухонемых. Наконец, то ли мой мучитель внял убеждениям Тоби, то ли просто выбился из сил, не знаю – он вдруг прекратил эту лечебную процедуру, Мехеви при этом разжал объятия, и я повалился на пол, измученный и задыхающийся после перенесенных страданий.
Несчастная моя нога была теперь приблизительно в таком же состоянии, как отбивная котлета, перед тем как попасть на сковороду. А лекарь, передохнув и, видимо, желая загладить свою вину передо мной, извлек теперь какие-то травы из висевшего у него на поясе мешочка и, размочив их в воде, стал прикладывать к моей воспаленной конечности, наклоняясь при этом над нею и не то шепча некие заклинания, не то ведя продолжительную задушевную беседу со злым духом, расположившимся на жительство у меня в лодыжке. Когда нога моя была основательно запеленута листьями, я, посылая хвалу Богу по случаю окончания военных действий, был с миром отпущен на свободу.
Вскоре Мехеви собрался уходить, но, перед тем как нас покинуть, он что-то приказал одному из туземцев, которого назвал Кори-Кори, и, насколько я мог уразуметь, поручил меня ему как человеку, чья обязанность отныне – ухаживать за моей особой. А может быть, я тогда еще ничего не уразумел, и только последующее поведение моего верного телохранителя убедило меня, что речь шла именно об этом.
Мне все-таки смешно было, когда почтенный вождь обратился ко мне с длинной речью и торжественно говорил, наверное, минут двадцать, как будто я понимал хоть одно его слово. Такую странность я замечал впоследствии за многими туземцами.
Наконец Мехеви ушел, удалился и престарелый врачеватель, и на закате мы с Тоби остались только в обществе тех десяти – двенадцати человек, которые, как мы поняли, вместе с нами составляли население этого дома. А поскольку в этом доме я жил все время, пока оставался в долине, и, естественно, был с его жителями в самых близких отношениях, будет, пожалуй, весьма кстати, если я опишу всех домочадцев. Тем самым можно получить некоторое представление вообще о жилищах в долине и ее обитателях.
Примерно на половине склона, поросшего густой зеленью, в несколько слоев уложены большие камни, образуя ровную площадку футов в восемь высотой, отвечающую контурам расположенного на ней дома, но несколько шире, особенно перед входом, где таким образом получается обнесенная оградой из прутьев своего рода узкая веранда. Туземцы называют это каменное сооружение пай-пай. Каркас самого дома составляют укрепленные отвесно толстые бамбуковые стойки с распорками из легких прутьев хибискуса, прихваченных лыковыми тяжами. Задняя стена строения, сплетенная из кокосовых ветвей так, что их листья хитрым образом перемежаются с прутьями, слегка наклонена наружу и подымается над уровнем пай-пай футов, наверное, на двадцать, откуда начинается односкатная крыша из длинных заостренных пальмовых листьев, которая круто спускается на переднюю стену и обрывается в пяти футах от пола. Концы кровельных листьев свисают со стрехи кистями по всему фасаду – изящно плетенной решетке из легкого блестящего тростника, перевитого разноцветной травой. Торцовые стены тоже решетчатые. Таким образом весь дом с трех сторон открыт и при этом совершенно непроницаем для дождя. В длину наше живописное жилище имело, наверное, двадцать ярдов, а в ширину – едва ли двадцать футов.
Таков был наружный вид этого строения, напоминавшего мне своими плетеными стенами обнесенный железной сеткой птичий двор.
Внутрь через низкое и узкое отверстие входили пригнувшись, и прямо перед вами оказывались два ровных и длинных – во всю длину дома – кокосовых ствола: один лежал вплотную у задней стены, другой – на два шага отступя, и все пространство между ними завалено пестрыми циновками самых разных цветов и узоров. Это было общее ложе, нечто вроде восточного дивана. Здесь туземцы спали ночью и возлежали в блаженном безделье бо`льшую часть дня. В остальной части дома пол блестел холодными каменными плитами, из которых слагалась пай-пай.
Со стропил свисали разнообразной величины свертки из грубой тапы – в них хранились праздничные одеяния и другая одежда, высоко местными жителями ценимая. Доставали все это благодаря простейшему приспособлению с веревкой: одним ее концом был обвязан сверток, а другой, пропущенный через стропило, тянулся к боковой стене, где и закреплялся так, чтобы без труда можно было поднять или опустить все, что висело под потолком.
На задней стене были живописно развешаны всевозможные копья, дротики и другие предметы военного обихода. Снаружи на площадке перед домом стоял небольшой сарайчик – своего рода кладовка, где хранилась хозяйственная утварь, и еще чуть подальше под большим навесом из кокосовых листьев готовили пои-пои и производились все прочие кулинарные действа.
Таков был этот дом со всеми служебными пристройками – нельзя не согласиться, что для жителей острова более подходящего и удобного жилища по тому климату не придумаешь. В нем было прохладно, безупречно чисто и вдоволь свежего воздуха, а каменная площадка поднимала его над сыростью и грязью земли.
Каковы же были его обитатели? Здесь я позволю себе первое место уделить моему умелому и верному слуге и опекуну Кори-Кори. Поскольку характер его будет постепенно раскрываться в ходе моего повествования, я ограничусь лишь наброском его наружности. Кори-Кори, этот, безусловно, самый преданный и самый добродушный человек на свете, был, увы, с виду настоящее страшилище. Лет двадцати пяти от роду, крупный и здоровый, он тем не менее выглядел просто черт знает как. Его круглый череп был весь выбрит наголо, кроме двух небольших участков по обе стороны макушки, – из них росли волосы необычайной длины, закрученные в тугие торчащие узлы, из-за чего казалось, будто голова его украшена парой черных рогов. Борода на всем лице была выщипана с корнем и только свисала двумя косицами с верхней губы и двумя – с углов подбородка.
Но Кори-Кори, желая, видимо, внести дальнейшие усовершенствования в дела природы и прибавить себе обаяния, счел необходимым украсить свою физиономию тремя широкими меридиональными полосами татуировки, и они, подобно проселочным дорогам, которым никакие неровности и преграды нипочем, проходили прямо по его носу, ныряли в глазницы и чуть ли не залезали в рот. Каждая пересекала лицо от уха до уха – одна на уровне глаз, другая – через нос, третья – перекрывая губы. Физиономия его, перетянутая татуировкой, как бочка тремя обручами, всегда напоминала мне тех несчастных, что с тоской глядят на мир сквозь тюремную решетку, тогда как тело моего дикого камердинера, сверху донизу испещренное изображениями птиц, рыб и всевозможных небывалых существ, наводило на мысль о музее естественной истории или же об иллюстрированном издании голдсмитовской «Одушевленной природы».
Впрочем, разве не бессердечие это с моей стороны так писать о бедном островитянине, неустанным заботам которого я, быть может, обязан жизнью? Кори-Кори, я ничего обидного не хочу сказать о твоей наружности, просто вид твой для моего непривычного глаза был странен, потому я о нем и распространился. Но забыть или недооценить твою верную службу – в этом я никогда не буду повинен, какие бы головокружительные перемены со мной в жизни ни происходили.
Отцом приставленного ко мне оруженосца был человек великанского телосложения, славившийся некогда сказочной силой. Но теперь его могучий торс поддался разрушительным набегам времени, хотя рука болезни ни разу, я думаю, не коснулась престарелого воина. Мархейо – так его звали – удалился от участия в делах обитателей долины, почти никогда не сопровождал их в бесчисленных походах и едва ли не все время был занят сооружением какой-то лачуги за домом – у меня на глазах он прокопался там четыре месяца без каких-либо заметных результатов. Боюсь, что он впал в детство, во всяком случае я замечал за ним немало признаков, характерных для этой стадии нашей жизни.
Помню в особенности, как он возился с парой драгоценных ушных украшений из зубов какого-то морского зверя. Он втыкал их и вынимал по меньшей мере пятьдесят раз на день, для чего неизменно удалялся в свою лачугу и с безмятежным видом возвращался назад. Иной раз, вставив их в отверстия в мочках ушей, он хватал свое копье – легонькое и тонкое, как удилище, и расхаживал по соседним рощам, словно каннибальский странствующий рыцарь, ищущий встречи с достойным противником. Но скоро ему это наскучивало, он возвращался и, засунув копье в углубление под стрехой и закатав чудовищные серьги в кусок тапы, снова принимался за свое мирное занятие, будто и не прерывая его.
Впрочем, несмотря на подобные чудачества, Мархейо был человек в высшей степени славный и добросердечный, в этом отношении очень похожий на своего сына Кори-Кори. Главой дома была мать Кори-Кори, дама весьма почтенная и замечательно искусная, трудолюбивая хозяйка. Если джемы, повидла, пироги, кексы, запеканки и тому подобную ерунду она, быть может, делать не умела, зато превосходно разбиралась в кулинарных тайнах изготовления эймара, пои-пои, коку и других вкусных и питательных блюд. Целые дни она хлопотала и суетилась, словно добрая деревенская тетушка, к которой нежданно нагрянули гости: давала поручения девушкам, нередко так и остававшиеся невыполненными, залезала во все углы, копалась в узлах старой тапы или же подымала невообразимый шум, грохоча тыквенными мисками. Ее можно было видеть то сидящей на корточках над деревянным корытом и занятой приготовлением пои-пои – она с такой энергией колотила каменным пестом, что казалось, корыто сию минуту разлетится вдребезги; то она носилась по долине в поисках какого-то особого листа, необходимого ей для таинственных манипуляций, и возвращалась, задыхаясь и обливаясь потом под тяжестью набитого мешка, который всякую другую женщину давно свалил бы с ног. Честно сказать, мамаша Кори-Кори была единственным работящим человеком на всю долину Тайпи; она не могла бы трудиться больше и усерднее, даже будь она жилистой вдовой без средств к существованию и с целым выводком голодных детей где-нибудь в цивилизованной стране. Труды этой старой женщины, как правило, не вызывались ни малейшей необходимостью; ее побуждала работать, по всей видимости, некая внутренняя потребность, и ее руки постоянно ходили туда-сюда, туда-сюда, словно в теле у нее был запрятан неутомимый моторчик, приводивший его в безостановочное движение. И при этом она вовсе не была какой-нибудь там сварливой мегерой – отнюдь нет. У нее было добрейшее сердце, и со мной она обращалась совсем по-матерински: то и дело, глядишь, пихнет в руку кусок полакомее, какую-нибудь туземную сласть или печенье, будто любящая мамаша, пичкающая тартинками и цукатом свое избалованное чадо. Поистине сладостны мои воспоминания о доброй, милой, любящей Тайнор!
Помимо перечисленных мною лиц к этой семье принадлежали еще три молодых человека, три весьма беспутных юных дикаря – гуляки и лоботрясы, которые заняты были только амурами, попойками да курением табака в обществе таких же, как они сами, шалопаев.
Было также среди постоянных обитателей дома несколько очаровательных девушек, которые, вместо того чтобы бренчать на фортепьяно и читать романы, как другие, более просвещенные юные леди, занимались рукоделием, вырабатывая особо тонкий сорт тапы; а впрочем, бо`льшую часть времени они тратили на то, что порхали от дома к дому и отчаянно, беззастенчиво сплетничали.
Однако из их числа я должен выделить прелестную нимфу Файавэй, мою любимицу. Ее гибкое подвижное тело было воплощенным идеалом женской грации и красоты. Нежное лицо то и дело заливала краска, и я, любуясь ее разгоряченными щеками, не раз готов был поклясться, что различаю сквозь полупрозрачный покров смуглоты игру настоящего ярко-красного румянца. Овал ее лица был безукоризнен, и каждая черта была совершенство, какого только может пожелать мужское воображение. Полные губы, раздвигаясь в усмешке, обнажали зубы ослепительной белизны, а когда розовый рот широко открывался в хохоте, они казались молочно-белыми зернышками арты – туземного плода, в котором, когда его разрежешь, видны ряды зерен, покоящихся в сочной, сладкой мякоти. Волосы, темно-каштановые, рассыпающиеся непринужденно на обе стороны природными локонами, ниспадали на плечи и, стоило ей нагнуться, закрывали живой завесой ее прелестную грудь. Синие, странные глаза, как ни засматривай в их бездонную глубину, казались загадочно-безмятежными, когда она была в задумчивости; но, вспыхнув живым чувством, они сияли и лучились, как звезды. Ручки Файавэй были мягки и нежны, как у графини, ибо девы и юные жены в долине Тайпи совершенно не занимаются черной работой. Ее крохотные ножки, хоть и не знающие обуви, изяществом и красотой не уступали тем, что выглядывают из-под шуршащих подолов светских дам Эквадора. А кожа этого юного создания, от беспрестанных омовений и умащиваний, была дивно гладкой и шелковистой.
Быть может, в изображении отдельных черт Файавэй я и добьюсь некоторого успеха, но мне никогда не передать – нечего даже и пытаться – той общей прелести ее облика, в которую они слагались. Никакими словами не выразить свободную, естественную грацию и красоту, которой блистало это дитя природы, с младенчества выросшее здесь, в краю вечного лета, вскормленное простыми плодами земли, не ведавшее забот и печалей и никогда не подвергавшееся разного рода вредным воздействиям. Образ этот – не фантазия, я писал по самым живым и ярким воспоминаниям, которые сохранил о той, чей портрет пытался здесь набросать.
Если бы меня спросили, была ли восхитительная Файавэй совершенно не тронута обезображивающей печатью татуировки, я вынужден был бы отвечать отрицательно. Но исполнители этого варварского ритуала, с такой беспощадностью испещрявшие своими узорами мускулистые тела воинов, очевидно, понимали, что прелести юных дев долины мало нуждаются в их искусстве. Женщины там вообще не сильно татуированы, а Файавэй и ее подружки – гораздо меньше, чем те, кто превосходили их годами. Причину этого я объясню ниже. Татуировку моей нимфы нетрудно описать. На верхней и нижней губке у нее чернели по три точки, не более булавочной головки величиной и с недалекого расстояния неразличимые. А на плечах, от самой шеи, были проведены по две параллельные линии, в полудюйме одна от другой и дюйма, наверное, в три длиною, и между ними – какие-то тонко выполненные фигуры. Эти две вытатуированные на плечах полоски всегда напоминали мне погоны золотого шитья, которые носят на плечах вместо эполет офицеры, когда они не при параде, для обозначения своего высокого ранга.
И больше никакой татуировки на коже Файавэй не было – святотатственная рука, как видно, дрогнула и не имела дерзости продолжить начатое надругательство.
Но я еще не описал туалетов, которые носила эта нимфа долины Тайпи.
Файавэй – я вынужден это признать – отдавала постоянное предпочтение простому летнему наряду по райской моде. Но как к лицу был ей такой костюм! Он самым наивыгоднейшим образом подчеркивал линии ее фигуры и как нельзя лучше соответствовал особенностям ее наружности. В будни она бывала одета в точности так же, как та пара юных дикарей, которые первыми повстречались нам в долине. Иногда, гуляя в рощах или отправляясь с визитами к знакомым, она надевала тунику из белой тапы, ниспадавшую от пояса чуть пониже колен. А когда ей долгое время приходилось бывать на солнце, она неизменно защищалась от его лучей широким покрывалом из той же материи, свободно охватывающим плечи. Ее парадный туалет я опишу ниже.
Подобно тому как красавицы в нашей стране любят унизывать себя всевозможными драгоценностями, втыкая их в уши, навешивая на шею, надевая на запястья, Файавэй и ее подружки также имели обыкновение украшать себя.
Флора была их ювелиром. Они носили ожерелья из красных гвоздик, нанизанных – точно рубины на нить – на волоконце тапы, или втыкали в уши белые бутоны, и сложенные в шарик нежные лепестки светились и переливались, как зерна чистейшего жемчуга. На голову они надевали венки, сплетенные из листьев и цветов, напоминавшие маленькие короны – трилистники британских герцогинь; и руки и ноги им нередко украшали также свитые из цветов и зелени браслеты и кольца. Девушки на этом острове вообще питали страсть к цветам, и им никогда не наскучивало украшать себя – прелестная черта, о которой ниже вскоре пойдет речь опять.
Хотя Файавэй, по крайней мере в моих глазах, была прекраснейшей из женщин в долине Тайпи, тем не менее ее портрет, который я здесь набросал, может в какой-то мере дать понятие чуть ли не обо всех живущих там юных представительницах прекрасного пола. Суди же сам, о читатель, что это были за божественные создания!
XII
Лишь только Мехеви, как было описано в предыдущей главе, покинул наш дом, Кори-Кори, не медля, приступил к исполнению своих новых обязанностей. Он прежде всего принес нам разной еды и во что бы то ни стало пожелал кормить меня, как младенца, своими руками. Я, разумеется, пытался воспротивиться такому обращению, но ничего не вышло: он поставил передо мной тыквенную миску с коку, сполоснул водой пальцы, засунул руку в миску и, скатывая эту массу в маленькие шарики, стал один за другим класть их мне прямо в рот, на все мои возражения подымая такой крик и шум, что мне ничего не оставалось, как подчиниться; после этого кормежка, производившаяся в дальнейшем беспрепятственно, была скоро завершена. Что же до Тоби, то ему было дозволено насыщаться как он сам пожелает.
После ужина мой новый слуга постелил поудобнее циновки и, знаком пригласив ложиться, укрыл меня широким плащом из тапы, при этом поглядывая на меня с великим удовлетворением и приговаривая: «Кай-кай муи-муи, ах! Мои-мои мортарки!» (Ешь вдоволь, ах! Спи всласть!) Оспаривать это мудрое изречение мне и в голову не приходило, ибо я несколько ночей толком не спал, и теперь, когда боль в ноге заметно утихла, был склонен, не откладывая, воспользоваться представившейся возможностью.
Утром, когда я проснулся, Кори-Кори спал у меня под боком с одной стороны, а мой товарищ Тоби – с другой. Крепкий сон меня освежил, и потому, когда заботливый телохранитель дал понять, что мне следует пойти на речку умыться, я сразу же выразил согласие, хотя и опасался, что от хождения у меня опять разболится нога. Но эти опасения быстро развеялись, так как Кори-Кори, спрыгнув с каменной террасы, стал под стеной в позу носильщика, подставляющего спину под сундук, и разнообразными возгласами и жестами пояснил, что я должен сесть ему на закорки, а он отнесет меня к речке, протекавшей ярдах в двухстах отсюда.
Между тем наше появление на пай-пай привлекло под стены немало людей, которые глазели на нас и весьма оживленно обменивались между собой замечаниями. И это было очень похоже на толпу ротозеев, теснящихся у деревенской гостиницы, когда к воротам подают экипаж некоей заезжей знаменитости и предстоит ее отбытие. Я обхватил руками шею Кори-Кори, он рысцою пустился в путь, и вся толпа – это были молодые люди и девицы – с хохотом, с криком, резвясь и ликуя, двинулась за нами и сопровождала нас до самого берега.
Кори-Кори вошел в воду выше колен и спустил меня на большой плоский камень, чуть выступавший посредине реки. Наша земноводная свита с брызгами и плеском зашлепала по воде вслед за нами и, рассевшись на мшистых камнях, которыми в изобилии было усеяно русло речки, приготовилась наблюдать мое утреннее омовение.
Крайне смущенный присутствием представительниц женского пола среди моих зрителей, я почувствовал, что щеки мои горят от стыда и, сделав из ладоней некое подобие умывального таза, спрятал в них разгоряченное лицо; потом снял тельняшку и омылся до пояса. Как только Кори-Кори понял по моему поведению, что этим я собираюсь ограничиться, он, совершенно потрясенный и негодующий, подскочил ко мне и произнес целый страстный монолог, порицая меня за отсутствие размаха и призывая немедленно раздеться и погрузить в воду все тело. Я вынужден был уступить, и добряк Кори-Кори, относившийся ко мне как к малому и неразумному дитяти, за которым нужно ухаживать, как бы оно ни брыкалось, поднял меня и, бережно держа, опустил в воду. Искупав таким образом, он снова посадил меня на камень, и я, оглядевшись, не мог не восхититься обступавшей меня красотой.
Мои зрители, расположившиеся кругом на обомшелых зеленых камнях, теперь все попрыгали в воду, ныряя, плавая и подымая снопы брызг, – молодые девушки резвились, выскакивая по пояс из воды, их обнаженные тела блестели, длинные волосы струились по плечам, а глаза сверкали, как капли росы на солнце, и заливистый веселый смех, чуть что, начинал звенеть над водой.
Под вечер того дня, когда состоялось мое первое купание, Мехеви нанес нам еще один визит. Почтенный дикарь был настроен все так же дружелюбно и отнесся к нам с прежней сердечностью. Посидев у нас около часа, он встал и направился к выходу, жестом пригласив меня и Тоби последовать за ним. Я указал ему на мою больную ногу, но он в ответ указал мне на Кори-Кори; тем самым возражение мое было снято, и я, вновь оседлав моего доброго телохранителя, как старик на спине Синдбада, пустился вслед за вождем.
Дорога, по которой мы двигались, поразила меня чрезвычайно: она нагляднее, чем что-либо до сих пор мною виденное в долине, говорила о праздности, присущей всему туземному складу жизни. Это была хорошо убитая, много хоженная тропа, от нее и вправо и влево отходили дорожки поменьше, видно, она не одному поколению жителей служила как бы главной улицей. И тем не менее, пока я не привык, хождение по ней представляло для меня немалые трудности. То она вдруг взбиралась на крутой склон, изборожденный всяческими неровностями и густо усеянный большими острыми камнями, прячущимися в густой растительности, то шла прямо через все препятствия, то описывала широкие дуги вокруг них, то устремлялась чуть не отвесно вверх по каменному уступу, до лоска протертому множеством подошв, то спускалась с крутого обрыва, пересекая кремнистое ложе потока. Здесь она вела вас по дну оврага, принуждая то и дело кланяться, чтобы пройти под низко распростертыми могучими ветвями деревьев, а там вдруг заставляла шагать прямо по огромным упавшим стволам, которые гнили, лежа поперек нее с незапамятных времен.
Такова была эта главная артерия долины Тайпи. Проехав по ней немного верхом на Кори-Кори, который пыхтел и отдувался под своей увесистой ношей, я слез и, позаимствовав у Мехеви его длинное копье, пошел дальше сам, опираясь на него, как на костыль, и кое-как перебираясь через препятствия, – я все-таки предпочел этот способ передвижения первому, который из-за бесчисленных неровностей был одинаково мучителен и для меня, и для моего носильщика.
Скоро наше путешествие подошло к концу – мы вскарабкались на какую-то кручу и оказались у цели. Очень жаль, что нет таких слов, которыми можно было бы передать впечатление от того, что я там увидел.
Перед нами были Священные рощи Тайпи – место многих нескончаемых пиршеств и многих ужасных обрядов. Под тенистыми вершинами хлебных деревьев царил торжественный сумрак – как под сводами старинного собора. Мрачный дух языческого культа словно навис в безмолвии, подчинив своим чарам все вокруг. Здесь и там, во мраке, полускрытые завесой листвы, высились идолопоклоннические алтари из огромных полированных плит черного камня, свободно положенных одна на другую, достигавшие двенадцати и даже пятнадцати футов в высоту. Сверху на этих пьедесталах были сооружены примитивные открытые святилища, обнесенные тростниковой загородкой, за которой можно было видеть свежие, загнивающие, гниющие и сгнившие приношения в виде кокосовых орехов и хлебных плодов и разлагающиеся остатки недавно закланных жертв.
Посредине была поляна, а на ней – площадка для хула-хула, одного из фантастических местных ритуалов. Она представляла собой длинную террасу пай-пай с двумя высокими алтарями по концам, охраняемыми плотным рядом жутких деревянных идолов, и с бамбуковыми навесами, тянущимися по длинным сторонам площадки и оставляющими открытой внутреннюю часть просторного четырехугольника. Толстые стволы столетних деревьев, росших посредине и бросавших на него свои густые тени, были окружены небольшими возвышениями и обнесены оградой, образуя своего рода кафедры, с которых священнослужители могли взывать к своей пастве. Место это – святая святых всей рощи – было защищено от осквернения всесильным табу, обрекающим на немедленную смерть всякую женщину, осмелившуюся вступить в запретные пределы, или коснуться заповедных стен, или хотя бы святотатственно ступить ногой на землю в том месте, где на нее падает священная тень.
Выходили на поляну через расположенные сбоку ворота, против которых правильным рядом высились могучие кокосовые пальмы. В дальнем углу виднелось строение довольно внушительных размеров, служившее обиталищем жрецам и хранителям Священных рощ.
Поблизости от него находилось другое примечательное сооружение, как и все, стоящее на каменном фундаменте пай-пай; оно имело по меньшей мере двести футов в длину, хотя в ширину не превосходило двадцати футов. Передней стены у этого длинного дома вообще не было, ее заменяла лишь низкая тростниковая ограда по самому краю пай-пай. А изнутри он представлял собой один гигантский диван – циновки толстым слоем покрывали пол между двумя лежащими кокосовыми стволами, самыми прямыми и гладкими, какие нашлись во всей долине.
К этому-то строению, которое на туземном наречии называется именем Тай, и повел нас теперь Мехеви. До сих пор нас окружала небольшая свита из островитян обоего пола, но по мере нашего приближения к длинному дому женщины выходили из толпы и, стоя в стороне, пропускали мужчин вперед. Суровый запрет табу распространялся и на это сооружение, угрожая ослушницам такой же беспощадной карой, какая ограждала и площадку хула-хула от якобы оскверняющего присутствия женщины.
Войдя внутрь, я с изумлением увидел развешанные по бамбуковой стене шесть мушкетов с прицепленными к дулам холстяными мешочками, в которых явно еще было некоторое количество пороха. А вокруг мушкетов, подобно абордажным саблям и крючьям на переборке в кабине корабля, красовались всевозможные примитивные копья, весла, дротики и боевые дубинки. Очевидно, перед нами, как сказал я Тоби, был тайпийский арсенал.
Пройдя еще немного вдоль стены, мы вдруг увидели группу уродливых старцев, в чьем дряхлом облике время и татуировка, казалось, вообще не оставили ничего человеческого. Дело в том, что благодаря беспрестанно возобновляющимся операциям на коже, которые прекращаются для воинов-островитян лишь тогда, когда все орнаменты на их теле, нанесенные еще в юности, сливаются в один – эффект, достигаемый, однако, только в случаях крайнего долголетия, – тела старцев были равномерного грязно-зеленого цвета, поскольку татуировка имеет обыкновение зеленеть с течением времени. Кожа у них казалась какой-то пятнистой, чешуйчатой, что в сочетании с ее небывалым оттенком создавало сходство с зеленым, испещренным прожилками римским мрамором. В некоторых местах она свисала у них с костей грузными наплывами, напоминающими просторные слоеные складки на боках носорога. Голова у них была совершенно лысая, а лицо бороздили тысячи мелких морщин; ни на щеках, ни на подбородке не заметно было ни малейших признаков бороды. Но самой их примечательной чертой были удивительные ступни; пальцы расходились на них, как деления компаса, во все стороны света, видно, они, за свой столетний век не изведавшие заточения, на старости лег прониклись нетерпимостью к ближним и слали друг другу приказ держаться развернутым строем.
Эти отталкивающего вида существа, вероятно, давно уже не владели своими нижними конечностями – они сидели, скрестив ноги, на полу, застыв в каком-то отупении. Нас они совершенно не заметили, ни разу не поглядели в нашу сторону, пока Мехеви усаживал нас на циновки, а Кори-Кори давал кому-то громкие пространные указания.
Вскоре мальчик внес на деревянном блюде пои-пои, и мы приступили к пиршеству, во время которого я опять принужден был подчиниться заботам моего неутомимого слуги. За пои-пои последовали другие яства, и престарелый вождь потчевал нас с неотвязным радушием, при этом, дабы окончательно разогнать наше смущение, сам показывая весьма внушительный пример.
Когда окончилась трапеза, была зажжена трубка, которая переходила из рук в руки, и под ее наркотическим воздействием, а также под влиянием царившей кругом тишины и сгущающихся снаружи сумерек мы с Тоби погрузились в сонливое оцепенение, а Мехеви и Кори-Кори заснули подле нас.
Очнулся я от тревожной дремоты, вероятно, около полуночи. Я приподнялся на локте и огляделся – кругом была полная тьма. Тоби все еще спал, но нашего сотрапезника с нами уже не было. Стояла глубокая тишина, нарушаемая лишь астматическим дыханием стариков, тоже дремавших неподалеку от нас. Кроме них, насколько можно было судить, в длинном доме никого больше не было.
В дурном предчувствии я поспешил растолкать моего товарища, и мы совещались шепотом о том, куда это подевались все туземцы, как вдруг из глубины рощи прямо перед нами вырвались языки ослепительного пламени, и в их свете выступили озаренные стволы окружающих деревьев, и еще чернее стала темнота ночи.
Мы не отрываясь смотрели на огонь, а между тем перед ним задвигались какие-то тени, и темные фигуры запрыгали, заметались в красном свете, словно демоны.
В страхе глядя на это странное явление, я шепнул Тоби:
– Что это все может значить?
– Да ничего, – ответил мой товарищ, – просто костер разводят, наверное.
– Костер?! – воскликнул я, и сердце мое заколотилось, как механический молот. – Для чего же костер?
– Да чтобы нас поджарить, ясное дело. С чего бы иначе стали эти каннибалы так суетиться?
– Ах, Тоби, брось ты свои шутки, сейчас не время для них. Я чувствую, я уверен, что должно произойти что-то очень важное.
– Хороши шутки! – возмутился Тоби. – Ты когда-нибудь слышал, чтобы я шутил? Да для чего, по-твоему, они откармливали нас целых три дня, если у них не было на уме того самого, о чем ты боишься сейчас говорить? Взять этого Кори-Кори, разве он не пичкал тебя всевозможными кашами и смесями, как свинью, которую кормят на убой? Можешь мне поверить, нынче же ночью нас съедят, а перед тем как съесть, поджарят вот на этом самом огне.
Такой взгляд на вещи никак не мог развеять мои собственные страхи, и я, трепеща, думал о том, что мы и вправду находимся во власти людоедского племени и что ужасный конец, о котором толковал мне Тоби, вовсе не лежит за пределами вероятного.
– Ну вот! Говорил я тебе! Идут за нами! – воскликнул между тем Тоби, ибо четыре фигуры, отделившись от костра, стали подыматься, освещенные сзади, к нам на пай-пай.
Они ступали тихо! бесшумно! – скользили в окружающем нас мраке, словно боясь спугнуть прежде времени свою намеченную добычу. Боже ты мой! Какие ужасные подозрения теснились у меня в голове! Холодный пот выступил на моем лбу, и, парализованный страхом, я ждал своей участи.
Вдруг тишину нарушил хорошо знакомый голос Мехеви, и дружелюбный его тон сразу же положил конец моим страхам.
– Томмо, Тоби, кай-кай! (кушать).
Он просто не окликал нас раньше и старался не шуметь потому, что думал, что мы спим, и удивился, видя, что ошибся.
– Ах вот как? Кай-кай? – проворчал Тоби. – Сначала вам еще надо нас поджарить. Но что это? – прибавил он, когда другой дикарь выступил вперед, держа большой деревянный поднос, на котором, как можно было судить по запахам, лежало дымящееся мясо; этот поднос был поставлен к ногам Мехеви. – Печеный младенец, а? Но что бы это ни было, меня увольте, я этого есть все равно не буду. Только последний дурак согласится вставать среди ночи и обжираться до отвала – и все для того только, чтобы в одно прекрасное утро послужить угощением пожирнее для стаи кровожадных дикарей. Нет уж. Я отлично вижу, к чему они клонят. Поэтому я намерен заморить себя голодом, и пусть они тогда лакомятся на здоровье моей кожей да костями. Но что я вижу, Томмо? Неужели ты собрался отведать этой штуковины? Как же ты в темноте определишь, что это такое?
– На вкус, – ответил я, с удовольствием разжевывая кусок, который Кори-Кори как раз положил мне в рот, – совсем не плохо. Вроде телятины.
– Это печеный младенец, клянусь душой капитана Кука! – со страстью, для него необычайной, воскликнул Тоби. – Телятина! Да на этом острове и не видывали телят, пока ты не объявился. Говорю тебе, ты уплетаешь мясо мертвого хаппарца и можешь мне поверить, так оно и есть!
О, рвотные средства, запиваемые тепловатой водицей! Какие ощущения в области желудка! И вправду, откуда бы этим дьяволам во плоти достать мясо? Но я решился дознаться истины во что бы то ни стало и, обратившись к Мехеви, скоро втолковал нашему предупредительному хозяину, что желаю, чтобы принесли свет. Когда же был внесен светильник, я с трепетом заглянул на блюдо и обнаружил там искалеченные останки… молочного поросенка! «Пуарки!» – пояснил Кори-Кори, удовлетворенно посматривая на лакомое яство; и я с того самого часа и по сегодняшний день запомнил, что так на языке тайпи называется свинья.
Утром мы с Тоби, еще раз угостившись у тароватого Мехеви, собрались уходить. Но почтенный вождь стал убеждать нас не торопиться. «Эйбо, эйбо» (Ждать, ждать), – повторял он, и мы, уважив его просьбу, снова уселись на циновки. Он же с помощью ревностного Кори-Кори стал отдавать какие-то сложные распоряжения целой толпе собравшихся снаружи туземцев, но что именно между ними происходило, мы понять не могли. Впрочем, недоумевали мы недолго, так как вождь подозвал нас, и мы увидели, что по его велению там выстроился почетный караул, который должен был сопровождать нас к дому Мархейо.
Во главе процессии были поставлены два весьма почтенных дикаря, державшие в руках копья с развевающимися на концах длинными вымпелами из белоснежной тапы. За ними следовало несколько юношей, высоко над головами поднимающие тыквенные миски с пои-пои, а за ними в свою очередь выступали четверо отменных здоровяков, которые несли длинные бамбуковые шесты с привязанными к ним корзинами, наполненными зелеными плодами хлебного дерева. Далее двигалась ватага мальчишек, и у каждого в руках были гроздья спелых бананов или же корзинки, плетенные из зеленых кокосовых листьев, а в них – молодые кокосовые орехи, освобожденные от волосистых одежд и поблескивающие нагими гладкими боками. Замыкал процессию могучий островитянин, несший на голове деревянное блюдо с остатками нашего полуночного пиршества, прикрытыми, впрочем, листьями хлебного дерева.
Зрелище было величественное и забавное, я не мог не улыбнуться мыслям, которые оно поневоле сразу же приводило на ум: получалось, что Мехеви заботился о пополнении запасов продовольствия в доме Мархейо, опасаясь, что иначе его дорогие гости будут испытывать нужду.
Я спустился с пай-пай, почетный караул расступился и двинулся, замкнув нас в середину, и я часть пути ехал верхом на Кори-Кори, а часть, избавляя его от тяжкой ноши, ковылял сам, опираясь на копье. С первых же шагов туземцы завели дикий ритмический напев, который и тянули с некоторыми вариациями, покуда не доставили нас к месту назначения.
А из окрестных рощ высыпали стайки юных девушек и примыкали к нашей процессии, заглушая веселым звонким смехом низкие звуки пения. Когда мы приблизились к жилищу старого Мархейо, его обитатели поспешили нам навстречу, и, пока другие принимали и убирали дары вождя, престарелый воин оказывал нам все традиционные знаки гостеприимства, точно английский сквайр, встречающий друзей в своей старинной вотчинной усадьбе.
XIII
Так почти незаметно прошла неделя. Туземцы, движимые какими-то непонятными чувствами, день ото дня были к нам все внимательнее. Почему они так хорошо с нами обращались, оставалось загадкой. Во всяком случае, полагал я, они вели бы себя не так, если бы замышляли против нас зло. Но откуда столько почтительности и доброжелательства? И что, интересно, рассчитывают они за это получить от нас?
Мы недоумевали. Но, даже несмотря на смутные, хотя и неотступные, опасения, я считал, что ужасная репутация, которой пользовались жители долины Тайпи, совершенно незаслуженна.
– Да ведь они людоеды! – возмутился Тоби один раз, слушая, как я их восхвалял.
– Не спорю, – отвечал я. – Но по-моему, во всем Тихом океане не найти гурманов благороднее, любезнее и порядочнее.
Однако, как ни ласково с нами обращались, я слишком хорошо понимал непостоянство дикарской натуры и, естественно, помышлял подальше убраться из долины, чтобы стать недосягаемым для ужасной смерти, угроза которой, быть может, таилась за обманчивыми улыбками. Но здесь имелось одно препятствие. Нечего было и думать сниматься с места, пока не прошла хромота; собственно говоря, недуг мой начал внушать мне большую тревогу: несмотря на лечение травами, мне становилось все хуже. Приятно охлаждающие примочки из трав хотя и утоляли боль, но не излечивали самое болезнь, и я чувствовал, что без более серьезной помощи мне предстоит долго и жестоко мучиться.
Но как получить эту помощь? Наверное, мне оказал бы ее кто-нибудь из судовых врачей французской флотилии, все еще, должно быть, находившейся в бухте Нукухива. Но как это осуществить?
Наконец, доведенный до отчаяния, я предложил Тоби, чтобы он пробрался в Нукухиву и попробовал вернуться оттуда за мною во французской шлюпке или, на худой конец, хотя бы добыл у них нужные лекарства и возвратился сюда по суше.
Мой товарищ выслушал это предложение молча и поначалу даже отнесся к нему неодобрительно. Дело в том, что он мечтал как можно скорее удрать из долины Тайпи, рассчитывая воспользоваться для устройства побега теперешним добрым расположением туземцев, прежде чем они к нам переменятся. А так как бросить меня в немощи и болезни он и мысли не допускал, то стал уговаривать меня не падать духом и бодриться, уверяя, что я скоро поправлюсь и через несколько дней смогу вместе с ним уйти в Нукухиву.
Кроме того, возвращаться сюда на верную смерть ему было совсем не по душе. А что до французов, то, на его взгляд, напрасно ожидать от них, что они отправят сюда шлюпку с гребцами только для того, чтобы вызволить меня от тайпийцев. Мне нечего было возразить на его утверждение, что никогда французы не захотят ради этого навлекать на себя вражду грозного племени, которое они всячески стараются умиротворить и с этой целью вообще воздерживаются заходить в здешнюю бухту. «Да если б даже они и согласились, – уверял меня Тоби, – их появление вызвало бы только переполох в долине, и в этом переполохе кровожадные тайпийцы нас с тобою наверняка бы отправили на тот свет». Возразить на это мне было нечего, но я держался за вторую часть моего плана и убеждал Тоби, что она вполне осуществима. В конце концов мне удалось его уговорить. Тоби сказал, что попробует.
Но когда мы с большим трудом втолковали туземцам, что мы задумали, поднялась целая буря протеста, так что я уже готов был махнуть на все рукой, не надеясь добиться их согласия. При мысли, что один из нас собирается их покинуть, огорчению их не было предела. Особенно разволновался Кори-Кори; он так бурно жестикулировал, прямо бился в конвульсиях, пытаясь втолковать нам, какое мерзкое место эта Нукухива и какие темные люди ее обитатели, а также выразить свое совершеннейшее недоумение в связи с тем, что, познакомившись с просвещенными тайпийцами, мы считаем для себя возможным покинуть, хотя бы на время, их изысканное общество.
Однако я опроверг все их возражения ссылками на мою хромоту, от которой, уверял я, мне сразу же удастся вылечиться, как только Тоби доставит мне необходимые медикаменты.
Сговорились на том, что мой товарищ утром же отправится за спасительными лекарствами, но его будет сопровождать кто-нибудь из домочадцев Мархейо, чтобы указывать ему кратчайшую дорогу, по которой можно прийти в Нукухиву засветло.
На следующий день, еще до восхода, весь наш дом был на ногах. Один из парней вскарабкался на ближнюю кокосовую пальму и пошвырял вниз несколько молодых орехов, а почтенный Мархейо их подобрал, очистил от зеленой шелухи и нанизал на прут – их сок предназначен был освежать Тоби в пути.
Когда все приготовления были завершены, я взволнованно простился с моим другом. Он обещал вернуться не позже чем через три дня, и, пожелав мне между тем не падать духом, завернул за угол пай-пай, и скрылся из виду в сопровождении старого Мархейо. Сердце у меня защемило, и я, вернувшись в дом, бросился ничком на циновки, охваченный чувством, близким к отчаянию.
Часа через два Мархейо возвратился и объяснил мне, что проводил немного моего товарища и показал ему дорогу дальше.
Наступил полдень – время, которое туземцы предпочитают посвящать сну; я лежал в доме, окруженный спящими, и странная тишина, царящая повсюду, отчего-то угнетала меня. Вдруг мне почудились отдаленные возгласы – словно кто-то кричал за рощей.
Звуки становились громче, они приближались, и вот уже вся долина звенела от криков. Мои домашние пробудились ото сна, вскочили в тревоге и поспешили наружу – узнать причину переполоха. Через несколько минут Кори-Кори, который первым вскочил и выбежал вон, возвратился – он тяжело дышал и был совершенно вне себя от волнения. Все, чего я смог от него добиться, это что с Тоби случилось какое-то несчастье. В предчувствии непоправимой беды я бросился вон из дому и увидел, что из рощи с воплями и стенаниями вышла толпа людей; они несли что-то, к чему относились их горестные пени. Толпа приближалась ко мне, все громче становились крики мужчин, и девушки, воздевая кверху обнаженные руки, жалобно, но отчетливо причитали: «Оха! Оха! Тоби маки мои!» (Увы! Увы! Тоби убит!)
Толпа расступилась, и я увидел бездыханное тело моего друга, которое несли двое, – голова Тоби тяжело свисала на грудь идущему впереди. Все его лицо, вся шея были залиты кровью, и сейчас еще сочившейся из раны на виске. Среди великого переполоха, под громкие крики тело внесли в дом и положили на циновки. Я знаками велел туземцам разойтись и не толпиться, волнуясь, склонился над Тоби и, положив ладонь ему на грудь, с облегчением убедился, что сердце у него еще бьется. Тогда я плеснул ему в лицо водой из тыквенного сосуда, отер кровь, откинул слипшиеся волосы и приступил к осмотру раны. Она была дюйма в три шириной и обнажала черепную кость. Я обрезал волосы моим матросским ножом и обмыл рану в нескольких водах.
Вскоре Тоби обнаружил первые признаки жизни – он на минуту открыл глаза и вновь закрыл, не произнося ни звука. Кори-Кори, стоявший рядом со мной на коленях, стал осторожно растирать ладонями ему руки и ноги, какая-то девушка легонько помахивала веером над его головой, а я все время смачивал ему губы и лоб. И бедный мой товарищ начал постепенно приходить в себя – я даже заставил его выпить несколько глотков воды.
Тут к нам приблизилась старая Тайнор, держа в руке пучок каких-то трав, и знаками дала мне понять, что я должен выдавить их сок прямо в рану. Я так и сделал, после чего счел за лучшее не беспокоить Тоби, пока он немножко не наберется сил. Несколько раз он открывал рот и порывался заговорить, но я, заботясь о нем, принуждал его хранить молчание. Только часа через три он настолько оправился, что смог сесть на циновке и рассказать мне о своем приключении.
«Мы с Мархейо пересекли долину, – рассказывал Тоби, – и поднялись на противоположный склон. За ним, как объяснил мой проводник, лежит долина Хаппар, а если идти по хребту дальше, не спускаясь в долину, то выйдешь как раз в Нукухиву. Здесь мой провожатый остановился и дал мне понять, что дальше не пойдет, разными знаками выражая страх, который он испытывает, очутившись вблизи вражеских пределов. И, показав мне дорогу, ведущую через горы, поспешил обратно вниз по склону.
Я страшно обрадовался, что нахожусь так близко от славных хаппарцев, и весело пустился в путь, и скоро взобрался на самую хребтовину. Сзади и спереди уходили вниз крутые склоны, и мне видны были обе враждующие долины. Здесь я посидел немного, закусил кокосовыми орехами и пошел дальше поверху. Вдруг я увидел впереди себя на тропе трех туземцев, только что, должно быть, взобравшихся сюда из долины Хаппар. Все трое были вооружены тяжелыми копьями, один из них показался мне вождем. Они прокричали что-то, чего я, разумеется, не понял, и поманили меня к себе.
Я без малейших колебаний пошел к ним и был уже в двух шагах от переднего, когда вдруг, со злобой указав в сторону Тайпи, он выкрикнул что-то свирепое и, замахнувшись копьем, мгновенным ударом поверг меня на землю. Он-то и нанес мне эту рану, и я лишился чувств. Когда же я очнулся, они все трое стояли поблизости и вели яростный спор – вне сомнения – обо мне.
Первым моим побуждением было бежать, спасая жизнь, но, пытаясь встать, я упал и скатился по травянистому обрыву. Это падение меня, как видно, встряхнуло, я вскочил на ноги и пустился бегом вниз по тропе, по которой только что подымался. Оглядываться мне не было нужды – я по крикам знал, что враги бросились в погоню. Подстегиваемый их кровожадными воплями, я забыл и думать о полученной ране – хотя кровь бежала по лицу и слепила меня, заливая глаза, – и, как ветер, мчался под гору. Я уже на треть сбежал по склону, когда крики моих преследователей смолкли, но вдруг раздался ужасный вой, и в тот же миг тяжелое копье, пролетев мимо, трепеща, впилось в ствол дерева рядом. Жуткий этот звук повторился еще и еще, и второе и третье копья, рассекая воздух в полуметре от меня, наискось вонзились в землю. Дикари взревели от злобы и досады, но, как видно, спускаться дальше в долину Тайпи не решились и прекратили погоню. Я видел, как они подобрали копья и повернули назад. Я же со всех ног помчался дальше вниз.
Что могло быть причиной столь яростного нападения хаппарцев, ума не приложу, – разве только они видели, как я подымался вместе с Мархейо, и одного того, что я пришел из долины Тайпи, было достаточно, чтобы вызвать их убийственную вражду.
Пока мне угрожала опасность, я почти не чувствовал раны, но, когда мои преследователи отстали, она снова начала причинять мне страдание. В бегстве я потерял шляпу, и солнце жестоко палило мне голову. Я чувствовал слабость и дурноту, но я боялся, что упаду там, где некому будет прийти мне на помощь, и потому тащился дальше из последних сил, пока не достиг дна долины. Здесь ноги мои подкосились, я упал на землю и больше уже ничего не помнил, пока не очутился лежащим вот на этих циновках, а надо мной склонялся ты с калебасом холодной воды».
Таков был рассказ Тоби. Уже потом я узнал, что, к счастью, он потерял сознание неподалеку оттуда, куда тайпийцы ходят за дровами. Его заметили, когда он упал, подняли тревогу, поспешили к нему, пытались привести в чувство у ручья и, не добившись успеха, поторопились отнести в дом Мархейо.
Это происшествие представило нам наше положение в довольно мрачном свете. Оно напомнило о том, что мы со всех сторон окружены воинственными недружелюбными племенами и у нас нет надежды пройти в Нукухиву через их земли, не столкнувшись с враждебностью. Как видно, для побега оставался единственный путь – морем.
А наши друзья тайпийцы воспользовались случившимся с Тоби несчастьем и призывали нас по достоинству оценить все преимущества пребывания в их долине; они сравнивали радушный прием, который оказали нам, с коварством и злобой своих соседей. Равным образом распространялись они и на тему о людоедских наклонностях хаппарцев – черте, которая, как они отлично видели, не могла не вызвать у нас беспокойства. И в то же время энергично отрицали ее за собой. Не упустили они случая и указать нам на природные красоты их родной долины и на щедрость, с какой родит она в изобилии всевозможные роскошные плоды.
Всех больше витийствовал Кори-Кори. Он так пламенно желал внушить нам правильный взгляд на все эти вещи, что в самом деле сумел с помощью некоторых усвоенных нами слов и выражений заставить нас понять кое-что из его речей. А чтобы облегчить нам понимание, он вначале выражал свои мысли с максимальной краткостью.
– Хаппар кийкино нуи! – восклицал он. – Нуи, нуи кай-кай канака! А! Аули мортарки! (Что означает: «Ужасный народ эти хаппарцы! Поедают людей в огромных количествах! Ах, какое безобразие!»)
Свои слова он сопровождал пояснительной пантомимой, исполняя каковую то выбегал из дома и с отвращением указывал пальцем в ту сторону, где находилась долина Хаппар, то мчался со всех ног обратно, опасаясь, быть может, как бы мы не упустили пока что нить его рассуждений, и, возобновляя представление, прихватывал зубами мякоть моего плеча, чем, очевидно, хотел сказать: вот что сделали бы с тобой люди, которые живут там!
Убедившись, что мысль его до нас дошла, он перешел к другой, смежной теме:
– А! Тайпи мортарки! Нуи, нуи миори; нуи, нуи вай; нуи, нуи пои-пои: нуи, нуи коку, – а! нуи, нуи кай-кай; а! нуи, нуи, нуи! (Что в дословном, как и выше, переводе означает: «То ли дело Тайпи! Превосходное место – здесь не проголодаешься. Это уж точно! Хлебных деревьев – сколько угодно; воды – хоть залейся; пудинга – ешь не хочу; всего вдоволь! Кучи, груды, горы еды!»)
Эта речь также сопровождалась подстрочными комментариями жестов, не понять которые было невозможно.
Однако, переходя к следующим пунктам, Кори-Кори не хуже наших записных ораторов стал отвлекаться в сторону, все основательнее углубляться в некоторые частные вопросы, рассуждая попутно, например, и о моральной стороне дела, и в таком духе продолжал разглагольствовать столь громко и непонятно, что у меня потом весь день болела голова.
XIV
Через несколько дней Тоби окончательно оправился от последствий своей встречи с хаппарскими воинами; растительное лечение доброй Тайнор заживило его рану. Но меня удача не жаловала: я по-прежнему мучился недугом, происхождение и природа которого оставались загадкой. И тогда, видя себя безнадежно отрезанным от цивилизованного мира и окончательно убедившись, что туземные снадобья бессильны мне помочь, отлично понимая также, что в теперешнем моем состоянии я все равно не смогу никуда податься из долины Тайпи, какие бы заманчивые возможности побега ни открывались, и, терзаясь опасениями, что в любой момент мы можем стать жертвами зловещей перемены в настроении туземцев, я впал в глубочайшее уныние. Мрачные мысли одолевали меня, и их не могли разогнать ни дружеские уговоры моего товарища, ни преданность Кори-Кори, ни даже целительное присутствие прекрасной Файавэй.
Однажды утром, когда я лежал на циновках, объятый тоской, не видя и не слыша ничего, что происходило вокруг, Тоби, который раньше куда-то ушел, вдруг прибежал ко мне с известием, что, насколько он понял по поведению островитян, в бухту входят какие-то шлюпки и, значит, можно считать, что мы спасены.
Новость подействовала на меня волшебно. Близился час нашего освобождения, и я поспешил наружу, чтобы удостовериться, что действительно ожидается событие из ряда вон выходящее. И в самом деле, со всех сторон слышалось одно слово: «Боти!» Оно прозвучало сперва в отдалении, слабое, едва различимое, затем крик был подхвачен, повторен еще и еще, и с каждым разом он становился все громче, все отчетливее, пока наконец его не подхватил тайпиец, сидящий на дереве возле нашего дома. Он высоко вывел: «Боти! Боти!» Сразу же отозвались в соседней роще, потом еще дальше, и так постепенно крик замер вдали, разнеся известие во все уголки долины. Это был голосовой телеграф, с помощью которого местные жители могли за несколько минут передавать краткие сообщения от береговой линии до самого конца долины, то есть на расстояние по крайней мере девяти миль. Сейчас он был на полном ходу: все новые известия поступали с непостижимой быстротой.
Поднялся невообразимый переполох. С каждой новой вестью туземцы приходили во все большее волнение и в лихорадочной спешке готовились к встрече. Кто обдирал шелуху с кокосовых орехов, кто, взобравшись на дерево, сбрасывал вниз хлебные плоды, кто подбирал их и складывал в кучи, а кто меж тем ловко и быстро плел из пальмовых листьев корзины для переноски всех этих товаров.
Одновременно велись и приготовления иного свойства: там видно было, как могучий воин до блеска начищает куском тапы свое верное копье или прилаживает складки набедренной повязки; здесь можно было подсмотреть, как юная девушка украшает себя цветами, словно рассчитывает завоевать чье-то сердце; и, как бывает всегда и повсюду, когда люди спешат и волнуются, кто-то старательно и неутомимо сновал туда-сюда, делая это без всякой надобности и очень мешая другим.
Мы еще никогда не видели тайпийцев в таком возбуждении. Не приходилось сомневаться: подобные события случались редко.
Я с тоской подумал, что может пройти еще бог знает сколько времени, прежде чем опять подвернется такая счастливая возможность для спасения, а я бессилен воспользоваться ею сейчас.
Видно было, что островитяне изо всех сил торопятся на берег и очень боятся опоздать. Нам с Тоби тоже надо было бы поспешить туда, но оказалось, что Кори-Кори не только отказывается нести меня, но испытывает непреодолимый ужас при одной мысли о том, чтобы мы уходили далеко от дома. Все остальные тайпийцы отнеслись к нашему намерению столь же неодобрительно и только смотрели изумленно и печально, когда я пытался их убеждать. Было ясно, что, хотя мой телохранитель делал вид, будто ничем не стесняет моей свободы, в действительности же поступить так, как я хочу, он мне не позволит. В тот раз, да и потом еще неоднократно у меня создалось впечатление, что он выполняет относительно меня чей-то приказ, хотя в то же время сам испытывает ко мне неподдельную симпатию.
Тоби, который решился во что бы то ни стало отправиться на берег вместе с туземцами и, чтобы не вызвать их противодействия, ничем не выказывал в отличие от меня этого своего желания, убедил меня, что я теперь все равно не поспею к лодкам.
– Разве ты не видишь? – сказал он. – Туземцы и сами боятся, что опоздают. Я бы сейчас же бросился туда со всех ног, да боюсь поспешностью навлечь на себя подозрения, и тогда мы вынуждены будем пропустить этот редкостный случай и никак им не воспользоваться. Постарайся казаться невозмутимым и равнодушным, они успокоятся и тогда, я уверен, пустят меня на берег, решив, что мне хочется пойти с ними просто из любопытства. Только бы мне добраться до этих шлюпок – я сообщу о том, в каком положении ты здесь остался, и тогда можно будет что-то сделать для нашего спасения.
Это звучало разумно. Между тем приготовления тайпийцев были завершены, и я с интересом наблюдал за тем, как они отнесутся к просьбе Тоби. И в самом деле, услышав, что я остаюсь, они совершенно не стали противиться тому, чтобы мой товарищ шел с ними, наоборот, даже обрадовались. Вообще их отношение к нам в тот день весьма меня озадачило, особенно в свете последующих необъяснимых событий.
Островитяне уже спешили по дороге к морю. Я крепко пожал Тоби руку и дал ему надеть мою матросскую шляпу, потому что свою он потерял и ему нечем было прикрыть раненую голову. Он ответил мне сердечным рукопожатием, обещал возвратиться, как только шлюпки отойдут от берега, бросился чуть не бегом по тропинке и через несколько мгновений скрылся за стволами деревьев.
Я остался во власти своих не слишком веселых мыслей, но поневоле развлекся необычным и забавным зрелищем: по узкой тропе, толкаясь и напирая, двигались друг за другом туземцы, нагруженные всевозможным провиантом. Вот один, отчаявшись убедить увесистого порося следовать за хозяином на веревочке, кончил тем, что подхватил строптивое животное на руки и понес его, без умолку визжавшего и барахтающегося, прижимая к своей голой груди. А вон двое, кого на расстоянии можно было принять за лазутчиков Израиля, возвращающихся к Моисею с виноградной гроздью, идут – один впереди, другой на несколько шагов сзади, а между ними с шеста, лежащего у них на плечах, свисает огромная связка бананов и раскачивается от их размеренного шага. Или вон еще один – торопится, обливается потом и толкает перед собой огромную корзину с кокосами; он так боится опоздать, что не обращает внимания, когда орехи выпадают из корзины, видно, ему лишь бы добраться до места, а одному или с кокосами – неважно.
Но скоро последний замешкавшийся туземец скрылся, торопливо шагая по дороге, и замерли в отдалении голоса идущих впереди. Наш конец долины обезлюдел – со мной остались лишь Кори-Кори, его престарелый родитель да еще несколько дряхлых стариков.
На закате туземцы начали возвращаться небольшими группами, и я жадно высматривал среди них моего товарища. Но люди проходили мимо нашего дома, а Тоби все не было видно. Я успокоил себя тем, что Тоби, наверное, решил вернуться вместе с кем-нибудь из наших домашних, и стал ждать его появления в обществе прекрасной Файавэй. Наконец показалась Тайнор, а за ней юноши и девушки, живущие по большей части в доме Мархейо. Но и среди них не было моего друга, и я, терзаемый тысячью страшных опасений, поспешил им навстречу, чтобы выяснить, где он и что с ним.
Мои встревоженные расспросы привели туземцев в большое смущение. Ответы их были противоречивы: один говорил, что Тоби сейчас придет; другой – что знать ничего о Тоби не знает; а третий, придя в великое негодование, объявил, что Тоби сбежал и никогда не вернется. Мне тогда показалось, что они пытаются скрыть от меня правду о каком-то ужасном несчастье.
Понимая, что с Тоби случилась беда, я бросился разыскивать юную Файавэй, чтобы от нее узнать о происшедшем.
Эта милая девушка давно уже завоевала мое расположение, и не только своей удивительной красотой и выражением редкого ума и благородства в чертах лица. Из всех своих соплеменников она одна, видимо, понимала, что должны были чувствовать мы с моим товарищем в столь необыкновенных для нас обстоятельствах. В ее обращении со мною – особенно когда я лежал на циновках, мучаясь от болей, – были нежность и участие, вполне определенные и совершенно неотразимые. Когда бы она ни входила в дом, взгляд ее, устремленный на меня, выражал живейшее сочувствие, она вскидывала руку в жесте сострадания, заглядывала мне прямо в глаза своими огромными сияющими глазами и, нежно приговаривая: «Оха! Оха, Томмо!» – грустно садилась подле меня.
Я верил, что она жалеет меня, терзаемого недугом вдали от родины, от близких, от надежды на исцеление. Иногда мне даже казалось, что доброта ее помогает ей понимать то, чего другие на ее месте никогда бы не могли понять: что мы оторваны от родного дома, что где-то у нас остались братья и сестры, которым, быть может, не суждено уже больше нас увидеть.
В таком дружественном свете представлялась мне нежная Файавэй. И, совершенно полагаясь на ее искренность и разум, я со всеми моими тревогами обратился к ней, чтобы узнать от нее о моем товарище.
Вопросы мои ее расстроили. Она обвела глазами тех, кто стоял вокруг, словно искала у них для меня ответов. Но потом, уступив моим настояниям, превозмогла себя и объяснила, как могла, что Тоби ушел со шлюпками, но обещал через три дня вернуться. Первым моим чувством было негодование на Тоби, предательски покинувшего меня в беде; но потом, поостыв, я, наоборот, стал упрекать себя за то, что приписал ему такой подлый поступок: разумеется, он просто воспользовался представившейся возможностью попасть в Нукухиву и устроить так, чтобы как-нибудь вывезти меня из долины Тайпи. Или уж по крайней мере, успокаивал я себя, он привезет мне необходимые лекарства, и, когда я выздоровею, мы без труда сможем сами отсюда уйти.
Утешившись такими рассуждениями, я лег в тот вечер спать в настроении гораздо лучшем, чем все последнее время. Следующий день прошел – имя Тоби ни разу не было упомянуто. В душе моей зашевелились кое-какие подозрения, но все-таки, ложась спать, я радовался, что второй день позади и завтра Тоби снова будет со мною. Но наступило и прошло завтра, а мой товарищ не появился. «Ну конечно, – говорил я себе, – он считает трое суток! Завтра он вернется!» Но кончился еще один томительный день, а Тоби все не было. Однако я не отчаивался; я считал, что его что-то задержало в Нукухиве, наверное, он ждет лодки, чтобы выехать сюда, и дня через два самое позднее я его увижу. Но проходил день за днем, ожидания мои не сбывались, и наконец надежда оставила меня, уступив место полному отчаянию.
О да, размышлял я, сам-то он спасся, и ему горя нет, что будет с его злосчастным товарищем! Дураком надо быть, чтобы поверить, что кто-нибудь, вырвавшись отсюда, по собственной воле возвратится сюда на почти верную погибель. Он сбежал и оставил меня одного отбиваться, как смогу, от грозящих мне бед.
В таких мыслях о низком предательстве Тоби искал я по временам утешения и при этом горько раскаивался, что сам все затеял и сам по неразумию навлек на себя беды, теперешние и предстоящие.
В другие минуты я думал, что, может быть, все-таки коварные дикари разделались с ним, и потому их в такое смущение приводили мои расспросы, и потому так сбивчиво и невразумительно они мне отвечали; или же его захватили в плен жители другой долины; или же случилось еще более ужасное – то, при одной мысли о чем моя душа содрогалась.
Но все гадания были бесполезны – узнать я ничего не мог; Тоби исчез навсегда. Поведение островитян оставалось загадочным. Они тщательно избегали всякого упоминания о моем пропавшем товарище, а если мне все же удавалось принудить их к ответу на мои неустанные вопросы, они теперь дружно изображали его чудовищем неблагодарности, который бросил на произвол судьбы друга и сбежал от них в эту мерзкую и ужасную Нукухиву.
Но что бы на самом деле ни произошло с Тоби, ко мне теперь туземцы стали относиться еще заботливее и внимательнее, выказывая столь глубокое почтение, словно я был не человек, а некий посланец небес. Кори-Кори ни на минуту не покидал меня, если только его не отрывала от меня необходимость исполнить мое же малейшее желание. Дважды в день, по утренней прохладе и под вечер, честный малый таскал меня на себе к реке и купал в живительных струях.
Нередко на закате он относил меня в такое место на берегу реки, откуда открывался вид особенно прекрасный, успокоительно воздействовавший на мою угнетенную душу. Вода здесь плавно стремилась меж округлых травянистых берегов, поросших могучими хлебными деревьями, чьи развесистые ветви смыкались, переплетаясь над рекой в пышный зеленый балдахин. В траве над водой возвышались гладкие глыбы черного камня. У одной из таких глыб была плоская, даже вдавленная верхушка, образовывавшая, будучи засыпана свежими листьями, восхитительное ложе.
Здесь я часами лежал под легким, прозрачным покрывалом из тончайшей тапы, и прекрасная Файавэй, сидя подле, обмахивала меня опахалом из молодых кокосовых побегов, отгоняя от моего лица насекомых, а Кори-Кори меж тем, желая по-своему развеять мою тоску, нырял и кувыркался перед нами в воде, выделывая всевозможные трюки.
Мой взгляд, блуждая вниз по течению, задерживался на обнаженном теле красивой юной девушки, стоящей по пояс в прозрачной воде, – она тонкой сеткой ловила особой породы крохотных рачков, излюбленное лакомство местных жителей. Или же я смотрел, как целая стайка молодых женщин, рассевшись на низком камне посреди реки, болтая и смеясь, полирует и истончает скорлупу кокосов – для этого ее погружают в воду и натирают камешками, в результате чего получаются легкие и изящные сосуды для питья, напоминающие черепаховые кубки.
Но мирные сцены человеческой жизни, столь необычные и живописные, и умиротворяющие красоты ландшафта были не единственным моим утешением.
Каждый вечер девушки нашего дома собирались возле меня на циновках и, отогнав Кори-Кори – который, впрочем, отходил лишь чуть-чуть в сторону и наблюдал за их действиями с откровенной ревностью, – с головы до ног натирали меня ароматным маслом, выжатым из какого-то желтого корня, который перед этим толкли между двух камней и который на их языке называется эйка. Приятнейшее, восхитительнейшее воздействие оказывает сок, добытый из корня эйка, когда его втирают тебе в кожу нежные ручки милых нимф, чьи лучистые глаза глядят на тебя ласково, с любовью; и я радостно предвкушал эту приятную ежевечернюю процедуру, во время которой забывал все беды и топил в блаженстве мою тоску.
Иногда, прохладными вечерами, мой верный телохранитель, бывало, выводил меня на пай-пай перед домом и усаживал у самого края, обмотав мое тело от назойливости насекомых целым рулоном тапы. И хлопотал вокруг меня по меньшей мере минут двадцать, чтобы устроить все как можно удобнее. Потом, удовлетворенный, он приносил трубку и, разжегши ее, передавал мне. Нередко при этом ему приходилось добывать огонь, а так как проделывал он это способом, о каком я даже не слыхивал прежде, я сейчас его опишу.
В каждом доме в долине Тайпи непременно можно видеть сухой и гладкий полусточенный хибискусовый чурбак футов в шесть высотой и около трех футов в поперечнике и при нем отдельно – палочку не более фута в длину и, наверное, в дюйм толщиною. Предметы эти столь же обыкновенны здесь, как в наших домах коробок со спичками в углу кухонного шкафа.
Туземец, вознамерившийся добыть огонь, ставит наискось, уперев во что-нибудь, большой чурбак и садится на него верхом, как мальчик, готовый ускакать на деревянном коне, и, зажав тонкую палочку в обеих руках, принимается с силой тереть по чурбаку ее острым концом, пока не образуется узкий желобок, в конце которого собирается кучка растертой в пыль древесины.
Сначала Кори-Кори трет не спеша, но постепенно убыстряет темп и, разгорячась, с невероятной быстротой гоняет палочку туда-сюда по дымящемуся желобку, а пот градом катится из всех его пор. Он начинает задыхаться, глаза его лезут на лоб от напряжения. Наступает критический момент; все его труды пойдут насмарку, если сейчас у него не достанет силы довести дело до конца, не сбавляя темпа, пока не появится упрямая искра. Вдруг он замирает. Руки его все еще давят на палочку, изо всех сил прижимая острие к концу желобка, где накопилась кучка праха, – кажется, будто он пронзил маленького смертоносного аспида, и тот извивается, бьется, хочет от него вырваться. Еще мгновение – и тоненький венчик дыма, виясь, подымается в воздух, горстка мельчайших частиц древесины загорается, и Кори-Кори, тяжело дыша, слезает со своего коня.
Мне кажется, что описанная операция была самой трудоемкой из всех, какие приходилось выполнять обитателям долины Тайпи. И располагай я достаточным знанием их языка, я бы непременно вошел к влиятельнейшим из туземцев с предложением срочно создать – с центром в долине и с филиалами – институт благородных весталок, дабы они поддерживали сие необходимое условие жизни – огонь; тем самым отпала бы нужда в столь огромной затрате физических сил и терпения, которые при этом так безжалостно расходуются. Впрочем, в осуществлении этого замысла возникли бы, возможно, кое-какие трудности особого свойства.
Как наглядно видна здесь вся разница между дикарским и цивилизованным образом жизни! Тайпийский джентльмен может вырастить целую ораву детей и дать им всем весьма солидное людоедское образование, употребив на это куда меньше труда и забот, чем ему понадобится, чтобы добыть огонь. А между тем бедный мастеровой-европеец, который с помощью серной спички получает огонь, не затратив и секунды, бьется над тем, как ему добыть для своей голодной семьи пропитание, которое дети полинезийских отцов, не затрудняя родителей, сами срывают с ветвей соседнего дерева.
XV
Все обитатели долины относились ко мне хорошо, а домочадцы Мархейо, с которыми я жил под одной крышей, пеклись о моем благе с поистине поразительной заботливостью. Они постоянно угощали меня всевозможными яствами, когда же я, наевшись, отказывался от предлагаемой ими еды, они считали, что у меня плохой аппетит и необходимо острыми приправами возбудить его.
С этой целью старый Мархейо на заре отправлялся к морю, чтобы собрать в часы отлива какие-то морские травы – некоторые сорта водорослей почитаются островитянами как драгоценные специи. К вечеру он возвращался и приносил несколько кокосовых скорлуп, наполненных разной тиной. Приготовляя их для меня, он принимал важный вид искушенного кулинара, хотя вся хитрость его стряпни сводилась, по-видимому, к тому, чтобы долить должное количество воды к студенистому содержимому скорлуп.
В первый раз, когда он предложил моему взыскательному вниманию один из своих соленых салатов, я, естественно, предполагал, что блюдо, приготовленное ценою таких усилий, должно обладать необыкновенными вкусовыми достоинствами; но одного глотка оказалось более чем достаточно; и велик был ужас, написанный на лице старого воина, увидевшего, с какой быстротой я изверг его эпикурейское угощение.
Как это верно, что редкость предмета очень увеличивает его ценность! В одном из уголков долины – где точно, я не знаю, но, вероятно, поблизости от моря – девушки иногда собирали крохотное количество соли; содержимое наперстка обычно являлось плодом труда шести человек в течение почти целого дня. Это драгоценное угощение они приносили в наш дом, обернутое в ворох листьев, и в знак особого почитания, разложив передо мною на земле один широкий лист, высыпали на него свою соль крупинка за крупинкой, приглашая меня ее отведать.
Они ценили ее так высоко, что, право же, я думаю, за бушель обыкновенной ливерпульской соли можно было бы закупить всю недвижимость в долине Тайпи. Обладая одной щепотью соли да четвертью хлебного плода, верховный вождь долины посмеялся бы над изысканной роскошью парижского стола.
Поскольку хлебное дерево так знаменито повсюду и поскольку плоды его занимают такое видное место в меню тайпийцев, я считаю необходимым остановиться здесь на описании этого дерева и разных способов приготовления его плодов.
Хлебное дерево в могучем зрелом возрасте представляет собою такую же своеобычную и неотъемлемую черту маркизского пейзажа, как патриарх восточных лесов – огромный вяз неотделим от ландшафта Новой Англии. Оно напоминает его своей высотой, раскидистостью пышных ветвей, живописной величавостью своего вида.
Листья хлебного дерева большого размера и по краям все в зубцах и фестончиках, точно дамский кружевной воротник. В пору осеннего увядания они восхитительной игрой постепенно меняющихся красок могут поспорить с радужными переливами на боках издыхающего дельфина. Осенние уборы наших американских лесов при всей их красоте в сравнении с этим ничего не стоят.
Лист, сорванный в определенный момент на закате года, когда все цвета радуги как будто смешаны на его поверхности, используется местными жителями в качестве сказочно пестрого, роскошного головного убора. В середине листа по волокну делается разрез достаточной ширины, раздвигается, и в него просовывается голова, спереди образующийся козырек лихо заламывается надо лбом, а остальная часть широкими полями нависает на затылке и за ушами.
Плод хлебного дерева величиной и видом напоминает нашу круглую дыню средних размеров – такого сорта, у которого на корке нет борозд, как бы делящих дыню на доли. Вся поверхность его усеяна маленькими шишечками – точно выпуклыми шляпками огромных гвоздей, какими обивали в старину церковные двери. Корка имеет толщину не более восьмой части дюйма, и освобожденный от нее плод в пору наивысшей спелости представляет собой красивый шар белой мякоти, весь съедобный, не считая тонкой сердцевины, которая легко вынимается.
Однако его никогда не употребляют, да он и не годится в пищу до того, как не будет подвергнут действию огня.
Самый простой способ обработки огнем – и, на мой взгляд, самый лучший – состоит в том, что свежесорванные, еще зеленые плоды зарывают в золу, как у нас пекут в костре картошку. Минут через десять – пятнадцать зеленая корка чернеет и трескается, и в трещинах проглядывает молочно-белое нутро. Остынув, корка отстает, и вы получаете мякоть в самом чистом и самом аппетитном виде – она очень нежна и приятна на вкус.
Иногда туземцы выхватывают испеченный плод из золы, прямо горячий выдавливают из растрескавшейся кожуры в холодную воду и размешивают. Полученная смесь называется у них бо-а-шо. Мне она никогда не нравилась, да и среди более просвещенных тайпийцев она не в большой моде.
Впрочем, есть одно блюдо, приготовляемое из плодов хлебного дерева, поистине королевское. Плод вынимают из огня, освобождают от кожуры, извлекают сердцевину и, пока не остыл, толкут его в плоской каменной ступе каменным же пестом. Между тем кто-то другой берет спелый кокосовый орех, раскалывает надвое – они делают это с необычайным искусством – и мелко крошит ядро. Для этого используется накрепко привязанный к толстой палке обломок перламутровой раковины, один край у которой имеет аккуратную нарезку, как у пилы. Палка часто бывает узловатая, корявая, из тела ее, словно кривые, гнутые ножки, торчат длинные сучки, и она стоит на них футах в двух-трех от земли.
Под нос этому своеобразному палочному коню ставится тыквенная миска, чтобы в нее падали крошки размельченного кокоса, кто-нибудь усаживается на лошадь-палку верхом и трет содержимое кокосового полушария об острые зубцы раковины – оно белым дождем сыплется в миску. Натерев достаточное количество ореховой массы, ее укладывают в мешок из волокнистой сетки, какая одевает стволы кокосовых пальм, и выдавливают на размятый хлебный плод.
Полученное блюдо называется коку, и яства роскошнее я в жизни не едал. Пока я жил в доме Мархейо, такая лошадь-палка и каменная ступа с пестом постоянно пускались в ход, и Кори-Кори часто имел возможность выказывать свое искусство владения ими.
Но главные продукты, в больших количествах изготовляемые из плодов хлебного дерева, носят местные названия эймар и пои-пои.
В определенное время года, когда по всей долине в рощах поспевают бесчисленные плоды и свисают золотистыми гроздьями с каждой ветки, островитяне приступают к сбору урожая. Деревья освобождаются от клонившего их к земле бремени, и все это изобилие, легко извлекаемое из кожуры и очищенное от сердцевины, энергично толчется каменными пестами в тестообразную массу, которая называется тутао. Затем ее разделяют на брикеты, каждый из которых тщательно обертывают в несколько слоев листьев, туго перевязывают волокнами коры и зарывают в большие ямы, откуда впоследствии и извлекают по мере надобности.
В земле тутао может лежать годами, считается даже, что от времени оно становится только лучше. Однако перед тем, как стать съедобным, оно подвергается еще одной процедуре. В земле роют углубление – своего рода примитивную печь; дно выкладывают камнями и разводят большой огонь. Когда камни достаточно разогреваются, золу тщательно выгребают, камни застилают слоем листьев, помещают на него завернутый брикет тутао и сверху покрывают еще одним слоем листьев. Затем все это быстро засыпают землей, так что получается небольшая круглая горка.
Печеное таким способом тутао называется эймар, в печи оно превращается в янтарную пухлую лепешку, немножко терпкую, но все же вполне приятную на вкус.
Из эймар в свою очередь приготовляют пои-пои. Делается это очень быстро. Такая лепешка помещается в сосуд с водой, размачивается, перемешивается, пока не обретет равномерной консистенции пудинга, – и пои-пои готово к употреблению. Именно в этом виде тутао большей частью и идет в пищу. Способ, каким его едят, я уже описывал.
Если бы не эта способность плодов хлебного дерева храниться длительное время, аборигены, вероятно, были бы обречены иногда на голод, так как бывает, по какой причине – неизвестно, что хлебные деревья вообще не приносят плодов. В этих случаях жители Маркизских островов существуют главным образом за счет запасов, которые сумели заготовить в предыдущие сезоны.
Это замечательное дерево, лишь изредка встречающееся на Сандвичевых островах, да и то в своей наихудшей разновидности, и даже на Таити растущее в недостаточных количествах, чтобы составить главный продукт питания, в благодатном климате Маркизского архипелага достигает подлинного великолепия, разрастаясь до огромных размеров и покрывая долины густыми рощами.
XVI
Думая теперь о тех днях, вспоминая бесчисленные знаки уважения и любви, которые оказывали мне жители долины Тайпи, я просто диву даюсь: как я мог среди всего этого великолепия оставаться во власти самых мрачных предчувствий и жить изо дня в день снедаемый глубочайшей тоской? Правда, подозрительные обстоятельства исчезновения Тоби могли сами по себе кому угодно внушить недоверие к дикарям, в чьей власти я очутился, тем более если держать в уме, что эти милые люди, которые так добры и внимательны ко мне, в сущности – самые обыкновенные людоеды.
Но главным источником беспокойства, отравлявшим мне малейшую радость, была загадочная боль в ноге, которая никак не проходила. Все растительные примочки доброй Тайнор в сочетании с более суровыми методами лечения старого знахаря и с любовным уходом верного Кори-Кори так и не могли меня исцелить. Я сделался калекой и нередко страдал от приступов мучительной боли. Необъяснимый недуг не сулил облегчения; наоборот, он становился все сильнее и грозил самым мрачным исходом, если ему не воспрепятствуют действенными мерами. Казалось, я осужден погибнуть от тяжкой болезни и уж, во всяком случае, никогда не смогу из-за нее покинуть долину Тайпи.
А случай, который произошел, насколько могу судить, недели через три после исчезновения Тоби, убедил меня, что тайпийцы, не знаю почему, будут всячески препятствовать тому, чтобы я их покинул.
Однажды утром я заметил, что все вокруг странно взволнованы. Оказалось, что причиной тому был слух, будто в залив входят какие-то лодки. Сразу же все кругом пришло в смятение.
В тот день как раз боль в ноге меня немного отпустила, и я в гораздо лучшем, чем обычно, расположении духа отправился с Кори-Кори к вождю Мехеви в его дом под названием Тай, стоящий, как было описано выше, в заповедных рощах. Эти святые места расположены неподалеку от жилища Мархейо и на полпути к морю. Дорога к морю шла мимо самого дома Тай, а оттуда, по опушке – прямо на берег.
Я возлежал на циновках под священным кровом в обществе Мехеви и еще нескольких вождей, когда пришло первое известие о лодках. Сердце у меня радостно забилось: быть может, это Тоби возвращается за мной. Я сразу вскочил, готовый бежать на берег, забыв и о том, как это далеко, и о том, что я почти не могу ходить. Мехеви увидел, какое впечатление произвели на меня полученные вести и как я рвусь поскорее попасть на берег; лицо его сразу же приняло то каменное выражение, которое так испугало меня при нашей первой с ним встрече. И когда я заковылял к выходу, он протянул руку, положил ее мне на плечо и негромко проговорил: «Эйбо, эйбо» (Подожди). Занятый только собственными мыслями, я не обратил на его слова внимания, отмахнулся и хотел было пройти, но тут он принял суровый вид и властно приказал: «Мои!» (Садись!) Я поразился перемене в его обращении, но мне было не до того – я прохромал дальше, хотя на руке у меня повис Кори-Кори, пытаясь меня остановить. Тогда все, кто были в доме Тай, вскочили и встали плечом к плечу на краю террасы пай-пай, загородив мне выход, а Мехеви, грозно глядя на меня исподлобья, повторил свой приказ.
Вот тогда-то, стоя лицом к лицу с полусотней свирепых дикарей, я впервые по-настоящему осознал себя пленником в долине Тайпи. Сознание это ошеломило меня – я чувствовал, что подтверждаются худшие из моих страхов. Противиться было бесполезно, я опустился на циновки и снова предался тоске.
Я видел, как туземцы спешат друг за другом мимо дома Тай к морю. Эти дикари, думал я, скоро вступят в общение, быть может, с моими соотечественниками, которые обязательно спасли бы меня, если бы знали, что я здесь попал в беду. Никакими словами не передать, что я чувствовал и сколько проклятий посылал, охваченный отчаянием, низкому предателю Тоби, бросившему меня здесь на погибель. Напрасно пытался Кори-Кори соблазнить меня едой, разжечь мою трубку и развлечь смешными ужимками, которые прежде меня иногда забавляли. Я был подавлен этой новой неудачей – я и раньше опасался, что так и будет, но никогда не мог спокойно додумать эту мысль до конца.
В оцепенении провел я под крышей Тай несколько часов, пока крики в долине не оповестили нас о том, что люди возвращаются с моря.
Приходили в то утро в бухту лодки или нет, мне так никогда и не удалось выяснить. Дикари уверяли меня, что нет, но я склонен подозревать, что этим обманом они хотели просто меня успокоить. Но так или иначе, случай этот показал, что тайпийцы намерены держать меня у себя в плену. А поскольку обращались они со мною по-прежнему заботливо и почтительно, я просто не знал, что и думать о таком странном поведении. Будь я способен обучить их каким-нибудь начаткам механики или вырази я желание быть хоть чем-нибудь им полезным, тогда еще можно было бы предполагать у них какой-то расчет. Но так их поведение казалось просто загадочным.
За все время, что я пробыл на острове, местные жители, наверное, раза три, не больше, обращались ко мне за советом как к лицу, особо осведомленному. И случаи эти были так забавны, что я не могу не рассказать здесь о них.
Все пожитки, которые мы захватили из Нукухивы, были связаны у нас в узелок, и этот узелок мы принесли с собой в долину Тайпи. В первую ночь здесь я использовал его как подушку, но, когда наутро я его развязал и показал туземцам содержимое, они были потрясены, словно увидели перед собой ларец с брильянтами, и настояли на том, чтобы столь бесценное сокровище было надлежащим образом запрятано. Соответственно, узелок был обвязан веревкой, свободный конец которой пропустили через стропило и подтянули сверток под самую крышу, где он и висел теперь прямо над циновками, на которых я обычно спал. Если мне что-нибудь оттуда было нужно, – мне стоило только протянуть руку к бамбуковой палке, за которую была закреплена веревка, и спустить узелок на землю. Это было как нельзя более удобно, и я выразил туземцам восхищение тем, как они это здорово придумали. Основное содержимое узелка составляли бритва в футляре, иголки с нитками, фунта два табаку да несколько ярдов пестрого ситца.
Надобно также сказать, что вскоре после исчезновения Тоби я, сознавая, что мне предстоит прожить у тайпийцев неопределенно долгий срок – если вообще не всю жизнь, – решил отказаться от ношения брюк и рубахи, составлявших весь мой гардероб, дабы сберечь их в пристойном виде на тот случай, если мне все-таки еще придется когда-нибудь очутиться среди цивилизованных людей и понадобится их надеть. Вместо этого мне пришлось облачиться в тайпийский костюм, слегка видоизмененный, впрочем, в соответствии с моими понятиями о приличии, и в нем я выглядел, без сомнения, не менее импозантно, чем римский сенатор, задрапированный в свою тогу. Вокруг пояса я был в несколько слоев обернут полотнищем желтой тапы, ниспадавшей к моим ногам наподобие дамской нижней юбки, с той только разницей, что я не прибегал к толстым прокладкам сзади, какие носили наши изысканные дамы в целях дальнейшего увеличения природной божественной округлости своих фигур. Этим исчерпывался мой домашний туалет; выходя из дому, я обычно добавлял к нему просторное покрывало из той же материи, одевавшее меня сверху донизу и служившее защитой от солнечных лучей.
Однажды я зацепил и порвал эту мантию и, желая показать тайпийцам, как легко помочь такому горю, спустил из-под крыши мой узелок, достал иголку с ниткой и в два счета зашил дырку. Они собрались вокруг и взирали на такое достижение науки с величайшим восторгом. Вдруг старый Мархейо шлепнул себя ладонью по лбу, бросился в угол и извлек засаленный ободранный кусок выгоревшего ситца, – видимо, выторгованный на берегу у заезжего матроса немало лет тому назад – и стал просить меня, чтобы я приложил к нему мое искусство. Я охотно согласился, хотя, видит бог, никогда, наверное, моя короткая игла не двигалась по ткани такими гигантскими скачками. Когда починка была окончена, старый Мархейо на радостях по-отечески обнял меня и, скинув свой маро (набедренную повязку), препоясал чресла этим куском ситца, продел в уши свои любимые украшения и, подхватив копье, торжественно выступил из дому, точно доблестный рыцарь-храмовник, облаченный в новые бесценные доспехи.
Бритвой я за время, что жил на острове, ни разу не пользовался, но у тайпийцев она, хотя и была весьма невысокого качества, вызывала бурное восхищение. Сам Нармони, местный герой, который с великой тщательностью относился к своему туалету и вообще необыкновенно следил за собой – ни у кого в долине не было татуировки замысловатее и вида безобразнее, – решил, что ему бы очень пошло, если бы пройтись разок моей бритвой по его и без того наголо бритой макушке.
Местным орудием для бритья является акулий зуб, который столь же пригоден для этой цели, как однозубые вилы – для того чтобы стоговать сено. Неудивительно поэтому, что проницательный Нармони оценил преимущества моей бритвы. И вот в один прекрасный день он обратился ко мне с просьбой, чтобы я, в виде личного одолжения, прошелся бритвой по его макушке. В ответ я попытался ему втолковать, что она затупилась и ее надо направить, прежде чем употреблять. Для ясности я несколько раз провел ею по ладони, словно по точилу. Нармони сразу меня понял, выбежал из дому, притащил тяжелый шершавый камень, огромный, как жернов, и смотрел, торжествуя, всем видом выражая полную уверенность, что это именно то, что надо. Пришлось мне махнуть рукой и приступить к бритью. Нармони извивался и корчился, но, неколебимо веруя в мое искусство, стерпел все, как святой мученик.
Я не видел Нармони в бою. Но после этого случая я готов жизнью поручиться за его мужество и доблесть. Перед началом операции его голова была покрыта короткой ровной щетиной, когда же я закончил свои неловкие труды, она весьма напоминала сжатое поле, где прямо по стерне прошлись бороною. Славный вождь, однако, выразил мне живейшее удовлетворение, и я был не настолько глуп, чтобы оспаривать его.
XVII
Проходил день за днем, но никакой разницы в обращении со мною туземцев я не наблюдал. Постепенно я утратил ощущение времени, перестал различать дни недели и вообще погрузился в глубокую апатию, какая обычно наступает после особенно бурных взрывов отчаяния. И вдруг, ни с того ни с сего, нога у меня прошла – спала опухоль, утихла боль, я чувствовал, что еще немного и я совсем излечусь от недуга, так долго меня терзавшего.
Как только я смог разгуливать по долине в обществе туземцев, неизменно сопровождавших меня гурьбой, куда бы я ни направлялся, в моем отношении к миру появилась неожиданная гибкость, благодаря которой я стал совершенно недоступен мрачному унынию, еще недавно целиком мною владевшему. Всюду, где я ни оказывался, меня встречали с самым почтительным радушием; с утра до ночи меня кормили восхитительными фруктами и плодами; темноглазые нимфы заботились о моем благе; да к тому же верный Кори-Кори просто не знал, как мне еще услужить. Кто бы, право, мог лучше устроиться у каннибалов?
Правда, моим прогулкам были поставлены пределы. Дорога к морю для меня была отрезана недвусмысленным запретом, так что я после двух-трех неудачных попыток дойти до берега, предпринятых главным образом любопытства ради, принужден был отказаться от этой мысли. Не мог я надеяться и на то, чтобы пробраться туда тайно, незаметно, потому что тайпийцы сопровождали меня всюду и везде, и я не помню минуты, когда бы меня оставили в одиночестве. Да и зеленые отвесные кручи, обступившие верхний конец долины, где стоял дом Мархейо, исключали всякую возможность побега, даже если бы мне удалось ускользнуть из-под неусыпного ока моих стражей.
Но мысли об этом все реже посещали меня, я жил настоящим и гнал долой все неприятные думы. Теперь, любуясь пышной зеленью, среди которой я оказался погребен заживо, и созерцая, задрав голову, обступавшие меня величественные вершины, я представлял себе, что нахожусь в Долине Блаженных, а за горами нет ничего, одни заботы да суета.
День за днем я бродил по долине, и чем ближе знакомился с ее обитателями, тем больше убеждался поневоле, что при всех ее недостатках жизнь полинезийца среди этих щедрых даров природы куда более приятна, хотя, разумеется, гораздо менее интеллектуальна, чем жизнь самодовольного европейца.
Нагого страдальца, у которого зуб на зуб не попадает от холода под мрачным кровом небес и от голода живот подвело на бесплодных камнях Огненной Земли, без сомнения, можно осчастливить дарами цивилизации, ведь они облегчили бы его тяжкую нужду. Но изнеженный житель далеких Индий, который ни в чем не испытывает недостатка, кого Провидение щедро одарило всеми чистыми природными радостями жизни и оградило от стольких бед и недугов, – чего ему ждать от Цивилизации? Она может «развить его ум», может «сообщить ему возвышенный образ мыслей» – так, кажется, принято выражаться, – но станет ли он счастливее? Пусть участь некогда многолюдных и цветущих Гавайских островов с их ныне больным, голодным, вымирающим населением будет ответом на этот вопрос. Как бы миссионеры ни крутились, чем бы ни отговаривались, но факт остается фактом; и самый набожный христианин, если он человек непредубежденный, посетив эти острова, горько задумается, уезжая: «Увы! Неужели это плоды двадцатипятилетнего просвещения?»
В человеческом обществе на примитивной ступени блага жизни, правда немногочисленные и незамысловатые, распределяются на всех и притом достаются людям в самом чистом виде; а Цивилизация за всякое улучшение возмещает сторицей зла – беспокойством, завистью, соперничеством, семейными неурядицами и тысячами прочих неприятностей, которые все суть неизбежные порождения культурной жизни, складывающиеся в многоэтажное здание людского горя, какого совершенно не ведают дикие народы.
Правда, мне скажут, что зато они, эти заблудшие беспринципные души, – гнусные людоеды. Согласен; и это их очень дурная черта. Но она проявляется лишь тогда, когда их обуревает жажда мести врагам. И я спрашиваю, неужели простое поедание человеческого мяса настолько превосходит варварством обычай, еще недавно существовавший в просвещенной Англии, согласно которому у человека, признанного государственным преступником, то есть, быть может, виновного в честности, патриотизме и прочих «мерзких грехах», топором отрубали голову, внутренности доставали и бросали в огонь, а тело, рассеченное на четыре части, насадив на острые шесты, вместе с головой выставляли гнить и разлагаться в местах наибольшего скопления народа?
Дьявольское искусство, с каким мы изобретаем все новые орудия убийства, беспощадность, с какой мы ведем свои нескончаемые войны, беды и разорение, которые они повсеместно несут за собою, – всего этого вполне довольно, чтобы белый цивилизованный человек предстал самым кровожадным на земле существом.
Проявления его жестокости можно видеть и в нашей благословенной стране. Есть, например, в одном из наших Соединенных Штатов новый закон, порожденный, как нам говорят, исключительно соображениями милосердия: убивать злоумышленников постепенно, по капле иссушая кровь в их жилах, которую у нас недостает смелости пролить одним ударом и тем положить конец их мучениям, почитается куда более целесообразным, нежели вешать по старинке на виселице – и осужденному приятнее, и больше отвечает просвещенному духу времени; а между тем человеческий язык бессилен передать ужасные мучения, каким мы подвергаем несчастных, замуровывая их в камерах наших тюрем и обрекая на вечное одиночество в самом центре цивилизации!
Умножать эти примеры цивилизованного варварства нет нужды; оно причиняет несравненно больше зла, чем те преступления, за которые мы так праведно клеймим наших менее просвещенных братьев.
Я считаю, что название «дикарь» часто неправильно применяют, и, когда я думаю о пороках, жестокостях и всевозможных извращениях, которые пышным цветом расцветают в болезнетворной атмосфере нашей цивилизации, мне, право же, кажется, что если сравнивать обе стороны по их порочности, то человек пять жителей Маркизских островов, присланных в Соединенные Штаты в качестве миссионеров, оказались бы, во всяком случае, не менее полезны, чем такое же количество американцев в той же роли у них на островах. Я слышал как-то одного человека, который, рисуя безнравственность некоего тихоокеанского племени, сослался на то, что в их языке вообще отсутствует понятие «добродетель». Утверждение это было ни на чем не основано, но, будь оно даже правильным, на это можно бы возразить, что зато в их языке не найдешь тех живописных словечек, которые у нас составляют бесконечный каталог цивилизованных пороков.
При теперешнем моем умонастроении все в долине Тайпи представало передо мною в новом свете, и, наблюдая дальше за нравами ее жителей, я лишь укреплялся в этом моем благоприятном впечатлении. Одна их черта особенно меня восхищала – неизменное веселие, царящее в долине. Заботы, печали, обиды и огорчения там словно вовсе не существовали. Часы и дни проносились радостной прытью подобно смеющимся парам в деревенской кадрили.
Ведь в долине Тайпи не имелось ни одного из тех ужасных изобретений, какими житель цивилизованного мира сам отравляет себе каждый день; ни просрочек по закладным, ни опротестованных векселей, ни счетов, предъявленных к оплате, ни долгов чести не было в долине Тайпи; не было там неумолимых портных и глупых сапожников, во что бы то ни стало требующих мзды; не было неотвязных заимодавцев и окружных прокуроров, покровительствующих сутягам и скандалистам и науськивающих их друг на друга; не было бедных родственников, постоянно занимающих свободную комнату в вашем доме и создающих неприятную тесноту за вашим семейным столом; не было бедных вдов с детишками, пухнущими с голоду от щедрот равнодушного мира; не было нищих и долговых тюрем; не было в Тайпи и чванливых бесчувственных набобов; или попросту, если выразить это все одним словом, не было Денег, «этого корня всех зол».
В этом заповедном уголке счастья не было злобных старух, жестоких мачех, усохших старых дев, чахнущих в разлуке влюбленных, закоренелых холостяков и равнодушных мужей, меланхоличных юношей, сопливых мальчишек и орущих противных младенцев. Все было веселье, жизнерадостность и ликование. Сплин, ипохондрия и мировая скорбь бежали оттуда и попрятались в расселинах скал.
Можно было видеть, как ребятишки резвятся ватагой целый день напролет, не ведая ссор и соперничества. У нас в стране они и часа не поиграли бы вместе, не передравшись и не покорябав друг другу рожицы. Проходили молодые женщины – и их не снедала взаимная зависть, они не пыжились одна перед другой, корча из себя утонченных красавиц, и не вышагивали, затянутые в корсеты, прямые и скованные, как заводные куклы, а просто шли, свободные, непритворно веселые, непринужденно грациозные.
Были определенные места в этой солнечной долине, где женщины обычно собирались, чтобы украсить себя гирляндами цветов. И когда они, лежа в тени роскошных рощ, среди рассыпанных вокруг только что сорванных цветов и бутонов, плели благоуханные венки и ожерелья, право же, казалось, что это веселая свита самой Флоры собралась на празднество в честь своей госпожи.
А у молодых людей всегда были какие-то занятия и развлечения, дарившие им постоянное разнообразие. Но удили ли они рыбу, выдалбливали челны или натирали до блеска свои украшения – между ними никогда не появлялось и намека на спор и соперничество.
Зрелые мужи-воины, сохраняя спокойную величавость осанки, ходили из дома в дом, и повсюду их встречали как самых дорогих гостей. А старики, которых в долине было очень много, редко когда подымались со своих циновок, они лежали часами, покуривая трубки в своей компании, и знай себе болтали со свойственной преклонному возрасту словоохотливостью.
Всеобщее довольство, царившее в долине Тайпи, проистекало, насколько я мог судить, из того ощущения бодрости и физического здоровья, которое испытывал когда-то и впоследствии описал Жан Жак Руссо. В этом отношении тайпийцам жаловаться не приходилось, ибо болезней они не знали. За все время, что я пробыл у них, я видел только одного больного человека и на их гладкой здоровой коже не встречал пятен и прочих следов перенесенных недугов.
Но однажды этот мир и покой, мною здесь воспеваемый, был нарушен событием, показавшим, что и жители тихоокеанских островов не ограждены от влияний, подрывающих общества более цивилизованные.
Я прожил к этому времени в долине Тайпи довольно долго и удивлялся, что отчаянная вражда, которая существует между тайпийцами и обитателями соседней долины Хаппар, не приводит к военным столкновениям. Правда, доблестные тайпийцы любили яростными жестами выражать свою ненависть к врагам и отвращение, которое у них вызывали каннибальские наклонности хаппарцев; правда, они часто распространялись о том, сколько обид и какой урон претерпели от своих злодеев, тем не менее с терпимостью, достойной подражания, они проглатывали оскорбления и не лезли за расплатой. А хаппарцы, укрывшиеся за своими горами и ни разу носу оттуда не показавшие, думалось мне, вовсе и не заслуживали той лютой ненависти, какую выражали по отношению к ним героические обитатели здешней долины, и я считал, что приписываемые им зверства были сильно преувеличены.
С другой стороны, пока грохот военных действий еще ни разу не всколыхнул мирного сна долины Тайпи, я начал сомневаться и в том, насколько правдива молва о воинственности и свирепости племени тайпийцев. Ну ясное дело, думал я, все эти рассказы об их беспощадной вражде, смертельной ненависти и об адской злобе, с какой они якобы пожирают из мести безжизненные тела поверженных врагов, все это – обыкновенные басни; и должен признаться, я испытывал нечто похожее на разочарование, оттого что худшие мои опасения не оправдались. Так, должно быть, чувствует себя мальчишка-подмастерье в театре, где он ожидал увидеть зажигательную трагедию с преступлениями и убийствами, а ему, чуть не плачущему, вместо этого показывают салонную драму.
Естественно я считал, что судьба свела меня с людьми, жестоко оклеветанными, и передумал много назидательных мыслей о том, сколь зловредна и могущественна дурная слава, способная дикарей, которые смирнее ягнят, представить ордой кровожадных убийц.
Но дальнейшие события показали, что такие выводы были слишком поспешны. Как-то в полдень я коротал время в доме Тай, лежа на циновках в обществе нескольких вождей, и сам не заметил, как погрузился в сладостную дремоту; вдруг всех всполошил страшный крик – туземцы похватали копья и бросились наружу, за ними, разобрав висевшие на стене шесть мушкетов, выбежали шестеро самых могучих вождей, и все скоро скрылись в ближней роще. Все эти действия сопровождались громкими восклицаниями, при этом слово «Хаппар» повторялось на все лады и чаще других. Мимо дома Тай пробегали все новые группы тайпийцев и устремлялись на тот край долины, где проходила граница с хаппарцами. Вскоре в холмах грянул мушкетный выстрел и сразу же – крик многих глоток. И немедленно все женщины, собравшиеся в роще, подняли страшный шум, как они это делают всегда и везде в минуту волнения и опасности, сами при этом успокаиваясь, но пугая других. В этом случае они так оглушительно и так долго галдели, что, даже если бы все шесть мушкетов палили в это время залпами среди соседних холмов, я бы их все равно не услышал.
Когда эта женская канонада немного утихла, я снова прислушался к тому, что происходило на склонах. Вот снова бухнул мушкет и снова – вой множества голосов. Потом – тишина, которая тянулась так долго, что я уже начал подумывать, не сговорились ли воюющие стороны о перемирии. Но нет, снова – «бах!» – и снова крики. После этого в продолжение двух часов ничего существенного не происходило, если не считать того, что один раз донеслись какие-то негромкие возгласы, словно аукались мальчишки, сбившиеся с пути в лесу.
Все это время я стоял на лужайке перед домом Тай, выходящей прямо на Хаппарские горы, и со мной не было никого, кроме Кори-Кори да кучки тех престарелых дикарей, о которых была речь выше. Впрочем, они и не подумали приподняться со своих циновок, и вообще нельзя было сказать, знают они о том, что происходит, или нет.
Кори-Кори, тот, видно, считал, что свершаются великие события, и усердно старался внушить мне сознание значительности происходящего. Каждый звук, доносившийся к нам, служил для него новой важной вестью. Всякий раз при этом он, словно ясновидец, принимался изображать передо мною в подробностях, как именно грозные тайпийцы сейчас карают дерзкого врага. «Мехеви ханна пиппи нуи Хаппар!» – то и дело восклицал он, сопровождая свои иллюстрации этим сжатым объяснением, чтобы я лучше понял, сколь дивные чудеса доблести вершит его племя под водительством своего военачальника.