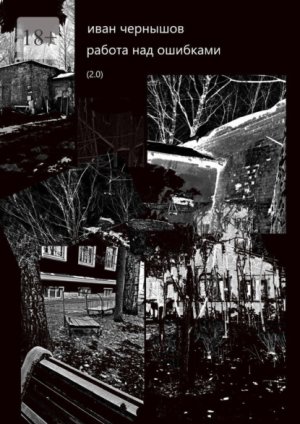
Фотограф Алёна Владимировна Кидун
© Иван Сергеевич Чернышов, 2024
© Алёна Владимировна Кидун, фотографии, 2024
ISBN 978-5-0062-6876-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Эксплуатация Икаруса
Дмитрий Викторович Голобородько был человеком, которому во что бы то ни стало хотелось вырваться за всякие пределы логического, умопостигаемого и общепринятого: ему хотелось разрушать фундаменты, подвешивать все прямо в воздухе. Это был Икар своего времени.
Говоря «Икар», я хочу сказать, что в Голобородьке уже изначально была заложена некая предрасположенность к трагическому концу, к которому он, пожалуй, и не мог не прийти: можно сказать, что он подсознательно искал какой-то жертвы. Мне кажется, что и исчезнуть Голобородько мог под влиянием какого-нибудь злоумышленника, который чего-то ему наговорил, а тот и поверил… Но эти выводы я предпочту не продолжать.
Я очень опасаюсь и Алины Юрьевны, Голобородькиной жены, которую видел всего один раз, через три дня после того, как Голобородько пропал. Она с Голобородькиной мамой (как же ее звали? Марина… Александровна?.. нет, сейчас не вспомню) позвонила мне и спросила, не знаю ли я, где Дмитрий Викторович, сказала, что он пропал и что полиция приняла их заявление, а я, оказывается, чуть ли не единственный Голобородькин друг, так что мне все равно придется давать показания. Словом, они меня пригласили домой, как я понял, чтобы я их подбодрил и успокоил.
Оказалось, они знали обо мне очень много из Голобородькиных рассказов, знали, конечно, что я не совсем ему и друг, а на самом деле вообще-то его пациент (и эта Голобородькина болтливость, знаете, тоже могла повлиять на его исчезновение). Но не подумайте, что я здесь что-то сочиняю единственно потому, что хочу Голобородьке отомстить, нет, я лишь перескажу то, что он сам мне говорил, и я, повторюсь, опасаюсь, что Алина Юрьевна (в девичестве Таблицына) подаст на меня в суд за эти рассказы, ведь они, пожалуй, рисуют Голобородьку совсем чудаком, которому, наверное, самому было бы впору быть не доктором, а пациентом.
Но, поскольку пациентом все же был я, мне трудно не тревожиться, что моим рассказам не поверят, хотя у меня была только депрессия, а не шизофрения или деменция. В общем, вы можете не верить, а я пока начну вспоминать.
Так вот. На наших сеансах говорил чаще всего Голобородько. Видимо, это была такая терапия, которая, надо отдать должное, мне более или менее помогла, за что я был Голобородьке всегда благодарен. Возможно даже, что он специально сочинял про себя глупости, чтобы развлечь меня в хандре, возможно, он и родне про себя другие истории сочинял, потому что ему хотелось придумать о себе легенду, пусть и выставив себя совершенным чудаком, но все-таки выделиться из тысяч и тысяч людей.
Например, он всегда на работе ходил с этой блестящей круглой металлической железкой на голове, как у окулистов (не знаю уж, где он ее достал), говорил, что берет взятки у призывников нарисованными динарами с его изображением (мне кажется, никто ему ни одной такой купюры и не нарисовал), в общем, много чего говорил такого, что я уже не вспомню, поэтому я лучше просто опишу то, что еще не забыл, только пытаясь придерживаться хронологии Голобородькиной жизни.
Мы познакомились, когда Голобородьке было уже около тридцати лет, впрочем, наверное, меньше, может быть, 28. Да, около того. Он недавно женился на Алине Юрьевне, говоря о которой, он каждый раз не забывал назвать ее «самым сексуальным существом на планете». Представления о привлекательности у всех разные, и я Алину Юрьевну красавицей не нашел: она была моей ровесницей, немного полноватой (не немного), низенькой (метр пятьдесят) и, уж извините, с заметным косоглазием. Работа психотерапевтом, как мне кажется, угнетала Голобородьку: он, в нарушение всяческой тайны, жаловался мне, что другие его пациенты – алкаши, слабовольные нехорошие люди, награжденные комплексами от жен и мамаш, и все в таком духе.
«Но ты, – говорил он. – Ты какое-то странное исключение, в тебе сидит какая-то ничем не выкуриваемая черная тоска, а по чему – ты и сам не знаешь. Как же я помогу тебе?»
Разведя руками и заключив, что, видимо, никак, он переходил к разговорам о себе.
Раза четыре он успел рассказать мне историю о поездке в летний лагерь после пятого класса.
В лагере Голобородько ни с кем не мог найти общий язык, а с каким-то самым задиристым мальчишкой, который был на год его помладше, он, разумеется, в первый же день подрался, но не до крови и даже без синяков.
И вот как-то раз маленький Голобродько оказался один в комнате, где на столе лежали спицы.
«Я тогда абсолютно машинально, не вполне отдавая себе отчет, взял эти спицы и вставил – одну за другой – в розетку… Конечно, меня сразу же ударило током, но я не сразу отдернул руку, а прошло около секунды, потому что я очень четко успел осознать: ну да, ударило током, но ведь так и должно было быть», – вспоминал он, и его, похоже, не на шутку волновало до сих пор, зачем он это сделал. Ведь никакого умысла в таком поступке не было.
А в последний день пребывания в лагере Голобородько позволил маленькой собачке укусить его за ногу. Неизвестно, откуда взялась эта собачка, но Дмитрий Викторович вспоминал, что она была очень злая, и вот в последний день он стоял уже с вещами и ждал автобуса, когда эта собачка подбежала к нему и стала лаять, Голобородько отпрыгнул за маленькую оградку, где раньше росли цветы, так что собачка не могла его достать, но в какой-то момент Голобородьке это надоело, он переступил оградку, и собачка цапнула его за ногу, в чем он никому в лагере не признался, да и родителям только на следующий день сказал.
Потом его в классе где-то год травили, как говорил Голобородько, из-за бедности; особенно он об этом не распространялся, но можно было понять, что его не били, а только обзывали. Потом травля как-то разом прекратилась, благодаря ловко пущенным Голобородькой слухам, что он участвует в каком-то чуть ли не секретном stand up кружке (тогда «stand up» не особенно у нас употребляли, говорили, что у них там что-то типа закрытого камеди-клаба), пользуется уважением среди других юмористов, врал даже, под какую музыку кто выходит. Врал-то, точнее, всего одному однокласснику, который с Голобородькой еще общался, а тот уже остальным пересказывал, языки, они без костей же. И причем тогда никто никаких доказательств не требовал, все как-то на слово во все поверили и от Голобородьки отстали, хотя и напрямую никогда об этом фантастическом клубе никто не спросил, видимо потому, что за глаза о нем узнали, может быть, хоть какая-то совесть у тогдашних детей еще была, это сейчас, как мне кажется, даже детям уже на все нужны доказательства, а взрослым – доказательства отсутствия.
Да, Голобородько врал про клуб, но лично я его не осуждал, считая, что врать – это ничего плохого, лишь бы все понимали, когда ты врешь (тогда это уже худслово). Ну а Голобородько – он был просто шутник.
Он был шутник, он любил подшучивать над другими, хотя всегда оказывалось, что смеется-то он, прежде всего, над собой. Он устраивал абсурдные, но при этом безвредные провокации на людях, признавался, что занимался троллингом в сети до тех пор, пока рунет не стал массовым и это стало бесполезно, рассказывал, что и телефонным хулиганством любил позаниматься, всегда прибавляя, что телефонным хулиганом-то он был, но телефонным террористом – никогда. И занимался-то он подобными вещами не только будучи школьником, но уже и студентом, то есть когда ему уже было за двадцать.
О годах студенчества он рассказывал меньше, чаще всего речь шла о его вражде с деканом Лавровым, который мало того, что был в своей сфере первым светилом во всем городе и слыл запредельным знатоком человеческой души, так еще и был писателем, выпускавшим книги аж в самой первопрестольной. Книги его были популярны, они несли в себе какую-то гиперактивную гражданскую позицию, Лавров был знаменит всякими поездками по России и ближнему зарубежью, где он всегда болтался возле раздуваемых в новостях событий и всегда с видом эксперта пояснял, кто прав, а кто виноват, об этом же писал в своих книгах, об этом же болтал без умолку на лекциях и в частных беседах, в интервью и ВКонтакте, в Одноклассниках и в Моем мире, в различных иностранных соцсетях и на модном молодежном форуме.
Вражда, очевидно, состояла в том, что Голобородько не мог примириться с тем фактом, что такая знаменитость живет в одном с ним городе и везде за все назначает виноватых, ведь у Лаврова виноватый всегда находился, ни в чем он не обвинял только четырех человек: Президента, Главу Одной Национальной Республики, Ведущего Одной Новостной Программы и Патриарха – о них он говорил только елейно-сладкие вещи, да и можно ли было бы иначе отзываться о таких прекрасных людях, благослови их Бог и пошли им здоровья!
Лавров считал Голобородьку поверхностным, по всем его предметам у Голобородьки были только тройки, на первом же экзамене Лавров не вытерпел и плюнул в Голобородьку фразой «Зачем же вы к нам поступили, вы же совсем в людях не разбираетесь».
«Так вот я и хочу разобраться», – ответил Голобородько.
«А я вот не очень-то верю, что хотите, – Лавров вскочил с места и принялся разгуливать по аудитории. – Откуда у вас… такая нетерпимость?».
«К кому нетерпимость?» – насупился Голобородько.
«Да вот ко всем, кто от вас отличается, – походив по аудитории, Лавров встал прямо над душой у Голобородьки.
– Вы прекрасно знаете, до чего тут дойти можно. Гитлер тоже начинал…»
«Да, но костюмы, костюмы! – перебил Голобородько.
– Я так хочу Почты России новую форму примерить!»
«К чему вы это?.. Стыдно, молодой человек, что вы такое позволяете себе вслух…» – заключил Лавров, взял у Голобородьки со стола зачетку и, вздохнув, поставил в ней «удовлетворительно».
Голобородько боялся, что Лаврова со временем произведут в классики, ведь этот процесс уже шел полным ходом. Больше Лаврова его сердили только Солженицын и Пелевин.
«Это что? Писатель? – сердился Голобородько. – Как он позволял себе над речью издеваться! „Всколобуздилось-то солнышко, зафурычилось по небушку, заличехвостило лучиньки свои по черноземельке фофудьственной!“ Тьфу, а не писатель. И врет, врет, все время врет. А Пелевин? Как это можно – называть Пелевина по имени-отчеству? Вы же не называете гопника Коляна Николаем Сергеевичем, вот и Пелевин – такой же гопник от литературы».
А в литературе у нас, конечно, разбирается каждый, вот и Голобородько разбирался тоже, и я добросовестно передаю здесь его мнения, потому что не могу же, говоря о жизни, не говорить и о мнениях, ведь верно? Кроме того, я эти мнения никак не комментирую, хотя и мне было непонятно, что там и где зафофудьилось и кто кого там у этих писателей из девяностых, пардон, трахнул.
«Кончилось, кончилось их время!» – кричал Голобородько, затем выходил из кабинета и повторно кричал в коридор, что время ихнее закончилось.
В политике Голобородько тоже разбирался.
«А ты любишь Ельцина?» – как-то спросил он меня. Прежде чем я ответил, он протянул мне копию своего письма в областную администрацию, в котором он предлагал переименовать сквер Немцова в сквер Бориса Немцова, ну и там еще много разных переименований, которые иногородним читателям мало что скажут, вроде переименования улицы Мельникайте в улицу Орбакайте.
Видимо, занятия такой вот «ерундой» он и считал для себя высшим творчеством, жизнетворчеством, сопоставляя себя, вероятно, даже с самим Сократом.
Одним из наиболее распространенных его творческих актов были хождения. На первом курсе, обнаружив, что вместе с ним учится много представительниц мрачных субкультур, Голобородько явился на занятия в розовой рубахе с черной повязкой, на которой был изображен этот модный у них египетский крест анкх. Он признавался мне, что эффект был произведен, на него шикали и требовали снять повязку, чего он ни за что не сделал и ходил перед ними демонстративно.
В другого рода хождениях Голобородько разыгрывал из себя кого-то вроде коммивояжера, хотя риск этих хождений казался мне неоправданно высоким: Голобородько ходил по квартирам (иногда довольствовался разговорами по домофону) и предлагал людям купить разнообразный хлам, он распечатал на принтере листочек «ЧП Голобородько. Разные товары», приклеил скотчем к школьному ранцу и стал ходить по квартирам с видом самым надменным, всегда начиная разговор с фразы «Может, вам и не надо…», предлагал людям купить то сметанки, то очиститель экранов, то колесные диски, то светоотражатели, то коллекционные издания Пушкина, то диски с порнографией, то вязаные шапочки, то повсеместно знаменитые стельки «Атлетизм».
И Лавров, похоже, был не совсем прав, утверждая, что Голобородько не разбирался в людях, ведь, по словам самого Голобородьки, его ни разу не побили во время этих хождений, значит, он, вероятно, все же умел найти подход к разным людям. Хотя, конечно, он ничего не заработал, потому что ни одного из озвучиваемых товаров он с собой не носил. Однажды ему удалось даже составить договор с какой-то замужней дамой, что его фирма привезет к ней домой робот-пылесос, но подписями на бумажке все и закончилось – это только в романах зычных австралийских певцов всякие дельцы непременно оказываются вовлеченными в пикантные сцены, а Голобородько просто попрощался и удалился с кулфейсом.
Прежде чем я расскажу следующую историю, я хочу подчеркнуть, что привожу ее максимально достоверно из моей памяти, которую, конечно, из-за болезни нельзя сравнить по надежности с жестким диском персонального компьютера, более того, со мной иногда бывает мигрень, когда я способен мыслить только очень туго и со скрипом. Вот буквально вчера я испытал страх умственного бессилия, это была настоящая паника, когда я наделал вот в этом документе кучу ошибок в орфографии и особенно в согласовании падежей, пришел в отчаянье, два часа (нисколько не преувеличиваю) вспоминая слово «карт-бланш», выпил несколько разных таблеток, пытаясь преодолеть этот кошмар, и вроде наконец преодолел.
Так вот, к чему я вспоминал слово «карт-бланш»: мне казалось, что своими выходками Голобородько хотел выиграть у самой природы этот карт-бланш и как-то преобразиться, полностью трансформировать свою личность. Я слышал, что какой-то образ из себя настоящего принято создавать у учеников Кастанеды (о, несчастные сектанты!), но к Голобородьке это точно не относилось: это был настоящий ледокол адогматизма, он не признавал никаких учителей и авторитетов, за что прослыл нигилистом, начитавшимся Сартра. Однако я уверен, что, во-первых, Голобородько Сартра не осилил (это я понял из нескольких наводящих вопросов), а во-вторых, что он совсем не был нигилистом, ведь я это знал по характеру его отношений с Алиной Юрьевной. О, я даже завидовал его человеколюбию, не только тому, что он был таким «Икаром» и «ледоколом»: я бы не смог полюбить девушку с косоглазием, да что там, я не смог бы и вытерпеть дружбы с таким скучным человеком, как я сам, в этой связи мои рассказы и правда выглядят несколько неблагодарно, только я ведь не вру, клянусь вам своей памятью, я нигде здесь не соврал.
Но возле человеколюбия всегда вьются демоны, и я тут же думал, что он только из-за косоглазия-то и полюбил Алину Юрьевну, а не будь косоглазия, он бы и внимания не обратил. Да и дружба… Между нами бывали разногласия, я не раз просил Голобородьку не пересказывать мне подробности болезни других его пациентов, ведь должна быть какая-то тайна, и мы по этому поводу спорили, мы спорили много и о музыке, но он всегда первым предлагал мириться, ему непременно надо было со мной помириться до того, как я уйду: видимо, Голобородько не забывал, что он врач, и не может оставлять депрессивного больного в таком состоянии (демоны подсказывали, что для Голобородьки я был только «сложным случаем» в его практике, мое выздоровление сильно бы подняло его самооценку, хотя этого и следует ожидать, когда дружат врач и пациент), но, пускай прозвучит даже льстиво, Голобородько был очень благородным человеком и не считал слабостью предложить мир первым.
Эх, знаете, в этом наши отношения походили на дружбу между Степаном Трофимовичем и хроникером из «Бесов», но мы были почти одного возраста, Голобородько был лишь на несколько лет старше, да и формальные отношения «доктор – пациент» делали нашу дружбу какой-то… странной, определенно странной, мне не отделаться от этого ощущения.
Но хватит обо мне, я опять сделал огромное вступление, меня раздражает «казенность» слога и эпигонство мысли… Что делать, может, потом переработаю, пока я хочу только записать все истории, связанные с Голобородькой.
Итак, это было еще одно хождение, в котором участвовал я лично. Мы приехали на автобусе на рынок, зашли там в мясные ряды, и Голобородько стал просить продавщиц слить ему в стеклянную банку кровь животных, которая нужна ему для урока, ибо он – учитель биологии. Я стоял в отдалении и только наблюдал. И удивительно, но ему практически сразу налили крови, наклонив лоток, где была выставлена коровья печень, кровь потекла в банку и довольно быстро ее заполнила, а ведь банка была грамм на четыреста, не меньше. Затем мы просто разъехались по домам, кровь он забрал с собой, и мы об этом случае больше не разговаривали, а спустя недели две он как-то внезапно мне сказал:
– Да… А помнишь, мы за кровью ездили?
– Помню, а зачем она тебе была нужна?
– Да просто так, посмотреть, нальют – не нальют. Я ее куда-то в угол поставил и потом забыл, вчера вспомнил, достал, открыл… Господи, меня чуть прямо в эту банку не стошнило! Такой был запах, ты таких не нюхал! Ох, что ты! Я закашлял, побежал сразу в ванную и в раковину смыл. Кровь уже какая-то натурально коричневая была, как… ну, ты понял. А потом на сливе несколько таких червячков белых осталось, меня снова чуть не вырвало… опарыши… может, это были опарыши? Черт их знает, как они выглядят. Вот такое мы едим, – заключил Дмитрий Викторович, вставая из-за стола и подходя к окну.
Голобородько не пропускал ни одной встречи с поэтами, куда он ходил не ради самих поэтов, а чтобы послушать вопросы от наших горожан, казавшиеся ему до неприличия глупыми.
Легко, конечно, называть других глупыми, выставляя себя исключительно со стороны иронической и мнения не высказывая, да только Голобородько щеголял, главным образом, самоиронией, что для общества нашего было даже и неприлично, ведь у нас каждый уверен, что он себя не на помойке нашел, в чем я, должен признаться, весьма и весьма сомневаюсь.
Так вот, когда на встрече с каким-то мелким, но московским, однако же, поэтом один местный восторженный паренек задал пронзительный вопрос «Когда же у нас в литературе появится новый гений уровня Толстого, Достоевского?», Голобородько поднялся и ответил за москвича:
– Вот он, гений уровня Толстого. Это я.
И поспешил покинуть аудиторию под смех почтенной публики.
Историю эту Голобородько рассказывал торопливо, перескакивая опять к Лаврову, точнее, к их диспуту о майдане: Лаврова рассердило, что Голобородько почему-то не имеет своего мнения по этому острому вопросу.
– Пускай они сами разбираются. На что им мое мнение?
– Оно не им, а самому вам нужно. Съездили бы сами, посмотрели. Вот я на майдан ездил и своими глазами видел.
– А я не видел, и мне не надо.
– Да ведь вы же сами, кажется, украинец? – после паузы спросил Лавров, прищурившись.
Голобородько ничего не ответил, а только поскакал немножечко на месте, а затем и удалился с самой веселой улыбкой на свете.
Голобородько не любил и Гоголя… Знаете, мне все кажется, что я записываю эти обрывки воспоминаний не в компьютере в текстовом редакторе, а на листке обоев, настолько все разрознено и не прибрано, наспех зафиксировано, в кучу свалено, даже не совсем по хронологии… будто эта свалка моей памяти – как несколько скетчей, набросков для будущих сюжетов, из чего затем кому-нибудь удастся что-нибудь приличное состряпать, потому что самих сюжетов в принципе очень мало, мы чаще видим их интерпретации.
Например, шукшинский сюжет о Рыжем другие писатели интерпретировали бы так:
Интерпретации рассказа Шукшина «Рыжий»
Когда Рыжий ударил грузовик обидчика, тот как-то весь накренился, перевернулся и загорелся, а затем и взорвался, и голова обидчика, силою взрыва оторвавшаяся от бездыханного тела, страшно взирала на нас из канавы.
Ударив нас, обидчик поспешил скрыться, и Рыжий долго и озлобленно глядел ему вслед, но видел лишь верхушки вязов, слышал лишь пение вальдшнепов и думал, как хорошо бы поохотиться в здешних краях. И он простил ему.
И стали мы, значит, того обидчика нагонять. Нагнали, и Рыжий его спрашивает:
– Чего, – говорит. – Бодаешься?
– А чего ж мне не бодаться? – обидчик отвечает. Стали препираться, да не заметили, как оба в канаву упали. Бывает же такое!
– Неужели вы ничем не ответите обидчику? – недоуменно спросил я Рыжего.
– Лень, – ответил Рыжий и уснул за рулем.
– Я ударю ваш самосвал, господин Р., – сказал чиновник.
– Но почему именно мой?
– Я не уполномочен отвечать на этот вопрос, господин Р.
– Но когда я увижу мой самосвал?
– Вы его не увидите, господин Р. Я лишь уведомляю вас о том, что ударю его.
Чиновник удалился, а господин Р. в ту же ночь превратился в клеща.
– Надо отомстить обидчику! – сказал я.
– Подожди, давай сперва пообедаем, – ответил Рыжий и разложил на руле:
• четыре бараньих ноги;
• двадцать молочных поросят;
• семнадцать рябчиков в винном соусе;
• десять бочонков хорошего бургундского;
• восемнадцать жареных фазанов;
• двадцать четыре говяжьих языка;
• сорок семь мисок гороховой похлебки для аппетита.
Голобородьку – я сейчас додумался – было бы легче объяснить через фигу в кармане. Так вот: Голобородьке хотелось, чтобы окружающие думали, что у него фига в кармане тогда, когда фиги не было, и чтобы они думали, что фиги нет, когда она там была, и всякий раз осознание того, что все наоборот, приносило бы им определенный стресс. Зачем такой человек пошел лечить людей? Не знаю, но меня он вылечил, хотя вам сейчас, наверное, кажется, что и не полностью.
О детстве Голобородьки я знал только уже рассказанные истории про лагерь и про травлю, а вот в его юности самым болезненным впечатлением, которым он со мной поделился, была внезапная, слишком уж скорая женитьба его старшей сестры (сестре было 20, Голобородьке – 17) и тоже практически моментальный ее отъезд к мужу в Братск. Поскольку о муже было мало что известно, Голобородько представлял его явным подлецом, что могло, впрочем, оказаться правдой, а вот город Братск Голобородько отчего-то поместил в Белоруссии, что придало ходу его мыслей несколько неверное направление: «Надо же, выскочила замуж за иностранца, уехала к нему за границу, но как мелконько-то: не в Неаполь, а в Братск, в Белоруссию!» – пересказывал мне Голобородько свои тогдашние мысли.
Необходимо отделять образ человека от реального человека. За мной должно быть закреплено право создавать для себя свой собственный образ каждого человека, не имеющий ничего общего, либо имеющий крайне мало общего с живущим или жившим человеком из плоти и крови. Я имею право на своего Ельцина, работающего кассиром в кегельбане, своего Сюткина, промышляющего браконьерством в Амурской области, и на свою Эвелину Бледанс, дородную доярочку из села Пахотное. Потому что, черт возьми, нет никакой разницы между действительностью и вымыслом в том плане, что все, что говорится, – это вымысел, а искать правду – это только потеря времени. Воспринимать все нужно исключительно как fiction и оценивать только с этой точки зрения. Мне нет дела до того, правду ли говорит Киселёв: для меня это фельетоны разной степени занимательности. Только с таким отношением ты сможешь не сойти с ума, запомни это и применяй с успехом в повседневной деятельности.
– Вот другой у меня есть еще пациент, – бессовестно нарушал врачебную тайну Голобородько. – Он, говорю тебе совершенно точно, симулянт, ипохондрик. Ему нравится ощущать себя больным, причем именно психически. Ставит себе диагнозы по Википедии. Сидит на форумах, читает про антидепрессанты. Прописывает сам себе, пьет (и продает же ему какая-то сволочь аптекарь!), ну и, конечно, начинает действительно слетать с катушек. Главное, диагнозы такие себе находит редкие… Тесты проходит, причем это все с терминологией, с кодами МКБ… F там… по всей грамоте. Знаешь, к чему я? А вот к этой пресловутой зоне комфорта. Он нашел себе в болезни, в ненормальном состоянии, зону комфорта, гнездо себе свил. И я могу тебе сказать, что таких по всей России уже сотнями исчислять надо.
– Не понимаю, – сердито пробурчал я.
– Да вот я и вывожу к тому, что у тебя другой случай. У него под этим бегством в болезнь все же проглядывает лентяй Обломов, а у тебя проблема, видимо, связана с недостатком серотонина в синаптической щели мозга.
Я промолчал, потому что упоминание Обломова унесло меня в какие-то далекие дебри ассоциаций, из которых я уже по пути домой вытащил умозаключение «Обломов – русский Шопенгауэр», оригинальность которого я не стал проверять, потому что оно мне очень понравилось; в лифте я стал думать о бытовом пессимизме, а дома, морщась от дешевых покупных котлет, мысленно прошелся по всем этим современным терминам типа минимализма как эвфемизма квиетизма, метамодернизма как еще одного эвфемизма, потому что, конечно, преодоление необходимо, и вполне ясно, что теоретическое его обоснование не может появиться в одно и то же время с потребностью в преодолении, хотя я уже давно пользовался словечком «неомодернизм» для описания нашего времени, посматривая новости и непременно при этом подмигивая томику Кафки на полке, однако у меня не было союзников, кроме Голобородьки, да и он не вдавался в такие малозначительные подробности, которым я уделяю столь много килобайт. Хамоватые наши почти ровесники, адепты постмодернизма с замашками гопов из падика ставят, как обычно, телегу впереди дохлой лошади, ведь, как они считают, мы можем поставить телегу слева от лошади, справа от лошади, наискосок от лошади – посмотрите, сколько получается комбинаций, как приятно этим забавляться, однако ведь эдак мы ни на шаг не продвинемся, потому что для этого нам надо или воскресить лошадь, или запрячься в телегу самим, что для интернет-поколения неприемлемо, и лучше уж тогда никуда не идти, пес его знает, что там вообще впереди. Конечно, я не могу брюзжать на молодежь, ведь я сам молодежь, а не Михаил Задорнов, но я не без страха обнаружил, что ребята, которые всего на два-три года моложе, представляют уже совсем другое поколение, в то время как мы с Голобородькой, хотя разница в возрасте между нами чуть больше, все-таки из одного поколения.
Когда я (значительно более путано – да, такое возможно) изложил эти беспокойные мысли Голобородьке на следующем сеансе, он согласился и добавил, что у него был на эту тему короткий диалог с Лавровым, когда Лавров многозначительно, как обычно, сказал: «Вы много не рассчитывайте на смену поколений. Уже те, кто года на два вас помладше, вас совсем не понимают, а наши ценности разделяют».
«Это вы им навязываете», – возмутился Голобородько.
«Они сами рады, что навязываем».
И вот от этого пересказа рассматриваемый вопрос у меня в голове прояснился окончательно: наше поколение демографической ямы оказалось и в яме социально-творческой, если можно так выразиться. И выбраться из ямы можно было, только предав себя, что многие носители культуры падиков, читающие при этом Полибия и этого, лысого-то… Фуко, да, и сделали с успехом, сопутствующим им на каждом шагу. Ну, благословим же этих агностиков в блаженной их трусости, ибо искренне заблуждающийся – это еще не лжец.
– Я вот думаю: а смог бы я любить Алиночку, если бы я был незрячим? – неожиданно спросил сам себя Голобородько и принялся рассуждать на эту тему, но я не слушал.
Мне не нравится форма. Лист обоев. Линейно… когда Голобородько пропал, его мать с женой Алиночкой пригласили меня как единственного друга, я неприятно удивился, что мой номер был написан карандашом на обоях… В зале горела дорогая, даже вычурная люстра, лампочки которой по форме напоминали пламя от свечи… Запомнилась глянцевая телепрограмма на новом журнальном столике, зефирки… При разговоре его мать странно трясла головой, напоминая покачивающеюся бульдога с бардачка машины. Я запомнил еще что-то… Они сказали, что «ничего не знали» о Голобородькиной жизни, мне это показалось враньем… Когда Алина пошла на кухню за кофе, мать Голобородьки придвинулась ко мне и шепнула:
– Мне кажется, он женился на ней только из-за косоглазия.
– Это в его характере, – брякнул я.
– Ему бы самому, прости Господи, лечиться, а не других лечить.
Они просили рассказывать, я опасался, что это выходит сплетня, думаю сейчас, что и эти отрывистые заметки – сплетня, вот уж не предполагал, что до такого дойду, но учитывая, что Голобородько пропал… В провинции мир скукоживается, как чернослив… Тогда Голобородько долго говорил о том, как чувствуют любовь незрячие, я слушал лениво, не понимая, к чему он клонит, затем, снова за котлетами, уже после исчезновения Дмитрия Викторовича, меня кольнуло страшное предположение, которое я не без волевых усилий отогнал; а тогда он перешел к притче о слепцах и слоне, говорил, что окружающая темнота всегда выступает предметом исследования, а нет познания без ожидания награды, награда нужна постоянно, недаром в браузерных играх есть daily rewards, вот так и дни проходят в ожидании награды. И я закивал, добавил, что это может быть и в буквальном смысле, можно вспомнить того же Брежнева.
Нас с Голобородькой объединяло чувство культурного протеста, подчеркнуто аполитичного для меня, однако острого в неприятии окружающей культуры – и высокой, и низкой, и средней. Когда Лавров щеголял никому не известными методичками своих столичных коллег, прибавляя, что это «очень известная книга», Голобородько злился. «А вы знаете такого-то, такого-то, такого-то», и это, конечно же, были люди, к которым Лавров набивался в друзья, etc., etc.
Карандашом на обоях был написан мой номер, вот это сравнение с писаниной на обоях, на рулоне, на стене, перебрасывания со складов памяти, слепки сонной памяти… Как работает память? Голограмма, я смотрел научно-популярный фильм, и это вполне логичная теория, недаром тот же Шопенгауэр повторял, что безумным называли не глупого, а человека, который был не в ладах с памятью… Что страшного и грешного быть дураком? Дуракам везде у нас дорога, дураку везде у нас почет. А потерять память страшно. И лучше я был бы Иван-дурак, чем как сейчас – Иван Карамазов.
И память, конечно, не запоминание, а вспоминание: мы фиксируем все, но не можем этого вспомнить. Узнавание виденного – вот это и есть память.
Сказал ли я что-то о внешности Голобородьки? Не помню. Не в этом смысл. Смысл не в рисовании портрета, он и не нужен, смысл в стремлении упорядочить, разъяснить человека, это не художественная работа, а как психическое анатомирование.
Эти заметки – не отчет. О чем? Перед кем? Это попытка спасти память. Нас объединяло чувство культурного протеста, Голобородько был Икаром, Базаровым, революционером духа. Смешно же выглядел революционер без последователей!
Потому что я все-таки был сам по себе, больше наблюдал, дальше отстранялся, держал дистанцию, есть чувство дистанции не только у боксеров, есть чувство такта не только у лакеев, но нам надо меньше аналитики, моя цель сейчас – разрушить дамбу, сдерживающую мои полумысли.
Однажды Голобородько изумил меня, достав из-под стола гармошку. Я тогда был в особенно мрачном расположении духа, Голобородько сказал удвоить дозу лекарств, а пока, чтобы меня приободрить, стал наигрывать на гармошке музыку из игры «Марио», чем и правда меня развеселил, наверное, мы тогда были как Август и Эдеварт Гамсуна.
Однако весело было не всем: вскоре к нам ворвался врач из соседнего кабинета и сказал Голобородьке, что здесь не «Поле чудес».
– Пошел к черту, болван! – не переставая играть, парировал Голобородько.
– Доктор! – пыхтел оппонент. – Шарлатан, а не доктор! Диплом свой у бомжа купил!
– А ты свой вообще на принтере распечатал!
– Утырок!
– Падальщик!
– Гармонист хренов! Клюква!
– Балда!
– Отморозок архангельский!
– Тля болотная тюменская!
– Вошь!
– Гнида!
– Мухомор недосушенный!
– Ябедник косорылый!
– Мымра!
– Трепло!
– Вепрь!
– Жужелица!
– Мойдодыр!
– Валенок!
– Тьфу!
– Против ветра не плюй!
– К черту тебя!
– Да и тебя туда же.
«Это был мой самый долгий разговор с коллегой за последний месяц, – заявил потом Голобородько. – Хотя вот недавно еще главврач сказал, что я «человек-карусель». И это прозвище меня искренне развеселило, я вышел с сеанса в прекрасном расположении духа: хотелось работу искать и горы сворачивать.
Человек-карусель! Да, а главврач-то их, Щеглов Василий Анатольевич, очень любил коньяк, от пациентов дареный. Он любил коньяк, от пациентов дареный, выпивать на работе. И дома тоже любил коньяк, от пациентов дареный, выпивать господин главврач Щеглов Василий Анатольевич. Это ведь я тоже от Голобородьки узнал: зашел он к нему как-то по вопросу по какому-то, а главврач из горлышка прямо коньячку глотнул и крякает. Голобородько тогда уселся за стол, подложив под себя ноги, и спросил:
– Конину, так сказать, изволите?
– Изволю, а тебе какое дело? – опешил от такой фамильярности главврач.
Но Голобородько потом кое-как отшутился, а главврач успокоился, решив, что Голобородько – просто чудной, ну и прикрепил к нему прозвище «человек-карусель», которое так развеселило меня на сеансе.
Однако все веселье как будто испарилось на пути домой, я увидел «Газель» с рекламой «СВИНИНА ПОЛУТУШИ ДОСТАВКА», а затем, почти сразу же, «Газель» ритуальных услуг с рекламой «ДОСТАВКА ТЕЛА В МОРГ», и как-то мгновенно погрустнел. Все же раньше не припомню такой прямоты. Полутуши, полумысли, доставка в морг, там и там доставка, чему быть, тому не миновать, кто-то станет жалеть, это умер неудачник, не нашел работу, все так недоуменно уставятся: «Как это работу найти не можешь?», да не в том дело, я работать не хочу, я голодаю, долго я думал, что, если стану жить один, просто потихоньку отравлю себя прописанными таблетками, в течение пары недель, чтобы кумуляция сработала и смерть наступила без лишних мучений, вероятно, так, с расчетом, действовал Акутагава, видимо, используя точно ту же тактику и точно те же лекарства, что отложил для себя я, поступил Ник Дрейк, и такую возможность я оставляю для себя – нет, видимо, я не вылечился, не могу сконцентрироваться на одной теме, одном герое, который как бы в центре, а я не должен уделять столько текста себе, но какая, к черту, разница, о чем начинали, нет даже разницы, чем закончим – в конечном счете, одним и тем же, важен, получается, процесс, вон их там погубит автоматическое письмо – зажрались они, если их автоматическое письмо губит, меня вот бедность губит, а не автоматическое письмо.
Розанов с голоду умер… Какая, в общем-то, разница. Полутуши. Конечно, я корил себя, что безработный, занимался творчеством, корил себя, что и это недостаточно прилежно. Бедность связывала мне руки, я не искал общения, вернее, даже избегал его, почти сразу же после школы оборвал любые контакты с одноклассниками, почти сразу же после института оборвал все контакты с одногруппниками, затем исчез мой врач Голобородько, и у меня не осталось уже в этом городе никого знакомого, да нет, не от бедности, просто нелюдимость какая-то.
White on white, translucent black capes. За месяц до того, как Голобородько исчез, это было само яркое происшествие незадолго до его исчезновения, мы пошли на рыбалку. Ну, как на рыбалку, это была рыбалка в понимании Голобородьки. Я до этого на рыбалке не был ни разу. Ну, мы встретились на остановке – я, Голобородько и (это было для меня неприятной неожиданностью) еще один Голобородькин пациент, которого я знал в лицо, встречал иногда в коридоре, но не знал по имени. Это был ненец, оказалось, его звали Антон, он был младше меня, ниже, какой-то очень скрытный, у них были удочки, ведро и, словом, все снаряжение, стульчики раскладные, мы доехали на автобусе до моста (поездка проходила молча и настолько уныло, что Голобородько, желая нас развеселить, стал рисовать пальцами на окне животных: нарисовал собачку, кошечку, коровку, козлика, курочку, гусика, ослика и лошадку; они получились очень маленькие и непонятные, но Дмитрий Викторович их различал), Голобородько какими-то непонятными тропами провел нас к тихому месту у речки, совсем почти дикому, мы расселись, Дмитрий Викторович и Антон стали приготовлять снасти, я молчал, потом они стали рыбачить, я молчал, Голобородько говорил театральным шепотом, опять выделывался, развлекал нас, ненец отвечал неохотно, он никогда не говорил «Нет», он всегда говорил «Не-ка», это почти сразу начало меня бесить, но я молчал. Вскоре метрах в двадцати уселся еще какой-то парень, стал рыбачить, Голобородьке неожиданно везло, он выловил в этой луже несколько рыб, причем две были вполне немаленькие, и он поменялся рыбой с соседом, отдал ему больших, а себе взял маленькие, объяснил, что они нужны в качестве наживки на большую, но большую так и не поймали, так и ушли почти без улова, а что поймал, Голобородько все ненцу отдал – прямо с ведром, ненец сказал «Пасибо», одет он был бедненько, торопился уехать. Потом Голобородько пиво пил на остановке и, вопреки моим возражениям, пересказывал историю ненцевой болезни, тот выдумал, будто у него проблемы с ассимиляцией, он, мол, не знает, кем ему себя чувствовать, россиянином или гордым северным жителем, ему ни то, ни это не казалось родным, он был весьма зациклен на старорусском прозвище ненцев «самоеды» и, по словам Голобородьки, действительно поедал себя с потрохами, фиксируясь на незначительных проблемах. Пытаясь отбить у Антона охоту рассуждать подобным образом, Голобородько на одном их сеансе нацепил какой-то таинственный амулет (купленный в «эзотерическом» магазине несколько лет назад, когда Голобородько еще не был знаком с Алиной Юрьевной и куда ходил подбивать клинья к продавщице, у которой была эклектика вместо картины мира), стал жечь пихтовые ароматические палочки и одновременно пищать что-то нечленораздельное, но ничего не добился – разве что опять этот нервный врач из соседнего кабинета пришел ругаться. А ненцу что? Ему хоть кол на голове теши, не знает вот, кто он, а определяться надо срочно и совершенно однозначно. «Какая разница, кто вы, если вы все равно умрете? Будьте человеком», – сказал тогда Голобородько ненцу. «Я не умру, я, может быть, еще не умру», – неожиданно воспротивился ненец.
И после этого объяснения я понял, зачем нужна была эта рыбалка, почему Голобородько отдавал большую рыбу, а оставлял маленькую, «Да, так и надо жить», – подумал я тогда. Нелепая цель – жить продуктивно, ловить большую рыбу, Дэвид, ты попробуй маленькую рыбку сначала поймай.
А ненец, похоже, умный парень. Но как это он надеется, что не умрет? Я же знаю, что умру, что умру неизбежно и что с этим ничего нельзя сделать, ну так и все же умирают, поэтому я, чтобы хоть посмертно ощутить единение с отвергавшим меня при жизни обществом, хотел бы себе такой могильный камень:
Про россиянина тоже мысль интересная.
В самом деле, я тоже не чувствую себя россиянином, кто себя чувствует россиянином? Губер петушком поет, выслуживается, нет, мол, безработицы, вот это россиянин. А я, который в безработице этой ежедневно плещется, это не россиянин. Я признаюсь, что не знаю народа, но ведь он, народ, – абстракция: то ли он есть, а то ли и каждый русский русскому иностранец. Народ всякий бывает, чего им гордиться, чего перед ним заискивать – да и оторваться-то тоже нельзя, только ханжество будет голимое. Так и сосуществуешь в какой-то полуизоляции, и не знаешь народа, и знать не хочется, но демонстративно не дистанцируешься – наш народ ведь, наш. Прямо как… тут я еще не придумал аналогию, но при этом я очень люблю Россию, не в народе и в малой родине, а как огромную, цивилизационную оригинальность, даже биполярность: не такие мы, мол, как они, своим путем идем. Куда уж – а это никого и не касается, ведь идем же, не падаем, потом в другую сторону пойти можем. Это у них там линейное или поступательное что-то – э-э! Экая скука!
На другой день сказал о россиянине Голобородьке, тот перевел на Лаврова. «Вот Лавров, – сказал. – Вот он россиянин». Стал описывать мерзкую бороденку Лаврова, Голобородько ходил не только на встречи с поэтами, но и на дешевые концерты в филармонию, на церковный хор ходил, наткнулся там на Лаврова, и Лавров сделал вид, что не узнал Голобородьку, ну, Голобородько напомнил.
«Семинаристы там на сцене, у них лица маньяков, – вспоминал он. – „Россия, воспряни“ пели. Никуда не воспрянем, пока таким, как Лавров, свои дневники публиковать не только разрешают, поощряют даже». Потом Голобородько проклял Лаврова за публикацию дневника, пожелал, чтобы черт его побрал, чтобы черт каждую ночь по душу Лаврова приходил, а десять детей (или сколько там он наплодил) вокруг него стояли и от черта защищали. «В антракте, – продолжал Голобородько, – с какой-то дамой афиши читали, по-английски он еле читает, прочитал „Swan Lake“ как „Сван Лак“, а когда дама его поправила, нахохлился весь и сказал, что с ним такое бывает, все-таки он знает двенадцать языков, и один другому правильно читать мешает». После этого Голобородько открыл окно и нецензурно в него выругался, весь красный от негодования.
С тех пор ничего и не запомнилось, вскоре он исчез, это, правда, было странно, обычно он звонил мне, когда сеанс переносился, или, я помню, один раз я пришел, а на двери была приклеена скотчем умилительная записка «Пациентики! Из-за форс-мажоров сеансы переносятся на четверг. Ваш любимый Д. В. Голобородько». В общем, он пропал, не оставив весточки, и я только надеюсь, что с ним все хорошо, и Д. В. Голобородько обязательно найдется, что это окажется еще одним чудачеством, что он решил пешком пройтись до Кургана или до Екатеринбурга в какое-то паломничество, скажем, к Уралмашу. Не знаю, я надеюсь, что все обойдется.
Больше ничего я припомнить не могу, но сейчас, дописав последнюю историю, я как-то истощился и увидел, что цель не достигнута. Я думал, что вот, в своих текстах – и в тех, что я хотел писать, и в тех, что надо было писать, – я как-то выражу тот вопль, но никому, кто видел, по-настоящему не нравилось: тяжело читать, жестковато написано. Да, я всегда сознательно пытался обкорнать язык, лишить его всяких красивостей, потому что мой язык – это язык боли, зуда, может быть, какого-то аллергического, грубоватый, шершавый, как у кота, язык. В книжном попалось как-то удивительное заглавие «Демонтаж красноречия», и я подумал: «Да, ведь я всю жизнь этим и занимался», и книгу не купил. Поймите, эти слова выливались из раскаленного свинца, наполнившего мою голову, я не собирался никого развлекать, если это и выходило по ходу, это не было ни целью, ни задачей. Это вы должны были спасти меня, а не я вас, ведь это я упал в пропасть, заглядевшись, а не вы.
Я и не пишу, а только отправляю шифровки, Штирлиц, ждущий трамвая, Соколов и Ерофеев, почти не читал в страхе, что у них все то же, но гораздо раньше. Ни к чему записывать сны, они стали слишком рациональны. Почему я взялся за четвертую «книгу», отправив три в стол? Потому что травмирующая первопричина не устранена, нельзя вот так удалить законы природы, я знал когда-то девушку, она стала асексуалкой, пропустив через свой мозг слишком много соционики, Фрейда и психологии из пабликов, это была деградация, за которой было больно наблюдать, она отвергла бы всякую помощь, Голобородько не смог бы ей помочь, еще бы, в пабликах-то лучше знают, а эти воспоминания Ремизова о революции, вероятно, правдивые, но не особо ценные: а я такого-то во сне видел и такого-то во сне видел, это всё известные люди, вот я в каких кругах вращался – а ты нет; конфликт автора и рассказчика начался в «Мертвых душах», Голобородько не любил Гоголя, а я вдруг его, Гоголя, понял, со школы не перечитывая, потому что нет произведения, а есть только автор, ты не читаешь книгу, а наблюдаешь (наверное, лениво), как я ложкой вычерпываю воду из потока мыслей, как Ремизов, а не как Толстой, который пытался поймать воду огромным неводом.
Только в таком предельном напряжении ты дойдешь до инсайта, потому что мы вряд ли дойдем до катарсиса, давайте дойдем, докуда получится, давайте остановимся хотя бы здесь.
The Cub
1
Браки, может быть, и правда заключаются на небесах, а вот семьи уж точно слепляются сами собой. Об одной такой семье я и расскажу.
Слепилась она у моего коллеги Игоря Витальевича, человека эрудированного и с автомобилем.
Что о нем сказать? Да… Aut bene, aut nihil, конечно, но мне никогда не нравилась его прическа: у моей тети Оли такая же. За руку Витальевич здоровался вяло, это очень раздражало, как и его оценивающий взгляд: мол, что это за фрукта ко мне подвели? Насколько он хуже меня? (Хотя я сам иногда так думал, смотреть на людей подобным образом я себе не позволял.) Ходили удивительные слухи, мол, Игорь Витальевич уж так умен, так остроумен, его цитировали, хотя это были весьма смешные в своей глупости мысли; меж тем, их ценили, Игоря Витальевича за эти мысли хвалили и ласкали, так сказать, общим вниманием, пока я находился где-то в углу. А вот, говорили мне, если я что-то мимоходом высмеивал, Игорь Витальевич мудрее тебя, старше, опытнее, ему все видится лучше… Да бросьте, я его не оскорбляю.
Там-там-та-там… Игорь Витальевич был меломан, это тоже известно, но я и тут недоумевал: он ведь слушал такое отвратительное… как бы сказать… музыкальное сопровождение, переоцененное, с налетом какого-нибудь вычурного протеста против, скажем, угнетения рабочих в Танзании где-нибудь, деланного, фальшивого, вот в чем соль – Игорь Витальевич слушал фальшивки и при этом смел их советовать другим.
Какое мне было дело? А я фальшь очень трепетно чувствую потому что. «Трепетно» – неправильное слово? Допустим, допустим. Я не очень подхожу на роль рассказчика, на самом деле.
Говорю быстро… Мне так и сказали: это ваш личностный недостаток. Да я ведь знаю, знаю – и ничего не могу с собой поделать, я тороплюсь, тороплюсь жить, и у меня всему есть объяснение: и привычке частить при разговоре, и повторам, и словечкам каким-то… Меня ведь улица воспитывала (мама на работе была) (говоря «улица», я хочу сказать «гопники»: при мне отнимались телефоны, происходили драки… Так вот мой характер и сложился.)
Семья Игоря (к чему отчества? Игоря) слеплялась постепенно: сначала он, так сказать, прилепился к Маргарите Андреевне, женщине оч-чень властной и опасной, рисовавшей себе брови так, что взгляд у нее был все время удивленный; она красила волосы, чтобы скрыть седину, потому что старая уже была, за пятьдесят (Игорю еще пятидесяти не было), в общем, это была какая-то квадратная, мерзкая, капризная баба. Такие капризные бабы остро сознают свою никчемность и пытаются изо всех сил принизить других, потому что возвыситься самим путем обучения на (собственных, весьма многочисленных) ошибках у них не получается, вернее, они и не собирались: они хоть и пустые, но не глупые, однако для них невозможно признать свое поражение, свою неправоту, они никогда не аргументируют, они, скорее, заткнут себе (а если получится, то и тебе) глаза и уши, вереща «Нет, нет, нет!», либо уткнутся головой в песок, а потом где-нибудь как-нибудь тихонечко подгадят, не дадут чему-то хода, знать будут, но не сделают, будут удерживать у себя какую-то информацию до последнего… А ведь такие (и только такие!) бабы удручающе часто занимают руководящие должности, не понимая, что власть их, как и все в жизни, – явление временное, что время их вскоре пододвинет так, будто их тут никогда и не было… Они совершенно не разбираются в людях, всегда заводят любимчиков, руководствуются исключительно симпатиями, первым впечатлением, не умея отличить, кто умен, а кто – не очень (а может, и умеют, да только умных-то им в подчинении не надо – страшно), более того – они не отличат порядочного от мошенника; они жестоко обманываются – но жизнь их ничему не учит! – и (до поры, до времени) они сидят на месте и р у к о в о д я т.
– Остерегайтесь, – мне сказали. – Маргариты Андреевны. Она вас уничтожит.
– Не на такого напала, это я ее первый, так сказать, уничтожу, – ответил я. – Ведь это что же делается, это же хуже Пугачихи, да и щеночка, щеночка-то жалко!