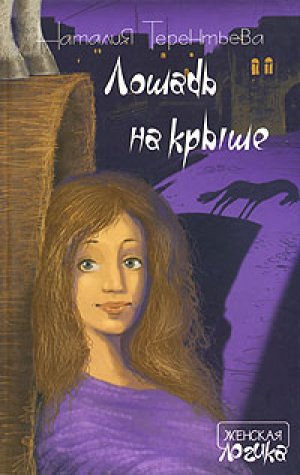
НОТА ЛЯ
(Цикл рассказов)
Все, что я должен был сделать, это открыть окно и взмыть в синеву небес вместе с цветами, своей любовью и с Нею.
Марк Шагал «Моя жизнь»
Именем Адоная
Я ехала на репетицию к Одуванчику. Режиссера на самом деле звали Валера, и на одуванчик он совсем не был похож, скорее — на веселого породистого пса, недавно сбежавшего из дома. Но так назвал его Комаров. А это святое. По крайней мере — было, в те чудесные времена.
Итак, я ехала на репетицию, опаздывала и поймала машину.
Одуванчик репетировал на «Беговой», близко от моего дома, и поэтому я ловила машину по всякому поводу. Если, к примеру, шел дождь или жали туфли, была духота, дурное настроение, болел живот или мешали линзы. Или же просто, идя к троллейбусной остановке, я вдруг решала:
— Да не хочу я трястись в троллейбусе, а потом бежать, как савраска. За тридцать пять рублей — полторы пары дешевых колготок — комфорт и положительные эмоции.
Тридцать пять — это была моя такса. Полтинника мне было жалко, сорок без сдачи не найдешь, просто тридцать — очень уж мало… К тому же, слыша такую странную сумму, водители обычно не торговались, а начинали смеяться и выяснять — почему же именно тридцать пять.
Комфорт и эмоции были в том случае, если общение заканчивалось на обсуждении таксы и нестабильной московской погоды, и дальше водители не начинали приставать к пассажирке. Однако через какое-то время я сообразила, как на этом маршруте отваживать приставучих. Одуванчик снимал зал для репетиций в закрытом институте прямо напротив крематория при Боткинской больнице…
— Наверно, на свидание, такая красивая, — начинал разговор человек за рулем, косясь на мои черные гамаши и чудовищные каблуки.
— На работу, — мрачно отвечала я, подтягивая юбку к коленкам, а гамаши — к юбке.
— Где же вы работаете, если не секрет?
— Не секрет. Здесь прямо и налево. В морге.
— Простите? — вытаращивал глаза мой собеседник.
— В морге. А что тут такого?
— Гм… И вы там… значит…
И дальше было два варианта. Первый. Я отвечала сдержанно:
— Уборщица.
Если этого было достаточно, чтобы водитель прикусывал губу или доставал сигарету и с преувеличенным вниманием начинал смотреть на дорогу, больше не пытаясь ничего выяснить, я не продолжала. Но если вызывало облегченный вздох: «А-а-а, а я-то уж подумал…», то я небрежно объясняла:
— Правильно подумали. Потому что на самом деле я — патологоанатом. Вскрываю трупы.
После этого я окончательно теряла всякую привлекательность в глазах только что отчаянно кокетничавшего водителя.
Бывало, конечно, и это срывалось. Однажды молодой смуглолицый водитель и его приятель, сидевший впереди, наоборот, оживились и стали интересоваться подробностями.
— А можно нам посмотреть? — спросили они с таким жадным любопытством, что я услышала другое: «А можно мы тоже… поучаствуем?»
— М-м-можно, — ответила я, думая, под каким предлогом или вовсе без него мне бы поскорее выйти из машины, в которую я так опрометчиво вскочила, опаздывая на полчаса на репетицию.
— А как это сделать? — продолжали настаивать ребята.
— Позвоните мне, мы договоримся. Вот здесь, я приехала…
— А что сказать, если спросят, чего мы хотим?
В моем доме некому было спрашивать, чего от меня хотят разудалые глазастые мачо из близлежащих теплых стран, а также бесприютные иногородние студенты, строители-турки, не говорящие по-русски, или просто женатые москвичи.
— Скажите, что вы хотите посмотреть… э-э-э… эксгумацию трупа. Сдачи не надо!
Стойкие приставучие вместо денег просили телефон. Как-то раз, выслушав байку про патологоанатома, человек за рулем, как и положено, успокоился, а беря тридцать пять рублей, вдруг спросил:
— А телефончик?
— Так телефончик или деньги? — я впервые внимательно посмотрела на того, кто был за рулем. Надо же… Как приятно — и подработал, и с девушкой познакомился, не прогадав, в случае чего. Если девушка телефончик назовет ненастоящий…
— И то, и то, — спокойно кивнул он.
Я разозлилась. Хорошо. Дам ему настоящий телефон. Позвонит — ему же хуже.
Есть мужчины, которым нравится бег с препятствиями. Этот выждал паузу и позвонил. Говорить я с ним ни о чем не собиралась и так ему и сказала. Он позвонил снова. И снова.
— Вы, простите, случайно не Весы? — с ходу начал он в третий раз.
— Весы, — от неожиданности ответила я. — А собственно, вам-то что?
— А ваш любимый человек постарше вас, женат, брюнет с карими глазами и выше ростом…
— С темно-серыми, — не удержалась я, — и роста мы одинакового.
— Да-да, именно… Хотя, странно — у меня тут в компьютере…
— В компьютере? — У меня еще не было тогда компьютера, я о нем только мечтала, и все, связанное с ним, казалось мне почти чудом.
— Да, я на вас схемку сделал… Вы ведь вечером наверняка родились. Не знаете, случайно?
— Знаю. Полдвенадцатого…
— Да-да-да. Точно-точно… Все сходится… А он, ваш возлюбленный, вас мучает — и не отпускает, и жить с вами не хочет?
— Он… — Я вздохнула. — Ну, в общем, да.
— Да-а-а… А вы, простите, на себя в зеркало давно смотрели?
— Знаю. Я страшная.
— М-м-м… Это как сказать… Хотите, помогу вам?
— Еще скажите, что вы колдун.
Нет, я научный сотрудник. В прошлом. Сейчас действительно занимаюсь вопросами магии и древних знаний. Это такая неизведанная область… Столько шарлатанов и обманщиков… А я так — больше для себя. Мне очень интересно знать — кто мы, что мы, откуда взялись и вообще… Но по мелочи я могу попробовать, если надо… вмешаться в ход событий… Вы что хотите — ему приворот или себе отворот? Я растерялась.
— Наверно… ему приворот, а себе отворот.
— Отлично! Это даже еще проще! Знаете что… Приезжайте-ка вы завтра ко мне на работу… Пишите адрес… Вторая Тверская-Ямская… Или нет! Знаете, дело такое тонкое, сегодня как раз Марс в зените, хорошо бы не откладывать… Хотите, я сейчас к вам подъеду?
— Н-нет. Не хочу.
— А когда, завтра?
— Послезавтра. Только на работу.
— Разумеется… Хотя нет… Я же с завтрашнего дня в отпуске… Можем на нейтральной территории, если вы боитесь…
Как же это бывает трудно — просто и честно кому-то сказать: «У меня нет денег», или, например: «Я этого не знаю», или: «Конечно, я боюсь, если незнакомый и странный человек приедет ко мне домой»… И я ответила:
— Я не боюсь!
— Вот и отлично. Меня, кстати, зовут Валентин.
Послезавтра черный маг Валентин сидел у меня на диване и сосредоточенно жег фотографии Комарова. Он сжег уже штук восемь, после чего попросил:
— Дайте мне фотографию, чтобы было видно… Ну, в общем, где он в трусах.
— У меня есть только в плавках, на пляже…
— Пойдет! — обрадовался маг. Но, взглянув на карточку, вздохнул: — Не-а. Ничего не получится. Неудачный ракурс.
— Есть еще вот такая. — Я дала ему фотографию, где Комаров показывал, какие у него стали рельефные мышцы после того, как он купил домашний велосипед.
Маг внимательно рассмотрел не очень спортивную фигуру моего ненаглядного друга и опять покачал головой:
— Трусы тут какие-то… семейные… Ладно! Рисуйте вот тут, на животе у него вот такую штуку…
— Что это? — Я попробовала повторить сложную фигуру, похожую ни перекрученную спираль.
— Это самый важный магический знак. Ыл.
— Ыл?..
Да. Знак Ыл. Он закрутит торсионные поля в энергетической оболочке нашего объекта. Так… теперь… еще такую стрелочку… — Маг прочертил стрелку от правой ступни до макушки Комарова и сделал несколько витков вокруг головы. Сама стрелка вошла ему в ухо. — Обведите все своей рукой. Это магическая стрела Зи-У. Сейчас он должен почувствовать легкий озноб и волнение. Через несколько часов стрела начнет действовать сильнее, и… Иголочку дайте. Обычную. Лучше две или… пять. Да, пять. В вашем случае — именно пять. И еще одну, мы ее пока оставим…
Маг аккуратно отложил одну иголку в сторонку, а остальные пять воткнул в обои, расположив их ровно по кругу.
— Иголки не убирайте одиннадцать дней. Считая сегодняшний. Так… Теперь разберемся с пеплом…
Он взял щепотку из кучки пепла, в которую превратились самые лучшие фотографии моего любимого Комарова, бросил ее в пустой стакан, остатки стряхнул мне на голову.
— Пальчик давайте! — Проколов мне иголкой подушечку пальца, маг накапал моей крови в тот же стакан. — Налейте сюда кипяченой воды приблизительно треть стакана.
Я принесла воды, а он спросил:
— Ванная где у вас?
Я удивилась, но показала. Маг взял стакан с водой, кровью и пеплом и зачем-то закрылся в ванной. Я прислушалась. В ванной было тихо, но потом я различила тихое бормотание. Я вздохнула. Наверно, заговор на воду, ничего особенного, я читала об этом в ежедневном календаре. Зачем только закрываться? Через несколько минут Валентин вернулся, неся перед собой стакан на вытянутой руке. Я протянула руку, чтобы взять воду, но маг молча отстранил мою руку и, плавным движением описав круг, поставил стакан на стол. Присев рядом со мной на диван, он стряхнул невидимые капли с кончиков пальцев, затем неожиданно протянул руку к моей голове и вырвал у меня волос. Я только ойкнула, а он вставил мой волос в оставшуюся иголку и протянул мне:
— Надо вышить шестиконечную звезду вот, скажем, на этой фотографии… Чтобы верхний луч обязательно упирался в голову, а нижний — в детородные органы. Получится линия Кетцалькоатль…
— Кетцалькоатль? — удивилась я. — А это, случайно, не ацтекский бог? Крылатый, кажется…
Маг кивнул.
— Так, конечно! Это же все древняя магия! Древнейшая! Из глубины, так сказать, веков… Так, ну вы шейте, шейте…
— А в сердце иголку втыкать?
— В сердце само собой… Боковой луч — прямо ему в сердце. Вот так. Теперь берем стакан…
Маг осторожно, как будто в стакане был кипяток, взял стакан с заколдованной водой и накрыл его правой ладонью.
— Повторяйте за мной! — Он начал делать правой рукой круговые движения над поверхностью стакана. — «Стану не благословясь, пойду не перекрестясь… Сидишь ты, чертите…»
— КТО СИДИТ?
— Чертище! Не отвлекайтесь! — И он еще быстрее забормотал, так, что я с трудом успевала за ним: — «Сидишь ты, чертище, прочь лицом от своей чертищи… Не походя, не подступя, разлилась бы его ненависть по всему сердцу, а у ней по телу…»
— А почему ненависть-то? — Я остановилась.
Маг скороговоркой договорил до конца:
— «…чтоб не могли ее ни рыбы съесть, ни злой колдун отколдовать. И вместо рукописи кровной отдаю тебе я слюну». — Маг сплюнул в стакан и протянул его мне. — Теперь пей.
Я взяла у него стакан и с сомнением понюхала.
— И что, это поможет?
— Поможет-поможет. Пей и давай мне гвоздь. Любой, подлиннее.
Я пошла со стаканом в прихожую, все не решаясь выпить.
— А шуруп можно?
Можно! Даже лучше! Главное, чтоб не болт! Болтом дырку в энергетической оболочке не сделать. Ввернем сейчас этот болтик ему прямо в торсионный пучок, вот так… — Маг проковырял большую дырку в левом глазу у Комарова и протянул мне фотографию. — Теперь своим волосом зашивай дырку. А вода где? — Он огляделся в поисках стакана. — Не всю выпила?
— Нет еще…
— Отлично! Давай сюда стакан и свечу.
Я отметила про себя, что Валентин ненароком перешел со мной на «ты», и отнесла это на счет его волнения. Маг зажег свечу и, прихватив шуруп салфеткой, стал накаливать его в огне.
— Смотри на огонь и повторяй за мной: «Да остынет в рабе божьей Наталье страсть к рабу божьему…» Как зовут красавца?
— Владислав… — проговорила я, глядя, как краснеет и будто расширяется в огне длинный металлический стержень.
— «К рабу божьему Владиславу, как остынет в воде железо… Остуда-остуда, велика остуда, чтоб не думалось, не гляделось, чтоб вместе не дышалось… остуда, остуда, велика остуда…» — Он быстро сунул в воду раскаленный шуруп. Тот зашипел, и маг подставил мне стакан ко рту. — Пей!!!
Я залпом выпила странно пахнущую воду и отдышалась.
— Левой рукой крестись! Крестись быстрее! Слева направо! И повторяй: «Чтобы ни днем, ни ночью, ни в солнце, ни в дождь…»
— Извините, а на любовь будете заговаривать?
Маг остановился.
— На какую любовь?
— Ну как же… Мне отворот, а ему приворот…
— А-а-а… Так мы же ему мощнейший приворот сейчас сделали, вторглись в его энергетическое поле. Стоп! — Маг Валентин почесал лысоватую бровь. — Соль забыли. Соль принесите, лучше крупную, э-эх!.. И перчику черного, если есть…
— Горошком?
— Можно и горошком… Вообще-то надо было в стакан… Ладно, даже лучше. Руку протяните… Да не так, ладонью кверху. — Он насыпал мне крупных кристалликов соли в ладонь и перемешал их с черными горошками перца. — Медленно рассосите и прожуйте горошки, представляя при этом, как вы целуете своего… раба божьего Вячеслава.
— Владислава.
— Вот именно. Не торопитесь, не торопитесь… — Маг, очевидно совершив главные магические действия, опять стал подчеркнуто корректен. — Так, отлично!
Он аккуратно стряхнул оставшиеся крупинки с моей руки на пол. Я увидела, как две маленькие горошинки покатились и замерли рядом, у выемки в паркетной доске, на самом краешке.
— Теперь поднимите, пожалуйста, свитер.
— Зачем?
— Я должен понять расположение родинок у вас на груди. Это нам поможет.
Я помедлила и чуть приподняла свитер.
— Еще, еще… Та-ак… одна родинка вот здесь, и еще, кажется… — Валентин протянул руку с намерением копнуть ею в моем лифчике. — Неудобно, бюстгальтер ваш мешает…
Я внимательно посмотрела на мага и поняла наконец, какая я дура. Отступив назад, я опустила свитер, а ничуть не растерявшийся маг почесал ухо и сказал:
— Да! Еще одно. Помните, я спросил вас вначале, на все ли вы готовы, чтобы вернуть любимого?
— Помню.
— Вы когда-нибудь за деньги отдавались?
Я отошла еще подальше, пытаясь понять, что же сейчас будет.
— Разумеется. Регулярно отдаюсь. Иначе как же прожить бедной девушке… Вы хотите меня купить?
Валентин улыбнулся:
— За какую сумму вы отдавались?
— Сеанс закончен. Спасибо.
Маг покачал головой и не двинулся с места.
— Вы не хотите помочь самой себе! Вы же сказали, что готовы на все. Так за какую сумму вы… гм?..
Я прикинула.
— За пятьсот долларов и тридцать пять пенсов. Пенсы можно заменить копейками. Сеанс закончен.
— Так, очень хорошо. — Маг неторопливо достал из кармана кошелек. — Сумма вашего числа жизни минус восемь… плюс число жизни нашего клиента, поделить на три, в остатке три, плюс… Где он живет?.. Напрасно вы, напрасно… Ну, неважно. Плюс, скажем, тринадцать, умножаем на сорок один и делим… так… Получается… — Маг достал из кошелька один доллар. — Получается — один! Вы должны, если хотите вернуть себе этого человека, сделать все, что я вам сейчас скажу, и… Послушайте меня внимательно! И получить за это один доллар. Что потом делать с этим долларом, я объясню. Подойдите ко мне…
Невышитый глаз любимого Комарова смотрел на меня с изуродованной фотографии ласково и печально.
Я взяла синюю корзиночку, в которой у меня лежали диски Тани Булановой, Аллы Пугачевой и Шарля Азнавура, подошла к дивану и дала этой корзиночкой по блестящей башке черного мага.
Маг перехватил мою руку. Но драться не стал, а быстро и молча растворился.
Вечером в тот же день я позвонила Комарову и сказала:
— Привет…
— Ля, я устал.
Он не устал, он просто не приезжал ко мне шестьдесят семь дней и, судя по всему, приезжать в ближайшее время не собирался.
— Приезжай ко мне…
— Ля… Мне завтра рано вставать.
— Хочешь, я приеду?
— Я хочу есть. Я только что пришел. Я еле жив. Я… я еще должен разобрать антресоли… вещи для бедных сложить… и… У меня не мыта вся посуда.
— Тогда ты приезжай.
— Ля!.. Не выдумывай. И не мучай меня.
— Я люблю тебя.
— Я поем и перезвоню тебе.
— Я тебя привораживала сегодня.
— Что делала?!
— Привораживала. Приворот делала.
— Ну и как? Привернула?
— А ты чувствуешь?
— Когда почувствую, я позвоню.
Я подождала двадцать четыре часа и позвонила ему.
— Почувствовал?
— Что именно?
— Значит, не почувствовал, — вздохнула я.
— Ля, я только что пришел домой…
— Ты поешь, разберешь антресоли и перезвонишь?
— Я поем и не перезвоню. Я буду спать.
«С кем?» — хотела спросить я, но побоялась получить ответ.
— Спокойной ночи, я люблю тебя.
— Ага, привет.
Наверно, черный маг Валентин все перепутал. Да и зачем я вышивала у Комарова звезду на сердце, если он давно уже объяснил мне, что любил меня совсем не этим местом?
Недели через три я привела в порядок уцелевшие после магического обряда фотографии и вставила их в прежние рамочки.
Еще через месяц я их все убрала в самый дальний шкаф и задвинула большой пуховой подушкой, на которой Комаров любил у меня спать.
Он тут же это почувствовал и вечером позвонил:
— Как дела?
— Нормально. Выбросила сейчас все твои фотографии.
— Ля, я не помню, говорил я тебе, что ты дура?
— Ты говорил, что я подарок судьбы.
— Это одно и то же.
Когда-то давно, в прошлой жизни, когда у Комарова не было еще больших антресолей с подарками для бедных, а была маленькая скромная машина и, как нам обоим казалось, большая любовь ко мне, он не дописал одно стихотворение и подарил его мне.
Не покидай меня, надежда,
Что все когда-нибудь вернется,
И, как приходит утром солнце,
Ворвешься ты в мой ад кромешный.
В закономерности возврата
Есть ощущенье высшей силы…
Дальше Комаров никак не мог связать концы с концами. Я тоже несколько раз бралась за него, даже заменила одну строчку своей, про ад, но закончить не получилось.
У меня рвется логика во всех рифмах к слову «возврата». Все получается плоско, безутешно. И все неправда — «разврата», «утрата», «расплата»…
Но я знаю, что просто еще не время. Я найду эту рифму. Она сама найдется.
И я даже знаю, в какой день.
Джампер
Я шла по Тверской улице, стараясь не встречаться глазами с таращившимися изо всех витрин модными манекенами. Еще не стемнело. Была середина июля и такая хорошая погода, что меня даже на какое-то время отпустила моя тоска.
Шла я медленно, потому что в то время, отправляясь из дома дальше булочной, всегда надевала красивые туфли на высоких каблуках, надеясь встретить где-нибудь Комарова. Я прекрасно знала, что он сейчас, пытаясь заработать все золото мира сразу, носится по меховому комбинату, из окон которого виден Ботанический сад, а мне Ботанического сада не увидеть, даже если я залезу на крышу своего девятиэтажного дома. Ну и что? Москва, с точки зрения вечности, — маленький город. И в этом городе случаются порой всякие чудеса. Главное — быть готовым к чуду. Но если судьба за ручку подведет меня к Комарову в совершенно неожиданном месте, а я при этом буду в растоптанных чёботах…
Я шла и нюхала только что купленные духи «Венеция Пастелло». Их нежный и прозрачный аромат волновал меня очень давно, и вот наконец я их купила. Наверное, так пахнет ближе к вечеру на белой яхте, если выйти на ней в открытое море и стоять, смотреть на густо-розовое у горизонта небо, облокотясь на руку Комарова… Я закрутила поплотнее крышку и подумала, что с этими духами вряд ли произойдет то же, что со многими моими горячо желанными трофеями: они не разонравятся мне тут же, как только появится возможность пользоваться ими, не жалея.
— Хорошо выглядите, — услышала я за спиной голос с сильным украинским акцентом.
Я не остановилась, но голос настаивал:
— Может, подвезти вас?
Высокий, пожалуй чересчур высокий мужчина лет тридцати пяти обогнал меня и встал на пути. Мне пришлось приостановиться. Даже на своих чудовищных каблуках я едва доставала ему до уха. Мне сразу не понравилась его лихая рубашка в оранжевых пальмах и неаккуратная лысеющая макушка, волосы с которой, видимо, были утром счесаны на лоб под видом челки.
Я обогнула его и пошла дальше.
— А выглядите хорошо. — Он опять загородил мне дорогу.
Он улыбался. Теперь уже я заметила разъехавшиеся и как будто обгрызанные передние зубы. Некрасиво… К тому же я не люблю сильной мужской инициативы.
Из чувства противоречия с самой собой — настроение все равно уже было не восстановить — я процедила:
— И что?
— Прогуляемся? — Это его звонкое «х» казалось неумелым нарочным говором.
— Прогуляемся, — передразнила я его. — Я — вот, например, иду в «Елисеевский», за продуктами. А вы, кажется, шли мимо.
Интересно, почему нас, русских, так смешит и раздражает украинский акцент? Потому что он не французский и даже не эстонский? Или же это естественно — русское ухо воспринимает украинскую речь как коверкание родного и прекрасного во всех отношениях языка?
Мужчина, как будто не услышав, что я его так недобро передразнила, оживленно закивал:
— Во-во, я мигом подъеду туда. Машина у меня такая… — Он опять разулыбался и показал, широко взмахнув длинными худющими руками, какая у него машина. — Синяя «вольво». Двухдверная… — Он подмигнул мне, как будто количество дверей в машине как-то касалось лично меня.
Ничего не ответив ему, я пошла в магазин. Через полчаса я вышла на улицу, заталкивая сувенирный пакетик с «Венецией» в большой продуктовый пакет, где лежали лишь сливки и хлеб, и уже забыв о случайном нелепом знакомом. Но тут несколько раз настойчиво посигналила машина, стоявшая прямо напротив дверей магазина, и грациозная, не похожая на своих толстозадых родственников «вольво» распахнула дверь.
Я секунду подумала и сёла в машину. «Что воля, что неволя — все одно…» — говорила заколдованная Марья-Искусница в моем любимом детском фильме.
— Рванули?
Я посмотрела на мужчину в рубашке с большими развесистыми пальмами. Он был очень доволен. Хотелось бы узнать — чем.
— А нельзя ли то же самое сказать по-русски?
Он засмеялся, наверно, не понял. А я почувствовала знакомое оцепенение, когда каждое слово достается мне как бесконечный, мучительный и никому не нужный монолог.
— Кто вы по профессии? — Я с трудом заставила себя выговорить вопрос, чтобы он не приставал со своими. Пусть уж лучше что-нибудь рассказывает… Мужчины так это любят при первом знакомстве — хвастаться, подвирать, рисоваться… А дальше первого свидания у меня уже очень давно дело не шло. Разобраться в человеке — а именно, понять, что это, увы, — не Комаров, обычно хватало пятнадцати — двадцати минут. А то и меньше.
Но мой новый знакомый ничего мне не ответил, рисоваться не стал, а только гыкнул, хлопнул короткими редкими ресницами и действительно с места рванул вперед.
— Не надо так гонять по Тверской. Пожалуйста.
Он, хохоча, припустил еще сильнее. Я исчерпала ресурс своих психических возможностей и вытянула вперед ноги. Нехай несется. Что воля, что неволя…
У Сокола хозяин «вольво», который, к счастью, промолчал весь путь по Ленинградке, сосредоточенно обгоняя соседей справа и слева, вдруг поинтересовался:
— И хде мы отдохнем?
Его высокий голос как будто все время попадал мимо нот. Есть такие голоса — удручающе фальшивые. А есть другие… Я усилием воли остановила свои мысли, вредные и неправильные, и вежливо ответила:
— А как вы хотите… гм… «отдохнуть»?
— Ну-у… похавать шашлыки…
— «По…» — что?
— Похавать! — Он не издевался. Он не понимал. Ему было хорошо.
Я взглянула на часы. 18.45. Сейчас Комаров мчится за своей Викой, сбрасывая на ходу тесный галстук с красными рыбками, расстегивая воротничок тонкой льняной рубашки и радостно ероша чуть начавшую седеть челку. Или уже едет с ней домой, и нежная, милая Вика загадочно молчит, а он все шутит и шутит, стараясь ей понравиться… Уже который год… . — На следующем светофоре налево. Сейчас прямо. Где Строгино, конечно, не знаете?
— А хде это?
— Это там, куда мы едем.
— А там шо?
Еще и «шо». И это ладно. «Засунь себе свой великорусский шовинизм знаешь куда?» — советовал мне как-то, осерчав, Комаров. И был, конечно, прав.
— А там как раз хавают шашлыки. Так вы кто по профессии?
При встрече с новым кавалером я стала очень осмотрительно задавать этот вопрос, после того, как один кавалер, представившись и угостив меня чашечкой кофе, спросил: «А ты вообще ворованное носишь? Я подарю».
Какое-то время мне казалось, что один из этих малознакомых и малоинтересных мне мужчин может спасти меня от трепетно и безрассудно любимого Комарова, то влюбленного в жену Вику, то скучающего с ней и влюбленного в меня.
— Я спортсмен. Высокого уровня, — ответил мой новый знакомый.
Я прикинула телосложение и догадалась:
— Прыгун? Джампер?
— High jumper[1], — нимало не растерялся тот.
— Очень приятно. Наташа. Только я не люблю, когда меня так называют. — Я правда не люблю эти свои три «а» подряд. — Лучше не называйте никак.
Джампер перелетел через строгинский мост, лихо обогнав две судорожно подпрыгивающие на неровной дороге маршрутки, и хохотнул:
— Натаха?..
Лучше бы он так не смеялся. Сильно выступающий кадык, обтянутый суховатой кожей, энергично заходил туда-сюда, и среди длинных желтоватых зубов весело блеснули металлом несколько крупных коронок. Я отвернулась.
— Послушай, быстро останови.
— Натали, и где тут шашлыки-то? — мирно улыбаясь, негромко спросил Джампер, сразу прекратив хохотать.
То, как он быстро сориентировался, показалось мне жизненным опытом и признаком уживчивого характера.
— Вам двадцать восемь лет? — не могла поверить я своим ушам.
Когда Джампер жевал шашлык, он казался еще старше, чем вначале. Глядя на сильно сокращающиеся мышцы лица, я вдруг заметила в нем непонятное сходство с бывшим мужем Мариком. В сухой, достаточно гармоничной физиономии Джампера при напряжении проступал ненавистный и слишком памятный мне образ Марика. То ли в глазах, правда не кукольно-синих, а пуговично-карих, то ли в нацеленном вверх носе, то ли в неконтролируемой улыбке.
Я шашлык не ела, а сидела и смотрела на Москву-реку.
Было почти хорошо. Если забыть, что Комаров сейчас ужинает или только что поужинал со своей женой и теперь смотрит телевизор, с удовольствием развалясь на диване и задумчиво поглядывая время от времени на Викин милый, безукоризненный профиль. Конечно, забыть, конечно. Вот какой хороший новый знакомый — спортсмен высокого уровня, уживчивый, веселый, на чей-то вкус наверняка симпатичный…
— А на Олимпиаду вы почему не поехали?
— Натаха, давай на «ты»! — опять расслабился он.
Господи, да чтоб твой шашлык застрял у тебя где-нибудь на высоте метр девяносто! «Натаха»!.. Так, наверно, меня еще никто не называл, просто потому что я не похожа на Натаху, спасибо прабабушкам и прадедушкам, не разрешавшим своим деткам рожать невесть от кого… Как говорила моя бабушка: «И чтоб рожа не кривая, и чтоб человек хороший был…»
Джампер с завидным аппетитом дожевал мясо, потом, широко улыбнувшись, забросил в рот мой нетронутый бутерброд с рыбой, на который давно уже посматривал, и, неожиданно элегантно облокотившись крупными локтями о шатающийся пластмассовый столик, спросил:
— Натали, еще кофэ? Или рыбки?
— Рыбки не надо. Еще кофэ, еще пива, не холодного, шоколадку и красный «Данхил», — ответила я, ненавидя саму себя. Уходи, Наташа, отсюда, садись дома и сиди. Жди звонка. И ненавидь саму себя в одиночестве.
— В твоем возрасте, Натали, курить вредно.
— В моем возрасте вредно жить. Чипсы и зажигалку. Еще деньги возьми… — Я протянула ему купюру.
Есть я не хотела, зажигалка лежала у меня в сумке, мне просто хотелось подольше побыть одной, пока он заказывает у стойки бара.
Джамперу было противопоказано всякое движение. Пока он был неподвижен, особенно как будто бы в задумчивости за рулем, он казался даже симпатичным. Но как только он начинал двигаться, он становился похожим на постаревшего Буратино, с резкими, излишне энергичными движениями, страшноватыми гримасами и неправильным механическим голосом.
После шашлыков в кафе на берегу реки Джампер отвез меня домой, но целоваться не полез и в гости не просился. Я немного отмякла — человек явно скромный, может быть даже порядочный. Пусть себе «хыкает» на украинский манер, слова смешные говорит. Что от этого меняется?
Он настойчиво звонил мне, вроде и не замечая, что не очень мне нравится.
— А-лё? — по-бабьи жалобно произносил в трубку Джампер, как будто спрашивая меня о чем-то, на что я никак не могла ему ответить. Моя безысходная тоска начинала подсасывать меня еще сильнее, и я против воли отвечала:
— Да, Сережа. Что?
— Как настроение? Прогуляемся?
— Настроение паршивое. Прогуляемся.
— Натали, на высшем уровне у всех должно быть хорошее настроение.
— Ладно, Сережа. У меня хорошее настроение.
— Хорошее?
— Хорошее. Очень хорошее. Отличное.
— Молодец, Натали, делаешь успехи. Может, на дискотечку?
В тридцать два года я начала ходить на дискотеки, каждый раз ожидая, что меня спросит охранник на входе: «А вам… гм… девушка… точно в эту дверь, не в соседнюю? Там как раз поликлиника… для таких оригинальных, как вы…» А что делать, когда не спится, не естся, не смеется, не читается? Когда любимая музыка кажется скучной и бессмысленной, когда не спасают книги и раздражают рассказы подруг о подрастающих детях… Когда в твоем собственном доме тихо и пусто, нет пыли, нет лишних предметов, нет игрушек и доверчивых, требовательных глаз, не отпускающих тебя ни на шаг… Когда мир вдруг становится пустым и тусклым, и ты понимаешь, что это — правильно. Что правы они — мой любимый человек Комаров со своей густой взъерошенной челкой и загадочная Вика, которую можно обмануть, но нельзя бросить.
— Да, Сережа, на дискотечку.
Танцуя до дурноты, запивая тоску пузырящимися, ярко подкрашенными коктейлями, я стала с ним встречаться.
Джампер намекал на совместную жизнь. Щедро платил в ресторанах, покупал креветки для домашних ужинов. Потом неожиданно для меня решил поселиться в моей квартире.
— Какой смысл платить за гостиницу? — проговорил он достаточно осторожно и, улыбнувшись, обвел глазами уже хорошо знакомую ему комнату. — Все равно я живу у тебя. Ну, почти что…
— Ну да… — ответила я.
Некоторое время я думала, как бы так сказать, чтобы не очень обидеть Джампера, и все смотрела на его большую синюю сумку, подозрительно набитую в этот раз. Не мог же он приехать с вещами, вот так, просто?.. Но увидев, как он поглядывает на шкаф, видимо уже прикидывая, куда лучше разложить штаны с майками, я не выдержала:
— Сережа, твое спортивное общество «Луч» больше не хочет платить за гостиницу? Ты не оправдал их надежд?
— Натали… Э-эх!.. — Он заложил руки за голову и откинулся на диване, стукнувшись головой об стенку.
Пока он, досадливо цокая языком, растирал затылок, я продолжала. Надо успеть, пока мне совершенно некстати не стало его жалко.
— Может, тебе стоит снять квартиру? Только поближе к ЦСКА или к Лужникам… чтобы не мотать свою «коханочку» через весь город…
Джампер стряхнул с рук прилипшие светлые волоски и хмыкнул:
— Натали, ну ты даешь…
Джамперу явно не нравилось придуманное мной имя для его машины, у которой киевские номера начинались с «КХ».
А я в который раз пыталась все делать так, как было в той, прежней, перечеркнутой теперь жизни, с другим, любимым… Мне было так привычно, что его бордовая семерка имела ласковое имя Сёма. Он любил ее так, как любил все, что ему в данный момент принадлежало.
Серега как будто и не обиделся, что я не предложила ему полку в шкафу и личные домашние тапки. Он уехал в тот день, как обычно ухмыляясь и приветственно помахивая мне длинной рукой, будто надломленной в локте в другую сторону.
— Натали! Не грусти! Еще немного, и мы будем на высшем уровне!.. — крикнул мне он, садясь в машину, и сам громко, может быть слишком громко, засмеялся.
Как-то раз Джампер приехал «в гости», а меня пригласили на вечеринку арабские дипломаты, с которыми я работала зимой, переводила их неформальные переговоры с нашими банкирами.
Серега спокойно отвез меня в посольские апартаменты на Рублевке, сам вернулся в мою квартиру, где я так и не разрешила ему основательно расположиться с вещами, хотя он еще пару раз пытался завести разговор о том, как хорошо жить вместе и как плохо — по отдельности. Забрал он меня часа через четыре, далеко за полночь.
— Ну, а что делал ты? — Я немного напрягалась, после теплого мартини и нескончаемой ламбады мне не хотелось ревности. Не надо было разрешать ему приезжать…
— Смотрел телевизор. — Джампер вел машину спокойно. — Нравится музычка? Прикупил сегодня кассету. Слушай.
— Ты ел?
— Не-е.
— Меня ждал?
Джампер расслабленно кивнул.
— Ах ты мой хороший… — машинально сказала я.
И меня затошнило от тоски, повадки которой невозможно предугадать. Чаще она вползает, но сейчас впрыгнула и уцепилась мне за горло.
Мой хороший сейчас спал в Текстильщиках, уткнувшись в Викино холеное плечо. А тот, кто сидел сейчас рядом со мной, энергично пристукивал по рулю в такт выхолощенной синтезаторной мелодии и подпевал, не понимая слов, негритянской певице: «You've been crying, aha, You've been laughing, aha…» «Ты плачешь, ты смеешься — ага…» Думаю, что ему как раз вот это «aha» больше всего и нравилось.
— Натали, тебя не возьмут в коммунизм. Ты плачешь целыми днями. На высоком уровне не плачут.
На высоком уровне не плачут, не ревнуют, не любят. На высоком уровне отвозят к султанат-аманским послам, с аппетитом хавают шашлыки и бутерброды с вспотевшей рыбкой, хмыкают, гогочут, ухмыляются и одеваются в случае чего в два презерватива.
— Женская среда может помешать высшему результату. — Пояснение, достойное бывшего чемпиона. — Я прыгну в Гданьске и тогда… Натали, ты верь мне! Я прыгну в Сочи и тогда, Натали… Я прыгну… прыгну…
— Тебе опять что-то помешало? Дождь? Враги? Секс? Что же ты не прыгнул, а? Не долетел? — цеплялась я к Джамперу и смотрела, как он продолжает невозмутимо улыбаться, лишь только чуть быстрее хлопая белесыми короткими ресницами.
— На высшем уровне нам не помешает ничего, Натали, — пробить Джампера было трудно.
И было бессмысленно и мучительно изменять тому, кто давно не знал и знать больше не хотел ни о моей верности, ни о моих изменах.
— Наташа, тебе надо забыть своего женатого прохиндея… — Мама говорила, почти не разжимая губ, и все равно три «а» получались большими и холодными. — А Сережа очень умный.
Моя мама, если только через пять минут не скажет наоборот, редко ошибается в людях.
Я пыталась влюбиться в Джампера. Это была, наверно, моя самая честная и безосновательная попытка. Потому что он мне не нравился.
Я поехала к нему в Киев. Утром в четверг я проснулась и вспомнила — вот уже ровно семь месяцев, как Комаров, пряча глаза, чмокнул меня в ухо и, ловко перепрыгивая через две ступеньки, умчался от меня к Вике. Вспомнить это было несложно. Я отмечала каждый прожитый день без него на календаре. Красным плюсиком я помечала те дни, когда я удержалась и не позвонила ему.
Посчитав, сколько у меня денег до зарплаты, я купила билет на самолет и уже в восемь вечера была в Киеве.
Идя по летному полю вместе с другими пассажирами, я представляла, что сейчас где-то там, за стеклянной стеной стоит и ждет меня Джампер. Наверно, уже видит меня. Как это, должно быть, приятно, когда тебя ждут, встречают… Но Джампера в здании аэропорта не было.
Я позвонила ему из таксофона. Он долго не поднимал трубку, я уже успела вместе с другими пассажирами дойти до здания аэропорта. Наконец я услышала знакомое «А-лё?», жалобное и как будто неуверенное.
— Джампер, привет, как дела? Как прыжки?
В небольшом зале прилетов киевского аэропорта Борисполь пахло пирожками и кисловатым кофе.
— Натали? — обрадовался мой приятель. — Ты де?
— В Караганде, Джампер! У вас я, в Киеве, в аэропорту. Я же тебе послала сообщение…
— Дак я… Да и телефон-то… У меня тут… Ох… — засуетился Джампер, и я представила, как он, длинный, худой, всклокоченный, сидит сейчас на диване и соображает — куда же ему засунуть валяющуюся на полу кучу грязных тренировочных маек и где взять денег, чтобы заправить «вольво» и забрать из аэропорта свалившуюся ему на голову московскую фифу.
Я вздохнула:
— Быстрее приезжай за мной. Я жду.
Джампер ехал долго, но приехал очень импозантный, в парадном костюме с золотыми пуговицами и в кои веки раз без своей обгрызанной свалявшейся челки.
Ночная дорога от аэропорта была похожей на Крым. По бокам плавно изгибающейся дороги ровненько стояли стройные южные деревца. Вдали виднелись невысокие холмы, наверняка поросшие мелкими фиолетовыми цветами с чудесным тонким запахом… Мне стало легко и хорошо. Я привычно растянулась на переднем сиденье «коханочки» и подумала, что, в общем-то, какая разница — наврал Джампер, что уезжает в Киев насовсем, или не знал, что не вернется ни через неделю, ни через три. Его же никто не держал в холодной, грохочущей, равнодушной Москве. Прыгнул — молодец, прыгай дальше и выше. Не прыгнул — так иди, парень, потихонечку к себе домой, к фифам не заворачивай — они не любят таких, не прыгучих…
Дом у Джампера оказался большой и бедный. Было ясно, что он успел все заткнуть по углам в честь моего приезда. В квартире был относительный порядок, но присутствия женщины не ощущалось.
Я очень хотела есть и сразу сказала об этом хозяину. Он, несколько смущенно улыбаясь, повел меня на кухню. В почти пустом холодильнике стоял недоеденный суп и лежали огромные мамины котлеты. Меня Джампер угостил сыром и итальянским «Cin-&-Cin», похожим на портвейн, разбавленный яблочным компотом.
— Ну… — Он хлопнул ладонями по яркой клеенке на столе. — А теперь на дискотечку Натали? Как?
Я посмотрела на желтые выгоревшие шторы, кем-то старательно сшитые из узковатой, явно не портьерной ткани. Джампер, подпершись худыми узловатыми руками, смотрел на меня с удовольствием.
— Да, конечно, Сережа. Почему нет?
Киевская центральная танцплощадка была похожа на безумную щелковскую дискотеку в Москве, куда Джампер приводил меня пару раз. Сейчас из круглого приземистого здания слышалась яростная музыка. Я с сомнением наблюдала, как охранник рисует Джамперу что-то на тыльной стороне ладони специальной ручкой.
— Натали, глянь!.. — Он показал мне руку и засмеялся. — Давай свою руку а то не пустят! И тебя сейчас замаркируют!..
Мы вошли в темный зал, и я на секунду оглохла. Джампер мне что-то еще говорил, но я лишь видела, что зубы и белки у него засверкали, как у негра-людоеда в глупом триллере. Он махал руками и все смеялся, а чернила, которыми нам при входе нарисовали на руке какие-то знаки, в темноте фосфоресцировали, оставляя на несколько мгновений длинный зеленоватый след перед глазами. Во время танца волосы на макушке у Сереги опять встали дыбом. Он танцевал очень активно и пытался растормошить меня.
— Сережа, давай выпьем водички хотя бы, — попросила я через некоторое время. Сыр, которым он меня угощал дома, был такой соленый и напоминал подсохшую брынзу…
— Да здесь вода такая… — отмахнулся Джампер. — Одна «Фанта»! Дома попьем.
Джампер берег свои фантики на более важный случай, это было ясно. Но я хотела пить.
— Сереж… У меня ведь есть деньги… Ты же знаешь, я прекрасно зарабатываю… Уж на «Фанту» точно, даже с пирожком… Только скажи, где здесь можно поменять доллары?
— Натали, все будет на высшем уровне!
Я поменяла доллары в подозрительном закутке прямо в здании дискотеки, купила себе огромный стакан ледяной колючей «Фанты», сразу выпила его и заказала себе белый мутный ликер, пахнущий кокосовым кремом для рук.
— Натали? Все отлично? — тревожился Джампер. — Как насчет орешков?
Я ела горькие орешки, запивала ликером и снова шла танцевать. Но тоска, сцепившая меня еще у пустого холодильника на его кухне, вылезала вместе со мной на механизированный подиум, где местные хорошенькие девчонки в сильно спущенных штанах задорно притоптывали под рэп. Ребята в основном стояли по стенкам и сидели за столами.
— Пошли, Сережа, а?
— Тебе не понравилось, Натали?
— Понравилось.
Дома Сережа, чокаясь за коммунизм и высший результат, допил чин-чин компот. Потом он неожиданно взял гитару. Не настраивая ее, он спел мне свою единственную песню. Хорошо он помнил только слова припева и заменял ими все остальное:
— Уня, уня, у-ня-ня, — разносился по пустым комнатам зов любви Джампера. Потом он раскрыл шкаф и, хохоча, показал мне стопку презервативов.
— Натали, для кого это, а?
Тоска дунула мне в висок чем-то горячим. Я положила обратно в полупустую сумку свитер и косметичку, которые только что достала, и пошла к двери. Джампер быстро сообразил и вытянулся у выхода.
— Натали, ты куда?
— Сережа, мне надо уйти. Мне надо в Москву.
«Мне надо к нему. Мне надо к нему, а ему ко мне не надо… Но мне — невозможно, невыносимо без него, без его глаз, голоса, рук, мне без него нечем дышать… незачем делать следующий вдох…»
— Натали…
— Отойди, у меня нет времени.
— Ну, подожди… Я хотя бы отвезу тебя на вокзал.
Даже растерявшийся, Джампер был совсем не трогательный.
Трогательным был только мой любимый Комаров, когда звонил мне поздно ночью, и рано утром, и в середине дня, и на работу, и домой, и домой к моей маме, уже давно мечтающей о внуках. Звонил из ванной, из машины, из банков, от друзей, звонил из своей странной, временами одинокой, супружеской постели. Звонил и доверчиво произносил:
— Ля…
— Чего тебе? — отвечала счастливая я.
— Спи дальше и говори со мной. — Мой нежно любимый человек улыбался в трубку, и родной голос заполнял все мое существо. — Ля, ты меня любишь? Скажи!
— Что там за музыка? Радио, что ли?
— Музыка?.. А, ну, это… наверно, я пою.
— В такую рань?
— Я люблю тебя. А ты?
— А я нет… — смеялась я. Никакого радио там не было. Это звенела и тоненько пела моя глупая душа, и счастье разливалось до самых кончиков пальцев.
— Ля? Ты там не ревешь, случайно? Душа моя, ты что это?
— Я люблю тебя! — Как важно было сказать это и как единственно необходимо услышать ответ. — Комаров… Я так люблю тебя! Не бросай меня, пожалуйста!
— И не мечтай. Спи, моя хорошая.
Это было очень давно, в другой жизни. И если бы не имя, которое от нее осталось, от этой жизни, волшебной, сумасшедшей, звенящей, опрокинувшей и перевернувшей меня, то я бы не верила, что это все когда-то со мной было… Через неделю нашей внезапно вспыхнувшей влюбленности Комаров радостно сообщил мне:
— Я придумал тебе имя!
— У меня есть имя…
— Да, конечно! Но я такое имя придумал… Послушай внимательно: Наталья — Наталя — нота ля — Ля… Нравится?
Я пожала плечами и не сразу поняла, какое замечательное, нежное и точное имя — мое имя, которого никто до этого не знал, — открыл мой любимый. Он был очень романтичный человек — в то далекое время, когда любил меня…
— Натали!.. — Голос Джампера скрипел и ввинчивался мне в голову. — Натали! Тебе плохо? Сядь, посиди…
Старенький Буратино беспомощно топтался около меня, пытаясь пристроить меня на стул.
— Мне надо идти… мне… — Я попыталась встать и увидела, как растерянное лицо Джампера поплыло мимо меня, в сторону, вверх… Я закрыла глаза, чтобы не так кружилась голова. — Куда ложиться? Сережа…
Следующее утро было холодное и блеклое, та южная дорога ночью из аэропорта только зря обещала. Меня колотило в моем коротком белом плаще, едва прикрывавшем шорты.
Джампер показывал мне Киев, как сбесившийся экскурсовод. Мы ездили из конца в конец, чтобы выйти на пять минут, посмотреть что-то невнятное и поехать обратно.
Как и в Москве, Джампер молчал. В Москве это меня почти устраивало. Мы садились в машину и по нескольку часов молчали. Гуляли и молчали, ели и молчали.
Один раз мы все-таки поговорили. Я решила поделиться с ним своими наблюдениями за людьми. Почему, например, с кем-то рядом, умирая, воспрянешь, а кто-то способен погасить самое лучшее, приподнятое настроение за несколько минут… И дело не в словах, не только в словах. Вот один человек говорил мне: «Ты дура…» А я слышала: «Ты — моя, ты наивная, ты доверчивая, я так тебя люблю…» Для начала я спросила Джампера:
— Сереж, а ты веришь, что люди обмениваются не только словами, а еще и какой-то особой энергией? И что есть энергетические доноры и энергетические вампиры?
Был тихий розовый закат. Мы ходили в Строгине по берегу Москвы-реки. Джамперу отчего-то очень не понравился ход моих мыслей. Отвечая мне, он стал кричать, плеваться, кому-то угрожая, кого-то обвиняя и — чего я терпеть не могу — обращаясь со мной, как с настоящей дурой.
Я слушала-слушала и не выдержала:
— Послушай-ка, Джампер, у меня все-таки два гуманитарных в/о. Надо говорить не «транписценный», а «трансцендентный». Это раз. А два — это не имеет никакого отношения к твоей нижней чакре, если, конечно, под словом «щахер» ты подразумевал это, а не что-нибудь другое.
— Наташ, ты слушай, что тебе говорят, и учись, а не возражай, — рыкнул на меня раскрасневшийся и взволнованный Серега.
— Ой…
Я так и не поняла тогда, что же привело его в ярость — своя собственная неосведомленность в этих вопросах или что-то иное.
Второй раз мы поговорили о высоких материях у меня дома. Джампер, переодевшись в «домашнюю» майку, которую привозил с собой, заезжая в гости, лежал у меня на диване и читал книжку «Кармические пути». Меня все подмывало спросить, понимает ли он хоть слово в том, что читает, но я сдерживалась. Стараясь не смотреть в окно, в котором было видно, как быстро, как неостановимо уходит лето, я гладила ненужное белье (я всегда спрашиваю свою маму: «Зачем ты гладишь полотенца, да вдобавок приучила к такой глупости меня?). А Окуджава под хорошее оркестровое сопровождение тянул душу своим „Го-осподи, дай каждому, чего у него не-ет…“. Я, чтобы совсем не затосковать, все-таки цапнула Джампера:
— Сереж, а ты хоть знаешь, за что Окуджава просит дать Каину раскаяние?
Джампер оторвался от «Кармы», с любопытством посмотрел на меня и спросил:
— А шо такое Кайин?
Но в Киеве молчание меня раздражало. Я ведь не просто так приехала. Джампер-то об этом и не догадывался, а я накануне отъезда взяла и крикнула по телефону Комарову: «Ты — подонок, понятно?». Он ведь и без того не появлялся у меня двести семнадцать дней и появляться больше не собирался. Только звонил иногда, чтобы проверить, наверное, отвечу ли я ему на его чужое: «Привет. Как дела?» Вот я и крикнула, неожиданно для самой себя, чтобы перестать ждать, что он спросит что-нибудь другое. И чтобы он перестал звонить и мучить меня своим чужим голосом.
Я приехала в Киев, и мне хотелось, чтобы Джампер вдруг оказался близким и нужным мне. Он ведь так старался стать близким мне. Как мог, старался… Но сейчас он упрямо и отстранение молчал и все включал странную музыку в стиле рэйв, с постанывающей певицей и нудными электронными пассажами.
— Заткни, пожалуйста, музыку, Сережа.
— Музычка что надо! Скажи, Натали?
— Мне — не надо…
В тот день было какое-то затмение, то ли лунное, то ли солнечное. Может быть, от этого к пяти часам дня сумерки, которые с самого утра висели в древнерусской столице, стали как-то жутковато уплотняться и мерцать.
Мы приехали в Печорскую Лавру. Одна, вторая, третья церковь… и моя тоска выкрутила мне все внутренности.
В Лавре я тогда оплакала все. И свое неудачное первое замужество, и предательство моего любимого Комарова, и Викину безусловную правду, и главное — безысходность и неправоту своей собственной жизни.
Джампер посмеивался и фотографировал меня.
— Натали, получились фотографии, где ты плачешь в Лавре, — позвонил он мне потом в Москву.
— Ну и как, Джампер, красивая я на этих фотографиях?
— Как всегда, Натали! На высшем уровне!
— Джампер, а ты взял бы меня с собой в коммунизм?
— Натали, ты будешь — номер два.
— А кто будет номер один, интересно?
— Номер один буду я!
У меня осталась кепка Джампера. На ней написано «Sports Professional», а по-нашему — «профессионал большого спорта». Он ее случайно забыл у меня на вешалке в прихожей. Я все хотела как-нибудь переправить ее в Киев, да так и не собралась.
Интересно, надевал ли Серега оранжевый платок во время украинской осенней революции? Женился ли он наконец и научился ли говорить по-украински? И простил ли мне, что я не знаю, не помню, никогда не задумывалась, что за человек был в моей жизни — Серега Дымченко. Бывший чемпион по прыжкам в высоту, смешной и нелепый, все пытавшийся повторить свой собственный рекорд, и год за годом сбивавший и сбивавший тонкую, легкую планку, почти невидимую, когда летишь к ней вверх ногами, в коротком отчаянном полете над землей…
Аквамарин
В то лето, едва окончив первый курс истфака, наша группа поехала на археологическую практику под Евпаторию, раскапывать древнее городище. У нас училось много милых девочек, поэтому местные археологи такой подмоге обрадовались. Но работать все равно заставляли лопатами, к тонкой работе со щеточками и кисточками, которыми очищаются редкие осколки старины, попадающиеся в кучах перетертого руками песка, не допускали.
В один из первых же дней я случайно нашла отколотое днище маленькой амфоры с остатками органической краски, заслужила славу счастливчика и получила персональную щетку. Больше за месяц я так ничего и не нашла. Мне больше нравилось смотреть, как меняется небо над бесконечной степью, в которой когда-то было старинное греческое поселение. Утром, еле-еле встав в положенные шесть утра, я наблюдала, сидя в раскопе, как медленно разгорается день, наполняется густой синевой небо, и ждала перерыва.
В перерыв, который длился всю жару, часов пять, мы могли делать, что хотели. Посреди степи и пионерских лагерей трудно было придумать что-то иное, кроме как отправляться на море и там ложиться на раскаленный песок и мечтать. Мечтая, я обычно засыпала на горячем желтом песке.
Сон под жгучим безжалостным солнцем был как будто и не сном, а бесконечным путешествием в какой-то иной мир, с нагромождением фантастических кошмаров, странными тягучими звуками и постоянно повторявшимся ощущением чего-то неотвратимого. Наверно, это мое туловище так протестовало против бесцельного самосожжения.
Однажды во время такого полуобморочного забытья до меня слабым отзвуком донесся чей-то ГОЛОС:
— Ты спишь или уже умерла?
Уцепившись за этот спасительный проблеск, я стала мучительно пробиваться сквозь мрачную толщу густого, вязкого сна. А голосок все повторял, настойчиво и требовательно:
— Спишь? Ты спишь? Или умерла?
— Умерла, — услышала я наконец свой голос и открыла глаза.
Рядом с моей головой сидел светлоголовый мальчуган с поцарапанным носом. Два круглых серых глаза внимательно смотрели на меня, насмешливо похлопывая ресницами. Он молчал.
Я тоже молчала, разглядывая худенького загорелого ребенка. Его, видимо, коротко остригли в начале лета, и теперь отросшие волосы торчали в разные стороны выгоревшим соломенным ежиком, придавая ему немного воинственный вид.
— Шоколадной быть опасно… Не боишься, что съедят? — произнес вдруг мальчик.
Я вопросительно посмотрела на него, не найдя, что сказать.
Ему, кажется, не понравилась моя непонятливость, но он молча ждал ответа. И я ответила:
— Не боюсь. Я невкусная.
Ничего лучше мне просто с ходу не пришло в голову. Но мальчуган тут же выпалил:
— Может быть, ты и невкусная… И поэтому, видимо, грустная? — и заметно повеселел.
«Заходер или, может быть, Остер? Но явно — не „Мойдодыр“ же…» — попыталась быстро сообразить я. Мальчуган, слегка улыбаясь, сидел рядом и посматривал на меня, подбрасывая вверх небольшие камешки. Мне стало очень интересно, я приподнялась на локте.
— Шевелиться, как медуза, не такая уж беда… И похожа на арбузы полосатая вода, — мгновенно отреагировало на мое движение удивительное дитя.
Я все-таки взглянула на море и спросила:
— Почему?
Он посмотрел на меня тем мудрым взглядом, которым дети часто смотрят на нелепых, суматошных взрослых, и, пожав плечами, снисходительно произнес:
— Пожалуйста… У тебя облезет пузо, если ходишь спать сюда.
Я решила переменить тему:
— Ты кто?
Он слегка нахмурился и размеренно, серьезно произнес, наверно, подражая кому-то:
— Я дитя песка и моря, из лимана вышел я.
Я уже с любопытством ждала продолжения, но его не последовало. Тогда я снова спросила:
— А как тебя зовут?
Мальчуган опять повеселел и, чуть подумав, ответил:
— Звать меня Аквамарином, только вот запомнишь ли? Был я маленьким дельфином, плавал там, где корабли…
Я хотела тоже что-нибудь сказать стихами, но не знала — что.
— Ясно… И как же ты стал мальчиком?
Умер он, родился мальчик, научился говорить… — Он запнулся, увидев приближающегося к нам темноволосого мальчишку, и они оба бросились наперегонки к морю. Я долго наблюдала за двумя головками — темной и светлой, но потом потеряла их из виду.
Я еще подождала немного, но мальчик больше не появлялся, и мне самой пора было уже идти на работу в раскоп.
На следующий день я впервые просидела на пляже весь перерыв, не сомкнув глаз, но маленького поэта так и не дождалась.
Через день, в воскресенье, мы работали только полдня, до жары, и ровно в полдень я отправилась на поиски мальчугана.
Я шла по длинному пляжу, прижатому к воде плотно стоящими пансионатами. Всматриваясь в медленно шевелящуюся, местами всплескивающуюся энергичными волейболистами массу разморенных отдыхающих, пробираясь через буйное веселье пионерских пляжей, я все надеялась увидеть где-нибудь худенькую смуглую фигурку со светлыми растрепанными волосами. Но — увы. Жара уже стала спадать, когда я, несколько раз исходив туда-обратно пляж, повернула в поселок.
Тихий, почти безлюдный, этот поселочек был наполовину жилым, наполовину — дачным. Вполне добротные дома перемежались в нем с откровенными времянками — хибарками, наспех сколоченными из кусков очень безрадостной жести или даже фанеры. Я обратила внимание, что большинство домов — и совсем бедные, и чуть получше — были очень невысокие. Маленькие домишки, крошечные участки, низенькие заборы. Вдоль центральной улицы росли тоже низкие, но зато очень плодовитые шелковичные деревца с нежными, вкусными ягодами, янтарно-желтыми и черными.
Настал вечер, тихий, свежий, солнечный до последней минуты дня. Потом должна была резко, за несколько неуловимых мгновений наступить темнота. У меня оставалось около часа. И я снова и снова ходила по узеньким кривым улочкам между участками, заглядывая за заборы, как вдруг мне показалось, что впереди," совсем близко, из-за куста малины, почти загораживавшего проход, выглянула знакомая вихрастая голова и сразу же скрылась.
— Подожди! Аквамарин! — с некоторым сомнением крикнула я и, убыстрив шаг, поспешила вперед.
За кустом никого не было. Но зато обнаружилась калитка. Давно не крашенная, в прошлом, очевидно, голубая, со ржавыми фигурными петлями, она чудесным образом производила впечатление обшарпанности и благородной старости одновременно.
Хлопнув калиткой, я сделала несколько шагов по дорожке между грядками и остановилась, со страхом ожидая собачьего лая. Но охранять в том дворике, по всей видимости, было нечего. На мои шаги вылетела лишь рыжая линялая кошка.
Во дворике и в доме было тихо. Потом я услышала странный звук: что-то скребли или терли, и совсем неподалеку. Я посмотрела по сторонам и увидела за необъятной трухлявой бочкой кусочек светлой материи. Звук раздавался оттуда. Обойдя грядки, я подошла к бочке. За ней сидела на перевернутом ведре сморщенная старушонка в аккуратном платье с оборками на подоле и рукавах и натирала ошметком наждачной бумаги огромный зеленоватый валун. От бочки вдруг знакомо пахнуло московскими лестницами в старых каменных домах.
Старушка, не обращая на меня ни малейшего внимания, коричневыми ороговевшими пальцами любовно поглаживала очень красивый камень.
— Извините, пожалуйста…
Она по-прежнему даже не взглянула на меня.
— Извините, пожалуйста, — громче повторила я.
— За ягодами пришла? Та рви, скоко влезет, я не продаю, — вдруг бодро заговорила старушонка.
«Неужели это его бабуся?» — подумала я и спросила:
— А вот мальчик такой… его зовут, м-м-м… Аквамарин…
— Чивой-та? — Старушка наконец повернула ко мне свое личико, похожее на ссохшийся коричневатый березовый листочек. На меня блеснули две прозрачно-серые бусинки глаз.
— Мальчик… внук ваш, наверное…
— А за каким он тебе сдался-то?
Я не знала, как объяснить ей, почему я ищу мальчика. Я и сама этого не понимала. Поэтому я коротко ответила:
— Просто… надо.
— А-а-а… раз на-а-да…
Я с подозрением взглянула на старушку. Мне вдруг показалось, что она меня передразнивает.
— Санек! Иди-ка суда, сучонок рыжий!
«Вот дура бабка! Зачем же так…» — успела подумать я, как из-за бочки прямым попаданием между мной и валуном с бешеной скоростью сиганул уже знакомый мне кот.
Он сел ко мне вполоборота, как будто не обращая ни малейшего внимания на непрошеную гостью. Слегка нахмурившись, он поглядывал на бабку мрачными бирюзовыми глазами и время от времени пристукивал хвостом об землю, именно так, вероятно, выражая мне свое неодобрение. Бабуся же удовлетворенно занялась своей работой, с усердием производя отвратительнейший звук. Я присела на корточки:
— Вы извините, пожалуйста, но я очень хочу с вашим внуком поговорить.
— А с которым?
С очень пожилыми людьми иногда так же трудно разговаривать, как с двухгодовалыми малышами. Я не могла понять, смеется бабуся надо мной или действительно не понимает, зачем я пришла.
Я молчала. Наконец она продребезжала:
— Та он же бегает. Где его сыщешь…
Я присела на корточки напротив нее, на безопасном расстоянии, и стала наблюдать. Старушка шевелила губами и сама себе кивала головой в такт движению рук. Руки вперед — голова три раза вперед-назад, руки назад — голова три раза налево-направо. Это было забавно. Бабуся явно придуривалась. Так мы посидели немножко. Видя, что я не собираюсь вставать, она поднялась сама и неожиданно спокойно и вполне интеллигентно произнесла:
— Александр, вылезай. Не вышло, мой друг! — И тихонько засмеялась.
Мальчик вылез из-за бочки и вежливо встал: носки врозь, руки за спину, глаза долу.
— Александр, что это за девушка, не знаешь случайно? — царственно промолвила бабуся, пристально глядя на внука.
Александр посмотрел на меня ясными глазами, подумал и ответил:
— Нет.
— А если еще подумать? — Старушка мельком взглянула на меня.
Он еще подумал и, вздохнув, повторил:
— Нет.
— Ну, нет так нет. Отправляйся.
Александр рванул вприпрыжку из дворика, а старушка, видя мою растерянность, пояснила:
— Не оправдала, значит.
— Чего не оправдала?
— Не расстраивайся. Не всем же быть поэтами. — И вдруг запела, вполне мелодично: «Я музою свое-е-й…»
В груди у нее что-то заклокотало, и она поперхнулась. Я подумала, не постучать ли ее по спине, но не решилась. А бабуся продолжила:
— Да и у него это возрастное… Не внук он мой, кстати, а правнук. Вожу его сюда на солнце, живем-то на севере… Весь год кашляет, сюда приедем — через неделю все как рукой снимает…
— На севере? А как же, он мне говорил: «Я дитя песка и моря»?
— Как ты сказала? — внимательно взглянула на меня старушка. — А-а-а… Это импровизация. С некоторой долей вымысла, разумеется. Дитя так осваивает мир. А на эту тему у него целый цикл. В зависимости от места и времени меняется и происхождение. — Она опять заклокотала. — Мифотворчество. Слышала о таком?
Я даже сдавала такое, правда, год спустя. Этнография, история культуры и мировых религий… А тогда я спросила:
— Извините, а вот все-таки интересно, откуда он взял этот… аквамарин?
Старушка почему-то рассердилась-.
— Ну-у, милая… Взял! Случилось, значит, это слово. Вот и все. Взял… Сам ничего не возьмешь, если не дается. Может, когда-то и узнаешь это… — Она взглянула на меня. — Хотя… — И потом — это же, наверно, была шутка!..
Она кивнула мне и занялась своим делом. Мне ничего не оставалось, как обогнуть дореволюционную бочку и, перешагнув через чахлые грядки, выйти на улочку.
Дня два я пообижалась на эту оригинальную парочку, а потом, когда поняла, что до желанного когда-то отъезда домой осталось всего несколько дней, снова отправилась к мальчугану. Но и в тот день, и на следующий вечером в их домике было темно, а днем — пустой палисадник и занавешено единственное окошко. Возвращаясь в наш лагерь по изогнутым, переплетающимся проулочкам, я уговаривала себя: «Они уехали», — а назавтра снова отправлялась на поиски. Вопрос — а зачем мне все это нужно? — отпал как-то сам собой.
В последнюю ночь археологи устроили нам прощальную попойку. Я же добродетельно отправилась в одиночестве на море, сообразив вдруг, что я так ни разу ночью и не искупалась. Море ночью, как я знала из детства, когда нас с братом тоже возили на юг, очень теплое и вообще совсем другое.
На пляже никого не было. Я искупалась и решила немного посидеть у воды. Вспоминая, как в детстве я верила, что если проплыть по лунной дорожке и загадать желание, то оно обязательно сбудется, я прилегла на медленно остывающий песок и незаметно уснула.
Тогда мне впервые приснился этот сон. Маленький, совсем маленький дельфиненок плавает в комнатном аквариуме. Выпрыгивает наверх, щебечет. Я хочу его погладить, но как только протягиваю к нему руки, они становятся рыжими линялыми лапами, с корявыми когтями. Так я и стою, боясь опустить руки в воду и никак не решаясь обернуться назад, где в глубине неосвещенной комнаты с высоким потолком кто-то хрипло то ли покашливает, то ли посмеивается…
Когда я проснулась, было раннее утро. Песок совсем остыл. Зато море было нежное, тихое и вокруг стояла сонная, сладкая тишина. Я вошла по щиколотку в море и в этот момент услышала за спиной скрип. Навстречу мне шлепал Александр в скрипучих сандалиях, оставляя на плотном, слежавшемся за ночь песке маленькие влажные следы.
— Доброе утро, — сказала я сиплым со сна голосом.
— Здравствуй, — ответил мальчик.
Он остановился шагах в трех от меня. Мы помолчали. Наконец я спросила:
— Ты будешь купаться? Пойдем вместе?
Мальчик задумчиво кивнул. Сняв сандалии, он взял их в руки и, взглянув на меня, проговорил:
— На мокрый песок ногой босой шагни. Всей кожей пойми усталый висок земли. Здесь моря конец и жизни начало здесь. Пока берег спит — он твой, я дарю. Весь…
Тут он, по-моему, немножко засмущался и решительно шагнул куда-то мимо меня. Но потом передумал и приостановился, по-прежнему не глядя в мою сторону и помахивая сандалиями.
Сколько же ему было лет? Семь? Девять? Или гораздо меньше? Я тогда совсем не разбиралась в этом. И не задумывалась, наверное.
— Ты знаешь… Я уезжаю сегодня.
— Ты знаешь, я уезжаю, мой день подошел к концу… — Он запнулся, поковырял ногой песок, потом переложил сандалии в левую руку, отряхнул правую от песка и протянул ее мне: — Жаль. — Потом почему-то поправился: — Жалко…
— Что жалко? — спросила я, осторожно пожимая теплую ручку мальчика.
В его глазах мелькнуло знакомое снисходительное удивление:
— Жалко, что уезжаешь.
Я вдруг почувствовала себя совсем взрослой и очень глупой. Александр перевел глаза на море и радостно воскликнул:
— Смотри, там дельфины! Они всегда рано утром сюда приплывают!
Я не стала объяснять, что без очков вряд ли разгляжу дельфинов, и стала вглядываться. А он тем временем пошел вдоль берега, болтая руками и не оборачиваясь. Я не стала догонять его. Я стояла и смотрела, как поблескивало ровной гладью море, чистое и совсем прозрачное у берега, а маленькая, тонкая фигурка мальчика все удалялась, словно растворяясь в утреннем солнце.
Я стояла и смотрела, как он уходит по белому влажному песку, и знала, что он не вернется и не обернется. Он уходит туда, где меня больше нет.
Ураган
Мне всегда было непонятно, почему, дождавшись хэппи-энда, многие нереалистичные люди (например, я) — плачут. Тогда как все остальные говорят: «Да-а… Хорошая сказка…» И не верят, что так бывает.
Хотя в ту ночь мне было не до слез.
С самого утра я чувствовала сильное и настойчивое вмешательство в мои незатейливые планы того, что проще называть интуицией, чем, например, потусторонней силой или ангелом-хранителем. У ангела, я думаю, есть дела поважнее, чем подавать мне таинственные сигналы о том, что магазин или аптека, куда я еду через всю Москву, — закрыты на учет. Или о том, что можно не спешить на работу к вечернему спектаклю — его почему-либо отменят. Просто каким-то таинственным образом я иногда знаю, что будет дальше, а иногда, увы, даже и не догадываюсь…
Была обычная тоскливая суббота, хуже которой бывают только бесконечные воскресенья, а также все старые и новые праздники. Самые веселые и радостные праздники стали вдруг тоскливыми и одинокими с тех пор, как несколько лет назад я обнаружила, что отчаянно влюбилась в неотразимого враля Комарова, женатого и свободного одновременно. Он никогда не ощущал себя женатым до конца, всегда оставляя себе возможность начать все сначала. Или хотя бы увлечься и увлечь за собой кого-нибудь в очередное радостное приключение. Что за жизнь, если в ней нет места неожиданным встречам, волнительным переменам и новым, ярким впечатлениям? Что это за жизнь, если всегда ждать оклика: «Нельзя!»?
До встречи с ним я была просто одна: одна завтракала, одна ужинала, одна ездила отдыхать и нисколько не тяготилась этим, была вполне счастлива, зная, что наступит день, и я обязательно встречу его… День наступил, и оказалось, что раньше я была одна, а теперь стала одинока. И в те дни, когда мне не нужно было идти на работу, я остро ощущала, что обед готовить не для кого, что дома меня никто не ждет, и считала часы, когда же кончатся праздники. Комаров выйдет на работу и утром, в три минуты десятого, позвонит мне, чтобы спросить, как дела. Я отвечу, что все хорошо, и он приедет вечером. Вырваться из этого замкнутого круга я не могла. И когда Комаров время от времени сам пытался обходиться в жизни без меня, я не в силах была заставить себя не ждать его, несмотря ни на что.
В тот день с самого утра я собиралась пойти в Серебряный бор — подышать чистым воздухом и сочинить на берегу Москвы-реки окончательное прощальное письмо Комарову. Собиралась и все сидела за компьютером. Как только я ставила точку, что-то будто удерживало меня. И я, глядя в окно, как проходит прекрасный июньский день, сидела и писала — сама себе, а кто же еще это будет читать? — «Вот и лето пришло, а я опять одна, со своей тоской… Тоска растет, взрослеет, а я потихоньку старею, день ото дня, день ото дня…»
Так я просидела до семи вечера. Потом встала, как будто меня кто-то толкнул, быстро оделась и вышла из дома.
Есть такое место в Серебряном бору, у самой реки, — небольшая поляна с плакучими ивами и сильно разросшимися кустами волчьих ягод с тонкими красными ветками и небольшими глянцевыми листочками. Там я часто сидела, размышляя о том, почему же все так сложилось у меня в жизни, и смотрела на медленно текущую Москву-реку, в которой отражались облака и прекрасный силуэт высокой старинной церкви на другом берегу.
Но сейчас на моей поляне орала музыка и хохотали подростки, хрустя попкорном и булькая напитками в ярких жестяных баночках.
— Пойти, что ли, подальше, поискать тихое место? — посоветовалась я с внутренним голосом.
— Пойти, но только недалеко… — ответил он, и я почувствовала в этом некоторую многозначительность.
Неподалеку я действительно нашла довольно тихую плешку у самой речки и присела было писать письмо Комарову. В этом, в общем-то, и состоял основной интерес прогулок в прекрасном романтичном месте — походить, с удовольствием и грустью посмотреть на природу, в любое время года напоминающую о бренности всего сущего. Потом, вздохнув, присесть, достать блокнотик, написать письмо, под тихий плеск воды, шуршание листьев… Найти нужные, невероятно важные слова, проникновенные и точные, чтобы Комаров прочитал и наконец все понял…
Я написала пару фраз, подняла глаза и увидела, как разворачивается у причала катер. Скорей всего, это был прогулочный теплоход, за час огибающий Серебряный бор. Если же это переправа, то на нем можно за пять минут попасть в Строгино. Зайти к маме, прогуляться по набережной, подняться к церкви…
В этом красивом, отделенном от города рекой районе прошла моя юность. Там я когда-то была счастлива и уверена в себе наивной уверенностью затянувшегося детства.
Там я гуляла часами со своим рыже-коричневым доберманом по имени Милорд и читала ему монологи чеховских девушек. Милорд рвался с поводка при виде гладких слюнявых боксерш, которых он особо выделял среди всех собак, и все норовил убежать, часика эдак на три — поноситься кругами по улицам, попугать людей, подраться с другими собаками, налаяться до хрипоты и прибежать победителем домой.
В Строгине по-прежнему живет моя мама со своим сыном, моим младшим братом.
Туда недавно переехала новая девушка Комарова, она же — его бывшая жена. Расставшись с Комаровым, она не нашла ничего лучше, как поселиться на соседней улице с моей мамой. В такой огромной Москве мы опять оказались рядом. То были рядом с Комаровым — по разные стороны, а теперь — почти соседки, через речку…
В ту жаркую тоскливую субботу белые силуэты шестнадцатиэтажек на противоположном берегу реки показались мне красивее и заманчивее, чем вся прохлада Серебряного бора, и я без особых раздумий пошла к причалу.
— До которого часа работает переправа? — спросила я толстого матроса, сходя через несколько минут на строгинский берег. Он наматывал канат, и большой катер послушно подтягивался к причалу.
— До семи, — ответил матрос и крикнул: — Кто на прогулку, садимся быстрее!
Я посмотрела на часы. Было уже четверть десятого. Значит…
— Один-ноль, — победно заявил внутренний голос и умолк. Вот почему он то подталкивал меня, то удерживал, то советовал не отдаляться от причала… Чтобы я переправилась в Строгино на катере, которого нет…
Я пошла по берегу, колеблясь — сворачивать сейчас и идти мимо Викиного дома или все-таки по противоположной стороне. Комаров как-то показал мне ее большой бело-голубой дом, когда мы проезжали мимо. И теперь, каждый раз проходя рядом с этим домом, я невольно думаю: а что она сейчас делает? Пьет кофе, или читает, или, может быть, смотрит в окно и видит, как я иду мимо ее дома, задрав голову и вглядываясь в окна?
— Это я купил дополнительную переправу, — сказал вдруг кто-то позади меня. — Не так уж и дорого стоило…
Я оглянулась на ходу. Крепкий светловолосый мужчина пытался пристроиться со мной в шаг.
— И вам пригодилось, верно? — продолжал он. — Вы быстро идете… Нельзя с вами познакомиться?
Я промолчала, продолжая идти, не останавливаясь и не глядя на него. Он еще пару раз настойчиво повторил свой вопрос, после чего я с искренним сожалением ответила:
— Нельзя, — и прибавила шагу.
Я шла и думала: как удивительно — я так небрежно одета, на лице ни грамма краски и тоска о Комарове, а вот надо же — кто-то бежит сзади и пытается со мной познакомиться. Еще удивительнее, что я с этой своей тоской хожу вот уже который месяц и ничего поделать с ней не могу. Не могу даже познакомиться с симпатичным светловолосым человеком, так не похожим на обманщика Комарова.
У мамы я просидела около часа, наблюдая, как она готовит ужин брату. Послушала рассказы брата, только что вернувшегося с отдыха, о далеких странах, где живут красивые, смуглолицые девушки с раскосыми глазами, понимающие мужчин с полувзгляда, причем так, как они даже сами себя не понимают. Потом я выпила чаю и ушла.
Я опять поколебалась — не сделать ли крюк и не пройти ли мимо Викиного дома. И опять решила, что не надо. Вдруг Комаров увидит меня и решит, что я слежу за ним. А мне-то просто казалось, что однажды я буду идти по улице и рядом затормозит машина с номером «772». Откроется широкая серебристая дверь с сильно затененным стеклом, и чуть глуховатый голос, от которого замирает сердце и пересыхает в горле, произнесет:
— Я очень перед тобой виноват. Садись. Я все понял. Я люблю тебя.
Не ехать же мне за этим в Текстильщики — там уж точно у меня никаких дел нет, кроме как ждать, когда проедет машина с номером «772»…
Я дошла до последней остановки перед мостом через Москву-реку, села в автобус и переехала мост.
В половине двенадцатого все гуляли, как днем, было еще светло. Наверно, это был один из самый светлых дней года. Люди гуляли и парами, и компаниями, и с собаками, и с детьми, зевающими или уже спящими в колясках.
На своем берегу Москвы-реки я вышла из автобуса и встала на трамвайной остановке, откуда открывается замечательный вид на Строгино. Я обратила внимание, какое интересное небо сегодня. Как будто мощные фонари откуда-то изнутри подсвечивали его оранжевым светом. Было невероятно тепло и тихо — воздух словно застыл. Машин было мало, и в тишине засыпающего города слышались редкие и настойчивые крики птиц.
— Давно ушел 28-й трамвай, вы не знаете? — спросила меня милая юная девушка в слишком коротком даже для субботнего душного вечера платьице.
Я вспомнила, что и сама одета не для ночных прогулок — как просидела весь день в шортах и крохотной маечке, так и пошла гулять. Теперь жди любопытных вопросов: «Не специально ли вы так оделись, чтобы я вас об этом спросил?..»
— Трамвай? Только что, — вздохнула я и подумала: вот рос бы у меня такой носик, никакой Комаров мне был бы не страшен. Мой греческий профиль ценят в основном пожилые дамы, воспитанные на лучших образцах классического искусства. А Комаров любит короткие, вздернутые носики, пикантные и трогательные, как у Вики, к примеру…
— Теперь минут пятнадцать ждать… — расстроилась девушка.
— Или даже больше… Но вы пешком не ходите, — посоветовала я и вдруг тут же услышала странный сигнал внутри. Только что он означал, я не поняла.
— Не пойду, — кивнула девушка. И тут же с надеждой спросила: — А вы не пойдете?
В ее платье и в моих шортах вместе идти по пустынным улицам было еще хуже, чем поодиночке. Мы стали смотреть в сторону «Щукинской», откуда минут через пятнадцать должен был прийти трамвай. Сейчас оттуда с ночной скоростью мчались одни серебристые иномарки. Я по привычке искала номер с семерками и двойкой.
— А может, все-таки вместе пойдем? — спросила девушка и посмотрела на меня, трогательно наморщив свой изящный носик.
С похожей интонацией разговаривала одна моя любимая героиня из американской пьесы, которую я играла пять лет подряд.
«Мамочка, — говорила она, — я хочу увидеть сегодня во сне своего избранника». — «Какого?» — устало спрашивала мать, будто не зная, какого. — «Только одного, — честно отвечала я. — Того, у которого было чистое сердце». — «Откуда ты это знаешь?» — спрашивала мать. — «Он сам сказал», — отвечала я…
Мамочку играла моя подружка Нинка Волгина, красивая рыжеволосая актриса, которая была старше меня лишь на восемь лет. Мне всегда казалось, что ей немного обидно играть мою мать, а главное, я подозревала, что она прекрасно знает, о ком я говорю и о чем плачу на сцене. И поэтому наш разговор с ней про чистое сердце моего избранника всегда имел какой-то особый смысл для нас обеих.
Девушке я этого всего не стала пересказывать. Зато рассказала, как недавно ко мне ночью привязались в пустом вагоне метро два очень неприятных человека, говорящих по-русски без падежей — «Убери свой рука от мой голова!», но отлично владеющих русским матом. Историю свою я рассказывала уже раз в пятнадцатый, очевидно, потому, что никак не могла ее пережить. И случилось это в тот день, когда Комаров наконец все понял: про себя, свою жизнь и про нас с ним. Мне он ничего не сказал. Просто пригласил к себе в гости, получил на прощание массу удовольствия и попросил меня уехать домой, предоставив ему возможность разбираться с собственными чувствами в тепле и тишине пустой квартиры. Я могла бы помешать ему, повлиять на объективность решения.
Я шла пешком до метро, почему-то все надеясь, что Комаров меня вернет. Испугается за меня хотя бы… Мне самой было совершенно не страшно идти по улице. Хотя была уже поздняя ночь. Страшно — до удушья, до звона в голове — стало мне лишь в замкнутом пространстве вагона. Два темных лица с застывшими глазами и нечистой, рябоватой кожей, удушающий запах резкого одеколона, табака и еще чего-то приторного и тошнотворного… Люди эти не понимали слов. Они просто пытались схватить меня за все возможные выпуклости на теле и яростно сопели.
На первой же остановке я выскочила из вагона и, увидев в конце перрона плотную фигуру в темно-серой униформе, бросилась туда. Люди с ужасными лицами увязались за мной.
На милиционера, за спиной у которого я пыталась спрятаться, им было наплевать, они несильно пихали его в бронежилет, а милиционер отступал, повторяя: «Ну ты, ну ты…» И получалось, будто он сам пытался спрятаться за мной. Я судорожно соображала, в каком же месте у него должно быть хоть какое-то оружие. Возможно, он боялся, что прыткие гости столицы просто отберут у него оружие и тут же им и воспользуются? Нам обоим пришлось бы плохо, если бы в этот момент не подошел следующий поезд и непонятно откуда вылезшая тетка в красном метростроевском жилете не заорала:
— Последний! Поезд последни-и-й!
Насильники впрыгнули в вагон, а я пошла пешком с Волгоградского проспекта на Октябрьское поле, не очень рассчитывая поймать такси за ту небольшую сумму, которая была у меня с собой. Шел мелкий снег с дождем, но мне было не холодно в красивых черных колготках с узорами, похожими на спящих бабочек…
Девушке больше всего понравился эпизод с милиционером на перроне. Мы все-таки пошли вместе пешком. Я в лицах рассказывала милой спутнице эту историю, которая по прошествии нескольких месяцев стала забавной страшилкой, мы смеялись и шагали по трамвайным путям. Опустила я лишь сугубо-личное — как и почему я оказалась в половине первого ночи не дома, а одна на другом конце Москвы, и как перед тем Комаров лежал на диване, отвернувшись от меня, и повторял: «Мне надо побыть одному…»
Больше он ничего не говорил, оставляя себе на всякий случай шанс. А вдруг, месяца через два или три, он опять все поймет, но теперь уже по-другому… И тут очень кстати придется это молчание. И непроизнесенные слова, понятные и ему, и мне, вдруг растворятся в прошлом, которое очень легко будет приспособить, как удобно… «Кто сказал, что я тебя не люблю? Неправда. Просто у меня был кризис. У любого мужчины бывает кризис, и молодец та женщина, которая это вместе с ним переживет. А вместе можно быть и по отдельности. Душой вместе! Понимаешь? Душой!..»
Рассказав поучительную историю про метро, я обратила внимание, что, кроме нас с незнакомой девушкой, на улице, вдоль которой мы шли, никого не было. Лишь изредка проносились легковые автомобили. Один раз кто-то весело просигналил, оценив наши пляжные наряды, но, к счастью, не остановился.
Красивая улица Живописная освещалась плохо, и мне стало немного страшно. Как-то резко стемнело. Жилых домов вокруг не было, справа от нас шел сплошной забор закрытого института — намотанная большими кольцами колючая проволока неярко блестела по верху забора.
Трамвай так и не пришел. Девушка, наспех попрощавшись, свернула в свой переулок, я помахала ей рукой и присела поправить пластырь на натертой ноге.
И только встав, я почувствовала, что в природе что-то неуловимо изменилось.
Сначала я услышала тишину — полную, звенящую. Я глубже вдохнула, ощущая непривычную плотность совершенно неподвижного воздуха. И вдруг что-то зашуршало в абсолютной тишине, и я с удивлением ощутила теплую влагу на своей коже. Сразу мокрыми стали плечи и лицо. Совершенно ниоткуда посыпались мелкие островатые капли. «Хорошо-то как…» — подумала я и пошла чуть медленнее.
После такого жаркого, безветренного дня — вдруг дождик. И опять внутри меня как будто раздался сигнал. Тот, кто знает больше и видит дальше, сейчас довольно скептически сказал: «Да-а-а… Знать бы, где упасть, подстелил бы соломки…»
Я помню, что в тот момент мне пришла в голову удивительная мысль — мой внутренний голос часто разговаривает тоном и словами Комарова!.. Но додумать я не успела. Мне на голову вдруг обрушился будто ушат ледяной воды. Я вытерла рукой воду со лба и подняла голову, чтобы посмотреть — откуда и что это такое — и захлебнулась от второго. Ушатом я, конечно, никогда не пользовалась, но знаю, что ушат воды на голову — это очень плохо и мокро, и главное много. А если десять ушатов подряд, а потом из брандспойта в спину и одновременно в грудь… Главное, непонятно, куда падать, но и удержаться на ногах уже невозможно.
Я не могла ни идти вперед, ни дышать, ни смотреть. Я сняла залепленные водой очки в надежде что-то увидеть вокруг себя и понять, что происходит. Видела я секунды две, пока не раздался грохот, где-то совсем близко. Одновременно посыпались искры с трамвайных проводов уже точно мне на голову и резко погас свет — сначала в невысоких жилых домах, до которых я наконец дошла, а потом на всей улице.
Две машины впереди замедлили ход, сначала я не поняла, почему. Я-то остановилась совсем и попыталась опереться на столб с погасшим фонарем, с ужасом думая, что, наверно, делать этого нельзя. Но брандспойты теперь били со всех сторон и двигаться не давали. И тут ползущая мимо меня машина остановилась совсем. Слов из-за грохота было не разобрать, до меня доносилось лишь:
— …итесь! …итесь!
Я поняла, что водитель зовет меня укрыться в машине. Кое-как оторвавшись от столба с ко-ротящим электричеством, я попыталась подойти к дороге ближе, но сильные струи воды, бьющие наискось, не давали мне сделать ни шагу в сторону.
Тогда я шагнула вперед и тут же провалилась до колена в ледяную воду уже не улицы, а реки Живописной. Машина сзади резко загудела, и я обернулась. И именно в этот момент ударили — именно не сверкнули, а ударили! — сразу две молнии, одна за другой. Первая — в меня, вторая — в переднее стекло машины.
Конечно, первая молния ударила где-то рядом со мной, скорей всего в электрический столб, от которого я отошла. Меня изо всей силы тряхануло, и я на секунду ослепла и задохнулась. А в свете второй молнии, острой и объемной, будто нарисованной, я увидела глаза водителя.
— Садитесь, пожалуйста, садитесь! Здесь нельзя быть! — говорил молодой человек. Теперь я его хорошо слышала и даже видела в свете молний.
— Садись, дура! — четко сказал мне внутренний голос.
— У меня только пятьдесят рублей, — очень некстати ответила я и не двинулась с места. Но я сказала, как есть. Даже вселенская катастрофа — не повод, чтобы изменять свои принципы, приобретенные путем проб и ошибок — в основном ошибок.
— Да вы что, какие деньги! — Водитель высунулся из машины, придерживая дверь. — Садитесь скорее, вы можете здесь погибнуть!
Пока я объясняла свое материальное положение, все брандспойты соединились в один и теперь били мне в спину, подталкивая к спасительной машине. Я села в нее вовремя. Что-то со страшным треском ударило о капот и внутри стало совсем темно.
— Это что? — спросила я и тут же сама ответила: — Это дерево упало.
— Вот видите, как вовремя вы сели, — произнес из темноты приятный голос. — А…
Он не успел договорить, потому что еще одно дерево медленно рухнуло прямо на наших глазах, перегородив дорогу почти наполовину.
— О Господи, — услышала я свой голос как будто издали.
…Не было ничего — ни поворота, ни машин вокруг, только красные светящиеся шары, которые я сначала приняла за шаровые молнии. Потом оказалось, что это фары стоящих друг за другом машин… Их водители боялись ехать и прижимались к обочине, и совершенно напрасно. Мы тоже ничего не видели, но пытались двигаться вперед. Поэтому, когда начали падать деревья одно за другим, на нашу машину не попало, а красные шары впереди и сзади стали гаснуть, заваленные обломанными липами, которыми густо усажены все улицы в нашем районе.
Кое-как мы добрались до моего дома, я поблагодарила водителя, задержалась на секунду, ожидая вопроса — про телефон или что-то в этом роде, но он только улыбнулся и сказал мне:
— Будьте осторожны!
— Удивительное дело, — промычал внутренний голос.
— Чудеса, — согласилась я.
До моего дома оставалось метров тридцать, но преодолеть их оказалось не так-то просто. Ветер стал чуть тише, но по улице с бешеной скоростью неслась ледяная вода, захлестывая меня выше колена. Темнота была кромешная, поэтому я не сразу поняла, что это такое серебрится справа от меня. Я не удержалась и подошла ближе. Такого я не смогла бы даже предположить.
Шесть или семь ракушек, лепившихся под жасминовыми кустами к нашему дому, теперь были свалены в кучу, а одна, самая хлипкая, была разодрана на куски. Я споткнулась обо что-то металлическое, вероятно, о пустые канистры, рассыпанные вокруг, и чуть не навернулась носом в густую, глубокую грязь. Любопытство было удовлетворено, я пошла к своему дому. И остановилась.
Прохода к дому не стало. Впереди темнела масса вырванных с корнем или сломанных деревьев. Я ткнулась с другой стороны — там было то же самое. С неба по-прежнему лились потоки воды, но мне было не холодно и уже даже не страшно.
Я стояла совсем рядом со своим подъездом и не могла к нему подойти. Пока я старалась понять, где же может быть проход, огромная береза, достигавшая седьмого этажа, покачнулась и стала медленно падать. Я, как завороженная, смотрела на нее, не двигаясь с места. Это было очень страшно и очень красиво, невозможно оторвать глаз. Вот это, наверное, оно и есть — воспетое поэтом «упоение в бою и бездны мрачной на краю»…
— Прыгай к нам, малышка! — раздалось откуда-то сбоку. Я не сразу поняла, что это обращаются ко мне, но оглянулась. Бритый парень смотрел на меня, приоткрыв тяжелую дверь темного джипа, невесть откуда взявшегося рядом. Наверно, он подъехал, пока падала береза, и парень, тоже очарованный стихией, теперь улыбался.
Я колебалась. Не только из-за «малышки». Что прыгать-то, когда я стою, считай, у собственного подъезда?
— Барышня, присаживайтесь, а то вас сметет сейчас! — показалась вторая голова, с волосами.
Я, кстати, не люблю ни простецкого обращения в стиле братков, ни вычурной вежливости опомнившихся потомков дворянства или тех, кто мечтал бы ими быть.
— Сади-и-сь! — все так же широко улыбался бритый, видя мое замешательство. — Тебе куда ехать-то?
— Вот к этому подъезду, — показала я на кучу будто скошенных тополей и берез.
Отлично! А нам вон к тому! — Он махнул в сторону, где теоретически находился крайний подъезд соседнего дома. Всё электричество на нашей улице давно погасло, но глаза уже привыкли к темноте.
Я кое-как обошла джип и стала залезать на заднее сиденье.
— Я вообще-то мокрая, — сочла нужным сообщить я с некоторым опозданием.
— Ой, да уж лучше молчи! — вмешался внутренний голос.
— Я людям всю машину намочу, — пояснила я вслух.
— Ничего, люди переживут как-нибудь, — подбодрил меня дворянин. — Будем продираться или в объезд? — спросил он бритого.
— Давай по большому кругу, — непонятно ответил тот и дал задний ход.
Следующие полчаса мы объезжали наш вчера еще образцовый двор с ровно подстриженными лужайками и аккуратными барбарисовыми кустиками, весь заваленный сейчас переломанными ветками и деревьями. Наконец мы остановились метрах в сорока от моего по-прежнему недосягаемого подъезда, только с другой стороны.
— Игорек, давай-ка девушку домой как-нибудь откомандируй, — вздохнул бритый.
Только что, пока мы продирались по завалам, которые теперь окружали мой дом, ребята, смеясь, рассказали мне, что они оба работают в Службе спасения. Но сегодня у них выходной, и они поехали вечером на оптовый склад за йогуртами. А если бы не поехали, то так бы и стоять мне под падающими березами до утра и ждать аварийную команду.
— Барышня, вашу руку! — Игорек вытащил меня из джипа и неопределенно махнул рукой в сторону чудовищной кучи деревьев: — Там должен быть проход.
Прохода там не оказалось, поэтому мы полезли на ствол наклонившегося дерева. Игорек уверенно лез впереди, а потом вдруг спрыгнул. К этому времени мы были уже на уровне второго этажа, и мне прыгать вниз совсем не хотелось.
— Сгруппируйся и на меня, — раздался снизу спокойный голос, и я увидела в темноте распахнутые мне навстречу сильные руки невысокого Игорька.
— Я не могу, — ответила я и спрыгнула ему на голову.
Он ловко поймал меня, перенес через колючую кучу бывших голубых елок и поинтересовался:
— А «Фанта» что, дорога как память?
— Какая «Фанта»? — с ужасом спросила я, думая, что спасатель, видимо, сам переволновался от происходящего и теперь говорит ерунду.
— Да вот эта, которой ты меня колотишь по голове. — Он аккуратно вынул из моей руки пластиковую бутылку с недопитой «Фантой», открутил крышку и галантно предложил мне первой: — За спасение утопающих?
— Можно за вечное спасение… — Я отпила воды, не чувствуя ее вкуса, и протянула ему бутылку. — Будете?
— А то! — весело подмигнул мне спасатель, допил газировку, выкинул бутылку и посетовал: — Надо же, грязь-то какая, хорошие брюки испортил.
Тут я почувствовала, что у меня разодраны все ноги и вообще сил больше нет, и заныла:
— Мы не доберемся никогда…
— Глаза открыть! — скомандовал вдруг Игорек. — Сумку через плечо назад и за мной на карачках!
— Ура! — прошептала я и, стараясь не смотреть по сторонам, поползла за ним. Все-таки очень хорошо, когда в критический момент жизни кто-то может на тебя рявкнуть.
Мне казалось, что мы уже раз пять проползли вокруг моего дома, а подъезда все никак не было видно.
— Можно встать, — неожиданно разрешил спасатель и, поскольку я замешкалась, легко поставил меня на дрожащие ноги. — Страшно было?
— Нет, — отчего-то засмеялась я. — Очень весело.
Игорек подергал нашу тяжелую кодированную дверь.
— У меня магнитный ключ. — Я стала рыться в сумочке.
— Это хорошо, — кивнул он. — Только вот электричества-то нет.
— Заклинило? — с большим опозданием догадалась я.
— С петель надо снимать, — задумчиво сказал Игорек. — Или… — Тут он легонько постучал в решетки первого этажа. — Есть кто дома?
В окне сразу показалась встрепанная мелированная голова соседки Машки, которая не всегда со мной здоровается, потому что у нее страшный на лицо, но молодой и плечистый муж, и она ревнует его ко всем женщинам моложе ее самой. Тем более что, познакомившись с Комаровым несколько лет назад, я стала носить юбки все короче и короче, что не добавило мне популярности у окружающих меня женщин. Да если честно, и у Комарова моя популярность оказалась недолгой, несмотря на все мои старания, колготки с бабочками и тонкие летящие каблучки.
Игорек тем временем встал на сломанное дерево и приподнялся к окну, чтобы Машка лучше его видела.
— Хозяйка, вы не против, если я через вас зайду на второй этаж?
— Это кто? — не поняла Машка.
— Служба спасения. А девушка со мной, — объяснил Игорек, повесил себе на шею мою сумку, легко подтянулся на Машкиных решетках и кивнул мне: — Не отставай.
— А-а-а!.. — услышала я свой голос и поняла, что стою, вернее вишу, и ноги мои где-то посередине Машкиного окна, а сама она кричит уже снизу что-то несвязное, из квартиры, поскольку просунуть голову через решетки не может.
— Держишься пока? — спокойно спросил Игорек. — Секунду погоди…
Я не успела ничего понять, а он отпустил руки, качнулся и, похоже, упал. Я охнула и сильно стукнулась носом о мокрую шероховатую стену, судорожно цепляясь за прутья балконной ограды наверху и чувствуя, как соскальзывают ноги с мокрых решеток на Машкином окне.
— Бояться не надо, — раздался голос моего спасателя откуда-то сверху. — Руку давай. Правую… ту, что ближе ко мне! Потом отпусти левую.
Я, наверно, сделала все, как надо, потому что дальше он крепко взял обе мои руки и рывком втянул меня на балкон второго этажа.
— Умница, — похвалил он меня и заботливо поправил мою разодранную в очень неудачном месте майку. — Не ушиблась?
— Да вот… — показала я на огромный, проступающий прямо на глазах синяк выше колена.
Игорек покачал головой и сказал буднично и просто:
— Сейчас в форточку полезем. Готовься.
Я кивнула:
— Полезем! Игорь… А может, не надо?.. Не очень как-то…
— Ну, в общем-то, конечно, не очень, — согласился он и, ловко забравшись на подоконник, открыл с той стороны все окно. — Не шлепнись, тут что-то мокро на полу.
Я ожидала, что сейчас проснется и закричит, видя двух незнакомых людей в своей комнате, какая-нибудь бабуся, или залает собака, или выскочит, мерцая зелеными глазами, кошка и зашипит…
Но, к моему удивлению, никто ничем не замерцал, не залаял и не проснулся. Если кто и спал в соседней комнате (что вполне могло быть, потому что моя мама, например, благополучно проспала весь ураган), то мы с Игорьком так этого и не узнали. Он аккуратно провел меня в темноте чужой квартиры к входной двери, тихо ее открыл и так же беззвучно захлопнул.
— У тебя есть телефон? — спросил Игорь и слегка подтолкнул меня к лестнице, потому что я остановилась, собираясь отдышаться.
— Есть, сейчас дам. — Я полезла в сумку, висевшую у него на спине. — Где-то у меня была ручка…
— Зачем мне твоя ручка? — удивился Игорек. — Я свой мобильный не взял. А мне бы надо Димычу позвонить, чтобы он вернулся на старое место.
— Откуда мы по большому кругу поехали? — догадалась я.
— Точно. — Игорек почему-то внимательно посмотрел на меня и достал мои ключи. — Сама откроешь?
— Верхний два раза длинным ключом, — попросила я, чувствуя, как радость моя от борьбы со стихией быстро убывает, а прибывают усталость и ужас. У меня был открыт балкон. Валились деревья. У окна стоит мой драгоценный компьютер, не так давно приобретенный, а в нем — так много того, что повторить невозможно, если это случайно пропадет. И если на него упала балконная дверь или даже огромное стекло…
Повезло, что окна были открыты, а то бы все стекла повыбивало. — Игорь окинул взглядом мою небольшую квартиру, в которой все на удивление оказалось цело. — На компьютере играешь? — сочувственно спросил он.
— Нет, времени нет на это. Я пишу там… разное…
— Это хорошо, — улыбнулся Игорь и оглядел меня: — Смотри-ка, на тебе ни одной царапины… И синяк какой красивый, на бабочку похож… — Он подул в молчащую трубку телефона и несколько раз нажал на рычаг. — Да, телефон, видно, оборвало… Ну ладно. Можно руки помыть? Мобильного нет, да? — спросил он, глядя на меня в зеркало над раковиной.
Я покачала головой. Игорь помыл руки и затер слегка грязь на своих светлых штанах. Я предложила ему еще помыть ботинки, но он отказался:
— Теперь их только выбрасывать.
— Вы не могли бы потом моей маме позвонить, что я жива и дома? — попросила я его и дала мамин строгинский телефон. Как выяснилось, напрасно, потому что мама все равно к телефону не подошла. Кто ночью звонить-то может?
Игорь аккуратно сложил вчетверо бумажку с маминым телефоном.
— Спасибо вам, Игорь, — стала наконец приходить в себя я.
— Пожалуйста, барышня, — ответил Игорек и улыбнулся.
Я не поняла, старше он меня или моложе. Пока я ему светила фонариком в ванной, я разглядела, что он, как и первый мой спаситель, симпатичный, что у него светлые волосы, прямой короткий нос, красивые, как будто нарисованные губы и веселые, не очень юные глаза. Если бы я была режиссером, то вполне могла бы поручить ему сыграть благородного спасителя одинокой девушки, попавшей в страшную бурю.
Он убрал бумажку, кивнул мне и пошел к лестнице, а там обернулся.
— Как вас зовут?
— Наташа, — ответила я.
— Дура ты, а не Наташа, — заметил, откуда ни возьмись, мой внутренний голос, трусливо молчавший во время борьбы со стихией. Хотя вообще-то он не любит посторонних командиров, но тут, видимо, пришлось смириться.
— Давай разборки потом? — предложила я, потому что как раз в это время Игорек еще раз улыбнулся мне и сказал:
— До свиданья, Наташа!
Он спустился еще на несколько ступенек и добавил:
— Я в соседнем доме живу. По вечерам часто гуляю с собакой. У вас нет собаки?..
Утро наступило как-то очень быстро. Часа в четыре приехала аварийная команда и стала расчищать завалы вокруг дома. К этому времени внизу уже собралась приличная толпа наших жильцов, которые пришли домой, когда стих ураган, а в дом так и не смогли попасть. Жильцы всю ночь хохотали и ходили друг к другу в гости из машины в машину.
Когда только начало рассветать, я поняла, что живу теперь на пустыре. Около моего дома не осталось ни одного дерева. Ни огромных берез, ни рябин, ни крепких дубков и кленов, ни гордости нашего двора — голубых елок, нарядных и пушистых в любое время года…
Часов в семь утра, когда мне надоело смотреть на спасательную команду, быстро и энергично убиравшую остатки деревьев, мой внутренний голос решил меня поддеть.
— Не пора ли Комарову позвонить? Рассказать ему про ураган, про бескорыстных спасателей и про пустырь вокруг дома? Поныть: «Мне было так страшно…»? Заинтриговать: «А спасатели такие смелые и красивые были… и не в рваных портках, а на сверкающем джипе»? А, как?
— А кто это — Комаров? — смело спросила я.
— Поздравляю, гражданочка, соврамши! — торжествующе заключил внутренний голос, подталкивая меня к только что заработавшему телефону.
— Соврамши, конечно, — грустно согласилась я, набирая номер комаровского пейджера. Мне кажется, что он последний в Москве не расстается с пейджером. Из-за меня — чтобы я имела возможность сказать ему все плохое в письменном виде, а также по сто раз повторять все хорошее…
— Доброе утро, девушка, будьте добры для абонента 49-82: «Я пошла гулять с чужой собакой. У меня всю ночь не работал телефон. Ураганом снесло березу, на которой долго висела красная косынка, та, что ты привез мне из Турции. Помнишь? Я тебя очень любила, Комаров, очень. Как теперь жить на пустыре — не знаю». Без подписи, пожалуйста.
— Повторить сообщение два раза? — любезно спросила меня девушка.
— Говори — три! — захихикал внутренний голос. — Говори — три!..
— Н-нет, — ответила я. — Не надо повторять. И, знаете, наверное, не надо этого сообщения.
Мне показалось, что девушка улыбается в трубку.
— А что, правда березу снесло? — поинтересовалась она.
— Правда. Вырвало с корнем.
— Зато теперь светлее, наверно, стало?
— Наверно, — неуверенно согласилась я, повесила трубку и выглянула в окно.
Вокруг моего дома спасательная команда дружно отпиливала самые большие ветки на поваленных деревьях, и уже образовался просвет, в который можно было пробраться к подъезду. Я вернулась к компьютеру, открыла папку «Прощальные письма» и написала:
«Здравствуй, мой милый Комаров! В моей квартире стало теперь гораздо светлее, потому что нет больше той березы, на которой висел красный платок с золотыми монетками. Я так тебя любила…»
В этот момент зазвонил телефон, на дисплее определился номер «179-13-30» и Комаров, зевая, спросил:
— Тебя ничем там во время урагана не стукнуло?
— Нет! — ответила я. — А тебя?
— Хорошо, — сказал он. — Пойду-ка я посплю. — И повесил трубку.
Я открыла папку «Просто письма» и написала:
«Здравствуй, Комаров! Ты не проспал ураган? А в моей квартире стало теперь гораздо светлее…»
И, как бы там ни усмехался мой неромантичный внутренний голос, письмо получилось очень хорошее. И даже, в кои-то веки раз, почти правдивое. Может быть, когда-нибудь я прочитаю его своему ребенку, когда буду рассказывать, как много-много лет назад я отчаянно и безнадежно любила одного остроумного, неотразимого и очень переменчивого человека.
А собаку Игоря зовут Рюрик. Это смешной спаниель с шелковой нежной шерсткой, совсем не похожий внешне на собаку спасателя. Он любит свежие овощи, шоколадные конфеты и питание «Вискас» для котят. Очень трогательно здоровается со мной, норовя каждый раз допрыгнуть мне лапами до плеч и лизнуть в щеку. И когда выпадает возможность, отчаянно, самозабвенно дерется с большими собаками.
Я тоже была замужем
У меня хорошая соседка наверху. По ночам она не спит и ходит, ходит по квартире, что-то переставляет, включает воду, на что сразу гулким стоном отзывается весь измученный стояк нашей девятиэтажной хрущевки. А соседка поет. Или что-нибудь из репертуара Эдит Пиаф, чаще всего строчку из самой известной песни «О-о рья дё рья», и начинает плакать. Или печальную песню народов Севера из двенадцати куплетов с припевом «О-о-ой — мандыр-да-а-а», и тогда уже она не плачет, а слегка притоптывает в такт.
Когда ночью не спишь, а думаешь о жизни, хорошо, если в это время кто-то поет, пусть даже о грустном.
Бывшая хозяйка моей квартиры, продавая ее мне, хвалилась соседкой:
— Чудесная девочка. Тихий ангел. Музыкант. Скрипачка.
То, что музыкант — понятно. А почему скрипачка? — часто думаю я, не решаясь спросить у нее самой. Может, раньше она играла на скрипке, а теперь исполняет удмуртские плясовые? На самом деле она действительно хорошая женщина, в том возрасте, когда надежды уже перестают сбываться. И я уже который год с надеждой смотрю на ее постоянного кавалера, не очень молодого, изрядно потрепанного жизнью, но с приятным постоянством навещающего ее и забирающего на выходные куда-то к себе. Я все надеюсь, что она первой сломает тайную закономерность нашей части подъезда: со второго по девятый этаж у нас живут только одинокие женщины. А на первом — квартира сдается…
С самого начала совместной жизни мой муж Марик пугал меня:
— Вот уйду, и будешь, как эта дура наверху, по ночам выть.
— Я не знаю удмуртского языка, — успокаивала я его.
Я всегда боялась, когда он волновался. Потому что чрезмерное перевозбуждение могло спровоцировать у него длительный запой. С травмами, моими в том числе, с продажей неожиданных и очень нужных вещей из дома, потерей работы и последующей многомесячной реабилитацией, плавно переходящей в следующий запой.
— Марик, хочешь кушать? — сбивала я его с опасной темы.
— Хочу, — радостно соглашался он.
Это было единственное, что могло отвлечь и на короткое время угомонить Марика. Неврастеник с полускелетной конституцией, он ел столько, сколько давали. Если он только что покушал, он вздыхал и отвечал:
— Скоро захочу.
Месяца через два после нашей свадьбы я поняла, что сделала невероятную ошибку, и сказала об этом Марику. Он расстроился донельзя и объяснил мне, что идти-то ему, в общем-то, некуда. Так что… Так что мне пришлось прожить с ним в одной квартире еще некоторое время, пока ему нашлось, куда идти. Для собственного спокойствия я продолжала его кормить, невзирая на отсутствие общего семейного бюджета, на свою растущую неприязнь и брезгливость к нему. Сытый Марик был не так опасен, как голодный.
В последние месяцы короткой совместной жизни, ненавидя его до обморочного удушья, я ставила эксперименты. Я варила полкастрюльки перловой каши. Потом кастрюльку. Брала кастрюлю побольше. Пересаливала. Не солила вообще. Нарезала к каше пять кусков хлеба. Шесть. Восемь.
Муж Марик съедал все с одинаковой жадностью и равнодушием. Единственно, чего он не любил категорически, это сложных блюд и красивого нижнего белья.
— А нельзя ли отдельно, на разные тарелки? Рис отдельно, помидорки отдельно и мясо тоже, — просил Марик, и его кукольные глаза доверчиво наблюдали, как я сошвыривала помидорки на отдельную тарелку.
Сразу после свадьбы я почти на всю свою стипендию купила новый лифчик, шелковый, французский, с вышитыми атласными нитками бледно-лиловыми розочками.
— Посмотри, тебе нравится? — спросила я Марика, удивительно быстро переодевшегося в пузырящиеся желтые треники, от которых никак не отстирывались застарелые коричневатые пятна.
— А чё такое? — искренне удивился Марик.
Лифчик, действительно, вещь совсем бесполезная. Его нельзя продать, как плафон от люстры, или выпить, как лосьон для чувствительной и склонной к веснушкам кожи…
— Как же вас угораздило замуж-то за него? — однажды совершенно неожиданно спросил меня лечащий врач Марика, когда тот маялся в очередной алкогольной психушке.
Я не знала, что ответить, потому что сама уже начала сомневаться в своем необыкновенном счастье в виде синеглазого брюнета и будущего известного всей стране артиста Марика.
Я принеслась в больницу к жениху с утра пораньше с консервами и сигаретами «Ява». Время было голодное, в психосоматике кормили плохо, а выкуривал Марик в день пачки по три, потому что хотел выпить, но боялся, в сочетании с психотропными препаратами, помереть. В психушках Марик всегда был очень несчастный, жаловался на неподходящее ему общество, заглядывал мне в глаза и много плакал.
— Так как же это вы такого себе нашли? — улыбаясь, спрашивал тогда молодой врач, разглядывая меня с непонятным мне удовольствием.
Мне в то время было странно любое мужское внимание. Марик как-то сумел быстро убедить меня, что я удручающе некрасива и уже старовата для замужества, и лишь он, Марик, сумел увидеть во мне нечто такое, что заставило его прописаться в мою квартиру на Октябрьском поле… Я очень переживала, но ему верила. Наверно, я все же была влюблена в красивого, беспородного Марика. Или очень хотела наконец кого-то любить.
— Я вылечу его, — ответила я молодому врачу.
— Правда? Может, тогда вы и остальных здесь вылечите? У вас дети есть?
— Н-нет.
— Это хорошо. А почему, кстати?
Почему… Потому что мои гипотетические рассуждения о будущих детях приводили Марика в недоумение. «Кто их кормить-то будет?» — вслух задумывался Марик и терпеливо ждал от меня ответа.
— Милая девушка! — Молодой врач слегка прикоснулся к моей заштопанной и вышитой по штопке бисером маечке. — Вы только поймите: это ведь — крест. Это патология, ошибка природы, если хотите.
— А вшиться, закодировать?
— Ну, если вам себя не жалко, — кодируйте, вшивайте…
Мой «крест» сам сбежал от меня, когда я внезапно заболела. От бесконечных стрессов, переживаний, слез и непривычных мне суровых бытовых условий — два рубля до стипендии, остальное Марик за один день пропил — у меня сначала пропал сон, потом аппетит, а затем — голос… Первый врач, к которому я обратилась, пообещал мне, что аппетит со сном вернутся, а вот насчет голоса… Придется полечиться и как следует за это заплатить… Второй же и третий врачи, хмурясь и пожимая плечами, писали длинные сопроводительные объяснения и направления на дальнейшие обследования. Это связано с этим, а то может быть и от этого, а может и от другого… Хроническое, аллергическое, гормональное, нервное, сосудистое… Дом заполнился банками, склянками, таблетками, полосканиями, крепко пахнущими травяными настоями…
Вот тогда Марику сразу и нашлось, куда уйти. Он панически боялся болезней, лекарств, разговоров о процедурах и не учел, что некоторые диагнозы звучат страшнее, чем сами болезни. А многие болезни, особенно в двадцать шесть лет, вылечиваются без следа.
Я даже не могла поверить, что так просто, без страданий, уговоров, концертов и драк муж Марик расстанется с моей московской квартирой. «Зачем мне больная женщина?» — спросил Марик перед уходом, посмотрел на меня напоследок синими глазами пупса, завязал потуже кулек со своими нарядными кофточками и застиранными трениками и ушел.
«Пока!» — сказала я беззвучно, закрыла за ним дверь, бросила пакет с остатками его вещей на балкон и на всякий случай перекрестилась. Видимо, судьба все-таки решила исправить свою ошибку в отношении меня. Тем более что голос вскоре вернулся сам, внезапно, вместе с глубоким, крепким сном и прекрасным аппетитом.
Как-то вечером перед сном я поняла, что хочу съесть свежего хлеба, лучше белого, и обязательно с нежным, сливочным маслом. Я так захотела есть, что сходила на ночь глядя в магазин и купила хлеба, масла, а также всего, на что у меня хватило денег. Дома я быстро съела огромный бутерброд, запила его вкуснейшим чаем и легла спать, тут же провалившись в глубокий сон без сновидений.
Я проснулась утром оттого, что я во сне что-то сказала. Я попробовала повторить, потом пропеть что-нибудь… Голос был — мой, нормальный, громкий, чистый. И я подумала: похоже, будто кто-то, в отчаянье наблюдавший за моими мучениями с Мариком, одним мановением руки отнял у меня голос, чтобы Марика не стало в моей жизни. И одним же кивком вернул, когда я вновь получила возможность делать в своей квартире и своей жизни все, что хочу, не ожидая грубого окрика и насмешек. Я могла теперь подпевать соседке наверху, вполголоса, чтобы не слышала соседка внизу, и так уставшая от бесконечных криков и истерик Марика…
Сейчас он иногда звонит:
— Это я! — кричит Марик так, словно он в лесу, а я на Луне. — Давай поговорим! Ну, как дела? Ты родила?!
— Здравствуй, Марик. Ты меня уже спрашивал в прошлый раз. Нет, я не родила. И даже не беременна.
— А я думал — ты родила! Давай поговорим! Алло! Алло!!!
— Слушаю тебя, Марик.
— Давай поговорим! Ну, как дела?!!
— Марик, ты меня плохо слышишь?
— Хорошо!!!
— И я тебя слышу. Зачем ты так кричишь? — говорю я и нажимаю отбой.
— Алло! — снова звонит Марик. — Алло! Прервалось! Ну, как дела?!
Мне надоедает, и я говорю:
— Давай выписывайся, идиот.
Тогда Марик обижается и с криком «Плати тридцать тыщ баксов, сволота!» пропадает еще на полгода.
Бабушка
С бабушкой было сложно ездить в метро, а также ходить в театр и в магазин. К ней приставали. Мужчины старые, пожилые и средних лет. Несмотря на то, что рядом была я. Раньше она любила говорить, что родилась «в один год с Революцией!». Бабушка не умела разговаривать без восклицательных знаков. Потом она стала объявлять, что родилась при царе.
— Ну и при каком же царе ты родилась? — пыталась я сбить ее с толку.
— Как это при каком?! — удивлялась бабушка. — При Николашке втором, конечно! При каком еще? При последнем! Я старая, но не настолько же!
Споры были бесполезны, бравировать своим возрастом — это особый, очень смелый вид кокетства, надо только выбрать момент, когда вокруг побольше народу. Потому что обязательно находился кто-то, изумленно спрашивающий:
— Сколько-сколько?..
— Восемьдесят один! — гордо отвечала бабушка с высоты своих метра семидесяти пяти, поправляла красивую шляпу и добавляла, взмахнув палантином: — У меня уже дети на пенсии и две правнучки!
Своих очень рано рожденных детей она всегда воспринимала чуть ли не как ровесников, округляя им сорок шесть до пятидесяти, и с годами могла попенять:
— Да что вы, в самом деле! Как не стыдно! Старые уже!
В детстве я побаивалась ее громогласных визитов и всей чрезмерной красоты — взбитых рыжих кудрей и сверкающих зеленых глаз, колышущегося праздничного бюста, поддерживавшего яркие драгоценности. Бабушка казалась мне огромной и толстой, мне гораздо больше нравилась моя маленькая изящная мама, с голубыми глазами и нежным лицом. А взрослые смотрели на нас и умилялись:
— Надо же, у Наташеньки — Клавина стать!..
Баба Клава фыркала и пыталась гладить меня крупной рукой, царапая кольцами и малиновыми ногтями. А я убегала в свою комнату, ревела и выдирала ресницы, чтобы положить ресничку на руку и, сдув ее с первого раза, загадать: «Хочу быть отличницей… Хочу, чтобы никто не умирал… Не хочу быть такой огромной, как баба Клава!»
Отличницей я была всю свою жизнь, с моей нежной мамой по-другому не выходило. Насчет второго я очень рано поняла, что так не бывает… А бабу Клаву я догнала по росту лет в четырнадцать.
Бабушка не была моей подругой до тех пор, пока я не расшибла голову о свою единственную и глубоко несчастную любовь, неожиданно за каких-нибудь полгода повзрослев, с очень большим опозданием. Только что мне казалось, что я ничем не отличаюсь от соседки, десятиклассницы. Мы гадали с ней на свечках, менялись джинсами, часами болтали по телефону, звонили соседу-холостяку вредному и несимпатичному, и приглашали его на свидание в давно не существующее кафе… И вдруг оказалось, что мне уже почти тридцать лет, у меня на полке лежат два диплома о высшем образовании и некоторые вежливые люди при знакомстве спрашивают, как меня звать по отчеству…
Как-то я в тоске листала сборник русской поэзии XIX века и вдруг с удивлением увидела — то тут, то там мелькают знакомые бабушкины эпикурейские замечания, от которых я обычно отмахивалась: «Бабуль, ну ладно, все, пока! Мне в дверь звонят. Потом…»
Ну конечно, это же Пушкин:
Напрасно время не губя —
Любите самого себя… ,
А вот это, оказывается, Тютчев. И его бабуля с энтузиазмом часто мне цитировала, призывая оптимистичнее смотреть на беды и печали нашей ЖИЗНИ:
Живя, умей все пережить — печаль, и радость, и тревогу, О чем желать, чего тужить, день пережит — и слава Богу!
И Одоевский тут оказался со своим «Хоть смерть в виду, но все же надо житъ.», и Фет, и Лермонтов… А ведь она-то не училась ни на истфаке, ни на филфаке, и очень об этом всю жизнь жалела, моя начитанная бабушка, ровесница революции.
Бабушка была замужем пятьдесят семь лет — с семнадцати лет и пока не умер дед. Она была выше деда, младше его на одиннадцать лет и очень критически относилась как к нему самому, так и ко всей мужской братии.
«Любви нет!» — не уставала восклицать баба Клава, доводя меня до бешенства. Я ведь знала, много раз слышала, как она терпела-терпела лет восемнадцать, а потом поехала и обстригла дедушкину несчастную подругу Юльку, любившую деда беззаветно и безнадежно с войны и до самого конца…
— Но тебя-то дед любил? — подначивала я бабушку.
— Любил, — соглашалась она. — Ревновал — ужас…
Эту историю я тоже знала — как дед погнался за ней с трофейным пистолетом, за что, естественно, лишился оружия. Бабушка Клава именное оружие у мужа отобрала, обернула в тряпочку, туго обвязала своим ажурным чулком и швырнула в Москву-реку. А чтобы деду не повадно было больше безобразничать, еще и разбила о его героическую голову инкрустированную вазу из кабинета Геринга, которую деду после победы притащили довольные адъютанты. Маленький тихий дед когда-то был красавцем и героем войны.
Если даже поделить на десять количество бабушкиных поклонников за всю ее бурную и радостную жизнь, все равно получится многовато. Бабушка пользовалась колоссальным успехом и у военных, и у штатских. Секрет ее успеха был прост.
— Терпеть я их всех не могу! — искренне признавалась моя бабуля, не позволявшая себе выйти из дома без перчаток, драгоценностей и легкого, но выразительного макияжа.
Второе, кроме возраста, чем она любила сражать интересующихся, было сформулировано ею самой:
— Я — не домохозяйка! — гордо заявляла бабушка, ни разу не сходившая на работу за всю свою восьмидесятишестилетнюю жизнь. — Я работаю больше всех! По двенадцать часов в сутки!
И правда, бабушку невозможно было застать врасплох, лежащей на диване в безделье или просто болтающей по телефону. Бабушка день и ночь шила. Шила всю жизнь: когда были деньги и когда их было мало, в войну и после войны — в эйфории трофейных подарков и роскоши немецких особняков в зоне советской оккупации.
Уже очень пожилая, она шила себе, мне, маме, племяннице, правнучкам, снохе, подругам, их детям, внукам, соседям, а также всем, кто ее просил. Хоть раз увидев ее туалеты, ее просили все. Лет сорок назад ее приглашали в Дом моделей манекенщицей, демонстрировать одежду для зрелых дам. «Я — модельер!» — с достоинством отказалась тогда моя бабушка, имевшая таинственное образование чертежницы плюс к четырем классам общеобразовательной школы…
Иногда бабушка уставала. Тогда она выволакивала все свои туалеты из гардероба, выбирала самый «роскошный» и шла на балет в Большой театр. Бабушка всегда сидела не дальше третьего ряда, потому что билетерша в генеральских кассах тоже любила хорошо одеваться. Когда же билеты в Большой стали стоить больше, чем вся бабушкина пенсия, она начала смотреть балеты и концерты по телевизору, перешивая при этом что-нибудь меховое.
Устав, бабушка могла отшвырнуть распоротую шубу и позвонить моей маме или мне.
— Всё! — с ходу кричала бабушка в трубку. — Всё! Больше никому не шью! Ну их всех! Буду жить для себя!
— Правильно, бабуль! — вздыхала я, предчувствуя: сейчас начнется долгий разговор о ее молодости и былых временах…
— Конечно! Сколько можно! А ты что вздыхаешь? Я тебе вчера жакетик кожаный раскроила. Когда мерить придешь? Я думаю, надо сделать совсем коротко! По моде! Чтобы сзади все видно было! Ну, сама понимаешь — вся красота!
— Бабуль, не надо мне никакого жакета. У меня все есть.
— И рыжую лису к воротничку! — заводясь от моего безжизненного голоса, продолжала бабуля. — А то ты все, как монашка, ходишь! Со скорбным лицом! Улыбайся, Наташка, тебе так идет улыбка!
Дальше следовал знакомый рецепт.
— Вот послушай!..
— Я это уже сто раз слышала… — спорить было бесполезно, можно было только повесить трубку, но мне было жалко бабушку. — Ну, давай…
— Слушай внимательно. Каждое утро надо вставать, подходить к зеркалу, улыбаться и говорить себе: «Здравствуй, красавица!»
— Ясно…
Однажды утром, проснувшись в хорошем настроении, я попробовала действовать по бабушкиному рецепту. Предварительно потерев щеки и разгладив челку, я подошла к зеркалу. Попыталась улыбнуться. И честно поздоровалась:
— Здравствуй, страх.
Мне этот бабушкин ген не достался — способность восхищаться собой только оттого, что я есть.
На тему любви за всю жизнь у нас с бабушкой Клавой было два разговора.
Первый — и я жалею о нем — завела я.
Я сидела у нее на кухне и ковыряла какой-то салат, который бабушка только что сосредоточенно нарезала, справляясь по рецепту из «Золотой книги здоровья». Зелень проросших бобов, молодой чеснок, пол-ложки оливкового масла…
— И ни капли соли! — Бабушка прожевала салат, с трудом проглотила и посмотрела на меня. — Ешь! Вкусно!
Она сердито отодвинула «Книгу здоровья» и кинула сверху на нее журнальчик с телепрограммой и невероятными сплетнями про известных людей. На первой странице обложки журнала во весь рот улыбалась мгновенно вспыхнувшая звездочка эстрады. Бабушка проворчала:
— Живут с кем попало… соплюхи…
— Ну и что, ты сама разве с дедом не жила? — из принципа вяло возразила я.
Бабушка аж задохнулась:
— Я? Я?!!
— Ну ты, ты. Чего уж ты прямо так гордишься? Ты что, с ним до свадьбы не жила?
— Я?!! Нет!
— Хорошо. А во сколько лет ты замуж вышла?
— В семнадцать!
— А расписались вы когда?
— Что?
— Что — «что»? Сколько тебе было лет, когда вы поженились?
— Восемнадцать с половиной!
— А почему?
— Потому что в семнадцать не расписывают!
— Ну, а в восемнадцать?
А в восемнадцать я уже была Колькой беременная! Куда бы я с таким животом пошла, мне стыдно было! — ответила бабушка сердито и полезла за стремянкой.
— Что ты хочешь делать?
— На антресоли мне надо!
На антресолях бабушка держала лекарства. Если хранить их под рукой, то привыкнешь и будешь пить постоянно. А от лекарств, по твердому убеждению моей бабушки, стареют и сходят с ума.
Второй наш разговор о любви произошел, когда я переживала очередное расставание с Комаровым. Прошел месяц. Обычно, в прошлые разы, мне хватало этого времени, чтобы прийти в себя и начать задумываться — а не к добру ли наше расставание? За этим обычно следовало неожиданное появление страшно довольного Комарова — это ведь самая интересная часть игры, его игры, вынужденно играя в которую, я чудом тогда не погибла… На этот раз, я тоже месяц спустя уже не плакала, но мне вдруг все стало скучно и неинтересно — все вообще. Я не хотела играть спектакли, не хотела есть, ни утром, ни вечером, не хотела ничего. Странно, но я даже не думала о смерти, хотя раньше, бывало, мысль о смерти, легкая, радостная, казалась единственным реальным выходом из тупиковой, измучившей меня ситуации и хоть каким-то внятным поступком.
День за днем я превращалась в собственную тень и не хотела этому сопротивляться. Бабушка звонила мне по два раза в день и растерянно пыталась вдохнуть в меня хоть каплю своей бешеной энергии. Тормошила меня, ободряла стихами Пушкина и Фета. Она раздражала меня не больше и не меньше, чем все остальные. Чем мама, призывавшая меня пожалеть ее и себя. Чем врач, выписывавший мне таблетки, чтобы ночью спать, не просыпаясь, а днем не засыпать на ходу и на репетициях. Чем подружки, у которых была какая-то бурная и неинтересная мне жизнь… Бабушка раздражала меня даже меньше, чем я сама, потерявшая контроль над своей собственной судьбой.
Как-то я забрела к ней, бледная, погасшая, с зареванными ненакрашенными глазами и серым лицом. Бабушка заметалась, стала наливать мне по всем чашкам кофе, чай, бульон, вскрывать банки с вареньем, обставила меня розеточками с медом, орехами, забралась в шкаф за какими-то древними перчатками и красной шляпой.
— Бабушка, сядь, успокойся, пожалуйста. А то я уйду.
— Да ты что?!
— Тогда сядь. Не надо мне ничего. Давай лучше поговорим… о чем-нибудь…
Она все-таки с грохотом вывалила мне коробки с аккуратно сложенными перчатками, сама выбрала пар семь: золотые, бордовые выше локтя, с жемчугом, со стразами; те, в которых она была, когда солист Большого театра признавался ей в любви; те, которые она надевала на прием в чешское посольство, и жена посла была потрясена ее нарядом с парчовым пиджачком…
Я смотрела, как бабушка энергично открывает рот, тряся старыми перчатками, и слышала только негромкий гул где-то внутри себя, ровный, плоский и поглощающий все остальные звуки. Бабушка поняла, что надо заходить с другого конца, и села напротив.
— Ешь! Вареньице хорошее получилось? Вишня была сочная, ягодка к ягодке… Ну, пробуй! Хорошее?
— Хорошее.
Я видела, что она готовится сказать что-то важное. И ищет слова, которые бы меня не отпугнули.
— Я вот не знаю, конечно… Все люди разные… — начала она не очень уверенно, постукивая рукой по столу. Бабушка даже дома носила крупные кольца и серьги, сильно оттягивавшие уши.
— Разные… — подтвердила я, жалея, что пришла.
— Но я не понимаю… — Бабушка набрала воздуху: — Я вот никогда никого не любила!..
— Тогда что же ты мне можешь сказать?
— Да нет, ну, то есть, любила, конечно… Но чтобы вот так, как ты… изводить себя… Пусть они любят. А ты позволяй!
— Я позволяю. А он не любит.
— Кто? Да нет, я не о нем…
— А о ком тогда? — Я чмокнула ее в упругую белую щеку. — Пойду я, бабуль. Варенье у тебя прекрасное. Ты не расстраивайся, я не помру. Наверное.
Не успела я прийти домой, бабушка уже звонила мне:
— Ты дошла нормально?
— Дошла.
— Я волновалась — темно!
— Да.
— Я подумала… Убиваться, конечно, так не надо…
— Конечно.
— Надо привести себя в порядок. Ты же актриса, тебе нужна красота…
— Бабушка!..
Но, с другой стороны, ты ведь ничего бы не сыграла, если бы не пережила все это! У актрисы не должно быть личного счастья! — торжественно заключила моя бабушка, и в голосе ее опять звенели все обычные восклицательные знаки.
Она не успокаивалась, пока не находила повод порадоваться. Порадоваться жизни…
На следующий день я мучительно привела себя в порядок, подрисовала губы, распустила волосы и снова пошла к бабушке. Удовлетворенно оглядев меня, бабушка коротко посмотрела мне в глаза и засмеялась:
— «Не верь весне, ее промчится гений!..»
И неожиданно я засмеялась вместе с ней.
Перед тем, как ехать в больницу, откуда она уже не вернулась, бабушка крепко-крепко обняла меня, обдав ароматом пряных духов, которые я подарила ей несколько лет назад, и громко прошептала:
— Хочу пожить еще, Наташка! Годика два хотя бы…
Бабушка прожила после этого всего две недели. Она умерла на ходу, заходя к себе в палату после мучительной и уже бесполезной процедуры. Вздохнула и опустилась на руки подоспевшей медсестре.
Бабушка мне часто снится. Не в шляпах, без драгоценностей — ее драгоценности лежат теперь у меня в шкафу, под стопкой шарфов и палантинов, которые я так и не научилась легко и небрежно забрасывать за спину.
В моих снах она всегда строга и недовольна мной. Я долго не понимала — почему Ведь она так любила и баловала меня при жизни, и я не забываю ее ни на один день, часто рассказываю о ней дочке, и всегда — только с теплом и любовью…
А потом поняла. Ведь я — живу! Но не так страстно и отчаянно радуюсь жизни, как учила меня бабушка. Могу всплакнуть в хмурое утро. Могу посетовать на одиночество, да еще в присутствии дочки, которая еще слишком мала, поэтому наивно удивляется:
— Мам, ты забыла! У тебя же есть я!..
Могу в сердцах обидеть бабушкину дочку, свою маму, уже очень немолодую и беспомощную.
Поэтому бабуля и является ко мне во сне. И сердится, что лишь во сне может напомнить то основное, что она и своими словами, и с помощью классиков не уставала всегда твердить мне: живешь — уже счастье! Ручки-ножки есть? Счастье вдвойне! А еще есть голос, есть что-то, не дающее спокойно жевать котлеты и бездумно спешить к концу… Так что ж ты, Наташка?!
Всякий раз, когда я забываю о том, как короток век и еще короче молодость, срок которой каждый все же назначает себе сам, мне снится бабушка, как будто говоря: живи за себя, другой возможности не будет; живи хотя бы за меня — мне так хотелось еще чуть-чуть пожить, еще хотя бы одну весну встретить, одно лето проводить, смеяться, шить красивые платья и носить шляпы с цветами, ловить восхищенные взгляды… И в самый ненастный, самый последний день говорить себе в зеркале: «Здравствуй, красавица!»
Лошадь на крыше
Когда она первый раз пришла ко мне на урок английского, я решила: заниматься с ней не буду.
Мне не понравился ее неподвижный взгляд и торопливая, как будто неуверенная манера говорить, с растянутым, слишком широким даже для московского уха «а».
А она настаивала. Я откладывала и откладывала следующий урок, а она ждала. Наконец я сдалась и назначила занятие.
Элеонора пришла, благоухающая крепкими французскими духами «Живанши». Она представила их, как собачку, — тряхнув легким шарфиком, объяснила: «Мои любимые духи. Всегда со мной. Пахнут даже после стирки».
Сев за стол, она расстегнула короткий зеленый пиджачок и сняла огромные перламутровые клипсы, положив их рядом с тетрадкой.
— Уши болят, — застенчиво засмеялась она.
Элеонора сделала домашнее задание тщательно, как ребенок, — переписав набело, подчеркнув красным новые слова.
К концу урока Элеонора перестала называть меня по отчеству, и я сразу почувствовала себя обманщицей. За час с небольшим она поняла, что я младше ее лет на двадцать и представляюсь по отчеству просто для солидности. А скорей всего, она поняла это еще в первый раз… Элеонора заметила мое смущение и улыбнулась:
— Сразу видно, Наташенька, что вы очень молоды. Но я еще никогда не занималась у такого замечательного педагога!
Что-то в ней вызывало у меня такой протест, что я неожиданно для самой себя сказала:
— Я актриса, Элеонора. Английским просто подрабатываю на жизнь, потому что артистам в театре платят мало.
Обычно я никому из учеников об этом не говорила, скрывая свою профессию до последнего. Что это за преподавательница английского, играющая в театре…
Элеонора, которая по возрасту вполне могла бы приводить ко мне на уроки семи-восьмилетнего внука, восторженно распахнула глаза:
— Я сразу почувствовала, Наташенька, что вы какая-то необыкновенная! Актриса… Потрясающе… И где же вы играете?
— В самом обычном, ничуть не знаменитом театре, Элеонора. И я тоже — совсем обычная, артистка четырнадцатого разряда.
Элеонора смотрела на меня во все глаза.
— Когда у вас ближайший спектакль? Я мечтаю прийти к вам.
Элеонора посмотрела все мои спектакли. Она дарила цветы на каждом и скромно уходила домой, хотя нам было по пути. Потом, на занятиях, она вежливо и осторожно хвалила меня. Мне казалось, что она видела во мне кого-то, очень похожего на меня, но гораздо лучше, красивее, тоньше, талантливее… И честнее.
Уроков через шесть она вдруг пришла с бутылкой сухого вина и предложила:
— Знаете, я заплачу за занятие. Давайте заниматься сегодня не будем. Выпьем вина… Мне хочется просто с вами пообщаться.
— Элеонора, я даже не знаю… — Я не стала продолжать, потому что у моей ученицы из немигающих, тщательно накрашенных глаз вдруг вниз по щекам поехали неприятные слезинки.
— Мне так одиноко, Наташенька! Муж — сам по себе… Иногда мы с ним слова друг другу не скажем за вечер… А на работе все совсем молодые, девчонки — сразу после школы, у них какие-то свои проблемы… И дочка так далеко… Да и у нее тоже не все слава богу… — Она неожиданно достала большой синий носовой платок, совсем непохожий на все ее старательно подобранные вещи, некрасивый и уже мокрый, и вытерла им глаза и нос.
Я сама люблю поплакать, но, как мужчины, совершенно теряюсь при виде плачущей женщины. И одновременно раздражаюсь, особенно если понимаю, что я — отчасти причина этих слез.
— Спасибо за вино. Не надо плакать. У вас все будет хорошо. — Я взяла вино и поставила в бар. — Пожалуйста, проверим диалог.
Элеонора покорно открыла тетрадку.
К Новому году она подарила мне изящную французскую вазу, тонкую, словно надломленную у горлышка. Позже, к своему ужасу, я обнаружила на дне вазы авторскую роспись дизайнера. Мне не хотелось даже думать, сколько стоит эта ваза, в которую предполагалось ставить один длинный цветок или ветку.
Ко дню рождения Элеонора принесла мне, сияя, кошелек из тончайшей кожи, с крохотной буковкой «N» и хитроумным потайным карманчиком, в котором лежала большая розовая жемчужина, завернутая в золотистую бумажку. На бумажке кто-то, по всей видимости Элеонора, нарисовал фломастером сердечко…
Подарки появлялись по поводу 8 Марта, пропущенного урока или просто начала лета. Сопротивляться было бесполезно. Элеонора являлась с букетом и объявляла:
— Утро должно начинаться с цветов.
Или:
— Я увидела эти алые розы и поняла, что они — ваши.
Комаров слушал мои рассказы об Элеоноре и посмеивался:
— Да-а… что-то тут не так…
— Ой, да ладно! Обычная благодарность… — возражала я, хотя сама не могла понять причин ее странной привязанности ко мне.
Отучившись у меня полтора года, Элеонора сделала подтяжку. Она пришла в сентябре счастливая, с гладкими веками, осунувшимися щеками, поправляла выкрашенную в яркий баклажан коротенькую стрижку и ждала похвал.
Пол-урока я все старалась не смотреть на ее фигурно выстриженные виски. Острые фиолетовые треугольники, спускающиеся на щеки, делали ее похожей на какого-то средневекового стражника, с бакенбардами… А еще этот немигающий взгляд… Я не сразу заметила, что на скуле, на самом видном месте темнело странное пятно, которого раньше не было.
Элеонора все-таки не выдержала и спросила:
— Ну как? Что вы скажете, Наташенька?
— Вам очень хорошо с новым… — Я чуть было не сказала «с новым лицом». — С новой стрижкой. И вообще… все здорово…
— Правда? — обрадовалась Элеонора. — Только вот пятно какое, видите, проступило ужасное, когда отеки под глазами сошли… Пройдет, наверное, да?
— Да конечно пройдет! — с энтузиазмом ответила я, не зная, куда девать глаза.
— А на сову я не стала похожа? — не успокаивалась Элеонора, ободренная моими словами.
— На сову? Н-нет, что вы… Почему?
— Глаза, кажется, круглыми у меня стали, — улыбнулась Элеонора. — Или нет?
— По-моему, вы просто помолодели и все…
Ну что, что я могла ей еще сказать? Что мне ее безумно жалко и что я по-прежнему не могу найти в своей душе достаточно тепла и симпатии, чтобы дружить с ней, как она бы того хотела? Но что-то изменилось в наших отношениях с того дня, она все же победила.
А вскоре настала пора Комарову в очередной раз определить, что является главными ценностями его жизни. И среди них не оказалось меня. Так категорически он, пожалуй, еще не прерывал наши отношения. Или мне казалось…
Элеонора не решалась задавать прямые вопросы. Она слышала обрывки телефонных разговоров, видела, как на занятиях я вежливо отсутствую, а между занятиями худею, чернею и высыхаю.
После Нового года бесповоротность его предательства стала явной и окончательной. Первый раз в жизни он никак не поздравил меня — ни устно, ни письменно.
Сам Новый год я встретила в трамвае, когда ехала от мамы, которой не оказалось дома без четверти двенадцать ночи. Мама все звала меня, не хотела быть в праздник одна, а я все отказывалась, вот она и ушла к соседям — только к каким… Не в деревне — даже если ездить в лифте по всем шестнадцати этажам, все равно не увидишь, в какой квартире празднует, с трудом улыбаясь вместе со всеми, моя мама. Я не стала ее искать, звонить во все двери подряд, решила поехать обратно домой и открыть по дороге бутылку шампанского.
Но в трамвае открывать шампанское я не стала. Я ехала и смотрела на тихо падающие снежинки, на совершенно безлюдные, как во сне, улицы, и думала: что бы такое загадать, когда часы на Спасской башне станут бить полночь, чтоб у судьбы был хоть какой-то шанс исполнить мое желание. Не загадывать же мне, чтобы Комаров ко мне вернулся… И стыдно, и глупо, и зря только пропадет единственная в году возможность — сказать самое главное в те таинственные секунды радостного небытия, когда еще нет ничего, и уже нет ничего, и только бьются, пульсируют сотни тысяч, миллионы человеческих надежд над землей, — высказанных шепотом, про себя, громко — как кто может…
Когда большая стрелка моих часов очень просто и буднично совпала с маленькой и наступил Новый год, я загадала, чтобы мама так сильно не болела и чтобы мне самой в чем-нибудь улыбнулась удача… Обычно, пока бьют часы, я успеваю загадывать много разных желаний, и глупых, и важных, но сейчас я больше не хотела ничего просить у судьбы.
На третий или четвертый день праздников пришла Элеонора, с прелестным зимним букетом, небольшой бутылочкой розового шампанского и странной, завораживающей картиной. Я не сразу поняла, что это гравюра, а не рисунок.
Как будто углем или толстым черным карандашом была нарисована повозка, в ней сидела задом наперед женщина, чуть опустив голову. Лицо было нарисовано не четко, но отчего-то было понятно, что она не плачет и не скорбит. А скорее — недоумевает, но не крутит при этом головой, а видимо, думает о чем-то, глядя перед собой. Перед оглоблями никого не было. Лошадь, которая раньше везла повозку, стояла теперь на ее крыше. И смотрела тоже не вперед, а в ту сторону, в которую была обращена женщина. Туда, откуда они когда-то приехали…
Почему-то мне сначала показалось, что женщина и не догадывается о том, что повозка ее никуда не едет. Только с годами я стала думать: недоумение-то ее как раз и вызвано тем, что она просто не знает, что делать с этой лошадью, упрямой и своевольной, и как ей снова тронуться в путь.
А тогда я лишь сказала:
— Спасибо, Элеонора. Очень красиво.
— Я купила ее на выставке, один очень известный болгарский художник делает такие гравюры… Особая смешанная техника…
— Прекрасно. Вы приготовили задание? — Это было невежливо. Но мне все труднее было притворяться. Надо было отменить урок…
— Наташенька, ну что с вами? — не выдержала терпеливая и верная Элеонора.
— Элеонора, меня больше нет. — Сообщать об этом своей ученице, и без того сострадающей, наверно, не стоило. — Меня нет на моем собственном частном уроке, вот представьте себе. Все есть: и вы, и лошадь, и грустная дама, которая сидит задом наперед. А меня нет.
— А… где вы, Наташенька? — уточнила несколько обескураженная Элеонора.
Я пожала плечами:
— Кто мне скажет, где я — сразу тому поверю. И, может быть, уйду тогда отсюда…
Элеонора испуганно взглянула мне в глаза.
— Ладно, — вздохнула я. — Давайте новую тему начнем, а потом проверим, что вы сделали дома…
Меня действительно не было ни на уроке, ни вообще в настоящем дне, где все было слишком больно, слишком плохо и безвыходно. Но я помнила, что Элеонора, как и все, платит мне двадцать долларов за полтора астрономических или два академических часа. Поэтому я говорила и говорила — о своем, но по-английски. Тем более что и для меня самой на языке трагедий Шекспира и учебных текстов Бонка все звучало как-то иначе. Я даже стала находить какие-то смешные моменты во всей этой, совсем для меня не смешной тогда истории.
Элеонора слушала и записывала новые слова и предложения на дом, с обязательными пометками о грамматическом правиле, которое нужно не забыть:
«Если бы я знала, что ты способен на такое предательство, я бы остановилась, пока это не переросло во что-то серьезное» («условное наклонение»).
«Он позвонил и сказал, что не приедет, пока жена его не простит» («будущее в прошедшем»).
«Если он придет, я не смогу сказать ему „нет" („После некоторых слов в английском языке нет будущего“. Впрочем, и в русском тоже…).
И так далее.
Теперь тема любви и расставания стала нашей излюбленной темой устных бесед. Элеонора тоже что-то пыталась говорить о себе и по-прежнему увлеченно слушала мои рассуждения. Я же рассказывать-то рассказывала, а вот ее откровения мне были не всегда понятны. Особенно когда выяснилось, что Элеонора ждет любви, последней и страстной, и ждет очень прицельно — ее избранник в мечтах почему-то казался ей совсем юным. Наверно, она просто устала от пожилого, вечно молчащего мужа и его медицинских проблем… Я слушала ее рассказы о случайных и коротких встречах с «мальчиками», об очередных разочарованиях, и думала о том, что, наверно, ей очень страшно стареть — не находить себя прежнюю ни в зеркале, ни в душе, и поэтому она ищет спасения в чужой молодости, эгоистичной, легкомысленной и невероятно притягательной…
На одном из таких уроков Элеонора, внимавшая мне с интересом, вдруг вздохнула, отложила ручку и попросила по-английски:
— Давайте закончим урок. Пожалуйста. Я устала.
Я кивнула. Мне было все равно. С другими учениками я сама иногда прерывала занятия и отдавала им сдачу за оставшееся время.
Элеонора пододвинула ко мне купюру и сказала по-русски:
— Не нужны вы ему, Наташенька. Поверьте мне. Поймите. Не любит он вас. — И в ее неподвижных глазах под зелеными веками было что-то непривычное для меня и незнакомое.
Она собрала свои тетрадки и ушла, а я отменила ей несколько уроков подряд, просто возненавидев за такую неожиданную и уверенную жесткость. Разве имела она права выносить приговор — мне, моей любви? Я решила больше не заниматься с ней.
Но она все-таки дождалась, пока я отмякла, и пришла снова.
— What is your favorite TV program? Какая у вас любимая телевизионная передача? — спросила я ее, когда подошло время для устной беседы.
— О любви и верности, — не задумываясь, ответила Элеонора.
— А что, разве есть такая передача? — удивилась я.
— Должна быть, — улыбнулась Элеонора.
Мы с ней занимались в основном по вечерам. После каждого урока я провожала ее до дальней остановки и уходила, не дождавшись, пока она сядет в трамвай или поймает машину. Я неслась домой. Потому что стоило мне далеко отойти от дома, мне всегда начинало казаться, что Комаров, не звонивший неделями, вдруг позвонит именно в эти полчаса, пока меня нет дома. И я не услышу тех самых главных и единственных слов, которые одни были способны вырвать меня из бесконечной пустоты и темноты одиночества…
Как хорошо, что в то время у меня еще не было мобильного телефона. Моей надежде гораздо труднее бы жилось с молчащим телефоном в кармане.
Элеонора несколько раз пыталась меня вытащить из дома, но я договаривалась о встрече и не приходила, обещала перезвонить через час, а звонила через пять дней или вообще не звонила.
Занятия наши с ней были благополучно окончены. Элеонора худо-бедно разобралась в грамматике и научилась неплохо говорить на разные темы. Все-таки наши вечерние уроки с разговорами о сложностях любви не прошли даром.
Иногда — обычно совсем некстати — Элеонора звонила мне и осторожно спрашивала:
— Наташенька, у вас все в порядке? А то я звоню, а вас все нет и нет… Может, сходим куда-нибудь? На выставку в Дом художника, например?..
— А что там? — заинтересованно спрашивала я, прекрасно зная, что никуда с ней не пойду. Не хочу.
— Или на теннис…
— Конечно, Элеонора! — Я начинала злиться. — Только в теннис я играю очень плохо.
— Или просто приходите ко мне в гости. Ну, хотя бы звоните, не забывайте…
— Да что вы, Элеонора, я о вас всегда в душе помню!..
Я надоела Элеоноре в самый неподходящий для меня момент. На веселом музыкальном спектакле, где я играла юную девушку, раза в полтора моложе меня, раз в семь легкомысленней и раз в сто счастливей, мне разбили голову, да так, что треснула переносица. Один партнер сказал свой текст с секундным опозданием, другой — на два лишних шага отступил назад, а я, как танцевала, так и врезалась носом ему в затылок, а он еще и головой назад махнул…
И вот я теперь лежала дома одна, у меня болела и кружилась голова, непрестанно ныла распухшая, некрасивая переносица.
Комаров к тому времени уже опять успел все понять. Он сообщил мне как раз то, что я так ждала всю долгую и беспросветную зиму, всю холодную и прошедшую мимо меня весну и жаркое, бессмысленное лето: что любил и любит именно меня. Но сейчас участливыми визитами не баловал.
В моем театре многие считали, что артист, если у него целы руки-ноги, должен играть и не обременять остальных срочными вводами и заменами спектаклей. Поэтому каждый участливый звонок был мне очень дорог.
Я специально не стала звонить Элеоноре сразу — боялась, что она устроит светопреставление из моего сотрясения мозга и допечет меня заботой. Через неделю я наконец решила: позвоню, пусть лучше ее навязчивость, чем полное равнодушие остальных.
— Что вы говорите, Наташенька, — удивилась Элеонора. — Какой ужас, надо же! А я, знаете ли, хожу пить три раза в неделю кислородный коктейль в аптеку около Курчатовского института.
— Коктейль с рентгенчиками? — от неловкости пошутила я, чувствуя непривычную сдержанность бывшей ученицы.
Но она совершенно серьезно мне ответила:
— Почему же, Наташенька? Хороший коктейль, очень полезный для сосудов. Вам бы тоже надо его попить. Можем вместе туда ходить…
Я вздохнула:
— Элеонора, да я не встаю пока с постели.
— А… Ну тогда, когда встанете, обязательно сходите, попейте… Сказать вам адрес?
— Потом, Элеонора…
— Ну, потом так потом. Вы звоните, Наташенька, не забывайте!
Наверно, неразделенная дружба так же горька, как и неразделенная любовь. И так же однажды, проснувшись, обнаруживаешь, что и ничего-то, кроме горечи, усталости и недоумения, не осталось. И понимаешь, что долго, очень долго жила с вывернутой назад шеей.
Неудивительно поэтому, что все ушли куда-то, а я так там и осталась. Там, где Элеонора еще не покрасилась в баклажан и не подтянула веки, став похожей на удивленную сову, а на стенке у меня еще не висела картина с лошадью на крыше повозки и растерянной женщиной, не понимающей, куда же она едет. И как согнать лошадь со своей повозки… И где Комаров, бесконечно любимый и единственный на свете, посмеивался:
— Хорошо, что я не ревнивый… И как ты только учеников находишь, что все они в тебя влюбляются?
— Ой, да ладно — все!.. Через одного! Они меня сами находят… Да и толку-то? Я же тебя люблю! — тоже смеялась я.
И ничего еще о жизни не знала.
Руны Желтого Кота
Я оглянулась и увидела, как он на бегу украдкой стирает мою помаду со щеки около рта…
Но ведь сегодня не было никакой помады! Я только слегка провела по губам бледным коричневым блеском, пока он мылся-брился, а мне велел собирать диван и гладить ему брюки с рубашкой.
— За это! Можешь ты побыть хозяйкой — хотя бы на время…
Я не стала возражать. Я бы могла и не на время… Но он и так злился на себя — за то, что опаздывал, за то, что, пропыхтев и просопев минут десять в погоне за приятным финалом, радости никакой не получил, а только рассердился. Утро темное, я мешаю, вставать рано, на Волгоградке — пробки…
— Почему такой диван называется «французской раскладушкой», не знаешь? — попыталась отвлечь я его от мрачных мыслей, ход которых явственно и последовательно прослеживался в его нервных движениях — порезал ухо, пока брился, оторвал верхнюю пуговицу у рубашки, окунул галстук в кофе…
Я понимаю, если бы это спросила моя соседка-девятиклассница. И то… А уж ты-то! Скоро преподавать сможешь этот предмет. Откроешь мастер-класс. Если совсем работать надоест…
— Думаю, это тяжелая работа, Комаров, — вздохнула я, подавая ему еще теплые брюки. — И опасная…
— Не опаснее, чем у меня! — Он на ходу влил в себя чашку кофе и поморщился. — Какая же дрянь, а? Керосином, что ли, воняет…
— А когда меня нет, то не воняет? — не удержалась я.
— О-ох… — Он посмотрел на меня. — Ладно. Не обижайся.
Вот как раз в этот момент я посмотрела в маленькое зеркало под светильником на кухне и подумала, что на утреннем бледном лице ни коричневая, ни розовая помада ничего хорошего не добавляют. И промокнула ее салфеткой.
И когда, попрощавшись до следующего раза, оглянулась — посмотреть, не оглянулся ли он мне вслед — то увидела, как он стирает следы моей скромной и тайной близости. Наверняка по привычке. А не оглянулась бы, так и не узнала бы. Ушла бы почти счастливая домой. Он почувствовал мой взгляд и резко повернулся.
— Что?
— Я доеду с тобой до центра, хорошо?
Он кивнул.
В машине, помолчав, я издалека начала разговор:
— Я сделала руны… Знаешь, что такое скандинавские руны?
Сказать-то мне надо было совсем другое. Что руны недавно дали мне малоутешительный, но мудрый совет: «Теряя, вы обретаете вновь смысл того, что вас питает…» И я, взяв себя в руки, не устроила ему скандал и истерику после того, как десять драгоценных дней зимнего отпуска он провел не со мной, отговариваясь, как всегда, своей теперь уже почти взрослой дочерью. Конечно, за те годы, что я с ним проплакала, девочка успела несколько подрасти и тоже, наверно, плакала, когда папа уезжал после «родительской» субботы. И уезжал вовсе не ко мне.
Он уезжал в ту прекрасную страну, которую некоторые мужчины отвоевывают себе у судьбы, у своих собственных детей, у любимых женщин. Туда, где можно выключить телефоны, сунуть носки под подушку, включить круглосуточный канал футбола, поставить рядом с диваном ящик пива и грызть тараньку, стряхивая чешую на пол и сплевывая кости, не глядя. А потом можно кому-нибудь позвонить. Пригласить заехать на часок… Или не пригласить… И снова выключить телефон. Или взять денег и поехать обедать в ресторан, поиграть в боулинг, попариться в баньке. Какой же мужчина добровольно откажется от выпавшего ему лотерейного билетика, может быть одного на миллион, где под тонким слоем фольги спрятано заветное слово — «свобода»? Свобода любить и быть любимым, не жертвуя при этом ничем.
Поэтому каждый раз, когда Комаров уезжает на день, а пропадает на недельку, мне ничего не остается, как доставать китайские гексограммы или исландские руны и спрашивать у потусторонних сил: «Что же мне делать-то?!»
На этот раз китайские духи ответили вообще что-то похоронное, а вот исландские уклончиво предложили оценить стоимость потери. По силе переживания, как уже додумала я сама. Я оценила и не швырнула ему в лицо новогодние подарки одиннадцатого января, когда напившаяся и нагулявшаяся страна, вздрогнув с утра, с трудом вылезла наконец на работу, чтобы поделиться — кто, где и как покатался на лыжах-санках, сколько съел и сколько раз проснулся, не помня, кто он такой.
Рассказывать мне было нечего, потому что я проревела дома десять дней, ожидая, что он позвонит и приедет. Я не могла поверить, что он так и не появится — после нашей встречи перед Новым годом. А было это так.
Особенно остро ощущая на этот раз конец года, как завершение какого-то таинственного цикла моей жизни, я решила прожить следующий год по-новому и для начала в кои-то веки раз провести праздник без слез и с ним в канун Нового года не встречаться.
Комаров искал меня целую неделю. Звонил мне по пятнадцать раз в день, даже решился позвонить моей маме и очень просил меня разыскать… Я слушала-слушала его сообщения на автоответчике, и сердце мое дрогнуло. Наверно, не просто так он меня ищет, решила я. И пошла с ним в ресторан «Дядя Ваня».
Мы сидели, слушая скромный джаз-квартет. Комаров быстро съел большую тарелку горячего, вытер рот жесткой льняной салфеткой, долго, аккуратно складывал ее уголок к уголку, потом бросил на стол. Покачался на стуле, глядя на меня со странным выражением, и вдруг сказал:
— Да-а-а… Мы с тобой не можем друг без друга… Это ясно…
Я замерла. Господи, неужели?.. Вот он все мне сейчас и скажет, в канун Нового года, когда так хорошо подводить итоги и решаться на самые ответственные поступки…
— Да… — продолжил он. — Мне ведь что надо? Чтобы меня встретили дома, покормили, обласкали… Полечили, если что… А я посмотрю футбол и побегу опять деньги зарабатывать…
Я молчала, боясь спугнуть его, и только чувствовала, как сильно и быстро стучит в груди сердце. Он тоже замолчал, взял меня за руку, подержал, потом отпустил и добавил:
— Правда, мама у меня не сахар… Но ведь она далеко…
На этом эпохальный разговор как-то сам по себе увял. Но я услышала главное — похоже, он подбирается к тому, чтобы сделать очень важный шаг. Это ведь так непросто для любого мужчины… Это требует размышлений и смелости. Попрощаться с той самой страной, где под подушкой лежат носки, а под диваном сохнет таранька…
Я все ждала продолжения разговора. И вот ночью, в самый ответственный и сокровенный момент, он тихо и серьезно произнес:
— Можно, я тебя попрошу…
Я осторожно посмотрела в ненаглядные глаза:
— Можно…
— Пожалуйста, душа моя…
Ну вот сейчас, сейчас!.. Конечно, я ощущала, что он совсем другой сегодня, как будто все время о чем-то думает и вот-вот произнесет, но никак не решится. И поэтому он так нежен и так смел, так взволнован и влюблен… Сейчас он мне скажет то, чего я очень долго ждала, целых пять лет, почти уже шесть! Милый мой, милый…
Я покрепче обняла его. Ты только решись, а я скажу тебе «Да!» Нет, я ничего не буду говорить, ты ведь все прекрасно знаешь сам! Я тебя не торопила, я верно и терпеливо ждала этой минуты, когда ты попросишь меня, а я скажу «Да…» И потом уже можно будет сказать тебе все, в чем я так боялась признаться все эти годы. Что я буду с тобой до самой последней минуты, я давно поняла это. Что готова жить с тобой где угодно и ездить на чем угодно, хоть на велосипеде, терпеть твой сложный характер, ждать тебя по вечерам, прощать и любить… Любить всегда, любить больше самой жизни!
Он, как будто услышав мои мысли, вздохнул и замолчал. Ну говори же, говори…
Он погладил меня по щеке и тихо сказал:
— Пожалуйста, моя хорошая… Надень ту кофточку, в которой ты сидела сегодня в ресторане, ты в ней такая беззащитная… И поцарапай мне спину, только несильно, а то мне в баню завтра идти…
Я почувствовала, как горячий мокрый ком растет и набухает у меня в горле. Только бы не расплакаться, только бы сдержаться… Это ведь силовое давление, это запрещенный прием. Он-то плакать не может…
— Ты чего? — удивился он и приподнялся, чтобы в темноте рассмотреть мое лицо. — Плачешь, что ли? Ну не царапай, не надо. А что тут такого? Ты что, обиделась?
Я не знала, как ему объяснить. Пошла умылась, выпила холодной воды и решила не ссориться перед Новым годом. Тем более — что ссориться-то? Человек попросил ее надеть желтую кофточку, а она вдруг, ни с того ни с сего, в три часа ночи завыла-заревела и убежала домой.
Утром он был нежен и внимателен, все подкладывал мне за завтраком сухарики, обсыпанные сахаром и кунжутом, целовал в макушку и в довершение всего купил в подарок красивые золотые сережки. Он мне раньше никогда не дарил таких подарков. Я была не очень счастлива, прекрасно понимая, что утром тридцать первого декабря новогодние подарки дарят лишь в одном случае — если расстаются до следующего года.
Перед расставанием он слегка пожурил меня за несдержанность и сопливость, напомнил, что лишних вопросов задавать не стоит, что Новый год — это детский праздник, это смех малышей и чудеса, в которые мы, взрослые, не верим. А дети верят, и надо поддерживать их веру. Я это слышала уже не первый год и покорно кивнула головой. Конечно, я прекрасно помнила, как сама в детстве ждала чудес в новогоднюю ночь, а какие же чудеса без таинственно улыбающихся мамы с папой, перешептывающихся между собой, тоже заметно волнующихся, радостных, праздничных?..
Комаров сердечно чмокнул меня на прощание и опять уехал куда-то на все бесконечные праздники… А что оставалось делать мне? Я решила спросить у рун и… И ждать его.
Обо всем об этом я и хотела ему сказать одиннадцатого января утром. Что у меня тоже был выбор.
Я ведь могла надолго поссориться с ним, проявить гордость — не подходить к телефону, не встречаться. Я могла бы, вероятно, даже насовсем расстаться с ним, если бы хорошенько подумала… За то, что он не нашел ни одного дня, чтобы встретить со мной мой же Год Кота, да еще желтого. За то, что не захотел найти этого дня…
Но мне мешало думать ощущение, что он вот-вот сейчас приедет… или позвонит… И продолжит тот разговор, который начал, наевшись картошки с мясом в «Дяде Ване».
Но он никак не приезжал. Прошло первое, второе января. Потом подоспело Рождество — тоже хорошее время для того, чтобы сделать предложение… А ведь именно это он хотел сделать тридцатого декабря, разве нет? Я же не ослышалась… После стольких лет легких и необязательных отношений он наконец решился…
Я ждала его, не веря, что он так и не придет.
Единственное, что меня радовало все эти длинные и грустные первые десять дней нового года, что кот именно желтый. Ведь желтый — это мой самый любимый цвет.
Цвет осени, когда мы оба с ним родились. Цвет солнечных лучей, которых так мало осенью, и моих детских ботинок, которые папа привез мне из далекой Швеции с широкими, круглыми носами, смешных, мальчуковых ботинок, я носила их года три и они все никак не становились мне малы, как будто росли вместе со мной… Это цвет тюльпанов, с их нежным, едва уловимым, чуть терпким ароматом, росших у нас на даче вперемежку с огромными маками и лебедой… И цвет моей любимой игрушки — вислоухого кенгуру, потерявшего с годами одно ухо, но дожившего до моей встречи с единственной любовью, поздней и горькой. А также цвет национальной принадлежности половины комаровских предков и всех его отчаянных предательств и измен.
Желтый Кот… Интересно, какой кот будет в следующий раз, через двенадцать лет? Хорошо бы не зеленый… Сколько же мне будет тогда лет? Лучше не думать… И надо сначала дожить до этого.
Я перевернула еще одну карточку, выбранную наугад из мешочка с рунами, и прочитала ее значение. На сей раз руны дали мне очень туманный совет — «постичь то, что вас питает, когда вы это потеряли»… Но чего ж тут постигать, когда и так все понятно — легко подумала — я. Ведь плакала я о нем, скучала без него, ждала, когда раздастся звонок и родной глуховатый голос спросит:
— Ну как там дела, беби?
И я услышу, как он улыбается в трубку. И улыбнусь тоже.
Итак, ценность потери была понятна, оставалось постичь все до конца. Я не была уверена, что точно выполняю наказ рун, но решила, что хватит сидеть и ждать. Под лежачий камень…
Сила моих мыслей, помноженная на силу древнего знания, по-видимому, была такова, что в ту же минуту раздался звонок и бесконечно уставший от гостей, хохота и тостов голос, мучительно родной голос, произнес:
— Беби… Почему тебя нет со мной, когда ты так мне нужна, а?
— Я… — растерялась я, как обычно, никогда заранее не зная, с чем он позвонит на сей раз.
— Ничего не говори. Собирайся. Я через полчаса буду. Я очень скучал о тебе.
— Хорошо, — вздохнула я, отчего-то не чувствуя себя счастливой. Праздники кончились, чудеса так и не произошли… Сегодня утром все пошли на работу, и стало ясно, что одиннадцатое января — это один из самых темных дней года, лишь середина долгой, нескончаемой зимы. Да еще эта непременная слякоть, густая коричневая грязь на дорогах, мелкий моросящий снег с дождем и ледяной мокрый ветер…
— Программа такая, — продолжал как не в чем ни бывало он, — тихий домашний ужин у меня, бутылка изумительного розового вина и один твой нежный взгляд. Да, и еще… прелестный тебе подарочек, если обещаешь не говорить мне, какая я свинья.
Я сидела в машине, смотрела на него и думала: «Вот сейчас мы с тобой расстанемся до следующих выходных. Но ты так мне ничего и не сказал. Значит, на том наш предновогодний разговор и закончится… А я ведь могу не ждать, пока это скажешь ты… Ведь бывает по-разному. Я же имею право тебе сказать, что хочу вторую половину своей жизни провести с тобой. Смелости не имею, а право свое ощущаю. Разве наша любовь не дает мне такого права? Сказать, что я хочу гладить тебе рубашки и варить борщи, я ведь готовлю гораздо лучше, чем шеф-повар в „Дяде Ване“, лечить твои острые респираторные заболевания и плохое настроение, целовать умные усталые глаза, смотреть вместе с тобой, как другие мужчины, более ловкие и стройные, играют в мячик на большом зеленом поле, смеяться твоим шуткам, которыми ты пытаешься уберечься от грустных мыслей — о том, как коротка и печальна наша жизнь… Что я буду верить в тебя, внимать тебе и любить тебя, любить… До самой последней минуты нашей жизни. И после нее тоже».
Я несколько раз набирала воздух, чтобы сказать все это, и все не решалась начать разговор.
— Ты что так тяжело вздыхаешь? — покосился он на меня.
— Я сделала руны, — ответила я.
Я увидела, что он хотел сострить, несколько секунд искал похожее слово или рифму, чтобы вышло смешно, как-нибудь не очень прилично. Не нашел и нахмурился. Я поспешила продолжить:
— Я сделала руны — перерисовала их из книжки. Погадала, и они дали мне очень мудрый совет: чтобы я не ссорилась с тобой, а…
— О! Вот послушай! — ответил он. — Послушай-послушай, — и подкрутил погромче радио в машине.
— «Маша и Медведи», что ли? — спросила я, не понимая, что же такого необыкновенно ценного в крепеньком переливчатом голоске лысой певицы Маши, чтобы обрывать наш важный разговор.
— Да, да! Ты послушай слова! — ответил он.
Я прислушалась. Может, стриженная налысо Маша поет про единственную любовь, которую человек обретает в сорок лет? И ради которой все же решается изменить свою упакованную, сытую, размеренную жизнь со строго регламентированными праздниками, раз и навсегда установленным реестром друзей и родственников и, соответственно, — реестром чужих. Тех, кто никогда не попадет на семейное торжество. Тех, кого ты просишь по телефону представляться чужим именем. «Так надо! Так лучше, беби, неужели ты сама не понимаешь? Ну зачем же всей Москве знать о моей личной жизни?..»
Зачем же всей Москве знать, что в этом тайном реестре чужаков под номером один записана я. И под номером два тоже я. И под всеми остальными написано: «Моя девочка. Моя любимая девочка. Моя не очень юная девочка. Мой тайный грех. Мой большой секрет от старенькой мамы. Мой большой секрет от почти взрослой дочери. Мой самый большой секрет от самого себя… Потому что решать я ничего не хочу, отпускать тебя не собираюсь, да и в конце концов — разве тебе не приятно быть моей тайной, беби?..»
Приятно. Я очень хочу быть твоей тайной, мой милый. И еще твоей явью. Твоей правдой. Твоей гордостью.
А так нельзя, да?..
Вот это все я и хотела обсудить с ним, когда завела разговор — из такого далека, про руны.
Про исландские руны, которые советуют в самый отчаянный и последний момент — когда понимаешь, что все напрасно, что ничего не получилось, что проиграла, проиграла собственную жизнь, что зря столько плакала, что зря ждала и напрасно надеялась — в этот момент они советуют доплакать все до конца и еще раз подумать: а зачем я столько страдала-то?
А если все-таки было зачем, то, оценив невосполнимую потерю, отнестись к ней серьезно. И не проклинать, не желать ему перевернуться вверх тормашками на машине, не втыкать по ночам иголки в восковую фигурку, слепленную из расплавленной церковной свечки, приговаривая:
— И чтоб тебе ни о ком, кроме меня, не думалось-(втыкая в голову), и чтоб у тебя в душе поселилась бесконечная тоска (втыкая в сердце), и чтоб серединка твоя повисла бесполезной тряпочкой, если ты сейчас с другой (втыкая в самый центр крошечной толстенькой фигурки).
Фигурку такую я однажды слепила в кошмаре отчаяния, потеряв счет дням, ночам и временам года, пытаясь хоть как-то, хоть вот так, через дьявола, через черные силы нашего неразгаданного мира напомнить ему, что я есть на свете. И что мне плохо одной, без него. Плохо до судорог, до безумия, до нежелания просыпаться утром… Да, мне теперь стыдно. Но фигурка эта — с иголочками — так и лежит у меня на полке, пугая моих редких гостей и смеша до слез моего младшего неромантичного брата.
— Я сделала руны… — сказала я Комарову, бесконечно родному и мучительно чужому, одиннадцатого января, в Год Желтого Кота, так и не решившись сказать главное. — Я не стала с тобой ссориться, потому что… — сказала я ему холодным январским утром, любуясь неласковыми темно-серыми глазами и строгим, любимым, равнодушным ртом с маленькой трогательной ранкой от простуды на нижней губе.
— О! Вот послушай! — ответил он и сделал погромче Машу с Медведями.
— Рейкья-я-я-вик — Рейкьяви-и-и-к, — пропела Маша.
— Ты поняла? — спросил он, с удовольствием косясь на мои красивые ажурные колготки цвета сливок, в которые капнули шоколада.
— Что я поняла? — спросила я, стараясь не зареветь и не заглядывать с надеждой ему в глаза.
— Как что? Если не поняла, еще слушай, — рассердился он и перестал смотреть на колготки.
— А, да, — поскорее ответила я, — поняла-поняла. Это столица Исландии.
Он скривился:
— Э-эх! Ничего-то ты не поняла! Столица…
Я замолчала, стараясь понять, чем песня про далекую Исландию так тронула его душу. И почему-то подумала, что я вряд ли когда-нибудь поеду туда, по крайней мере с ним. Теперь мне хотелось поскорее попасть домой, открыть заветную книжку и прочитать, без всякого гадания, просто прочитать эти строчки, передающие мне из самой глубины веков, через столетия варварства, христианства и снова варварства чьи-то прекрасные мысли. «Если Вам придется беспомощно сидеть и ждать, как то, что вы приобрели (с таким трудом и муками!), начнет исчезать — не впадайте в отчаяние, а используйте это как возможность распознать, в чем же заключается ваше подлинное желание»…
Теряя человека, составляющего смысл твоей жизни, не плачь попусту, а пойми, осознай до конца и прими, что он и был смыслом твоей единственной, короткой жизни. И, вероятно, порадуйся. Что нашла хоть какой-то смысл… Не у всех это получается.
Я приехала домой, прочитала два раза подряд пятнадцать страничек, на которых уместилась вся безграничная мудрость древнего гадания. Ни одна, даже самая трагическая руна не выносит приговора. Если плохо — значит, завтра будет лучше. Если совсем плохо, значит, так плохо уже никогда не будет…
Я сидела, рассматривала простые и загадочные знаки и думала: может, мне тоже руны нарисовать, усовершенствованные?.. Для себя и для других? И подписать в конце каждой мудрости:
«А потом вы поедете в Рейкьявик, в далекую столицу страны Исландия, где американцы, как говорит начитанный Комаров, снимали марсианские пейзажи. Где когда-то жили мудрые люди, которые считали, что если вам больно, то это хороший шанс узнать, где же находятся ваши самые болевые точки.
Если же вам очень больно — то это значит, что что-то внутри вас стало просто чужим и отторгается самим вашим нутром. Надо признать это и отторгнуть, и пройти через очищение, с которым уйдет и боль.
Ну, а если вам совсем больно, невыносимо, нечем дышать, незачем больше жить, то это означает, что ваша жизнь просто выросла за пределы своей сегодняшней формы. Она должна умереть. Чтобы энергия жизни могла воплотиться в новом рождении, в новой форме вашей обновленной личности. И то, что выглядит как невосполнимая потеря, — всего лишь новая возможность, дающая вам иную жизнь. Ищите среди пепла — и найдете там свое второе рождение».
Я так припишу в конце каждой руны, собрав и переврав все самое светлое и оптимистичное, чтоб было еще светлее. Гадать так гадать. И сделаю еще одну, дополнительную, для себя лично.
Это совсем не значит, что она мне попадется, эта руна, когда он на Старый Новый год, на Восьмое марта, на Первое мая и на все остальные праздники уедет куда-то без меня, а я, поревев и повтыкав для проформы иголочки во все сокровенные места на восковой фигурке, достану книжки по гаданию, разложу на столе свечки, нитки, кольца и прочие атрибуты несбыточных надежд и, закрыв глаза, сосредоточась, задам самый главный и самый глупый вопрос своего бытия.
Все равно задам, хотя уже давно всем — включая китайских и исландских мудрецов, я уж не говорю про родных, близких, соседей, прохожих и Господа Бога — понятен ответ. А мне непонятен. И я задам этот вопрос.
И может быть, мне выпадет моя собственная, придуманная мною самой, единственная и, наверное, не очень умная руна. Там ничего не будет написано про пепел, про возрождение, про потери и новую суть моей жизни. Там будет написано просто:
«Ты (то есть — я) поедешь с ним в Рейкьявик И приедешь с ним обратно. И ляжешь с ним спать на французскую раскладушку, очень неудобную для поздней страсти уставших от потерь и разочарований влюбленных. И проснешься тоже рядом с ним. И приготовишь ему завтрак. И не будешь больше плакать. Потому что вечером ты приготовишь ему ужин. И снова ляжешь рядом с ним на французскую раскладушку. И поцелуешь его измученный висок и подоткнешь ночью сползшее одеяло. И опять не будешь плакать. Потому что ты ведь поедешь с ним в Рейкьявик, в далекую столицу страны Исландия, где жили когда-то мудрые люди, учившие ждать и искать в кучке пепла несгорающие осколочки надежды, и где он тебе обязательно скажет:
— Беби, ну какие, к черту, регламенты и реестры? Какие друзья и родственники? Какие тайны и от кого? Бог давно знает, что ты у меня есть. Маша с Медведями с некоторых пор — тоже. Ну, так пусть и другие знают. Что ты у меня есть. Была, есть и будешь.
Вот что я напишу себе в своей собственной руне. И однажды я обязательно ее достану. Просто по теории вероятности. И покажу тебе, мой любимый, единственный, равнодушный и прекрасный Комаров. И ты возьмешь меня с собой в Рейкьявик. Ну, или хотя бы в Кострому. Мне ведь все равно куда.
Возьмешь?..
— Мы с тобой встречаться больше не будем, — сказал Комаров, прочитав этот рассказик.
— Ты же всегда говоришь, что мы живем с тобой, а не встречаемся… — заметила я, как обычно в самый неподходящий момент пытаясь выяснить глобальные проблемы бытия.
— Не будем встречаться, — упрямо повторил Комаров. — Если ты будешь печатать эту дискредитирующую меня гадость, это мерзкое вранье. Не понимаю, неужели тебе приятно осознавать, что ты жив… встречаешься вот с таким вот дерьмом? Слабым, трусливым, скользким…
— Еще бы сказал — склизким… Лучше — скользящим!.. — не удержалась я, рискуя еще больше разъярить его. А придя домой, все же выкинула файл с рунами в корзину.
Мы еще не знали тогда со скользящим по моей жизни Комаровым, что совместными усилиями зародили новую жизнь. И .что в животе у меня, когда я очищала корзину компьютера от мудрых, да еще и усовершенствованных мною рун, уже пульсировал зародыш длиною 0,7 см и весом 5 г.
Вечно бегущий куда-то Комаров не знал, что жизнь непредсказуема и быстротечна.
Я не знала, что, несмотря на мое твердое решение «Ни единой идиотской строчки ради спасения нашей великой любви!», он все равно перестанет со мной жить, а также встречаться.
Я ничего не знала. Я сидела и грустно смотрела на пустую чистенькую корзину компьютера и спускала листочки с отпечатанным текстом, отвергнутым Комаровым, в бумагодробитель, чтобы уж ничего не осталось, ссыпая при этом меленькую стружку в специальный пакет, на котором написано «Й». В таком виде точно сгодится, хотя бы для кота Ихолайнена, живущего у мамы в Строгине, но из всех нарезанных бумаг предпочитающего для своего горшка именно мои произведения о вечной любви — нестареющей, невзрослеющей, неразделенной и не объяснимой ничем разумным.
А как бы объяснили руны это мое самодробление и самосожжение? Как-нибудь так, к примеру: «Смотря что горит. Если было что-то ценное, то никогда не сгорит дотла. Разотри ладонью пепел и наверняка найдешь в нем маленькие кусочки алмазов, чистые, сверкающие, прозрачные… Храни и любуйся, постепенно забывая о том огне…»
То ли подбадривая меня, то ли протестуя, малыш у меня в животе толкается ножкой. Мне не больно и смешно. И страшно за него — ведь он еще не знает, что Комаров от него отказался. Заранее, когда у него только-только из крошечных почек стали прорезываться руки и ноги. И немножко завидно — ведь он не умеет скучать о Комарове. И, скорее всего, никогда не научится.
Зачем же ему скучать, если я повезу его в Рейкьявик. Покажу ему древние марсианские пейзажи, и на желтом, отполированном холодной водой камне мы с ним нарисуем такой вот знак
Что значит Telwaz — энергия Воина духа, напоминающий, что лучший вид настойчивости — это терпение, а лучший способ действовать — это не стоять на собственном пути.
Воин духа… Вот он — многолетний опыт списывать не доученное перед экзаменом и получать гуманитарные дипломы… Я ведь, по привычке небрежно просматривая мудрость в поисках главных слов — «А вот завтра наступит счастье и Комаров придет к тебе навсегда…» — всегда думала, что этот знак называется «Дух Воина», и еще сердилась, когда он мне выпадал, потому что какой же из меня воин…
А теперь-то понятно, почему мне так нравятся эти слова. Они написаны для тех, у кого нет никакого оружия, у кого ничего нет кроме способности терпеть и превозмогать боль. И еще кроме надежды. Которая, вероятно, и должна поддерживать тот самый не очень сильный и уж совсем не воинственный дух…
Или вот такой знак, похожий на значок электричества на трансформаторных будках. А на самом деле он называется Sowelu — энергия солнца, целостность, жизненные силы:
И самое удивительное, что этот знак, солнечный, сильный, жизненный, советует отступить, оказавшись перед лицом уничтожающей ситуации. Потому что путь, по которому я иду, определен не какими-то высшими, непостижимыми причинами, а моей собственной сущностью. А значит, и ситуацию во многом создала я сама. Отойди в сторонку, говорят мне руны, иначе ситуация, трагическая, безвыходная, отчаянная, задавит тебя саму. Сущность не изменишь, ситуацию, уже существующую — тоже. Можно изменить лишь путь… А в течение пути, другого пути, глядишь, и цели покажутся иными… Или на самом деле иными окажутся.
А рядом с солнечным знаком мы подрисуем самую загадочную, Чистую Руну которая называется Непознаваемое.
Если на все мои вопросы выпадает именно она, это значит, что от меня требуется мужество, как если бы я прыгала в пустоту с пустыми руками, оставив позади все, что наполняло мою жизнь, что держало меня на обеих ногах, что питало, радовало и печалило. Потому что пустота — это конец. И пустота — это начало. И прекрасно — говорят руны, которые вообще никогда не говорят «это плохо». Если падаешь, и тебе больно и плохо — то боль нужна только для того, чтобы в следующий момент узнать — а как же бывает хорошо?
И поскольку она чистая, вот эта непознаваемая руна, я бы написала в ней красивыми буквами — Вечность. Имея в виду не только мою вечную любовь к Комарову. И не столько ее. А еще вечное море и белые скалы, желтоватые на сколах, бесконечное перетекание жизни из одного тела в другое, из одной души — во множество других, чужих и таких похожих…
Мы нарисуем красивые простые знаки, я объясню про бесконечность и терпение, и тот, от кого отказался Комаров, ничего не поймет и засмеется. Мы будем смеяться и будем молчать, и смотреть на невысокие светлые волны. «И будет все, как будто бы под небом и не было тебя…»
И будет все, как будто бы под небом и не было меня, ревущей, возвращающейся ночью через всю Москву пешком, бессмысленной и ненужной. Потому что Комаров сказал:
— Уходи. Зачем ты притащилась, если сбоку ты теперь похожа на дорожный знак «лежачий полицейский»? Какая из тебя теперь любовница? А в другом жанре ты мне непонятна и неинтересна. Лучше бы отца ребенку искала, чем ко мне по ночам таскаться. Ребенок должен расти в полной семье, должен быть одет; накормлен и согрет. Ты же знаешь, я — порядочный человек. Я ведь не сбежал. Я специально выбрал время и приезжал к тебе, чтобы официально, по-человечески отказаться. Тебе этого мало? У меня — ты, кажется, в курсе — взрослая дочь. Я не могу любить еще и вот это. — Он, не дотрагиваясь, показал на зародыша, доверчиво копошащегося у меня в животе и вздрагивающего при звуке его нервного голоса. — Не могу и не смогу. Так что уходи.
И вот я, неинтересный Комарову дорожный знак, знак одиночества, иду по ночной Москве, шагаю, как утка, переваливаясь с боку на бок по мокрому асфальту. А мимо скользят смелые и порядочные Комаровы-Шмелевы-Мухины на серебристых «кадиллаках» и скрипучих «жигулях», с новыми, интересными по жанру, девушками и старыми, привычными по жанру, женами. Самые одинокие и любопытные автомобилисты притормаживают, но, присмотревшись к моему волнообразному туловищу, спешно ретируются, обдавая меня теплыми брызгами из луж.
Они все едут и едут, усталые, глупые, издерганные, стареющие, и у нет них в животе такого специального места, где можно выращивать человека. А я гордо переваливаюсь, не смотрю по сторонам, чтобы не споткнуться в темноте, и слушаю одну и ту же незатейливую песенку, звучащую из всех машин: «Любовь здесь больше не живет, любовь здесь больше…» Я подставляю лицо последним каплям долгожданного короткого дождя и жалею, что лужи так быстро испаряются с испепеленной трехнедельной жарой земли.
«Любить и кормить не смогу…»
А я смогу. Мой малыш… Это для других ты — будущий, для меня — настоящий. Какой же ты будущий, если ты уже шевелишься, дышишь, замираешь и чувствуешь биение моего сердца? А я чувствую биение твоего…
Я смогу тебя любить и кормить. Я уже тебя люблю и очень жду. И когда-нибудь, может быть, я решусь рассказать тебе о том, как ты был зачат.
В ту ночь твой папа, надувшись шампанского, признался мне:
— Ты сделала меня счастливым. — И трезвея от собственных слов, тут же спохватился и уточнил: — В плане секса. Понимаешь?
А я лежала рядом и думала: «И черт с тобой. Я сама уйду от тебя, глупого равнодушного дурака, столько лет плюющего на меня и на свою собственную любовь. Уйду, и никакие дети мне от тебя не нужны. И хорошо еще, что Бог уберег — я ведь так хотела ребенка…»
А подвыпивший Комаров смеялся, важничал, заглядывал мне в глаза, хватал за тогда еще длинные косы и еще маленькую, по его размеру — чтобы входила в руку — грудь, и искал счастья, снова и снова. В плане секса.
В ту ночь я решила никогда больше не делать Комарова счастливым. Так твердо решила, что кто-то наверху, наверное, вздохнул:
— Ну что ж, уходи. Но не просто так, а с подарком — за все прожитые, вымученные с ним годы.
Надо посоветовать Комарову — пусть не переживает, а даст объявление в газету: «Ищу отца своему ребенку. Разумное вознаграждение гарантируется». Подразумевая меня в качестве последнего.
Любовь здесь больше не живет…
Я буду любить тебя. И я ведь буду нужна тебе, интересна тебе, мой малыш, пихающий меня сейчас изнутри десятимиллиметровой пяткой. Буду ведь, правда? Пусть не всегда, но долго. Очень долго… И у нас с тобой впереди еще столько слез и столько счастья… И столько июлей, августов, январей и сентябрей…
А Комаров… Наш Комаров, который сопит сейчас, уткнувшись в чей-то красивый плоский живот, похожий на мой, пока в нем не билось еще крошечное сердечко его собственного детеныша, или вовсе один, на неразобранном диване, укрывшись махровым халатом… Если он очень попросит, очень, мы ведь, может, и его возьмем в Рейкьявик — рисовать на скалах, искать на них древние знаки и смеяться, глядя на вечное, чистое, ледяное море? Возьмем?
Мы возьмем его, чтобы он тоже нарисовал свою главную руну, и она осталась бы там, на пустынном каменном берегу. Или чтобы подписал что-нибудь в моей. Где будет написано про непознаваемое, про пустоту конца и пустоту начала, про необходимость идти одной, чтобы когда-нибудь понять: как же это хорошо — идти вдвоем; про нескончаемую боль, разрывающую сердечко покорного зародыша, плачущего и надеющегося вместе со мной, который никогда не поймет, почему, родившись, он точно будет знать — вот так, под июньским дождем, по ночной Москве идти совсем не страшно. Если только не крутить головой по сторонам и идти по самой обочине. И думать не о том, что впереди долгие километры пустынных улиц и долгие недели одиночества, а о том, что где-то далеко, под чистым неярким небом есть одна такая страна…
Там жили мудрые, молчаливые, терпеливые люди, считавшие: нет ничего в этом мире предопределенного, нет ничего, чего нельзя было бы избежать. Бери острый камушек — и рисуй на белой скале. Стереть уже нельзя, но можно нарисовать заново, можно попробовать снова. И снова…
И настанет день, обязательно настанет день, когда ты подойдешь ко мне и, глядя на меня снизу вверх моими собственными глазами с комаровскими ресницами или, наоборот, его глазами с моими ресницами, спросишь:
— Мы ведь возьмем его с собой? Возьмем?..
Слышишь, торопыжка Комаров, кряхтящий и охающий сейчас во сне в своих пролетарских Текстильщиках? Слышишь, как все будет?
Слышишь, как бьются во мне два ненужных тебе и принадлежащих тебе сердца? Одно, перегоняющее в полтора раза больше крови, чем обычно, чтобы росло и билось второе, и училось верить, надеяться, любить и прощать. Так, кажется, в молитве? А в жизни-то — как?
Может, ты мне — нам — подскажешь?
В рунах ничего не сказано про детей. Чему я смогу научить своего ребенка? Тому, во что верю сама? А если эта вера и это знание приносят с собой разочарование и боль? Если они, эти упрямые вера и знание, приводят тебя на самую последнюю грань отчаяния и там покидают, не оставляя ничего взамен?
Как же непохожа я сейчас на классическую беременную, грызущую зеленое яблоко, источник железа, и сонно посматривающую по сторонам благодушными глазами. Так, как я, оказывается, тоже ждут. Но не случайно же закон запрещает разводиться с беременными. Еще бы он запретил этим беременным плакать, и прогонять их, некрасивых и неуклюжих, прочь. «Из дома сонного иду — в ночь…»
«Я тебя не люблю и мне не нужен этот ребенок. Уходи, пожалуйста, у меня гости… Могу дать тебе воды… И уходи ты, наконец. Уходи… Уходи… Пока метро работает… Я не люблю тебя.. И не любил, наверно… Не помню.. Но сейчас мне все это не надо.. И не надо было тебе приходить сюда. Мне нечего тебе сказать…»
Руны, на помощь! Только ваша парадоксальная жизнеутверждающая логика способна сейчас заставить меня чуть изменить угол зрения… Угол моего полета без парашюта… Как в той замечательной телепрограмме, с веселыми остроумными клоунами, где одиннадцать серий самолет падал-падал и все никак не мог упасть. Все, наверное, смеялись, а я плакала. Потому что это я — тот самолет, это моя любовь к Комарову. Пять лет по двенадцать месяцев по тридцать дней по двадцать четыре часа…
Я уже не гадаю — не до гадания. Я просто судорожно, как спасительные сердечные капли, ищу ту мудрость, что больше всего мне сейчас подходит. И конечно, нахожу. Вот такую руну:
С красивым названием Thurisaz — ворота. И странным для европейского ума пояснением — «место недеяния». Знак же похож скорее на указатель — «Иди туда».
Или на русскую букву «Р» — разлука, расставание… А может, «Р» — это радость? Ребенок?
«Р» — ревновать. «Р» — ругаться. Ранить. Резать вены. Рожать.
Нет, рожать мне еще рановато. А вены резать — поздно. Так лучше все-таки, как советует тайное древнее знание — просто размышлять. Потому что нельзя приближаться к воротам и проходить сквозь них без размышления. Потому что перед тем, как идти вперед, надо остановиться и окинуть взглядом прошлое — все, что привело меня сюда, к этим воротам. Окинуть взглядом, попрощаться и отпустить. Я радостно цепляюсь за слово «попрощаться» и чувствую, как опять подступают слезы.
Я пропустила важное слово — «благословить». Да, конечно, еще и благословить свое прошлое. Каким бы трудным в минуты отчаяния это ни казалось. И только тогда шагнуть за ворота. Так ведь у меня — еще почти четыре месяца впереди. Хватит, чтобы окидывать взглядом, прощаться и отпускать, прощая.
А насчет того — кто кого куда возьмет через десять лет… Ведь это я шагну за ворота, а не он, не Комаров. Значит — мне и решать.
НОВЕЛЛЫ
Коррекция
Ничего бы этого не было, если бы без пяти шесть не позвонила Ленка.
— Ты представляешь, какой подлец? — без предисловий выпалила она.
Я в этот момент как раз одной рукой выключала компьютер, а другой пыталась натянуть левый сапог, с тоской думая о том, как бы сделать так, чтобы утром знать, что вечером пойдет дождь со снегом.
— Ага, — вздохнула я и уселась обратно за стол.
В комнату поочередно заглядывали девчонки. У всех из сумок предусмотрительно торчали зонты, я махала им рукой и продолжала слушать Ленку.
— Нет, ты представляешь, я беру трубку, а там детским голосом какая-то стерва говорит: «А Геночку можно?» Я говорю: «Нельзя». А она спрашивает: «А это его мама, да?» Я говорю: «Нет, жена». А она отвечает, ты представляешь, наглая. — «Жена?.. А он говорил, что с мамой живет. Мама еще очень строгая у него…» Сволочь такая!..
Я не стала уточнять, кто именно сволочь — Генка или стерва с детским голоском, потому что в этот момент в комнату заглянул наш новый шеф. Увидев меня за компьютером, он уважительно кивнул и позвенел ключами:
— Подбросить до метро?
Я с сожалением развела руками — не прерывать же было плачущую Ленку, и он прикрыл ко мне дверь. Ну вот, все. Стоять мне теперь на остановке под дождем со снегом, распространяя аромат «Лагуны», которую я купила сегодня утром на последние деньги. Оставила только полтинник на пару огромных груш сорта «Александрина», которые моя давно выговаривающая все буквы дочка по детской памяти упрямо называет «Ликсисина» и съедает за две с половиной минуты. «Лагуну» я купила себе на Восьмое марта, причем заранее, чтобы не очень обидно было ждать этот дурацкий праздник, в который так остро чувствуешь, что упустила свой шанс…
Я так точно упустила. Мой шанс в жизни в виде ненаглядного мужа Вадика попрощался со мной как-то утром четыре года назад, да так больше и не появился. Правда, позвонил через неделю и попросил собрать ему кое-какие вещички на первое время: «Ну там, по мелочи, лапуль, — зимнюю куртку, ноутбук, удочки, футбольный мяч… Остальное я куплю». Но, очевидно, так закрутился в новой жизни, что и за этим не пришел, оставив мне почти новый ноутбук как утешительный приз за разбитую жизнь, а мячик с удочками — на долгую память.
Стояла я промокшая и продрогшая на остановке и думала обо всем этом, прикидывая заодно, не обойдется ли сегодня Сонька без груши, если я возьму и за полтинник доеду до дома. Но тут подошел автобус, я вскочила, не обратив внимания, почему остальные не вскакивают… И только остановки через две я поняла, что села в дурацкий 253-й автобус, который ходит раз в час и везет в противоположную от моего дома сторону. Еще остановку я в оцепенении смотрела на серую бетонную стену какого-то завода — вот уж не знала, что в нашем тихом зеленом районе есть заводы! — а потом выскочила на улицу.
Уже стемнело, и мне совсем не улыбалось идти пешком, пусть и вряд ли нашелся бы маньяк, польстившийся на мой лисий жакет, который мама сшила себе еще к Олимпиаде. К предыдущей, разумеется, восьмидесятого года, когда по опустевшей Москве ходили парами милиционеры в выутюженных мундирах и белых перчатках, а в магазинах продавалось финское соленое печенье и салями в нарезку. Мама сшила летний жакет, чтобы один раз сходить в нем в Большой театр, накинув его на вечернее платье… А я вот уже который год перезимовываю в нем бесконечную, темную, безнадежную московскую зиму.
Я ругала себя за мягкотелость — Ленка с ее глупостями могла бы подождать, а я бы с новым шефом в теплой машине доехала до метро, хотя мне, в общем-то, туда и не надо… За непредусмотрительность — дома лежит большой зонт в белый горошек, которым можно прикрываться от дождя со снегом, расчищать дорогу в автобусе, отмахиваться от стай лохматых грязных собак, плодящихся в Москве, как тараканы. И духи можно было бы не покупать, подождать до следующей зарплаты… Да и зарплату можно было бы уже побольше получать, и не сидеть сиднем в нашей бесперспективной фирме, продающей щетки для мытья полов, а искать что-то, рваться, учить английский язык…
Я корила себя и корила, а сама потихоньку шла по направлению к дому, надеясь, как обычно, что вот сейчас остановится БМВ, «хонда» или «опель», и симпатичный, нестарый и неженатый водитель предложит мне:
— Давайте я вас подвезу! Ну что же вы одна, под дождем, вечером? Не надо никаких денег, что вы!.. Купите Сонечке грушу!
Но все «хонды» и «опели» ехали мимо, нагруженные продуктами, памперсами и бутылками пива, а я шла и шла по длинной улице имени какого-то полузабытого маршала. В нашем районе все улицы — имени маршалов, некоторые из которых дружили лет шестьдесят назад с моим дедушкой. Но дедушка маршалом так и не стал, поэтому внучка сейчас топает одна, в старых полусапожках и древнем мамином жакете, с полтинником в кошельке… А может, и не поэтому.
Я давно не была здесь и даже не представляла себе, что и тут, в совершенно не бойком месте новая жизнь энергично и мощно поменяла облик скромного прежде района. Я машинально читала вывески на первых этажах кирпичных пятиэтажек. Надо же — сплошные салоны и агентства. Салон запчастей для «тойоты», салон немецкой обуви, агентство недвижимости «Ривьера», салон тайской медицины, охранное агентство… Может, посоветовать Ленке заказать слежку за Генкой, чтобы раз и навсегда выяснить, какой он подлец?.. Салон «Джоконда»… Я прошла несколько шагов дальше и приостановилась.
Под большой светлой вывеской была вторая, чуть поменьше, тоже написанная золотыми буквами, поблескивающими сейчас в темноте: «Коррекция прошлого, настоящего и будущего». Я хмыкнула — коррекция прошлого! Ну ладно еще — будущего или даже настоящего. Будущее я и сама, кстати, могу скорректировать. Вот доконаю сейчас единственные сапоги — придется залезать в отложенные на весеннее пальто и летнюю одежду для подросшей Соньки триста пятьдесят долларов — и будущее наше скорректировано. Сыр не дороже восьмидесяти руб., никакой прессы и кремов… Ой, не надо о грустном. Лучше скорректировать настоящее.
Вместо того чтобы стоять и трястись от холода и страха на темной, пустынной улице (а пока не проедет следующий 253-й — народу на ней не прибавится), возьму и зайду в этот салон. Ну, мало ли — спрошу что-нибудь. Никому же не придет, наверное, в голову, что я забежала просто погреться. Независимо от настроения и формы одежды, я всегда произвожу впечатление серьезной, задумчивой дамы, которая вряд ли будет заскакивать в восьмом часу вечера в салон коррекции судьбы без особой нужды.
Я позвонила в маленький золотой звоночек, раздался щелчок, и дверь приоткрылась, ровно настолько, чтобы впустить меня, и снова захлопнулась. Я прошла внутрь и огляделась.
Я оказалась в небольшом, уютно обставленном холле, какие обычно бывают в частных стоматологических кабинетах или недавно отремонтированных парикмахерских. Исключение составляла лишь картина, висевшая прямо напротив входной двери и сразу приковывавшая внимание. Это было изображение Джоконды, вероятно, в натуральную величину, но выполненное в очень странной технике. Джоконда и была там, и ее одновременно не было. Мне даже показалось, что в раму каким-то образом вставлено цветное фруктовое желе, подсвеченное изнутри, которое колыхалось, переворачивалось, как будто кто-то невидимый медленно перемешивал его ложкой.
Я подошла поближе, чтобы рассмотреть необычную картину. Впечатление не менялось. Я огляделась и, убедившись, что никто так и не появился, попыталась дотронуться до этого желе рукой. И, вскрикнув, тут же ее отдернула. На пальцах моих багровело по ровному, как будто нарисованному, пятну. Я обожгла подушечки пальцев о совершенно ледяную странную массу. Приблизительно так, как в детстве обжигались на сильном морозе пальцы, прилипшие к водопроводной трубе или металлической стойке качелей.
Я стояла в замешательстве с растопыренной ладонью, а Джоконда то появлялась, то исчезала. В какое-то мгновение мне казалось — да нет же, это просто мешанина цветов! — и вот уже опять хорошо всем известная полная девушка с высоким округлым лбом наблюдала с мягкой полуулыбкой, как я дую на обожженные пальцы. Не успела я додумать, как же я завтра сяду за компьютер с такими руками, как из боковой двери послышался звонкий девчоночий голос:
— Проходите! Вы ко мне?
«Еще бы знать, а кто — вы», — подумала я и не без сомнений вошла в приоткрытую дверь. За столом сидела тетенька, приблизительно моего возраста, а то и постарше лет на восемь — десять… Чем дольше я на нее смотрела, тем больше убеждалась, что звал меня кто-то другой. Вряд ли этот голос мог принадлежать такой особе.
Тетенька была толстенькой, и не просто толстенькой, а состоящей из нагромождения сплошных округлостей, беспорядочно наезжающих друг на друга, и при этом, по крайней мере сидя, казалась совсем-совсем маленькой. На голове у нее был увязан крепенький пучочек из пегих волос, трогательно украшенный ярко-красным шерстяным платочком, а на лице, как ни странно, был сделан аккуратный, неяркий макияж.
Тряхнув пухлой белой ручкой с широким обручальным кольцом, тетенька попросила все тем же пронзительным голоском:
— А вы не стойте! Садитесь! Садитесь!
И я, не переставая крутить головой, послушно села на один из разбросанных по комнате низеньких желтых пуфиков, похожих на сильно надутые подушки.
— Только один вопрос! — весело продолжала тетенька. — Да — да, нет — нет!
Я кивнула. А обладательница голоса из «Пионерской зорьки» молчала и так же весело смотрела на меня. «Что — „да-да, нет-нет“?», — хотела было спросить я, но вместо этого ответила:
— Да.
— А почему? — засмеялась тетенька веселым переливчатым колокольчиком.
— Потому что я его все еще люблю, — с ужасом услышала я свой голос.
— Ухти-тухти, — еще звонче засмеялась тетенька. — Помнишь такой мультик? «Ухти-тух-ти-ух-тити-тух-тити… титиух-тититух… ухтухтух-тухтухтух…» — залепетала она на простенький мотивчик, отбивая такт своей маленькой ручкой по столу.
Я почувствовала, что стены комнаты качаются и раздвигаются, а меня обволакивает теплый густой туман, почему-то пахнущий ванильным киселем и чем-то еще, приятным и терпким. «Соньке надо позвонить», — подумала я, но не успела даже достать телефон, потому что тетенька в этот момент помахала мне ручкой и стала медленно подниматься над своим круглым столом вместе с прозрачным розовым шаром, на котором она, оказывается, сидела. Я прикрыла глаза, чувствуя, что меня неудержимо клонит в сон, но заснуть тоже не успела. Резко стукнула дверь где-то справа, и знакомый голос громко произнес:
— Ла-ап! Спишь, что ли? Просыпайся! Просыпайся, слышь! Я голодный, как бобик. Как сто бобиков! Мне бы чего-нибудь куснуть и потом… — Кто-то, очень родной, склонился ко мне и потерся носом о мою шею. — Потом еще и кого-нибудь куснуть… И на боковую. А, лап? По-быстренькому?
Вадик… Вадик?! Нет. Ерунда какая-то. И, кстати, как же он вошел?
— И как ты вошел? — спросила я.
— Лап, ты чего? Уснула, что ли? Устала, бедная моя… Давай, я бутылки пустые к мусоропроводу отнесу, пока ты готовишь. Лапуся моя… Есть бутылки-то какие-нибудь? Пепси там шмепси, а?
Я смотрела на заметно полысевшую макушку Вадика и пыталась понять — а который сейчас час? Стрелки на стенных часах напротив меня, по крайней мере, показывали половину восьмого вечера…
Да нет, я, вообще-то, все помню. Я промокла. Потому что села на 253-й автобус, который идет не прямо, а заворачивает совсем в другую сторону от моего дома. И потом… Что было потом? Я вышла и… и мне было холодно и очень обидно, что вообще все так в жизни… Да, точно. И я шла по улице и вспоминала, что раньше, в моем детстве, здесь был большой овощной магазин, один на весь наш район, и мама иногда посылала меня в него купить грейпфрутовый сок в жестяной банке… Греческий… Мама пробивала в крышке три дырки и наливала мне вместо надоевшего морса из черно-смородинного варенья густой терпкий сок, пахнувший далекими островами и солнечными рощами…
Я встряхнула головой. Нет, ничего подобного я тогда не вспоминала. Почему-то сок этот вспомнился мне только сейчас… И магазин овощной там действительно раньше был… Только при чем тут Вадик? И… и что же было дальше, после 253-го автобуса? Кажется, я куда-то зашла… Зачем? Чтобы позвонить Соньке… что ли… На мобильном-то у меня баланс минус восемь долларов… Ну да, правильно. А она не поднимала трубку, и поэтому я поймала такси и за полтинник, тот самый, «грушевый», доехала до дома. Который, оказывается, был уже совсем близко. Но я страшно волновалась и хотела побыстрее попасть домой… А Сонька просто смотрела мультфильм «Муми-тролль и комета», и там был самый ответственный момент, когда Снусмусрик наконец придумывает, как на ходулях пересечь обмелевшее море, и она не могла подойти к телефону.
— Ла-ап!.. — Вадик помешал мне додумать и опять подошел ко мне. — Ты так вкусно чем-то пахнешь сегодня… Типа коньячком…
— «Лагуна». «Сальвадор Дали», — автоматически ответила я, пытаясь все-таки что-нибудь сообразить. — Ты что, пришел к нам опять?
Он пришел… Да нет, это мне снится. И надо поскорее проснуться, иначе разочарование будет очень горьким. Вадик, который ушел давно и навсегда… Которому не нужна Сонька… Которому не нужна я. Вадик, которого я не смогла удержать, потому что у меня ужасный характер и не самые красивые в мире ноги, к тому же располневшие после родов. И я не умею молчать, когда надо, и не умею готовить, как мама Вадика. И я не инициативна в интимных вопросах. И стесняюсь, когда Вадик просит меня что-нибудь придумать, чтобы не было все время одно и тоже. Вернее, стеснялась. И так ничего и не придумала. Ни в постели, ни тогда, когда он ушел. А теперь… Неужели он вернулся?
— Ты пришел к нам опять?
— Лап, а я и не уходил. Так — сделал маленький крючочек по жизни. Но любил я только тебя. А это кто у нас такой большой? Это моя доченька Сонечка, да? С красивыми папиными губками и таким смешным носиком, маминым носиком-курносиком, да? Иди-ка к папе, иди скорей, не бойся… Лап, ты классно выглядишь в этих брючках. Такая тоненькая… Сонечка, какая у нас красивая мама, правда? Ты что, не узнаешь своего папу? Ну вот, какая плохая девочка… Надо же… Плохая девочка-Сонька сначала странно смотрела на него, а потом разревелась и убежала на кухню. Наверняка в утолок за холодильник, где она прячется в минуты горя и отчаяния с тех пор, как научилась ползать. А я стояла и смотрела на еще потолстевшего, но такого же неотразимого, такого же единственного в мире, моего Вадика… Большого, крупного, теплого, чуть мешковатого и уютного, как мягкий, игрушечный мишка, с шелковистой, коротко стриженной шерсткой…
На следующее утро, за завтраком, Сонька была задумчивая и хамоватая. Спихнув локтем блюдечко с черными сухариками, которые я, по старой памяти, поставила для Вадика, она зачерпнула своей ложкой овсяной каши из моей тарелки, поперхнулась и плюнула этой кашкой прямо на Вадика. Он молча утерся. Тогда Сонька набрала побольше воздуха в легкие и проорала:
Самолет летит,
Колеса стерлися,
Вы не ждали нас,
А мы приперлися!..
После чего прополоскала рот остывшим какао, высыпала себе в нагрудный карман остатки сухариков, аккуратно обошла Вадика, нежно поцеловала меня в ухо и ушла в школу.
Я с трудом подняла на Вадика глаза, а он сказал:
— Ничего.
И мы зажили, как будто не расставались. Вадикины вещи появились как-то сами по себе. Просто в квартире стало чуть теснее. Совсем чуть-чуть. Но зато сама она как будто расширилась и посветлела. Рядом со старым футбольным мячом, который все эти годы красовался в комнате на полке, как память о любимом муже, Вадик поставил фотографию своей мамы и смешного желтого медвежонка. Сонька быстро привыкла к папе. А я все не могла отделаться от страха, что вот сейчас проснусь — и ничего больше не будет. И никто не подойдет сзади и не подышит в затылок, шепча глупости, от которых ноет под ложечкой и щекочет в носу. И еще мне не давала покоя одна мысль. Даже не мысль, а ощущение. Что я что-то упустила, чего-то не додумала, что-то забыла… Но мне никак не хватало времени сосредоточиться и подумать.
В один из бесконечных счастливых выходных позвонила Ленка.
— Ну чего? — с ходу спросила она.
— Что — «чего»? — недовольно переспросила я, чувствуя, что подружка хочет поругать мужчин, начиная со своего Генки и заканчивая им же, а где-нибудь в середине обязательно достанется моему Вадику.
— Да насчет счастья хочу поинтересоваться.
— А что ты вдруг этим интересуешься?
— Да я все думаю — ты ведь все время ждала чего-то. То есть не чего-то, а кого-то. Скорей всего, Вадика своего и ждала. А теперь он с тобой. И выходит, ждать тебе больше нечего. И некого. Так ведь?
— А тебе завидно?
— Завидно, конечно, — вздохнула Ленка. — Я вот Генку жду уже третий день, например. Только счастья от этого что-то особого не испытываю.
Мы еще поговорили о счастье и несчастье, совсем запутались в категориях и решили, что разговор не получился.
А меня по-прежнему что-то беспокоило. Месяца через два я поняла, что же именно. Салон. «Салон коррекции». Было это все, или просто мне приснилось, когда я, продрогшая, перепуганная, примчалась домой тем вечером и обнаружила как ни в чем не бывало сидящую на диване Соньку с чипсами и пультом, поглощенную переживаниями смешного зверька Муми-тролля по отношению к его подружке фрекен Снорк? Я тогда отругала Соньку, отобрала у нее полупустой пакет, показала еще раз кнопку «пауза» на пульте, которую надо нажимать, когда звонит телефон, заставила ее умыться и лечь спать. И тут же легла сама. Вот тогда-то и пришел Вадик… Или нет, он пришел утром… Когда я вспоминала про грейпфрутовый сок из моего детства, розоватый, горько-сладкий… В общем, в этом месте история как-то путалась у меня в голове и никак не смогла соединиться во что-то стройное и понятное. Я поняла, что должна во всем этом разобраться. А поэтому для начала нужно найти тот самый «Салон коррекции».
В ближайшее воскресенье, встав пораньше — не в половине одиннадцатого, а без пяти десять, мы с Сонькой позавтракали, оставили Вадику записку:
«Мы уехали в зоопарк, потом — в „Баскин Робине“, может быть, еще зайдем к бабушке и в Детский мир на второй этаж за одеждой для мужа Барби. И еще в Старый цирк. Спи. Если выиграет „Динамо“-Киев — не расстраивайся».
Я представила, как обрадуется Вадик, обнаружив, что он свободен в свой единственный выходной, и никто его не будет мучить, подгонять, донимать вопросами, просить подержать табуретку, чтобы залезть на антресоли за мешком со старыми колготками, или приглашать в зоопарк посмотреть на только что родившегося, трогательного детеныша орангутанши Лизы, которая не хочет кормить его молоком… Я осторожно, чтобы не разбудить мужа, прикрыла ему рот — не то проснется раньше времени от собственного храпа, и распахнула пошире форточку.
Предоставив папе возможность в выходной лениться и отдыхать, как он хочет, мы пошли искать салон «Джоконда».
Первый раз пройдя вдоль той улицы, мы не нашли ничего. Сонька ныла и капризничала, потому что чувствовала, что здесь ничем похожим на цирк и не пахнет, но я поволокла ее обратно — еще раз удостовериться, что салон и тетенька с задорным голоском мне действительно приснились, что ли…
На обратном пути мы шли еще медленнее, перечитывая все вывески. Да, вот они, я точно здесь шла, я даже помнила некоторые: «Тойота»… потом — охранное агентство… коррекция… Стоп! Да нет, тут коррекция зрения — контактные линзы… И вдруг я узнала этот дом. Просто на том самом месте, где был салон, изменяющий судьбу, теперь гостеприимно светилась витрина с красивыми плюшками и мишками под розовой надписью «Детское кафе „Светлячки“.
Мы вошли внутрь. Кафе как кафе. Уютное, небольшое. Я взяла шоколадное мороженое, а Сонька, как обычно, попросила что-нибудь самое экзотическое и дорогое. Здесь таковым оказалось фирменное желе из тропических фруктов с устрашающим названием «Анаконда».
На огромной тарелке, которую принес Соньке маленький кореец, посреди сверкающей, переливающейся массы разноцветного желе, стекала, подрагивая, как будто живая, струйка ароматной розовой подливки. Сонька сосредоточенно съела всю чудовищную порцию, облизнулась и потребовала еще. Я расплатилась с услужливым корейцем и потащила доченьку вон, пока у меня еще оставались деньги на такси до бабушки.
У бабушки Сонька почему-то наврала ей, что мы ели моллюсков и черепаху и что от этого у нее дико болит живот. Поэтому ей надо срочно, не дожидаясь обеда, попить чаю, желательно с пирожными и вареньем.
Сонька ест, как Вадик, а остается стройной, как я. Хорошо бы у нее так было всю жизнь. Съела полкило мороженого и, улыбнувшись, легко влезла в брючки сорок четвертого размера. У меня так не получается. Если я, в счастливые моменты своей жизни, начинаю много есть, я тут же поправляюсь. Но потом приходят несчастные моменты, и я ничего не ем неделями. Если бы не Сонька, я бы и не готовила, и в супермаркеты не ходила. Когда несколько лет назад ушел Вадик, я похудела на два размера…
Домой мы вернулись только к вечеру. По телевизору сладко кричала реклама — был как раз перерыв между таймами. Вадик спал в пижамных штанах и моем старом растянувшемся свитере с разноцветными бабочками, прижавшись щекой к телефонной трубке, из которой неслись короткие гудки. Рядом с пустой — к счастью, единственной — бутылкой из-под пива лежала наша записочка, на которой аккуратным Вадикиным почерком было написано: «557-13-38. Рита (блонд.)» Значит, есть еще и Рита «брюн.» Или «рыж.» Ну и ладно! Я выбросила бутылку, выключила телевизор, потом, подумав, выбросила и записку тоже.
И однажды Вадик пропал. Не то чтобы мы поругались и он ушел или что-то в этом роде. А пропал, исчез, как будто его и не было никогда. Сначала я заметила, что в ванной перестали появляться клочки плотной мыльной пены с кусочками толстых черных волос в ней. Исчез характерный запах яблочного дезодоранта в туалете… Куда-то подевалась с кухни его любимая чашка с Каем и Гердой, которые сидят на олене и смотрят на чертог Снежной Королевы, и еще не знают, что их ждет впереди. Вадик, думая о своем, всегда задумчиво ковырял крохотную фигурку Кая в синей шапочке с помпоном, и с годами отковырял и помпон, и всю голову маленького храброго Кая, не побоявшегося отпихнуть глупышку Герду, сесть в сани к незнакомой прекрасной даме и уехать с ней неведомо куда…
Дня через два я поинтересовалась у Соньки:
— Сонь, а папа ничего не говорил, куда он делся?
Она равнодушно пожала плечами и, ничего не ответив, уселась за компьютер. Я услышала, как с ней весело поздоровалась бабка Ёжка: «Привет, давненько тебя не было, умненькая девочка!» и зачавкали лягушки, которых нужно было сосчитать.
— Привет-привет! — очень бодро ответила Сонька и защелкала мышью. Я подошла к ней, обняла и тихо спросила:
— Сонька, где же наш папа?
Сонька долго считала лягушек, прятавшихся в болотной траве, а потом все-таки спросила:
— А кто это?
Я расстроилась и всплакнула. Из-за Вадикиной подлости, из-за бедной Соньки, не виноватой в своей черствости.
Еще когда она была совсем маленькой, я однажды дала зарок не орать на нее ни при каких обстоятельствах и никак не обзывать. А зареклась я на собственные зубы, пообещав себе остаться вообще без них, если буду из-за своей не очень счастливой женской судьбы орать на беззащитную девочку, которая не просила меня ее рожать и ни в чем вообще не виновата — ни в моей любви к ее папе, ни в его равнодушии ко мне. И надо признаться, этот страшноватый и глупый зарок часто помогал мне, когда Сонька доводила меня до белого каления, и мне очень хотелось сказать ей, что она уродка и идиотка и ужасно похожа всем этим на своего сбежавшегося папашу. Однажды я охнула, обнаружив, сколько пломб я сделала за последние полгода…
А сейчас мне казалось, что все-таки, когда девочка так похожа на папу, нужно, чтобы она папу своего любила или хотя бы знала. Нужно. Наверное… Найдется теперь Вадик или нет, но я хотела разобраться во всей этой загадочной истории.
Не дожидаясь воскресенья, я повела Соньку в «Светлячки». Не скрою, что была у меня где-то глубоко внутри надежда, что на месте «Светлячков» мы вдруг все-таки обнаружим таинственный салон с забавной толстенькой хозяйкой и странной картиной на стене. Но ничего более таинственного, чем то же самое желе с розовой подливкой и молчаливый улыбающийся кореец, который, скорей всего, был и не корейцем, а каким-нибудь российским удмуртом, мы не обнаружили.
Сонька тем не менее была довольна. Быстро съела объемный десерт с зефирами и малиной и стала с тоской смотреть на вертящуюся витрину с аппетитными пирожными.
— Сонь, ты не наелась? — спросила я.
— Наелась, — вздохнула она, глядя на меня несчастными глазами.
Но тут неожиданно подошел кореец и преподнес ей в качестве комплимента от кафе маленький пряник — розовую змейку с белыми бантиками из марципана на голове и на хвосте. И Сонька успокоилась и улыбнулась, облизывая глазурь со змейки. Я же, разочарованная, решила дотратить оставшиеся в кошельке деньги любимым способом — доехать до дома на «такси», то есть поймать машину, причем желательно поприличнее. Тем более я помнила, что пятидесяти рублей здесь хватает с головой. Я проверила, остался ли у меня этот неразменный полтинник, и подняла руку.
В первой остановившейся машине было сильно накурено, во второй водитель совсем плохо говорил по-русски, и от этого его лаконичные вопросы «Куда? Сколько?» казались грубыми и угрожающими. Третий сразу категорично объявил: «Сто!» Я уже решила дойти до дома пешком и взяла за плечо Соньку, стоявшую рядом со мной на бортике дороги. И тут ехавшая с приличной скоростью темно-синяя иномарка резко затормозила около нас. Водитель приветливо улыбнулся, услышав адрес. И жестом пригласил нас садиться. Я на всякий случай, чтобы у дома не вышло несуразицы, пояснила: «Пятьдесят рублей». Мужчина кивнул, снова улыбнувшись.
Когда мы тронулись, он для начала похвалил Сонькину модную шапку с рожками. Соня, которая сама как-то выбирала эту шапку в магазине, сразу же зарделась от удовольствия и пустилась с ним в разговоры. Через несколько минут водитель вдруг приостановил машину у тротуара и обернулся ко мне. Я в это время как раз делала страшные глаза Соньке, чтобы она замолчала наконец и перестала кокетничать с незнакомым дядей, который всего лишь навсего за деньги подвозит нас домой.
— Разрешите представиться… — все так же приветливо начал он.
— Еще скажите, что вы подполковник ФСБ… — от растерянности ответила я, не дав ему договорить.
После известной смешной песни Пугачевой мне стыдно признаться, что мне тоже нравятся настоящие полковники, хотя, к сожалению, только .заочно.
А сказала я так, потому что уже успела рассмотреть и чудесный салон небольшого, но новенького «форда», и самого «подполковника» — коротко стриженного, чуть седеющего, ужасно симпатичного и, главное, действительно похожего на мужчину моей мечты, который однажды возьмет и увезет нас с Сонькой в прекрасную светлую жизнь… Или хотя бы из нашей крохотной однокомнатной «распашонки» с сидячей ванной. И Сонька будет ложиться спать в тишине на свою кровать, а не на наш с ней общий диван, под грохот стиральной машины «Малютка», а также под мой собственный топот, гудение холодильника «ЗИЛ» и компьютера, когда я, уложив ее, открываю в Интернете сайт про дальние страны и сижу до трех утра, смотрю картинки и читаю, как, скажем, в Таиланде на улице готовят тончайшие блинчики с начинкой из сочного манго и нежнейших розовых креветок…
Да, и еще мне всегда хотелось, чтобы мужчина моей мечты имел какую-нибудь нормальную профессию — в смысле, чтобы он что-нибудь все-таки делал и что-нибудь за это получал. В отличие, к примеру, от Вадика, дипломированного врача, который все открывает «свой бизнес» — с тех пор, как я его узнала. Поэтому я и подумала про подполковника.
— Нет, зачем же… — улыбнулся наш водитель, услышав мой вопрос. — Я — генерал-лейтенант сухопутных войск. — Он подмигнул Соньке: — А вы кто?
— А я — генерал-майор ракетных войск, — неожиданно сострила моя доченька и разулыбалась незнакомому дяде.
Я посмотрела в окно. Со стороны Тушина летели разноцветные мотодельтапланы с крохотными человечками в огромных мотоциклетных шлемах. Из-за этих непропорциональных шлемов они были похожи на инопланетян из Сонькиных мультиков.
— Мам, смотри, тебе какая-то тетенька рукой машет, — сказала Сонька и показала рукой куда-то наверх. Но не на дельтапланы, а совсем в другую сторону, где ничего вроде бы не было. Она часто выдумывает разную ерунду и до слез требует, чтобы я в нее поверила. Но сейчас я вдруг на самом деле увидела в небе, над деревьями с едва распустившейся листвой толстенькую тетеньку в синей болоньевой куртке и высоких, выше колена, охотничьих сапогах. Она стояла на крыше трехэтажного дома, построенного пленными немцами после войны, и махала красным платком — то ли неровной кучке дельтапланов с инопланетянами в сверкающих шлемах, то ли нам.
Генерал-лейтенант открыл свое окно, высунулся из машины, помахал ей в ответ, снова улыбнулся нам и повторил:
— Так вы все-таки разрешите мне представиться?
Разрешим, — степенно ответила моя дочка и, переложив недоеденную марципановую змейку в левую руку, протянула ему правую. — Софья. А это моя мама Александра Андреевна. Она живет со мной, много работает — каждый день ходит на работу и совсем не отдыхает. Если приоденется, то она еще ничего.
— Сонька!.. — Я аж задохнулась.
— Ты ж сама так говоришь! — удивилась Сонька. — А папа наш приходил и опять пропал. Он мне не понравился.
— Сонька! Замолчи сейчас же!
Генерал-лейтенант серьезно кивнул Соньке и укоризненно посмотрел на меня в зеркальце заднего вида.
— А что, если я приглашу вас на танцы? — спросил он, так в результате и не представившись, немного смутившуюся под моим напором Соньку.
— На та-анцы? — сразу же приободрилась доченька. — А маму?
— Маму… Может, мама машину посторожит, пока мы с вами танцевать будем? — задумчиво спросил генерал-лейтенант.
Сонька посмотрела на меня, взяла мою руку и ответила:
— Нет, пусть она пока поест мороженое. Она танцевать любит, но стесняется. А потом мы поедем к нам домой, я покажу вам свои рисунки… и разные… игры… — Она вздохнула, по-своему истолковав мое замешательство, и замолчала.
— Последнее слово за мамой, — сказал генерал-лейтенант и опять взглянул на меня в зеркальце, улыбаясь одними глазами. — Насчет танцев. Да — да, нет — нет.
— Да, — сказала я. — То есть… нет.
— То есть — да, — быстро подытожила Сонька и довольно бесцеремонно махнула ему рукой. — Поехали. — Она поерзала на сиденье и добавила: — Пожалуйста.
Я посмотрела на небо. Ветер сбивал мотодельтапланы друг к другу. Они летели близко, образуя смешную фигуру, похожую на раздувшееся в одну сторону сердечко. Генерал-лейтенант тронул с места машину. Пристукивая рукой по рулю, он тихонько напевал: «Та-ра-ра-ра-рам-пам-па, руки-ноги, го-ло-ва, воздух выдувая ртом, поднимая пыль столбом…»
Сонька слов не знала, поэтому слушала-слушала, горестно подперев голову кулачком, как она делает в минуты наивысшего блаженства, и, когда генерал замолчал, она неожиданно громко затянула: «Куда идем мы с Пятачком — большой, большой секрет, и…» Она сбилась, видимо, забыла слова или просто застеснялась. Я опять попыталась сделать ей страшные глаза, но генерал-лейтенант не растерялся и стал подпевать: «И не расскажем мы о нем — о нет, о нет…»
И тут вдруг такая странная мысль пришла мне в голову, что мне даже стало горячо в затылке. А ведь хорошо — хорошо!!! — что четыре года назад я упустила свой шанс в виде мужа Вадика. Даже если этот неизвестный генерал-лейтенант высадит нас на нашем перекрестке и потребует законный полтинник за проезд. И даже если не высадит, но окажется, скажем, учителем физкультуры (что вряд ли…), а также примерным мужем, отцом и дедом, ну и так далее. Генерал-лейтенант в этот момент полуобернулся ко мне и, шутливо приложив руку к виску, сообщил, как будто услышав мои мысли-.
— Иван Бойко. Иван Селивестрович. Разведен, живу одиннадцать лет с сыном, сейчас сын поступил в институт…
— Доложили по всей форме… — не удержалась я.
Сонька неодобрительно посмотрела на меня и приветливо улыбнулась нашему неожиданному знакомому. Тот козырнул и ей тоже, а она совсем осмелела и весело предположила-.
— А вы ищете подругу жизни.
Я не знала, куда деваться от стыда за себя и Соньку, а милый генерал Иван Селивестрович покачал головой, и я увидела улыбку у него в глазах-.
— Увы. Никак нет.
Сиди смирно! — зашипела я на дочку. Дети бывают такими бестактными в своей наивности, любимые до абсурда дети. На самом деле, мне, наверно, очень хотелось, чтобы кто-нибудь так же зашипел на меня, и чтобы непонятно откуда взявшаяся обида не испортила всем настроение.
— Никак нет, — повторил генерал-лейтенант. — Я ее уже нашел. Месяца… три назад. Как только переехал в новый дом, так и нашел. — В зеркальце я увидела наши глаза: свои растерянные и Сонькины откровенно возмущенные. — В соседнем дворе… Такая суровая подруга жизни мне и нужна. В очках, розовом берете и с очень серьезной маленькой дочкой.
— Я большая! — молниеносно сориентировалось мое дитя. Детство не знает сомнений. Почти не знает…
— Так то же было три месяца назад, — кивнул генерал-лейтенант. — А теперь, разумеется, большая.
Сонька радостно закивала ему в ответ, а я посмотрела в окно — не покажется ли опять где-нибудь на крыше та тетенька…
— Мам, смотри, дельтапланы похожи на звездочку, — затеребила меня Сонька.
— У вас такая же на погонах? — спросила я моложавого генерал-лейтенанта.
— Почти, только побольше, и по две на каждом, — улыбнулся он.
— А мама плохо готовит, — вдруг встряла моя дочка. — Так бабушка Валентина говорит.
— Все правильно, — пожал плечами Иван Селивестрович. — Потому что хорошо готовлю только я.
— А мусор по вечерам вы регулярно выносите? — сама не знаю зачем, в глубочайшей растерянности спросила я.
К счастью, больше я ничего не успела сказать, потому что нас вдруг затормозил гибэдэдэшник, прятавшийся в своем обычном месте — в редких придорожных кустах напротив бывшей булочной, нынешнего казино «Золотой век», и сейчас вальяжной походкой приближавшийся к нам. Буква «й» в названии казино перестала гореть почти сразу, и вечером на разукрашенном одноэтажном домике светится странная и завораживающая надпись «Золото век»… Серебро ресниц… И медные, налившиеся кровью лбы проигравших в игорной лавочке последние пятьсот рублей вечных открывателей «своего дела»…
— Документики, — лениво козырнул в окошко милиционер.
Иван Селивестрович вежливо протянул ему какую-то книжечку. Гибэдэдэшник тут же подобрался:
— Виноват… Погодка… Да-а-а… На дачу, товарищ генерал? Счастливого пути!
И вам того же, — ответила за генерал-лейтенанта моя Сонька и аккуратно потрогала его за рукав тонкой замшевой куртки. — Поехали? Генерал обернулся к нам:
— А что, может, действительно на дачу? Здесь совсем близко… Если вы не возражаете… И погода — просто на удивление…
— А… почему номера тогда у вас — не генеральские? — спросил неисправимый реалист, сидящий в самой глубине моей романтической души.
— Конспирация. — Генерал-лейтенант снова подмигнул, теперь уже только одной Соньке. — Так и у вас тоже — пальтишки не королевские.
Соньке отчего-то очень понравился неожиданный ответ Ивана Селивестровича.
— Не королевские! — подтвердила она, хохоча.
Я же лишь неуверенно кивнула, так, что, наверное, было непонятно, насчет чего. Иван Селивестрович, еще раз вопросительно взглянув на меня в зеркальце, тронул машину с места.
Сонька совсем осмелела. Просунув голову вперед, между сиденьями, она взахлеб стала болтать с генерал-лейтенантом, который достаточно энергично проехал все наши перекрестки, и уже скоро мы пересекли кольцевую дорогу.
Мы ехали с хорошей скоростью по трассе. Генерал смеялся, Сонька повизгивала от восторга, а я молчала и смотрела на коротко стриженный крепкий затылок незнакомого генерал-лейтенанта, который издалека выбрал меня в подруги жизни из-за того, что я ношу свой школьный розовый берет и скрываю морщинки дымчатыми немодными очками. Мне захотелось срочно выйти из машины. Или срочно выяснить, не шутит ли он… Или что-нибудь спеть, хотя бы про себя. Надо же, я столько лет уже не пела — ни вслух, ни про себя. В голове вертелась какая-то давно забытая песенка, и я стала тихо-тихо отбивать такт своими некоролевскими полусапожками: та-ра-ра-ра-рам-пам-па… та-ра-ра-ра-рам-пам-па… Я не сразу поняла, что напеваю про себя ту же песню, которую только что пел Иван Селивестрович, я даже вспомнила конец припева — он не допел до этих слов: «Чтоб по жизни прошагать, как первый гром!» Надо же…
Ветер разогнал тучи и унес дельтапланы. Я посмотрела в профиль на Соньку и подумала-, какая же она симпатичная, потому что, слава богу, на самом-то деле похожа на меня, а не на Вадика. Сонька в этот момент откинулась назад, чуть было не сшибив головой мои очки, привалилась ко мне и вздохнула:
— Да-а… Очень жаль! Очень!..
Я вздрогнула:
— Ты о чем, Сонечка?
— Ты что, все прослушала? А вы можете для мамы сначала рассказать? Только с самого-самого! — Она очень изящно облокотилась локотками сбоку на сиденье генерал-лейтенанта, а он послушно начал-.
— В тридевятом царстве — в тридесятом государстве жила-была принцесса. Звали ее Александра. Когда она подросла и стала королевой, у нее родилась дочка, Сонечка…
— Принцесса, принцесса Сонечка! — уточнила Сонька и посмотрела на меня, чтобы убедиться, что и мне очень нравится такое начало.
Генерал кивнул и продолжил:
— И вот в один прекрасный день король им сказал: «Собирайте свои вещи и уходите, потому что никакие вы не принцесса и не королева, а глупые никчемные нищенки…»
— И очень некрасивые!.. — негромко добавила Сонька и прижалась ко мне коленкой.
— Именно так он и сказал: некрасивые и ненужные. И они ушли. И шли они долго-долго, через лес, через поля и равнины…
Я смотрела, как Сонька, не отрывая глаз от генерал-лейтенанта, восхищенно слушает милую и безыскусную сказку о прекрасной королеве и еще более прекрасной принцессе, которые все искали по городам и весям свое счастье, а счастье, поманив издали, оказывалось то обманом, то глупостью, то горем…
— Про поляну еще… — подсказала Сонька, потому что генерал перевел дух и на некоторое время замолчал.
— Ну разумеется! Еще все впереди, — улыбнулся он. — И так вот… Шли они шли, пока в один прекрасный день не вышли на большую солнечную поляну, на которой росли чудесные цветы и пели белые птицы…
Я увидела, как улыбнулась Сонька, и почувствовала, как знакомое чувство тревоги и нежности заскребло мое сердце. Я-то — ладно. Генерал — так генерал. Женщины тоже всегда говорят, что им на десять лет меньше, чем на самом деле. У каждого свой козырь… А вот если девчонка моя поверит? В погоны, в принцесс и белых птиц, поющих на рассвете… И ошибется…
— Нет, — вдруг прервал мои мысли генерал.
— Что — нет? — Я первый раз посмотрела в серые, чуть насмешливые глаза Ивана со светлыми, как будто растрепанными ресницами. Я и не заметила, что мы уже остановились у большого двухэтажного дома с красивой зеленой крышей.
Не ошибется, — ответил мне генерал, снова будто прочитав мои мысли. Повернувшись к нам, он протянул руку и слегка дотронулся до головы прижавшейся ко мне Соньки. — Правда, принцесса?
— Правда, — еле слышно ответила ему моя Сонька и еще тише добавила: — А если ошибусь… — Она переплела пальцы каким-то хитрым способом и выбросила их вперед, над головой генерала. Да, конечно, это же знак могучих мышат… Они способны на месть, они сильны и благородны…
Наш спутник засмеялся, легко схватил ее ручонку и тут же отпустил. И посмотрел мне в глаза:
— Вам страшно?
— Страшно… — ответила я, ощущая, как неровно толкается в груди сердце. — Я не знаю…
— Но так бывает. Иногда.
— Наверно, — вздохнула я и первой вышла из машины.
…Мы стояли с Сонькой в чистом поле. Ни спереди, ни сзади не было и намека на дорогу. Я взяла ее за руку.
— Пошли, малыш.
Сонька улыбнулась мне и кивнула. Мы пошли по едва пробивающейся траве, чувствуя под ногами неровную, живую землю. Было тепло, солнечно. В ясном весеннем небе не было ни облачка, и только вдалеке виднелась ярко-красная точка.
— Может, какой-то ребенок случайно выпустил из рук воздушный шарик, да, мам? И переживает теперь…
— Ну да… Или дельтаплан летит…
— Или дельтаплан… — согласилась Сонька. — Или волшебница…
— Или волшебница, — согласилась я.
Здравствуй, Таня…
«Здравствуй, дорогая… Даже не знаю, какое слово подобрать… Ну, просто — дорогая моя! Вот, решила написать, потому что покоя мне нет, а звонить очень волнительно. Буду потом думать: это не так сказала, и самого главного тебе не посоветовала, да и ненаглядный наш еще растревожится, до утра не уснет, будет тяжело вздыхать в темноте, ворочаться и молчать, молчать… Хуже нет, когда он страдает и молчит, правда? Или ты пока еще этого не знаешь, наверно…
Ну, как он там?
Как его здоровье? Как десны? У него во время еды все кровь шла последнее время, ты не обращала внимания? Я ему накупила полосканий, гелей, но он ни в какую не хотел лечиться, плевался… Полоскания действительно очень противные, но надо его заставлять. А то зубы выпадут очень быстро. И смотри, чтобы он потом не заедал их шоколадками. Вообще шоколад домой поменьше покупай, ему вредно.
Кашляет он по ночам? У него такой кашель нехороший, боюсь, как бы это не была астма. Я его хотела повести к врачу, уговаривала, но он все упирался. Ты уж его как-нибудь замани в поликлинику, пообещай что-нибудь. Таблетки от кашля ему не давай, это бесполезно и опасно, потому что непонятно, отчего он кашляет. Если он во сне закашляется, ты его не буди, а тихонечко обхвати ему живот и поверни на правый бок. Только не поворачивай за плечи, а то он проснется.
Как он ест? Ты, главное, не заостряй его внимание на этом, я боюсь, как бы у него не развился комплекс. Просто старайся не соблазнять его едой, от которой он поправляется. Он плохо жует, сразу все заглатывает, поэтому и поправляется. Я уж пробовала ему такую еду давать, чтобы надо было долго разжевывать, но он все равно глотает, а потом у него болит живот. Ты следи, чтобы дома всегда была какая-нибудь суспензия от вздутия.
Жареного, жирного готовь поменьше, он любит, конечно, но потом ему плохо — изжога, отрыжка, тяжесть в желудке. Будет ругаться, клясть судьбу, жалеть, что не уехал жить в Канаду или в Германию, когда все бежали в начале девяностых… Пойдет и выбросит все продукты из холодильника. И тебя будет ругать — мол, ты нарочно готовишь то, что ему нельзя, что потакаешь самым его животным страстям. А попробуй не потакать — еще хуже будет. Ты уж как-нибудь посерединке… Что ему нельзя — съешь лучше сама потихоньку, если он купит.
А скажи, что и не было ничего. В шутку переведи — как он обычно делает, когда не знает, что соврать.
Да, вообще с едой его — беда… Сейчас-то он похудел, это так всегда, когда интерес новый появляется, я это проходила не раз. Когда он в меня был влюблен, так, знаешь, стал совсем как мальчик, хотя ему тогда уже около сорока было. Кости даже берцовые обозначились. Он еще все колесо делал, юность вспоминал, радовался, что живот не перевешивает. И потом, когда вдруг резко садился на диету на месяц-два, я понимала, что он кем-то увлекся. А затем снова начинал есть с аппетитом, даже утроенным, и мне улыбаться, с облегчением — что дождалась, хватило терпения, не помешала ему играть…
Ты заметила, что ему все скучно? Читать — скучно, фильмы смотреть — скучно. Ты обязательно води его куда-нибудь — в театр, на концерты. Сама бери билеты или ему точно скажи — когда, где, во сколько, он очень любит точные задания. Тогда он не мается, не решает, а выполнит, что ему сказали — и рад… Только ты выбирай что-то попроще, повеселее. А то я однажды повела его смотреть одну классическую пьесу, так он прямо весь извелся. Вроде уйти неудобно — все смотрят, не один же он такой глупый, что от Шекспира ему плохо становится, а смотреть — невмоготу…
Имей в виду, лучше выбирать что-то посмешнее, он еще потом и пересказывать будет, всех смешить. И не на новых клоунов и юмористов, а на тех, из времен его молодости, новые его только раздражают. Отведи его на Жванецкого, например, или на Карцева. Его от телевизора не оторвать, если показывают их миниатюры. И уж сама смейся, если он по многу раз одно и то же будет рассказывать… У него так голова устроена. Не то чтобы он забывал, что уже рассказывал это, а просто ему нравится — повторять одно и то же, забавное, смешное. Чтобы всем вокруг весело было, чтобы он всем нравился, был в центре внимания…
Смотри, из одежды лучше не покупай ему ничего голубого или светло-серого. Ему не идет, а он не понимает, может надеть. И сразу такой толстый, такой смешной становится… Только ты не говори, что ему не идет, он обижается.
Как ты-то сама? Довольна? Если что не так, старайся при нем не плакать, он расстраивается. Ужасно не любит, когда кому-то рядом плохо. Ему самому сразу тошно становится. Может просто впасть в депрессию. Потом очень трудно его оттуда доставать.
Ну и, наверно, самое главное.
Люби его, как я любила. Пусть он и с тобой верит, что он самый умный, самый молодой, сильный, любимый и желанный. Пусть он будет с тобой счастлив, если уж не был счастлив со мной.
И… вот еще что. Если ты вдруг когда-нибудь, не скоро, через год-два, а может через пять, заметишь, что он бегает по дому с телефоном и прячется от тебя в дальних углах, и при этом на лице у него появляется задумчивое и загадочное выражение — ничего не спрашивай. Постарайся сделать вид, что ты ничего не заметила. И себе скажи: ничего нет. Скорей всего, это у него пройдет. Вдруг это маленькая игра, глупость, вроде желания ребенка съесть именно такую шоколадку и никакую другую. И завтра — опять съесть, и послезавтра… Ну и пусть себе ест. Объестся, скорей всего, особенно если никто останавливать не будет.
Если же нет… Если не пройдет — ни через три дня, ни через месяц — не мучай себя. Отпусти его. Пусть бежит. И если ты не побежишь следом, есть небольшой шанс, что еще вернется. Ну, а уж если не вернется… Будет плохо — позвони мне. Ты же хорошо знаешь наш, то есть теперь мой, телефон.
Я расскажу тебе, как можно жить без него. Ходить по тем же комнатам, спать в той же постели, только одной — то на его подушке, то на своей, для разнообразия монотонных ночей… Сидеть на кухне и смотреть каждое утро на тот стул, на котором много лет сидел он… И не умирать при этом. Дети не в счет, имей в виду, если собираешься их заводить. Дети только усугубляют боль. За них больно втройне, и лучше сейчас не надо о них, давай только о лирике и романтике.
Когда-нибудь, возможно, и тебе придется отпустить его на волю, где смеются веселые свободные девушки. А какая-то одна смеется громче всех, победно и торжествующе, самая прекрасная, та, что не озабочена протертыми супами, низкокалорийными блинчиками и суспензией от вздутия — она этих слов пока не понимает… Пока у нее только волнующие разговоры по телефону, обжигающие встречи и упоительные полеты к звездам — он любит называть свои интимные подвиги именно так, правда?.. А тебе в это время постоянно будут сниться сны, в которых он, как прежде, будет близким и родным. И просыпаясь, ты будешь отчаянно пытаться вернуться туда, в тот сон, где он был рядом. А потом и эти сны пройдут. И пройдет боль. И ты поймешь, что с тобой осталась твоя собственная любовь, которая была прекрасной и долгой. Главное, от нее не отказываться, не говорить, что все было напрасно.
Ты звони, не стесняйся, в случае чего… И заходи, познакомимся, наконец. Не совсем чужие все же люди. Удивительно, правда?
Я покажу тебе наши фотографии, где он был моложе, стройнее и отчаяннее, чем теперь. Так долго не маялся, вдруг круто беря в сторону…
И еще я покажу тебе одно письмо. Думаю, она не была бы против. Когда мне трудно, я всегда достаю это письмо и уже на третьей строчке успокаиваюсь.
«Здравствуй, моя милая! — начинается это письмо. — Ничего, что я на „ты“? Просто я так привыкла с тобой разговаривать, мысленно, а теперь и вслух, в тишине моей опустевшей квартиры. Дети — не в счет, ты когда-нибудь это сама поймешь. Хорошо, что они есть, иначе все вообще было бы бессмысленным, но они не спасают от одиночества. Потому что уходят. И задолго до ухода начинают собираться. Отдаляются, уединяются, вдруг пробуют резко развиваться по-другому, чем тебе бы хотелось, и смотреть на тебя, как на когда-то очень любимую, но совершенно бессмысленную теперь игрушку, из далекого детства. Которую выбросить невозможно, но и играть в которую смешно и стыдно…
Ну, ладно, как там он? Все еще порхает? Или уже начал позевывать и толстеть? Плохой признак, имей в виду. И запомни, если он обмолвится ненароком, что у тебя отвратительный характер, надо срочно менять что-то во внешности. Постричься, покрасить волосы, не знаю… Может, татуировку сделать где-нибудь в пикантном месте… Ничего, что я о таком интимном? В общем, придумай что-нибудь, чтобы ему на какой-то миг показалось — ты стала совсем другой. И вообще это не ты…
Мне грустно, да, грустно от его предательства. Ведь я ему очень верила. Но я никогда не забывала, что и ко мне он пришел, разочаровавшись в своей большой любви к девушке Юле, вмиг ставшей ему неинтересной, когда он встретил меня. Девушка так плакала и так отчаянно пыталась его вернуть. Но у нее не было шансов. Я была и красивей, и моложе ее. И я уже ждала нашего первого ребенка…
Так что владей, моя милая, тем счастьем, что тебе досталось. Но на всякий случай не рассчитывай, что оно будет длиться вечно. Себя подстрахуй. От неожиданных ударов, от шока, который, к примеру, испытала в свое время я. Себе я сказала: это был приз, переходящий приз — за молодость и красоту. Сама понимаешь, что пожизненно его не дают…
Я не желаю тебе плохого, поверь мне. И не держу зла. Никакой замены ему, увы, найти не удалось, да и не очень-то я и пыталась, имея в виду мой уже критический, для романтических встреч и очарований, возраст. Мне хорошо одной. Я даже все чаще и чаще думаю — как сложно мне было бы сейчас с ним. Он ведь не успокоится никогда, в поисках красоты, ее все новых и новых форм…
А в редкие, очень редкие минуты отчаяния и одиночества я вдруг понимаю: вот и все, что у меня было. Это вся твоя, Таня, любовь на этой земле. И другой не будет. И если бы не одна милая девушка, ты бы сейчас не сидела одна на кухне, а ходила бы по набережной, в каком-нибудь далеком средиземноморском городе, за руку с тем, кто вообще-то обещал тебе, а не ей, быть до конца дней своих рядом, и в горе, и в радости. Почему-то, когда мне плохо, я всегда думаю о тех городах, в которых я так и не бывала, прекрасных, далеких, ненастоящих, как будто в них потерялась моя любовь…
И тогда я достаю одну записку, короткую, в ней всего несколько строк. Мне почему-то кажется, что ее оторвали от длинного, сумбурного письма. Знаешь, как пишется иногда о своей любви, которой больше нет, и о боли, которая наполняет каждую клеточку твоего существа, заменяя все обычные чувства и желания — эти слова, которые никому в мире не нужны, те, что пишутся в никуда, просто чтобы высказать то, что крутится и крутится внутри, мучая, разрывая, превращая тебя в сгусток страдания… Впрочем, может, ты этого и не знаешь.
Вот тогда я и достаю эту записку, этот обрывочек чужой боли, в которой я тоже повинна, и читаю-перечитываю несколько строчек, написанных крупным, неровным почерком: «Здравствуй, Таня! Ну, как ты, счастлива? А мне так больно, так, что я просто не знаю, что мне делать…»
И больше ничего нет, ни одной строчки… Но ведь что-то она писала мне в том длинном письме, от которого оторвала первые строчки… Позвонила как-то в дверь, протянула холщовую сумку, с ручками, в ней были его книжки и вот этот клочок бумаги, с широкими, выгоревшими за годы линейками… И я как будто слышу, уже много лет слышу голос этой девушки, как она говорит, глядя в окно, а он уходит, уходит, чтобы никогда не вернуться, и нет на свете силы, способной его удержать…
«Но это ведь пройдет, правда? Главное, не возненавидеть тебя, его и весь мир. Ведь он есть по-прежнему, этот мир… Где-то там, вдалеке… Так трудно поверить, что в тот миг, когда тебе больно, невыносимо больно, кто-то смеется, счастлив, любим и любит… И как же трудно сказать в этот миг, но я знаю, что я должна это сделать, просто обязана, чтобы выжить самой, чтобы остаться такой, какой я была прежде, не сойти с ума от боли, ненависти, одиночества… Как трудно сказать: будьте счастливы. Как трудно так сказать и быть при этом искренней. И я говорю это снова и снова, убеждая саму себя, что во мне не живет ненависть, ее просто не выдержит моя душа. У меня никого на всем свете не было, кроме него. И сейчас, когда он ушел, я… Но я заставляю себя сказать: я есть и без него. И эта боль когда-нибудь пройдет…»
Фокус
«Я посмотрела на небо, а на небе солнце во все лучи сморкается от плачее…»
Из рассказа маленькой девочки
В четверг мы пошли с детьми в цирк. Обычная родительская суббота была перенесена на четверг, потому что так оказалось удобно нашему папе, моему бывшему мужу. Начался дачный сезон, и, конечно, тратить драгоценный день на капризных, требовательных, легко устающих детей ему было жалко. Поэтому он купил билеты на четверг и встретил нас около цирка с предусмотрительно заготовленной в руке салфеткой.
— Папа, ты что, плачешь? — крикнула еще издалека маленькая Машка.
Старший брат Леша дернул ее за руку:
— Не надо! Обидится — убежит!
Леша мой знает, как папа может убежать, не увидев заранее заготовленных улыбок на лицах.
Когда мы приблизились, папа чихнул, два раза откашлялся, сморкнулся и только тогда взглянул мне в глаза.
— Заболел? — с ужасом спросила я, надеясь, что он представляется. Я боюсь всяческих инфекций, как огня. Заболеет младший — неизбежно потянется и второй, и наоборот. Если же болею я, то в доме жизнь вообще останавливается.
— Увы… — печально ответил отец моих детей и протянул мне конверт с билетами. — Жаль, пропадет один билет. Продай, а?
Дети не очень расстроились, что уже через минуту и след папин простыл. Они расстроились два года назад, каждый по-своему, когда папа стал задыхаться в отсутствии некоей симпатичной девушки с короткими пепельными волосиками, постоянно цеплявшимися за подголовник переднего сиденья в нашей машине. Чтобы не помереть в одночасье от тоски, наш папа пошел на жертвы.
Пожертвовал он Лешей и Машей ради большой любви. Осуждать его было трудно, потому как с нами ему стало слишком плохо. Это было так очевидно, что мы его отпустили с миром и только просили не забывать, что дети хотят есть каждый день, хотят ходить в театр и в цирк, читать хорошие, разные, красиво иллюстрированные книжки и, главное, не понимают, почему какая-то чужая тетя вдруг стала для их папы дороже всего на свете. Дороже наших совместных завтраков в воскресные дни, веселых поездок в Крым на машине, секретных подготовок к семейным праздникам и всей нашей вполне счастливой и беззаботной прошлой жизни.
Билет мы продавать не стали. Машка, как большая девочка, села на отдельное место. Правда, уже минут через десять она пересела на высокие ступеньки, и еще через пять минут к ней перебрался и Леша. И так они там и сидели, пока не начался страшный номер с арбалетами, стрелявшими одновременно в три стороны. Тогда дети по очереди быстро перепрыгнули опять поближе ко мне и смотрели, затаив дыхание, как из огромных, быстро вращающихся арбалетов вылетают короткие стрелы и попадают точно в нужное место.
А потом вышли клоуны.
— Вот придурки… — тяжело вздохнула моя соседка слева, толстая немолодая женщина с большим количеством золотых украшений в ушах и на шее.
А по мне так — я еще никогда в жизни не видела таких замечательных клоунов. Леша повизгивал от хохота. Обычно более сдержанная Маша вскакивала и начинала прыгать при каждом их появлении… Я же выбрала себе одного, среднего росточка, с обаятельной улыбкой и оттопыренными черной круглой шапочкой ушами. Наверняка уши у него были совершенно нормальные, и отогнул он их просто чтобы было смешнее.
Мне и остальные клоуны очень понравились. Такая знакомая компания… Вот большой, в полосатом костюме и широченных штанах на помочах, похож на моего педагога, в которого я была отчаянно влюблена в институте… А этот длинный — на мальчика Пашу, которого я любила в школе… И рыжий, с большим белым бантом, постоянно сползающим набок — на мальчика Севу, которого любила на третьем курсе целых полгода… Не хватает первого мужа… Ну и хорошо, не самые приятные воспоминания остались… Но зато есть похожий на мужа второго, срочно заболевшего к родительскому дню. Конечно, мне же последние десять лет так нравится этот типаж. Крепенькие, не очень высокие, смешливые. Вот потому я и сейчас выбрала этого — симпатичного, с нарочно оттопыренными ушами…
Всю свою жизнь, сколько я себя помню, я любила только придурков. Возможно, виновата в том не я, не природа и даже не моя мама, воспитывавшая меня почти в пуританской строгости духа, а цыганка, которая прокляла меня, когда я была еще у мамы в животе.
Мама ходила со мной на восьмом месяце и однажды почему-то оказалась далеко от дома, на Кузнецком мосту. Она зашла в туалет, который, как ни странно, сохранился там до сих пор. Меняется облик Москвы, переименовываются улицы по-революционному и обратно, на месте булочных открываются банки, старые библиотеки переоборудуются в игровые клубы, а туалеты остаются на своих местах. Как некий оплот стабильности в нашей безалаберной стране.
В туалете том к моей маме привязалась молодая цыганка. Мама всегда производит на людей впечатление беспомощной и наивной. Она говорит, что ничего плохого цыганке не сказала, и я ей верю. Маме очень трудно обозвать кого-то и вообще произнести грубое слово. Зато она может так посмотреть на человека, что он с ходу лезет драться.
Цыганка драться не полезла, но сказала:
— Мертвый мальчик у тебя родится!..
Она как в воду смотрела, в том смысле, что мама и все родственники ждали мальчика. Но родилась я, и притом совершенно живая и абсолютно здоровая, хотя мама рожала меня трое суток. Так что, когда я все-таки родилась, все были счастливы, что и я, и мама остались в живых после трех дней отчаянных мук. И думать забыв о долгожданном сыне, стали любить меня.
Я росла, искренне любимая полным комплектом бабушек и дедушек и, разумеется, мамой с папой.
Я росла в достатке. Была крупная, умная, здоровая и красивая. Занималась музыкой и фигурным катанием. Мне все легко давалось — и учеба, и музыка, и спорт. Меня любили хорошие умные мальчики из интеллигентных семей. А я любила придурков. С восьми лет и по сей день.
Первого звали Павлик. Мама говорила, что хорошего в нем только — звучные имя с фамилией — Павел Веретенников… Так и кажется, что за ним встают тени благородных, аристократичных предков, которые очень наивно ценились в нашей семье, как залог порядочности и вменяемости. А на самом деле он просто — смазливая безродная дворняжка. Мама точно видела, что у него бегают глаза, не останавливаясь ни на чем определенном, в том числе и на мне, умнице-красавице, и ей не нравилось, что Павлик учится совсем плохо, почти на двойки. А мне казалось, что он похож на юного греческого бога. Белокурого сероглазого Павлика я любила со второго по десятый класс, верно и безответно.
После уроков Павлик никогда не оставался ни на какие школьные мероприятия, он убегал на тренировки. Павлик занимался баскетболом. И мне эта игра все мое школьное детство казалась наполненной какого-то прекрасного тайного смысла. Я никогда не видела, как Павлик играет, но могла себе представить, как он ловко, лучше всех, ведет большой оранжевый мяч, и легко бросает его, высоко и пружинисто подпрыгивая… Павлик учился в параллели «А», и ему не нравились никакие девочки ни в моем классе «Б», ни в его собственном. Ему нравились девочки на три года старше, учившиеся вместе с его братом. И он очень нравился им.
Иногда я звонила Павлику и слушала, как он говорит-. «Алло». И этого было достаточно, чтобы пережить длинные выходные или каникулы.
За девять лет своей первой влюбленности я поняла, что на самом деле любовь — это вовсе не радость, не беготня по вечерам с накрашенными тайком ресницами и не поцелуи, к которым я относилась заочно иронически из-за своего комплекса длинноватого носа. Любовь — это муки, поняла я. И, устав безответно любить Павлика, мужественно приготовилась к большому чувству.
Большое чувство пришло не сразу. Перед этим я несколько раз влюблялась, каждый раз попадая в давным-давно расставленную мне мстительной цыганкой ловушку. Ведь она бы наверняка порадовалась, узнав, что вместо мертвого мальчика получилась страдающая от несчастной любви и очень одинокая девочка.
Второго моего избранника звали Сева Воробьев. С Севой я сидела в школе за одной партой, терпеть его не могла за вечные сопли и полуоткрытый рот и иногда, когда он пытался списать у меня что-то, молча била учебником по голове. А потом встретила его как-то, учась на третьем курсе института.
— Я шла из исторической библиотеки в библиотеку иностранной литературы. В читальном зале я проводила шесть вечеров в неделю, учась старательно и поверхностно, много читая, конспектируя, но никак не связывая одно прочитанное с другим и плохо помня, что читала в прошлом семестре. Мне было скучно и непонятно, зачем я выбрала этот факультет, но даже мысли бросить учебу у меня не появлялось.
Я не сразу узнала Севу, когда он помахал мне рукой. Бывший одноклассник очень вырос, учился в университете на факультете стран Азии и Африки, изучая язык хинди, что совершенно не укладывалось у меня в голове. Безнадежный троечник Воробьев Сева и вдруг — хинди… Рот у него закрылся и оказался очень милой и правильной формы. А в глазах, серых и ясных, был обращенный ко мне ненастойчивый и простой вопрос. Которого я не поняла. И переспросила-.
— Что?
Сева улыбнулся загадочно и промолчал.
— Сев, ты хотел что-то спросить?
Он задумчиво посмотрел на меня и спросил:
— Кого позвать?..
Я была покорена… Это было так смешно! Кто не сидел по семь часов подряд в библиотеке, обложенный томами скучнейших монографий, тот меня не поймет.
Сева был единственный из моих избранников очевидно русский. Меня неожиданно очаровала его симпатичная славянская внешность, с неяркими веснушками, аккуратным неправильным носом, улыбчивыми глазами и светлыми прямыми волосами, сразу выгорающими на солнце до цвета льна. Волосы эти казались мягкими и приятными на ощупь, мне всегда хотелось их потрогать. Глядя на Севу, я представляла, что у меня могут родиться такие вот дети — светлокожие, светловолосые, сероглазые…
У Севы была совершенно очаровательная манера ходить, лениво загребая длинными, чуть полноватыми в бедрах ногами. Мне так нравилась его походка, что я даже стала невольно копировать ее, думая о нем, пока однажды случайно не увидела себя в витрине магазина…
Сева был точно таким, как я представляла себе Иванушку из всех русских сказок. Сильный — только силу некуда приложить, с приятной ленцой, смешливый, загадочный в своем нежелании серьезно воспринимать этот мир. Он же вовсе был не дурачок, Иванушка. Это он с точки зрения скучных и рациональных братьев был дурачком. Просто он жил не так, как все, в каком-то своем, светлом и радостном мире…
Я еще и еще раз встретила его у библиотеки. Сева шел мимо, а мне, увидев его и поговорив пять минут, уже совсем не хотелось в тот день читать книжки.
— Странно, а почему я никогда не встречаю тебя утром, когда еду в институт? — спросила я его.
— Утром я сплю, — улыбнулся Сева.
— У вас занятия позже начинаются? Не в девять? — уточнила я.
— Не знаю, — пожал плечами Сева. — Утром я сплю…
Как-то раз я видела его недалеко от своего дома, мы ведь жили на соседних улицах, ходили в одну школу. Но окликать не стала — Сева явно кокетничал с аппетитной, красиво одетой блондинкой и сделал вид, что не заметил меня.
Но однажды в моей квартире под вечер раздался звонок. Я спокойно открыла ее, а за дверью стоял он. Сердце мое подпрыгнуло и остановилось.
Сева спокойно вошел в мою квартиру, будто был здесь не раз. Оглядевшись, он выбрал себе удобное место в кресле, чуть выдвинув его к телевизору. Высыпав на пол штук пятнадцать кассет из пакета, с которым он пришел, Сева стал выбирать, что бы посмотреть.
— У тебя есть видеоплеер? — чуть запоздало спросил он.
— Да… — замерев, ответила я, глядя на его огромные рыжие ботинки из толстой кожи. Ну, понятно — европейский человек, тапки в гостях надевать не будет…
Сева поставил видеокассету с музыкальными клипами, с полчасика посмотрел их, потом лег на мой диван и уснул. Часа через два он проснулся, собрал кассеты, помахал мне рукой и ушел. Пару раз он потом звонил мне, каждый раз спрашивая в случае заминки в разговоре: «Кого позвать?», и я каждый раз смеялась. Это уже был словно код, наш с ним код.
— Поедешь со мной в Гданьск? — однажды спросил меня Сева без долгих предисловий, позвонив в половине третьего ночи.
— А… зачем?
— У тебя загранпаспорт есть?
— Есть, но он просроченный.
Сева вздохнул.
— Там вообще классно должно быть… Ребята ездили…
Я никогда особо не мечтала о Гданьске, но стала срочно делать новый загранпаспорт. Сева перезвонил только через пару месяцев, ни слова больше не сказав про поездку в Польшу.
Мои школьные подружки, часто посещающие встречи одноклассников, говорят, что Сева стал многовато пить, что не помешало ему очень удачно вписаться в новую жизнь и открыть кредитный банк.
Теперь я иногда встречаю его на улице, потому что живем мы по-прежнему в одном районе. Раз Сева вдруг разговорился и похвастался, что купил себе стовосьмидесятиметровую квартиру в новомодной башне, с тремя туалетами и тридцатиметровой террасой.
— Зачем тебе такая огромная квартира? — удивилась я. — Ты что, женился?
— И не женюсь никогда, — засмеялся Сева.
— А как же дети? Так и останешься один?
— Мне хорошо одному… — потянулся Сева. — А впрочем, у меня же есть сын, ему уже девять лет. Ты не знала?
Он всегда бывает на хороших машинах, с разными девушками. Как-то я с грустью заметила, что у него не хватает нескольких зубов в пределах видимости… Но, кажется, ни Сева, ни его хорошенькая спутница вовсе не грустили об этом.
Годы идут, а Сева всегда одинаково загадочен и молчалив. «Как дела?» — спрашиваю я, встречая его раз в два года, внимательно глядя на него и пытаясь вспомнить, как я была в него влюблена. Сева молчит, улыбается, в лучшем случае жестами показывая, что у него все отлично. И мне кажется, что у него не так уж все и хорошо, если он молчит столько лет.
Я пережила свое фиаско с Севой достаточно легко, потому что на самом деле я тогда любила уже третий год одного человека. Короткая, хоть и испепеляющая влюбленность в Севу не мешала мне благоговеть и таять каждый раз, когда в коридорах института я видела Лесика, декана нашего факультета.
Лесик был чрезвычайно хорош собой, выглядел гораздо моложе своих пятидесяти. Если он шел мне навстречу по вестибюлю, видный, статный, уверенный в себе, то я забывала, куда шла. Полтора года он вел у нас какой-то курс. На семинарах, когда он произносил мою фамилию, мне казалось, что у него во рту очень сладкая и приятная конфетка, с растекающейся, нежной начинкой, и у меня что-то тренькало в этот момент то ли в душе, то ли где-то еще. С восхищением внимая на занятиях красавцу Лесику, я думала: вот родить бы от него ребенка, если бы он не был уже в третий раз женат… Ребенок вышел бы крупный, умный, спокойный…
Пять лет профессор благосклонно улыбался, зная, что я в него влюблена, а вручив мне диплом, пригласил к себе на дачу. Дача у Лесика оказалась большая, красивая, с камином и ухоженным садом. В саду я рассматривала коллекцию пышных хост, аккуратно окученные розовые кустики с набухшими бутонами и представляла — какая же она, третья жена Лесика, отвечающая по телефону легко и насмешливо: «Вас слушают! Девочки, говорите!»
Лесик поил меня не очень дорогим болгарским коньяком и угощал шоколадными конфетами из коробки «С Новым годом!», которую он взял на полке из большой стопки разных коробок. Конфеты были, наверно, вкусные, обсыпанные мелко дробленными орешками, но я совершенно не чувствовала вкуса, зная, что сегодня свершатся одновременно два самых важных события в моей жизни.
Затянувшееся девичество было моим тайным стыдом. Жить одной — родители отселили меня в однокомнатную квартиру, чтобы я когда-то наконец начала взрослеть — и не понимать, о чем уже не шепчутся, а смеются или серьезно переговариваются, с глубоким знанием предмета, подружки!.. А тайная любовь к декану была моей второй самой важной проблемой. Я не могла поцеловать ни одного влюбленного в меня мальчика из порядочной семьи, потому что в самый неподходящий момент у меня накатывали слезы от сознания-. «Это — не то! Не настоящее! Это же не он, не Лесик!»
Сейчас, держа в руке быстро тающий трюфель, я старалась, чтобы Лесик не увидел моего необыкновенного волнения, и от этого еще больше волновалась. Он шутил, рассказывал длинные анекдоты, а я напряженно старалась поймать момент — где смеяться, потому что совершенно не понимала, о чем он говорит. Выпив пузатую бутылочку коньяка, Лесик с большим аппетитом съел всю жареную курицу, которую мы купили по дороге в палатке. Потом напоил меня кофе и аккуратно убрал коробку с оставшимися конфетами обратно в шкаф.
В свою супружескую спальню, где, как я мельком видела, стояла традиционно широкая кровать, застеленная шерстяным покрывалом серо-голубого цвета, он меня не повел. Переодевшись в очень неожиданный домашний костюмчик с едва доходящими до колен велюровыми штанишками, Лесик встал в дверях и взглядом позвал меня к себе.
Я поняла: ну — все. Настал мой час. Это случается только раз в жизни. Завтра я уже буду другой. Буду по-другому смотреть на мужчин и на других девушек… И буду думать, кто из девушек такая, как я была вчера, а кто уже все знает о жизни… Наверно, и я совсем по-другому пойму, что такое жизнь…
Мне немножко мешало, что в своем костюмчике цвета шоколада Лесик стал похож на приятного медвежонка. Как-то мне он никогда раньше не казался похожим на медвежонка. На царя — да, ассирийского или шумерского, могущественного, пышущего здоровьем, приводящего в ужас врагов и в восхищение подданных, но только не на медвежонка… Но я посмотрела ему в глаза, добрые, ироничные, умные и сразу же забыла о его смешных штанишках.
„Взявшись за руки, мы поднялись на третий этаж, в небольшую комнату. Там не было кровати, но на полу лежал большой, пышный ковер с длинным светлым ворсом. От ковра пахло дымом и вином. На стене висело несколько картинок и украшений. Я почему-то никак не могла оторвать глаз от большой керамической кошки, с ярким малиновым бантом в горошек. И все думала: как же она держится на стенке, на чем — дырка там специальная сзади у нее или петля какая-нибудь? Ведь если упадет — от резкого движения — столько будет острых осколков, ковер ни в жизни не вытряхнуть до конца…
На следующее утро мы выпили кофе с теми же ореховыми трюфелями, и Лесик галантно проводил меня домой. Довезя меня прямо до подъезда, он улыбнулся:
— Подожди! — и вышел первый. Открыв дверцу машины, он протянул мне руку, помогая выйти, и проговорил, тепло глядя на меня: — А мне понравилось!
«А мне нет!..» — чуть было не сказала я вслух, глядя, как Лесик, надев старомодные темные очки, кряхтя, влезает в свой видавший лучшие дни «мерседес». Я слегка махала ему рукой, жалея, что у меня тоже нет темных очков, чтобы он не видел моих слез и не решил, что нужно побыстрее закончить все дела, взять из кабинета еще пару коробочек конфет и вернуться сегодня же к такой милой, неопытной, трогательной девочке, которая плачет ему вслед… Он ведь, наверное, не поверит, отчего я плачу.
«Если это и есть любовь — то я просто ничего не понимаю в жизни!» — решила я тогда.
В жизни я, конечно, ничего не понимала и через год вышла замуж, будучи знакомой с женихом чуть больше месяца. Мне показалось, что вот это точно — любовь. Ну, должна же она когда-нибудь ко мне прийти…
И вот она пришла, в лице Поли, Аполлона Федоровича Сучкова, который подошел ко мне в метро и очень встревоженно спросил, не видела ли я тут поблизости полного мужчину, говорящего по-эстонски, в зеленой куртке, который украл у него сумку со всеми деньгами… Я мужчину не видела, но мне очень хотелось чем-то помочь сильно расстроенному, почти плачущему человеку, и я дала ему пачку сока, пятьдесят рублей и свой домашний телефон. Сок он тут же жадно выпил, деньги взял с очень большим трудом, а телефоном не преминул воспользоваться в тот же вечер, узнав по нему адрес и приехав ко мне внезапно в гости…
Меня не смутило ни наше несколько необычное знакомство, ни то, что жених чрезвычайно уклончиво отвечал на все вопросы о своем прошлом, а выпив, туманно намекал на близкое, совсем близкое родство с одним очень известным актером… Я быстро поняла по перечисленным им фильмам, кого имеет в виду Поля, и мне стало его безумно жаль. Почему-то я знала, чувствовала, что нет у него ни знаменитого отца, и никого вообще нет. Как многие сироты, не знающие родителей, он просто придумал себе родню, славную и знаменитую.
Когда милая дама в загсе спрашивала нас по очереди, добровольно и продуманно ли мы совершаем такой серьезный поступок — вступаем в брак, она не смогла сдержать улыбки, проговаривая имя-отчество моего будущего супруга. Мне почему-то казалось, что сейчас захохочет мой папа, один из всех родственников пришедший на торжественную церемонию. Но папа стоял и очень грустно на меня смотрел, и потом тоже грустно смотрел, когда уже все свершилось и мы с гостями фотографировались на фоне буйно цветущей сирени и папиного красного заграничного автомобиля.
У меня до сих пор на полке стоит эта фотография. Я смеюсь от счастья, красуясь в платье собственного изобретения, на скорую руку сооруженном за три дня, с белым плюмажем на голове и огромным букетом, делавшими меня похожей на развеселую крестьянку, набравшую полную охапку цветов и часть из них водрузившую себе в растрепанные кудри (перед свадьбой я проснулась в пять утра и, не зная, чем заняться, дожидаясь судьбоносной встречи с Полей в загсе, взяла ножницы, подстриглась, а потом сильно накрутила обычно прямые волосы). Рядом на фотографии стоит очень серьезный Поля, в великоватом пиджаке и желтом галстуке, с толстой золотой булавкой, купленной им специально к свадьбе, вытянув руки по швам, как будто готовясь ответить на заранее известный ему и, возможно, трагический вопрос. А по другую сторону, взяв меня под руку, печально смотрит в камеру мой обычно брызжущий весельем и энергией папа.
Каким-то образом папа понял про Полю то, что не сразу поняла я. Поля любил золото и драгоценные камни, мог купить на всю скромную зарплату большую печатку и любоваться ею несколько дней. А потом вдруг прийти без нее. И мечтать, как он купит еще одну печатку, другую, и выгравирует на ней свои инициалы, и тогда уже никогда не утратит ее по воле злых людей. Злых и завистливых людей Поля встречал всюду. И поначалу глубоко тронул мое сердце душераздирающими рассказами о тайных завистниках, недоброжелателях и просто бессовестных воришках, практически ежедневно лишавших Полю какой бы то ни было возможности заработать приличные деньги или хотя бы донести то малое, что ему, скромному труженику метрополитена, доставалось после того, как все поделили между собой сытые, нахальные начальники.
Поля был, под стать своему уменьшительному имени, субтильным, с неразвитой мускулатурой, но высоким и очень быстрым и резким в движениях. На лице у него волосы росли плохо, Поля мог спокойно не бриться неделю, хотя, судя по паспорту, уже давно справил свое тридцатилетие. Но зато на спине у него клочками росла почему-то темно-рыжая и довольно длинная шерсть. Из-за крупного носа и черных прямых маслянистых волос с необычным медным отливом его часто принимали за грека или цыгана… Кто он был на самом деле, я так и не успела узнать. Мне он казался похожим на героя индейских мифов, внешне похожим, если героя не кормить года два и не разрешать ему скакать на коне и заниматься тяжелой физической работой…
Однажды я решила сделать ему сюрприз и приехать встретить его после работы. Вместе доехать домой, по дороге пообщаться… А то почему-то выходило так, что приходя с работы, Поля был настолько уставший, что не мог ни слова со мной сказать. Разложит карты или домино — я еще до свадьбы знала, что он очень любит разные игры — посмотрит на меня, вздохнет, сметет все длинной, мосластой рукой на край стола и ляжет спать. Поля мог проспать двенадцать часов кряду, а то и больше. Он уставал — под землей, без воздуха, тяжелая, ответственная работа… Поля работал диспетчером на станции «Тульская», отправлял поезда.
И вот я, взяв с собой бутерброды с его любимой белой рыбкой и баночку финского пива «Кофф», которую специально для Поли попросила у папы, поехала на станцию «Тульская». Очень странно, но никто не знал там ни Аполлона, ни Полю Сучкова. И в полностью автоматизированной диспетчерской работала только одна женщина-техник, следила за тем, чтобы все компьютеры были включены и работали…
Я вернулась обратно домой. Поля уже лежал на диване и недовольно поглядывал на меня, пока я неторопливо раздевалась, думая, как же начать трудный разговор. Как следует рассмотрев, что я очень привлекательно одета (он разрешал мне одеваться так только на выход с ним), и заметив, что я достала из сумки баночку редкого пива, Поля рванулся с дивана и, не очень хорошо нацелившись, врезал мне кулаком в лицо. Как он говорил потом, он целился в пиво, а попал мне прямиком в челюсть. Почему уцелели зубы — остается для меня приятной загадкой, не хочу ее разгадывать. Возможно, все же, несмотря на несоблюдение мною ортодоксальных правил православия, мой ангел-хранитель летал тогда рядом и все, что мог сделать, это отвести Полину руку от глаз, куда явно метил Поля, и ослабить удар.
Со свернутой набок челюстью я пошла к папе. Папа взял было дедушкино фамильное ружье, с великолепным резным прикладом, из которого последний раз стрелял прадедушка на охоте как раз перед русско-японской войной, и хотел проучить Полю. Но я пожалела папу, уже зная хитрый и непредсказуемый нрав супруга. Могло произойти что-нибудь неожиданное, и ружье оказалось бы в руках Аполлона…
Кое-как мы с папой вдвоем вправили мне челюсть обратно. Я переночевала у него, а на следующий день решилась пойти домой, поговорить с Полей, предложить ему расстаться с миром, если так все сложно у нас получается. Вернее, не получается никак. Сворачивая к своему дому из папиного двора, я увидела, как из подъезда стремительно вышел Поля. Не знаю, почему я вдруг это сделала, но ни разу потом не пожалела о своем не очень красивом поступке. Я пошла за ним следом.
Поля сел в троллейбус, а я поймала машину и попросила водителя ехать за троллейбусом.
Поля доехал до метро. Я вышла из машины и, стараясь затеряться в быстро редеющей толпе пассажиров (было уже около двенадцати дня), вошла вслед за ним в метро. Поля доехал до станции «Беговая» и вышел. Я обратила внимание, что походка его была непривычно легкой и как будто радостной.
Я с трудом поспевала за ним, прячась за столбами и деревьями. Я даже не могла предположить, куда мы сейчас придем. У него есть любовница — это понятно. И что я узнаю — в каком доме она живет? Зачем? Но почему-то сомнения были не убедительные, и я продолжала идти за Полей, сама не зная зачем. За одним из домов он вдруг резко свернул вправо, вскинул голову, и я, не видя его лица, была уверена — он глубоко и радостно вздохнул. Так вздыхаешь, добравшись наконец до дома после длительной поездки, шестичасового ожидания самолета, долгой дороги домой по забитым машинами улицам…
Я сначала не поняла, куда он устремился, почти подпрыгивая на ходу, а когда прочитала слова на фасаде огромного, похожего на спорткомплекс сооружения, остановилась. «Ипподром». Ну конечно. Как же это я сразу не догадалась! Карты — покер, «очко» и просто «дурак», домино, совершенно неожиданные для такого взрослого мужчины «ножички»… Поля, испросив у меня разрешения, частенько резался сам с собой в углу коридора на паркетной доске в «ножички». Справа и слева у него лежали заранее заготовленные выигрыши, к примеру: двести рублей и бутылка пива справа — это Поля сам себе проиграл, триста рублей слева — это выиграл…
Но главное было здесь. Именно здесь «диспетчер метрополитена» выигрывал и проигрывал все, что у него было. А в среднем, по жизни, у него не было ничего. Где он жил раньше, до того, как переехал ко мне, он так и не собрался мне рассказать. «Ты будешь очень смеяться», — говорил он и смешно морщил лицо, становясь похожим на гуттаперчевую игрушку.
Покидая с большой неохотой мою квартиру и мою жизнь, Аполлон, похоже, хотел напоследок тронуть мне сердце тем, что надел пиджак, который подарил ему со своего плеча папа. В пиджаке этом Поля стоял в загсе на регистрации брака и в нем же и ушел. В папином пиджаке могли поместиться еще два таких Аполлона и застегнуться на все пуговицы.
Чуть позже обнаружилось, что в пиджаке Поля, ушедший демонстративно налегке — руки в карманах, унес все мои сбережения, к тому времени в твердой валюте составлявшие полторы тысячи американских долларов. «Ох, дочка, живем-то однова… — сказал мой папа и посоветовал мне плюнуть на Полю, на потерянные сбережения и поскорее забыть эти несчастные восемь месяцев, что я с ним прожила.
Сейчас он, если жив и на свободе, наверняка просиживает сутками в плодящихся со скоростью навозных личинок игровых клубах, но я этого, к счастью, никогда уже не узнаю.
Никто не понимал тогда, зачем я вышла за него замуж. Мне было двадцать пять лет, и мне уже просто очень хотелось выйти замуж, надеть кольцо на безымянный палец и, как большинство моих подружек, небрежно произносить «мой муж», «а вот мы с мужем…» Поэтому, наверно, я и не разглядела Полю.
Кольцо я сняла тут же, как только он, обиженно посвистывая, ушел, решительно оформила развод и забыла Аполлона Сучкова быстрее, чем когда-то влюбилась в него.
А потом пришел он.
…И упало небо, и остановилось солнце, и время потеряло свой смысл…
И сыпались звезды с моих ресниц, каждый день, каждую ночь…
Потому что в доме моем поселилась любовь. Я ее узнала сразу, я всегда знала, что она будет именно такой — бесконечной, безумной и совсем не похожей на все, что было раньше.
Он был остроумен, красив, удачлив, быстр на слова и решения. Он не был похож ни на Иванушку-дурачка, ни на древнего царя. Я даже не успела понять, на кого же из сказочных персонажей он похож, и помечтать, какими бы получились от него дети, как обнаружила, что уже два месяца живу не одна — во мне растет наш будущий ребенок.
Он вошел в мою жизнь спокойно и настойчиво. И прочно, надолго расположился в ней — была уверена я и все вокруг. Семь лет промчались, как один месяц. На какое-то время мои представления о любви, как о сплошной муке, были поколеблены. А потом вновь и окончательно утвердились. И смог это сделать он же, отец моих умных и красивых детей, тот самый, заболевший в день циркового представления, убежавший от нас с Лешей и Машей к юной диве с выпадающими пепельными волосиками.
Тот, кто был моим светом и моей нежностью, моей единственной настоящей любовью, ушел, не оглядываясь, к девушке, которую знал два с половиной месяца. Может быть, надо было лечь у порога и сказать: «Переступай!» или сделать что-то подобное. Но я просто молча помогла ему собрать вещи, только чтобы чем-то заняться, чтобы не умереть от боли. И первые полгода я ждала сама и не запрещала ждать детям, что он подумает-подумает и вернется обратно.
А потом случайно узнала, что у моих детей скоро появится сводный братик или сестричка… Значит, наш папа пустил корни в другом месте и надо, с некоторым запозданием, отпустить его по-настоящему, насовсем.
Это я все к тому, что цыганка из туалета на Кузнецком мосту тридцать пять лет назад наколдовала мне, ничего не подозревающей, ни в чем еще не виноватой и ждущей в маминых водах своей очереди увидеть этот замечательный свет, что-то такое, что я расхлебываю по сей день. Прямо как в детской сказке про спящую красавицу.
Иногда рано утром, наплакавшись всласть, пока дети спят, я думаю: а может, я, как мертвая царевна, она же спящая красавица, тоже просто сплю? И в этом долгом мучительном сне вижу всех придурков моей жизни, влюбляюсь в них, какое-то время думаю, что люблю, плачу, жду, прощаю их до бесконечности… А потом в один день прозреваю, смеюсь и ухожу, чтобы никогда больше не вспомнить?
И, быть может, одним солнечным весенним утром придет мой принц, настоящий принц, и поцелует меня. Я проснусь наконец и скажу ему:
— Как же долго я ждала тебя! Как же долго я спала…
А он мне ответит:
— Это я тебя искал так долго, полжизни, пока ты влюблялась и влюблялась в совершенно невероятных персонажей… Но это ведь все позади, правда?
— Правда, — ответила бы я, наперекор злобной цыганке, наперекор своей жестокосердной судьбе, разочарованиям и утратам, и одиночеству. — Правда! Пусть полжизни уже прожито, но, ведь может, осталось еще хотя бы столько же?..
Иногда, в минуты отчаяния, я думаю: жалко, что у той зловредной цыганки не хватило колдовской силы, чтобы вместо меня, здоровой и жизнерадостной, действительно родился какой-нибудь полуживой мальчик. Вот ему бы мою судьбу — с колдобинами, катастрофами и придурковатыми избранниками. Но мальчик бы точно не дожил до моего возраста. И не появились бы на свет мои прекрасные дети. Вот и думай — что было зря, а что совершенно правильно и закономерно в жизни.
— Мам, — оторвал меня от размышлений Леша. — Я тебя уже сто раз спрашиваю: кто этот человек?
— Где? — Я посмотрела на арену, куда показывал Леша, и никого не увидела.
— Да вот же он стоит! Ты что, мам! — Маленькая Маша тоже протянула ручку, настойчиво мне на кого-то указывая.
Я оглядела пустую арену, по которой катились большие серебристые шары, видимо оставшиеся от предыдущего номера.
Дети смотрели на меня, а я переводила взгляд с них на арену.
— Вы что, смеетесь надо мной?
Маша уже собиралась плакать. Леша нахмурил брови и стал очень похож на мою маму…
И тут я увидела. Тот, на кого они показывали, был на арене… И в то же время его не было.
— Видишь, да, мам? Видишь? — Маша первой поняла, что я его увидела, и даже захлопала в ладоши.
Я на мгновение перестала его видеть и тут же опять разглядела светлый, чуть мерцающий силуэт.
— Мам, только не отворачивайся! Если уже увидела… Ты же все прослушала… Это фокус такой. Кто увидит его, тот… — Леша не договорил, потому что человек на арене поднял вверх обе руки, и через мгновение в них засверкали блестящие ленты. — Это фокусник, мам, понимаешь! Самый лучший в мире фокусник… Здорово, правда?
— Здорово, — вздохнула я.
Свет изменился, и теперь было хорошо видно, что на арене стоит темноволосый человек в светящейся облегающей шапочке и абсолютно черной одежде, которую не видно при специальном освещении. Он поклонился и руками стал притягивать к себе шары. А в это время на арену вышли клоуны. Большой в полосатом костюме нес на голове громадный разноцветный куб. Тоненький, похожий на Павлика, крутил в руках красную веревочку и сам спотыкался об нее. Рыжий подпрыгивал, стараясь сбить куб с головы большого, и хохотал. Ему очень шел пышный белый бант под подбородком, съехавший набок.
А вот и мой, крепенький, с оттопыренными ушами. Он подошел к фокуснику и одним ловким движением руки проткнул все его серебряные шары. Рыжий клоун засмеялся, мой стал кланяться во все стороны, а фокусник широко развел руки, постоял так секунду и хлопнул в ладоши. Зал ахнул. Я почувствовала, как вздрогнула прижавшаяся ко мне Маша.
Арена была пуста. По полу медленно катился один серебряный шар, который не успел проткнуть чем-то острым клоун с оттопыренными ушами. Чуть подальше валялся куб с разноцветными гранями и лежала красная веревочка, на которой был привязан большой белый бант. Фокусник сдержанно поклонился и под лирическую музыку с прозрачным звоном колокольчиков ушел за красный бархатный занавес в кулисы.
— Мам, а где они все? — громким шепотом спросил Леша. Маша просто сидела с округлившимися глазами и все смотрела на опустевшую арену.
— Они исчезли, — тоже шепотом ответила я.
— Насовсем? — спросила Маша.
— Не знаю. Думаю, что да…
Мне понравился фокус. Только было немного жалко, что я больше не увижу крепенького, с оттопыренными ушами, клоуна. Он так забавно улыбался и подмигивал в нашу сторону, как будто знал самый большой в мире секрет — про меня лично.
Но еще больше мне понравился сам фокусник. Хотя я и не разглядела его лица. Но я почти уверена, что он очень симпатичный, сероглазый и еще не старый. Лет тридцати пяти… Или сорока… Или, на худой конец, сорока пяти… Думаю, что он любит маленьких детей и никогда не побежит без оглядки за первой встречной, даже если у нее будет то самое мощное оружие, которым я никогда толком не умела пользоваться, пока оно было у меня у самой, — брызжущая светом и прекрасными надеждами молодость.
Он вряд ли женат. Вряд ли. Скорей всего, он всю жизнь придумывал фокусы и просто не успел жениться. Забыл. Или не встретил прекрасной принцессы, измученной сказочными принцами до такой крайности, что она уже и перестала ждать и надеяться. Перестала смеяться в цирке, танцевать под веселую музыку и верить в чудеса. А вот он как раз такой фокус и придумывал всю жизнь. Специально для той, что сносила семь пар башмаков по дорогам слез.
Формула К.
Не знаю, как поступить. Я не знаю, что ответить тому, кого столько лет любила и ждала. Как странно. Вот он наконец и сказал те слова, или почти те… А я… Я уже на двенадцать лет старше той девушки, которая когда-то не могла жить без него.
Конечно, лучше поздно, чем никогда. И французы так говорят, и англичане, и немцы, и, мы, русские, само собой. Как раз успеешь семь раз отмерить, пятьдесят семь — обсудить с соседями и подружками, чтобы один раз ка-а-ак шарахнуть! И промахнуться…
Я вела машину и думала: если серьезно, то раз у нескольких наций есть одинаковая пословица — значит, это общечеловеческая или хотя бы общеевропейская мудрость. Интересно, говорят ли так на Востоке? Японцы, скажем? Нашей, европейской, культуре лет меньше, некоторые вещи мы воспринимаем еще по-детски… И все же надо, наверно, последовать этой мудрости. Даже если японцы не считают, что, опоздав на много лет, стоит все-таки заходить туда, где тебя ждали-ждали и ждать уже перестали. У кого бы спросить, кстати, — про японцев? Хотя и мои славянские предки за полторы тысячи лет обозримой истории наверняка лучше узнали жизнь, чем я за свои тридцать семь…
Просто я действительно давно перестала его ждать, я уже построила свою жизнь без него. Да, мне, конечно, хотелось бы, чтобы Ваня видел отца каждый день, а не раз в две недели — чаще не получается то у нас, то у него. И, если честно, мне самой много лет подряд хотелось здороваться каждое утро с очень любимым, единственным человеком, а не провожать его тайком от Вани. И не встречаться тайком от него с не очень любимым, но верным другом Кириллом Сергеевичем… Но теперь, когда он решил в очередной раз переделать и свою жизнь, и мою, я не знаю, как мне быть. Сколько уж раз он принимался за новые программы…
Была, например, программа «Молодой холостяк», окончившаяся когда-то встречей со мной. Он долго не мог понять, что с ним произошло, отстаивал принципы, сопротивлялся… А потом вдруг в один день понял. Разработав за ночь программу «Женюсь, чтобы создать семью!», он пришел ко мне очень счастливый и вовсе не побежденный. И рьяно принялся за подготовку свадьбы и семейной жизни, пригласил на празднование начала совместной жизни даже мою учительницу музыки, давно переехавшую в другой город.
Потом была программа «Живем один раз», она же — «Холостяк средних лет». Она несколько подорвала его здоровье, поэтому года через полтора-два сменилась программой закаливания организма и общего оздоровления духа и тела.
От очищения организма Ванин папа плавно перешел к жесткой экономии средств, с подсчетом каждого истраченного рубля и записью в большом гроссбухе, с которым он не расставался ни на секунду, записывая даже то, что ему лишь пришло в голову купить или сделать, потратив на это деньги. От этого он совсем затосковал, бросил считать деньги, объявив, что дело это не русское, противно душе и вскоре утвердился в программе «Я — русский!», резко войдя в сокровенное лоно православия с помощью строгих постов и ежедневных молитв. Я пропустила момент, когда произошла резкая смена курса, и он, вдруг вспомнив своего ростовского дедушку Фиму, увлекся приобщением к глубине еврейской культуры, что сопровождалось полным отказом от традиционных русских продуктов и привычек питания.
Соответственно, недолго продержалась программа приобщения к глубине русской культуры, включавшая в себя насильственное, мучительное чтение неторопливых, многотомных классиков… Но зато уже сравнительно долго держится курс «Я — европеец!», с посещением спортивных клубов три раза в неделю, вложением текущих мимо нас с Ваней средств в европейские банки и поеданием огромного количества суши — сыросоленой рыбы, облепленной рисом. Да, кушанье японское, но вся Европа сейчас ест суши, для продления жизни. Гораздо проще надеяться на продление жизни, съев что-то, а не заставив себя воздержаться. А был когда-то один китайский император (кажется, самый великий, который построил Великую китайскую стену), так он ел небольшими порциями ртуть и мышьяк — из тех же соображений: очень хотел жить вечно. Умер в сорок восемь лет от острой сердечной недостаточности…
Была у Ваниного папы и знаменитая программа «Дачник в Эквадоре». Он сдал свою квартиру, попросив меня присмотреть за жильцами и регулярно забирать у них квартплату, часть из которой разрешил мне тратить, а остальное попросил ежемесячно отсылать ему в Эквадор. Там он снял очень недорого двухэтажный домик, с прислугой. Денег хватало и на жизнь, и на увеселения. Через три месяца он вернулся, страшно испуганный, и побежал сдавать какие-то анализы. После этого долго ходил в темных очках и не ел ничего соленого. Чем он болел, он так и не сказал, но я с тех пор старалась близко с ним не общаться. И вот на тебе — опять двадцать пять…
— Мам! А сколько будет к двум прибавить двадцать? — прервал мои размышления Ваня, маявшийся на заднем сиденье машины.
Он уже прослушал все сказки по дороге с дачи, теперь выключил свой собственный дорожный магнитофон, отложил его и по моему совету смотрел в окно. Но ведь это взрослый человек может долго созерцать и находить в том удовольствие. Да и то не каждый.
— Двадцать два… — машинально ответила я.
— А к трем? Что к трем? Тоже прибавить двадцать? — Я посмотрела на сына в зеркальце заднего вида. Он кивнул. — Двадцать три.
— А к четырем?
Я не успела ответить. Машина, ехавшая передо мной, безо всякого предупреждения вдруг резко сбавила ход и начала сворачивать влево, хотя не было ни перекрестка, ни прерывистой линии для поворота во двор. Я еле-еле успела затормозить и вильнуть в сторону и все-таки на полной скорости чуть задела его бампером. Услышав характерный звук и почувствовав слабый удар, я остановилась, посмотрев назад. Хорошо, что сзади никто не ехал… И не просто хорошо, а удивительно. Машин еще полно, восьми вечера нет.
Бампером своего огромного джипа, белого, грязного, мордатого, я задела ярко-синюю чисто вымытую малышку «Оку»… Миниатюрное авто остановилось. Я, разумеется, тоже, и ждала, пока незадачливый водитель выйдет из своей машины. Мне-то что — у меня все застраховано по самые уши. Машину подарил нам с Ваней наш мастер программ по переделке жизни и ее продлению до полной бесконечности, а страхую ее раз в год я сама. Вот уже третий раз отдаю около полутора тысяч долларов, чтобы в случае чего не отдать пять.
Из «Оки» вышел мужчина приблизительно моих лет, в легкой ярко-желтой куртке и, обойдя свой автомобиль, покачал головой — вмятина на его крыле получилась приличная. Потом он подошел к моему окну. Я приветливо кивнула, опустив полностью стекло.
— И что вы скажете? — показал он на вмятину.
— Мигать надо, когда поворачиваете, вот что я скажу, — миролюбиво ответила я, глядя на него и понимая, что я знаю этого человека, причем очень хорошо. Только… только не знаю, откуда… — И не поворачивать в неположенном месте…
— А я не мигнул? — почти утвердительно спросил он, тоже заинтересованно разглядывая мое лицо.
— Не мигнули, — подтвердила я. — И решили поворачивать на сплошной линии.
Я все смотрела на незадачливого хозяина «Оки», пытаясь вспомнить, где же я его видела раньше. До невозможности знакомое лицо. Сосед… Нет, не сосед… Что-то из прошлого… Как зовут, убей, не помню… Интересно, может, он меня вспомнит?
— Да я забыл, что мне в магазин надо. А тут разворот так далеко…
— Ну, ясно… Так что, милицию будем вызывать или обойдемся?
Он вздохнул.
— Настена… Коростылева. Ну, тебя не узнать. Хотя в общем ты такая же… А я — Каштанчик. Лева Каштанов. Не узнала?
— Левка!
Ну конечно же, это был Левка Каштанов, одноклассник, мы с ним десять лет учились в одном классе. Просто к сорока годам все так меняемся…
— Настена… — Он опять вздохнул, посмотрел на мою машину, потом на свою. — Ты, небось, вся застрахована?
— Ну да, — сдержанно ответила я.
Мне совершенно не хотелось вешать на свою страховую компанию чью-то безалаберность. Одно дело, если виновата я. Но я так стараюсь, чтобы не нарушать…
— Не включил я поворотник, говоришь, да? Я часто не включаю… Слушай, давай отъедем. А то народ уже начал собираться…
Действительно, мы перегородили и без того узкую дорогу, и машин семь-восемь с трудом пробирались по половинке оставшейся полосы. Мы отъехали дальше, и я попросила Ваню:
— Ванюша, я встретила одноклассника… Выйди тоже из машины, подыши, пока мы поговорим, хорошо?
— Ты его не встретила, а врезалась в него, — недовольно проговорил Ваня.
Я прекрасно знала — он недоволен тем, что я собираюсь разговаривать с незнакомым мужчиной. Ваня терпеть не может, если в нашей жизни появляется кто-то, хоть чем-то похожий на возможного соперника. Не Ваниному папе, а ему самому. Мама принадлежит Ване, полностью, до конца. «Ты моя, ты не своя» — придумал он как-то милую фразу и с тех пор ее с удовольствием повторяет. Цена этой детской узурпации давно известна: когда малыши, вырастая, вдруг резко высвобождаются из кокона маминой опеки и любви, делая нестерпимо больно растерянной мамочке и тут же теряясь во враждебном, незнакомом мире, где все оказывается несколько иначе, когда тебя больше не держит надежная мамина рука. Поэтому я всячески стараюсь не потакать Ваниному трогательному эгоизму.
— Ванюша, выходи. Заодно посмотришь, сильно ли я врезалась. Расскажешь потом всем: бабушке с дедушкой, папе…
Левка уже стоял на тротуаре и ждал, пока выйдем мы с Ваней. Я мимоходом отметила, что он вполне прилично выглядит — ни сильных залысин, ни мешков под глазами, ни огромного живота…
— Что смотришь? — усмехнулся он. — Наверно, думаешь, Левка совсем неудачник, если гоняет на «Оке»?
— Да прямо! Я смотрю, сильно ли ты постарел, и как раз думаю, что не очень. Всегда страшно встречать одноклассников, которые плохо выглядят. Сразу думаешь — вот, наверное, и я такая же. Возраст ведь тот же.
— Так ты же была самая младшая в классе, — засмеялся Каштанчик.
— Ага… на полгода… Когда-то это было большой разницей в возрасте.
Слушай, да и не так уж сильно бок помят… — деликатно заметил Левка, разглядывая свой аккуратный автомобильчик. — Да я, знаешь, как задумаюсь… У меня вообще-то у самого хорошая машина была… Разбил в прошлом году. «Форд», не самый новый, правда… Вот я на нем и подрезал одного Шумахера. Сам еле жив остался. Выплачиваю ему теперь, потому что там тоже я виноват был, задумался, не заметил, что светофор повесили… Всю жизнь там езжу, никакого светофора отродясь не было… — Левка засмеялся, я же покачала головой, радуясь, что с таким водителем не лоб в лоб встретилась. А он продолжал: — «Форд» мой, говорят, и не починить. Стоит в гараже — весь всмятку. Надо собраться с духом да на свалку оттащить. Вот купил на первое время малолитражку… Мне Нельку мою надо на чем-то возить. Не в электричке же ей, бедной, трястись на дачу…
— Ясно, — кивнула я. Значит, Левка наконец женился. Сколько я помнила, девчонки всегда говорили, что он самый последний из класса все в холостяках ходит, весь в науке. Некоторые успели уже и по второму разу жениться и развестись, а Каштанчик только все собирался и вот, выходит, собрался. — А чем ты вообще занимаешься? Ты же, кажется, физтех заканчивал?
— Ну да… Заканчивал… Занимаюсь… — Левка закинув голову, взъерошил волосы и улыбнулся. — Настена! Такой у меня проект сейчас!.. Э-эх! Рассказать — не поверишь! Если нормально сделаю и продам… Вот по такой суперинвалидке смогу всем нашим учителям подарить на следующий Новый год!.. — Он кивнул на свою «Оку».
Я заметила, что в глазах его появился характерный блеск, предшествующий у мужчин рассказам о том, как надо правильно ловить карася или чем отличается карбюратор от инжектора, или же — и это самый страшный для меня рассказ — как прошла последняя футбольная игра наших с голландцами…
— Да ладно… — Я краем глаза посмотрела на Ваню, скучающего рядом. Что ж, так и нет никого вокруг, ни одного нормального мужчины, на которого можно показать и сказать сыну: «Вот, Ванечка, смотри, какой он молодец, какой хороший человек, умница, труженик, порядочный… Не пьет запоями, не дерется, не меняет жен к каждым майским праздникам, не ворует, не наживается на бедах и слабостях людских, не лентяйничает, не болтает, не сплетничает, не завидует чужому успеху, не носится полжизни с наполеоновскими планами и невыполнимыми прожектами, забывая при этом смотреть на светофоры и дорожные знаки…»
— Правда-правда! Вот расскажу тебе, сама скажешь…
Я вежливо ответила Левке, думая при этом, что встречу одноклассников пора сворачивать:
— Молодец, весь в науке, значит…
— Ну да… А ты?
— Я занимаюсь дизайном и ращу Ваню. Вот сейчас думаю, выходить ли замуж за его папу или нет.
Сама не знаю, зачем я это вдруг сказала. А Левка неожиданно заинтересовался:
— Да-а? И что? Сомневаешься? Есть варианты?
— Ох, Лёв, да не то слово! Наш папа сам по себе — вариант… В том смысле, что у него семь пятниц на неделе…
— То есть ты не можешь решить, как тебе поступить, точно? — продолжал допытываться Левка.
Я почувствовала в его любопытстве какой-то особый интерес.
— Не могу. А что?
— Слушай, Настен… Ты понимаешь, я ведь… Сейчас я тебе все объясню. А вы вообще куда ехали?
— Вообще — с дачи домой. Почти уже приехали.
— Да? А я тут тоже недалеко живу… Не хочешь зайти ко мне в гости?
Я посмотрела на Ваню и представила, как он весь истоскуется в гостях.
— А у тебя дети есть? — спросила я Каштанчика.
— Дети? — почему-то засмеялся он. — Детей нет.
— Ну, тогда Ване будет очень скучно. Да и устал он… Да, Ванюша?
Ваня ужасным взглядом посмотрел на Каштанчика и отвернулся, прижавшись ко мне.
— Ну, ясно. Лёв, давай как-нибудь в другой раз…
— Подожди, — заторопился Левка, — ты просто не поняла. Я знаешь чем занимаюсь? Я разрабатываю формулу вероятности… Ну, как тебе это объяснить…
— А что тут объяснять? — вздохнула я. Я прекрасно помнила, что учился-то Левка очень средне, даже странно было, как он попал в физтех. — Все понятно. Есть теория вероятности, ее сформулировал Эйнштейн, а ты решил теперь вывести единую формулу. Что-то в этом роде, да?
— Точно! — обрадовался Левка. — Я делаю компьютерную программу, практически закончил уже, которая позволит смоделировать любую ситуацию — производственную там, финансовую или жизненную. Вот, к примеру, ты сказала, что не знаешь, как поступить… А хочешь посмотреть, что будет, если ты выйдешь замуж? Или не выйдешь…
— А как же — хаотичность, случайность? Фактор третьих лиц…
— Ага, читала, значит, да?
— Ой, Лёв, чего я только ни читала, маясь с Ванькой в песочницах! Ну что, Ванюша, давай-ка мы пойдем домой. А к дяде Леве я потом съезжу одна. Постараюсь разобраться в его компьютерных программах, может, мне это тоже в работе пригодится.
Пусть он сам к нам приходит. И с женой, — хамовато ответил Ванюша и отошел к нашей машине.
— Левка, извини, он меня очень ревнует. Давай так: я его завтра или когда мы с тобой договоримся, отвезу к бабушке с дедушкой, а сама с удовольствием приеду к вам. Жена не будет против? Как, ты сказал, ее зовут? Неля?
Левка усмехнулся.
— Ну да… Вообще-то она Леонелла… гм… по паспорту…
— Не русская, что ли?
Он покачал головой.
— Не русская. Девушка она у меня австрийская, но вполне милая и без лишнего гонора.
— Да что ты! Повезло. Ну, покажешь, похвастаешься! Расскажу потом девчонкам, что Левка Каштанов женился на австрийке и возит ее на «Оке» последней модели. Ты не слышал, кстати, — американцы хотят запустить линию «Оки», как пятую или шестую машину в семье. Только надо поменять двигатель, тормозную систему, сделать потолще корпус и побольше колеса… В общем укрупненный американский вариант нашего позора…
Левка, улыбнувшись, протянул мне визитку.
— Ну и ладно, их соевые котлеты еще позорнее наших машин… Вот, смотри, тут все мои телефоны. И всегда все включены. У меня два мобильных. Потому что один я все время теряю где-то…
Я посмотрела на одноклассника. Он на самом деле удивительно хорошо сохранился. У меня даже возникло ощущение, что он младше меня лет на десять. Стройный, лицо гладкое, глаза ясные… В светлых, чуть рыжеватых волосах ни одного седого волоска, и паклей не торчат, что обычно является первым признаком грядущего облысения… Не мудрено, что какая-то австрийка на него позарилась. Хотя надо посмотреть, конечно, что это еще за австрийка, может, стопудовая девушка какая-нибудь… Я остановила свои завистливые мысли.
— Лёв, а у тебя степень научная есть?
— А то! Я уж два года как доктор… — Он улыбнулся.
Я успела заметить хорошие, крепкие зубы. Ну почему такие юноши всегда или не нашей ориентации, или иностранкам достаются? Кстати, а в классе Каштанчик красавцем отнюдь не считался — и откуда что берется…
— Ты — молодец.
Брось! — Левка махнул рукой. — Просто сейчас это не так сложно, как раньше. На Западе наши дипломы и степени — сама понимаешь… Подтверждать по три года нужно, что ты на самом деле синус от косинуса отличить можешь… А здесь они дают прибавку аж четыреста рублей к зарплате… Поэтому такой грызни, как раньше, теперь не бывает. Тема есть, идея есть, возиться охота с формальностями — иди, ради бога, защищайся, тешься… , — Ма-ам… — подал голос удивительно долго молчавший Ваня. Думаю, он тоже слушал Каштанчика. На самом деле он слишком мало общается с мужчинами, вот поэтому я и не гоню его папу со всеми его ум за разум заходящими предложениями. — Я устал…
Левка чуть наклонился, чтобы заглянуть в лицо отвернувшемуся, но исподлобья поглядывавшему на него Ване:
— Ты прости… Мы просто сто лет с твоей мамой не виделись. Настен, в общем, ты звони и приходи обязательно. Давай прямо завтра. Сможешь?
— Я постараюсь, Лёв. Мне самой интересно.
Мы распрощались с Левкой и поехали домой. Ваня был грустный. Я отнесла это на счет его ревности и усталости. Но когда он отказался от ужина, я затревожилась.
— Вань, ты как себя чувствуешь? Он вздохнул:
— Хорошо.
Обычно Ваня на такой вопрос отвечает: «Йес!», и я успокаиваюсь.
Я потрогала его лоб и ахнула.
— Что болит?
— Ничего… Горло немного щекочет…
— Ты же на даче пускал кораблики в ледяной воде!.. В бочке… Руки по локоть мокрые были, а на улице-то холодища какая… Ах ты, Господи…
Я быстро достала градусник, измерила ему температуру. Ну, естественно — тридцать восемь и пять.
— Ложись, пожалуйста, Ваня…
Несколько дней мы боролись с ангиной. Весь дом мгновенно заполнился чашками с полосканием, пузырьками с каплями. Я заставляла бедного Ваню пить кислые морсы и компоты, промывала ему нос морской водой, грела солью, вечером мы парили ноги и ставили горчичники. Как обычно, я боролась с Ваниной простудой так, чтобы в следующий раз неповадно было — ни простуде, ни ему…
Про Левку Каштанчика я не то чтобы забыла, а все думала: «Вот сейчас позвоню… Нет, вечером… Да ладно — завтра утром, все равно непонятно, на какой день договариваться…» Ему-то я телефон свой не дала, поскольку была уверена, что позвоню сама.
Приходил два раза Ванин папа, приносил фрукты и игрушки, заглядывал мне в глаза и пытался ненароком ущипнуть за бочок да прошептать на ушко что-то очень смешное про возможные способы интимного общения, чего я никак не понимала, но он сам смеялся и розовел от предвкушения. А я тоже очень внимательно смотрела ему в глаза, чтобы понять, какого цвета у него белки — белого, желтого или красного… И не гноятся ли они. Потому что я могла и пропустить момент, когда программа «Наконец женюсь на Настьке!» сменилась курсом «Гуляю по полной!» — со всеми, кто тоже весел и полон задора… Среди них могут попасться и совершенно непонятные девушки, ветерком занесенные с берегов далеких стран, куда без восемнадцати прививок не пускают… Да и наши — тоже, очень разные бывают, те, что с задором-то… Или без смены курса, в рамках все той же матримониальной программы, наш легкий на подъем папа мог смотаться на прощальный «мальчишник» в Таиланд или индийскую провинцию Гоа и вернуться оттуда с полным букетом заморских бактерий.
Тут же сильно забеспокоился мой не очень любимый друг Кирилл Сергеевич, который все мои материнские обязанности всегда воспринимал как отлынивание от романтических свиданий. И сейчас, поняв, что я пропускаю давно подаренный ему для утех и его неиссякаемой с годами нежности четверг, взялся непрестанно звонить и тем не менее настаивать на встрече.
А потом Ваня благополучно выздоровел, и как раз подоспели следующие выходные. Погода была очень средняя для мая — прохладно, ветрено, накрапывал по несколько раз в день дождик. Мы взяли побольше продуктов, пару фильмов, мой ноутбук и Ванину новую книгу сказок и отправились на дачу. Мне надо было закончить-таки заказ, который я обещала на работе сделать еще неделю назад.
На даче мы прекрасно провели два дня. Топили печку ароматными березовыми полешками, горящими легко и без дыма, я с удовольствием работала, Ваня читал, играл, незаметно перебираясь за мной из одного места в другое, и совершенно неожиданно, первый раз в жизни помог мне приготовить обед. А когда мы возвращались в воскресенье вечером домой, по той же дороге, что и в предыдущий раз, я вдруг вспомнила, как недавно помяла здесь однокласснику машину. И как он обещал помочь мне разобраться в моей непростой личной ситуации…
Я, конечно, не очень верила, что кто-то может мне дать правильный совет. Потому что, когда не знаешь, чего ты хочешь на самом деле, очень трудно последовать какому-то совету. Так что же мне может подсказать другой человек? Который не знает, как скучно мне бывает с Кириллом Сергеевичем в те недолгие часы, что мы проводим вместе, и как одиноко и страшно иногда становится в праздники, когда все куда-то едут, спешат… И мне кажется, что все едут в большие дома, где много детей, благожелательных родственников, где все смеются, никто не болеет, никого ни в чем не упрекает… Что может посоветовать человек, никогда не провожавший Ваниного папу до завтра и не сидевший в ожидании этого завтра неделю, две, месяц…
Как может понять мужчина, даже доктор наук, что чувствует девушка, когда в загс вместо жениха приходит его друг Боря и предлагает обмыть «это дело» — где-нибудь подальше от загса и приглашенных родственников, знакомых и учительницы по музыке, специально приехавшей на свадьбу из Керчи… Это было очень давно, в другой жизни, как будто бы не со мной. Как будто… И повторения этого я не хочу.
Не доезжая до своего дома, я позвонила Каштанчику Он ответил сразу и, похоже, очень обрадовался моему звонку.
— Настена! Пропала!.. Я уж думал, не позвонишь. Хотел даже кому-нибудь из наших звонить, телефон твой спрашивать… Ну как ты, решилась?
— Лёв, а что, если я сегодня вечером приеду? Это ведь недолго?
— Нет… Часа два максимум… Фотографий возьми побольше, разных, чтобы там были… гм… все участники эксперимента…
Я посмотрела на часы. Было около семи. Поздновато, конечно. Но если мама с папой дома и возьмут Ваньку… Я позвонила родителям, мама стала ворчать, что отец плохо себя чувствует, но Ваню привезти разрешила.
Каштанчик жил в новом, не очень дорогом доме. Он не был огорожен, в подъезде не блестели мрамором стены и не стояли кадки с мясистыми фикусами и разлапистыми монстерами, но все равно чувствовалась разница с хрущевскими и брежневскими строениями для бедных. Все чуть выше, шире, просторнее…
Левкина квартира оказалась на седьмом этаже, и при большом желании из его окон можно было разглядеть и наш сталинский дом, когда-то очень хороший, а теперь известный во всей округе тем, что в соседнем с нами подъезде в прошлом году люди что-то праздновали и во время веселого танца провалились этажом ниже, прямо на стол со скромной закуской отставного полковника и его жены… Никто не убился насмерть, но все очень испугались и поранились.
Левка развел руками:
— Только извини, Настена, у меня такой бардак… Места много, вот я и бросаю все куда попало… Потом ищу…
Я протянула ему свою куртку и осмотрелась. Да, другой дизайнер бы схватился за голову, а мне даже понравилось. Полное отсутствие стиля — это тоже стиль. Некоторые изо всех сил .стараются достичь подобного: кружева, спадающие на солдатские сапоги, классическая мебель с обивкой в мелкий горошек на темно-зеленом атласе, освещаемая геометрическими светильниками из белого металла. Вот что-то вроде этого и было в квартире у Каштанчика.
Я не сразу заметила большую рыжую собаку, молча лежавшую на подстилке в углу прихожей и смотревшую на меня выразительными темно-коричневыми глазами.
— Познакомься, Настена, это Леонелла. Собака невероятно умная и преданная, австрийская гончая. Понимает любые, самые сложные слова. В отличие от жен… Я правильно говорю? — Он оглянулся на собаку. Та два раза стукнула хвостом по подстилке, потом встала, подошла ко мне, обнюхала и вернулась обратно.
— Она старая, да? Такая спокойная… Не вскочила, когда я вошла… Голоса даже не подала.
Нет, ей всего три года. Просто у нее такой характер. И она страдает в квартире, это же охотничья порода. Когда на улицу выходит — несется, как ветер… А дома у нее тоска. И потом, я ж ее предупредил заранее: «Цыц, Нелька, важные гости идут!» Ну, ты проходи, проходи… У меня, видишь, везде кабинет: и там, и здесь…
Мы прошли в просторную комнату, где стояли два монитора, отдельно висел большой жидкокристаллический экран на стене, и я заметила несколько процессорных блоков на полу, опутанных кучей проводов. Кроме этого, в комнате было три черных крутящихся стула и стол.
— Вот, главная лаборатория… Присаживайся. Лучше вот сюда. — Каштанчик подкатил мне стул, а сам сел напротив. — Ну, давай, теперь рассказывай. Точнее, ответь мне на несколько вопросов… Я уже сделал болванку, пробный сценарий для тебя… — Он заметил мой недоуменный взгляд и пояснил: — Ты не вдавайся, не вдавайся… Это так… Тебе надо только по возможности поточнее ответить на мои вопросы, я все это введу в программу, и потом мы посмотрим… что да как.. — Он взглянул на меня. — Поняла, да? Ответить искренне и точно…
Говоря это, Каштанчик быстро щелкал мышью, открывая какие-то файлы. Я успела увидеть слово «Версии А».
— А версии «Б» есть?
— Что? — Левка на секунду оторвался от монитора.
— У тебя там было написано «Версии А»…
Левка засмеялся.
— Это версии «Автомобиль». Я их для себя делал, когда «форд» разбил. Не обращай внимания. Вот, например, «Версии П»… Это я пытался просчитать, кто будет следующим Папой Римским…
— Просчитал?
— Почти. — Левка открыл какую-то картинку и тут же закрыл ее. Я увидела смеющееся лицо не очень молодой блондинки. — Так, это тебе не надо… это ерунда… Вот. Ну что, Настена Коростылева… Ты фотографии, кстати, принесла?
— Конечно. — Я протянула ему папку с фотографиями. На всякий случай я взяла даже фотографию Кирилла Сергеевича, с его интеллигентной, терпеливой женой и двумя взрослыми сыновьями.
— Но ты не за него, надеюсь, замуж собираешься? — сразу выделил чужого Каштанчик, показав на моего не очень любимого друга.
— Нет, конечно. Ванин папа вот.
— Ваня — милый мальчик. На тебя очень похож, — ответил Левка бестактно.
Он, наверно, не знал, что женщинам — и замужним, и особенно не получившим документального подтверждения своей порядочности в виде официальной регистрации интимных отношений, нужно говорить, что ребенок похож на отца, даже если он копия матери.
— А я вот начал ощущать какое-то беспокойство оттого, что у меня еще нет детей… — продолжал Левка, не глядя на меня и быстро вводя какие-то длинные формулы после того, как на мониторе появлялось изображение каждой фотографии. — Ну ладно. Так… Сейчас мы их все подряд отсканируем… Какая ты здесь красотка… Тебе идет ездить на верблюдах… Лицо такое светлое… Так, сейчас мы верблюда уберем, а лицо оставим… Опять Ванин папа… И опять ему, похоже, плохо отчего-то… — Левка перебрал оставшиеся фотографии. — А больше никого у тебя нет? Ну, то есть… мужчины какого-нибудь… Может, из прошлого? Хорошо бы для равновесия хотя бы еще одну персону. Для вариантности…
— Нет, Лёв, извини. Если кто и был, то это было давно и случайно. И уж фотографий точно не сохранилось.
— А в школе тебе нравился Димка Муренов. Помнишь? Чем только он тебе нравился, непонятно…
— Он был красивым и загадочным, Лева. И он мне не просто нравился — я была в него влюблена…
— Ну вот, тогда давай мы Димкину фотографию тоже подключим. У меня есть, со встречи класса, когда ты не пришла, года три назад…
Левка быстро пощелкал мышью, и я увидела на мониторе фотографию полноватого, лысоватого дядьки с небольшими прищуренными глазами и скошенным в ухмылке на одну сторону ртом.
— Это кто?
— Это твой Муренов… Вот рожа, да? — Очень довольный, Левка увлеченно щелкал мышью и начал быстро что-то набирать на клавиатуре.
— Лева, убери, пожалуйста, Муренова, — негромко попросила я. Черт, а ведь это только начало. Вряд ли я вообще сейчас услышу что-то приятное… И увижу…
Левка обернулся ко мне:
— Что? Не нравится? А помнишь, как ты не пошла со мной в театр в пятом классе? Мама моя взяла билеты, договорилась с твоей… А ты мне сама позвонила и сказала, что Димка Муренов тебе обещал показать коллекцию бабочек.
Я с удивлением смотрела на Левку.
— Нет, Лёв, если честно — не помню. А зачем твоя мама взяла для меня билет?
— Затем… — Левка ловко соединил две фотографии из разного времени, и я увидела, как я за мгновение стала чуть старше. — Затем, что ты мне нравилась. Не знала?
— Нет, конечно…
Левка засмеялся:
— Ладно! Это было — сто лет в обед… Так, пока я буду тут загружать и перезагружать, ты мне скажи вот что: ты этого кренделя любишь, Ваниного папу?
— Ну… — я вздохнула. — А это важно, да?
— Коростылева! — Левка крутанулся на стуле и подперся руками, глядя на меня своими очень ясными серыми глазами. — Я — доктор физико-математических наук, ты в курсе? Я даже не психолог. Мне нужны точные величины, числа, понимаешь?
— Не очень. А как ты запишешь в числах, что я, допустим, м-м-м… не знаю теперь, люблю ли я Илью…
— Илья? Его зовут Илья? Ты мне еще не говорила… Так, ясно… А чтобы объяснить тебе, каким образом я это запишу, тебе придется, как минимум, прослушать курс теории математических случайностей…
— А есть такой? — удивилась я. На самом деле, я много читаю и люблю журналы вроде «Знание — сила», где можно, не обладая предварительной подготовкой, узнать новости астрономии, археологии, высшей математики, психологии…
Нет — так будет, — ответил мне Левка, по-прежнему с невероятной быстротой перебиравший пальцами по клавиатуре. — Здорово… — прокомментировал он что-то, что выскочило у него на экране. — А если так? Нет, это не для нас… Ладно. И еще скажи: а Ваня его любит? Илью вашего?
— Сложно, Левка. Это сложно. И любит, и обижается — за меня, за себя…
— Ясно… А он, кстати, богатый?
— Временами бывает.
— А в промежутках?
— У него папа — бывший зам. министра иностранных дел, так что совсем Илья никогда не тонет, сам понимаешь.
— Да-а… Ну и крендель… А фамилия у него какая?
— Коркин.
— Как-как?
— Коркин.
— Это от слова «корка», что ли?
— Нет, — засмеялась я. — Это у его деда потеряли слог, когда писали свидетельство о рождении. Прадед был Коровкин. А когда «ов» потерялось, так все дальше и стали Коркины. Ваня только мой — Коростылев. Илья уж сколько лет обижается, что я сыну свою фамилию записала, из-за благозвучия, чтобы «коркой» в школе не дразнили…
Значит, Коркин Илюша хочет жениться на Коростылевой Настене, чтобы на старости лет… Он старше тебя? — Левка посмотрел на меня, я кивнула. — На старости лет фамилию поменять с какой-то подозрительной на очень приличную русскую… Я засмеялась.
— Да нет, конечно, Левка, ничего менять он не будет. Ну, просто мы все равно живем вроде как вместе… То есть не вместе, а временами… Может, он ошибку юности хочет исправить, когда свадьбу сорвал… Двести тридцать человек тогда пригласил, благо папочка ресторан оплатил. А сам Илья на свадьбу прийти не смог — решил отправиться в горы, попробовать себя в альпинизме…
— Да ты что? — Левка с интересом смотрел на меня. — Ну, так и ты теперь то же самое сделай. Пусть гостей назовет, а ты не придешь. Поедешь в горы…
— Не уверена, что он заметит мое отсутствие на свадьбе, Лёв.
— Вот даже как? А зачем тогда жениться хочет?
— Наверно, в чем-то разочаровался опять… Захотел тепла и блинчиков, не знаю…
— Слушай, а как же тогда с гостями поступили? Когда он в загс не явился?
Я вздохнула.
— Ну, что гости — пошли, конечно, в ресторан… не пропадать же добру… Все съели, выпили, потанцевали… Да это давно было!.. Ладно.
— Хорошо. А вот, кстати, скажи мне… А ты бы ребенка еще одного хотела родить?
— От Ильи?
— От Ильи, не от Ильи — не принципиально… — Он взглянул на меня. — Или это для женщины принципиально?
. — Знаешь, наверное, бывает по-разному. Иногда женщина просто хочет ребенка. А иногда — конкретно от какого-то мужчины. Чтобы был похож на него. А я… Не знаю, сейчас от Ильи — еще одного ребенка… Я не думала.
— А он? — быстро спросил Каштанчик, записав тем не менее мой невнятный ответ.
— Он? Говорил как-то, что еще бы двоих или троих не прочь… Чтобы была большая американская семья… Ну, как положено, знаешь, — много детей, три машины, большой дом в Калифорнии…
— Он хочет уехать?
— Да нет, конечно. Хотя кто знает… Я думаю, ему просто нравятся американские сказочные фильмы, где совершенно удовлетворенный папа, обвешанный покупками, входит в дом, а ему навстречу бегут пятеро веселых детишек. И красивая молодая жена держит на руках шестого, полугодовалого. Илья просто ищет счастья и гармонии. Всегда и всю свою жизнь… И никак не может найти ни того, ни другого…
Слушай, Коростылева. — Левка перестал стучать по клавишам и слушал меня с интересом. — А почему ты так мне и не сказала ни разу — а ты-то чего хочешь? Что ищешь ты? Он да он… Кочкин… или как его… Коркин, извини. А ты хочешь большой семьи? Или много денег? Или пятерых детей? Или любви? Или, допустим, — объехать весь свет?
— Честно? — Я не знала, стоит ли говорить об этом Левке. — Я хочу, чтобы Ваня весной не болел аллергией, чтобы я получала за свои дизайн-проекты больше денег и… Ну, да, наверное… — Я вздохнула.
— И еще чего-то романтического, да? При свечах?
Я засмеялась:
— Да ладно! Без свечей. Но я не могу уже влюбиться, мне так кажется… Так влюбиться, чтобы, знаешь, голова пошла кругом…
— И хорошо! — засмеялся Левка. — Ты ж за рулем! Да еще машина у тебя неслабая… Если у водителя такой коровенции голова пойдет кругом — кричи караул… В общем, ясно. Дети — карьера — любовь. Ничего сверхъестественного. Нормальный пучок интересов продвинутой девушки твоего возраста. Так… — Левка опять что-то записал. — Видишь, приходится работать психологом… по совместительству… А я это пока не очень умею… Ну что, в принципе, почти готово, сейчас компьютер все проработает, в программку втиснет твои запросы… Могла бы и не так скромно…
— Так у тебя же не центр исполнения желаний, а бюро прогнозов, правильно?
— Ну, в общем, да… — Левка почесал нос, и я заметила у него неяркие веснушки по обеим сторонам переносицы.
— Лёв, а почему ты до сих пор не женился? — неожиданно для себя самой спросила я.
— Ты же не пошла со мной в театр в пятом классе, — улыбнулся Левка. — Вот я тогда в любви и разочаровался. Понял, что ближе мамы никого у меня нет и не будет.
— Он жива, Лёв? — негромко спросила я.
Он покачал головой.
— Нет. Заболела два года назад и… прямо сгорела на глазах…
— Прости, пожалуйста…
— Да нет, ничего. Я Нельку тогда купил, на охоту с ней пытался ходить… А не женился… Да вот — поверишь? — не успел как-то. Так все быстро в жизни, оказывается, происходит… Помнишь, какой долгой казалась жизнь лет в шестнадцать? А потом все быстрее и быстрее стало… У меня ощущение, что я физтех только в прошлом году закончил. Я считаю время не по годам, а по тому, что придумал, сделал. Знаешь, защищался, кучу лишнего приходилось делать, читать, рефераты какие-то готовить. Потом придумал вот эту программу, докторскую защищал, статьи, книжки писал… Третья сейчас выходит…
Я вдруг подумала — а не зря ли я его про женитьбу спросила? Может, Левка совсем по другой части? Так у него все мило, гладко, так по-девичьи трогательно и невинно… Собачка да книжки… Он увидел мой взгляд:
— А-а-а… Конечно, думаешь, все ли у меня в порядке? Все в порядке…
— Да нет, я не о том. Просто сейчас много мужчин, особенно симпатичных, которые любят друг друга, а не женщин…
Левка нахмурился, а я засмеялась:
— Почему нормальные мужчины так обижаются, если их подозревают в нетрадиционности? Ну, прости, я поняла, что ошиблась. Просто очень у тебя сказочный рассказ про жизнь получился. Или я уже совсем что-то… — Я взглянула на часы. — Может, мы уже посмотрим мои… версии, или как ты их называешь?
— Да, практически все готово. Только это будет на большом экране. Садись вот так, бери сама мышку… Сейчас… Когда появятся картинки, щелкай на любую — произвольно, или на ту, которая тебе чем-то нравится. Они будут почти одинаковыми, ты увидишь. Почти… И хочешь, вот еще для спецэффекта… я купил недавно… Надень стереоскопические очки… Совсем по-настоящему будет… Прочувствуешь все…
Я с некоторой опаской — не люблю ничего надевать ни на голову, ни на лицо — надела большие тяжеловатые очки, закрывающие обозрение с боков, сверху и снизу. Кочкам были приделаны короткие проводки, похожие на антенны. Теперь я видела только экран. На нем появилась моя фотография. И я точно знала, что у меня такой фотографии не было!..
— Лёв, а как ты это сделал… — Я хотела повернуться к нему, но он опередил меня:
— Головой только не верти, закружится.
Я кивнула. В это время фотография стала уменьшаться и повторилась на моих глазах семь раз. Два раза по три в строчку и еще одна отдельно.
Я присмотрелась внимательно. Это была одна и та же фотография. Я стояла вполоборота к снимавшему и смотрела в окно. Разглядеть выражение моего лица возможности не было. Я что-то держала в руках, прижимая это к себе, или же просто обнимала себя руками… Я стала вглядываться. Мне показалось, что я разглядела голову ребенка. Ничего себе!.. На соседней фотографии, изображение было четче. Нет. Нет, конечно, это не ребенок. Это… это кошка. И, похоже, игрушечная… И я улыбаюсь, точно… Хотя нет! Вдруг я увидела очень четко, что лицо мое перерезает ужасный шрам, из-за него мне и показалось, что я улыбаюсь… Ужас! Я перевела взгляд на самую первую фотографию. Да нет же, нет никакого шрама. Он только на той, на шестой, кажется, фотографии… Не буду ее ни за что открывать… Я быстро щелкнула мышкой по первой.
И тут же услышала детский плач где-то рядом. Я не успела обернуться, потому что внизу, под окном, в которое я смотрела, появился Ваня. Он так вырос… Ваня шел, размахивая огромным рюкзаком с учебниками и привязанными к нему за оранжевые шнурки кроссовками, и с удовольствием сшибал рюкзаком посаженные по бордюру тюльпаны.
— Ваня! — закричала я.
Я прекрасно услышала свой голос. И увидела, как Ваня, повернув ко мне голову, скорчил страшную рожу и показал мне кулак. Ну надо же… Я тоже показала ему кулак и быстро пошла в другую комнату, где плакал малыш.
Я точно знала, что кроватка стоит слева от двери. Да, конечно. Только я никогда не видела эту комнату… Хотя вот знакомая люстра, детская, с шариками… Она же висела в старой Ваниной комнате! Он, еще маленький, все пытался снять с нее шарики: ставил книжку на книжку и тянулся кверху. Я взяла малыша на руки и в то же мгновение поняла, что это — мальчик, и зовут его Илюша. Увидев меня, малыш плакать перестал и головкой ткнулся в мою грудь. Да, его же пора кормить… Я смотрела, как малыш чмокает губками, и знала, что сейчас что-то произойдет. И точно — входная дверь с громким стуком распахнулась, и в квартиру ввалился совершенно пьяный Коркин.
— Плесень! — заорал он с прохода. — Ты где там прячешься?
Я вышла в прихожую с маленьким Илюшей на руках.
— Илья! Ты что так… — Я увидела, что он совершенно грязный. Роскошное черное пальто было вымазано чем-то светлым и очень неприятным…
— Что?! Ты еще спрашиваешь? Ты, белковая плесень! Что ты стоишь, смотришь? Да я повешусь с тобой! Понимаешь? Повешусь! Вот так! — Он передавил себе горло рукой и захрипел, показывая, как он будет вешаться.
Стенки вокруг него, вероятно, закачались, и он, растерянно озираясь, стал хвататься за них руками, пока наконец не упал лицом на телефонный столик. Как это часто бывает с пьяными, лицо у него совершенно не пострадало, а новый многофункциональный телефон при этом разбился вдребезги. Услышав крик, малыш снова начал плакать. Коркин, не глядя, нашарил рядом с собой беспроводную трубку и кинул ею в меня. Я успела увернуться. И щелкнуть мышкой. Картинка застыла.
— Фу-у… — Я перевела дух и сняла очки. — Левка… Ужас какой… Зачем ты это сделал?
— А что там было? — с любопытством спросил Левка.
— Как? Ты что, не видел? Экран-то один. Вот, перед тобой висит…
— Экран-то один… — засмеялся Левка. — Ладно, смотри дальше.
Я навела курсор на следующую фотографию. Теперь я уже точно видела, что они совсем разные… Почему же вначале изображения показались мне похожими? Или они не сразу стали разными? Ну конечно, вот этой вообще не было… Я тоже стою вполоборота, как на первой, но смотрю вовсе не в окно, а на море. Я быстро щелкнула по ней мышью.
Ваня закричал мне из моря:
— Мам, сколько можно там стоять? Ты обещала сплавать со мной за буйки!
— Сейчас, Ванюша… — Я потрогала воду ногой. Как он сидит в такой холодине, ни за что не зайду…
— Боишься? — Кто-то подошел сзади и обнял меня за плечи. Я ощутила знакомый запах старинного одеколона «Фаренгейт» и обернулась. Это же Кирилл Сергеевич, мой муж… Куда-то подевался его живот, но залысины стали больше, хотя при загорелой коже они не так ужасно смотрятся… Ему вообще идет загар. И, пожалуй, непривычно короткая стрижка тоже. — Хочешь, я на руках тебя занесу?
— Не надо, — ответила я и, освободившись от его рук, стала входить в воду. Кошмар, как холодно, никогда не войду, больше не сделаю ни шагу мне просто плохо от такой ледяной воды… Как же все эти люди плавают и смеются?
— Вот и умничка. — Кирилл Сергеевич вошел в воду за мной и опять попытался обнять меня, теперь уже за талию. Что же ему так хочется прилюдно меня хватать… Не забыть сказать ему, что душиться так сильно в жару не надо, что неприлично на море пахнуть огурцом — это офисный, служебный запах, так пахнут клерки в банках, с серо-зелеными от искусственного воздуха и освещения лицами, а не загорелые мужья на прекрасном Эгейском море…
Я нащупала мышь и щелкнула по ней, опять сняла очки.
— Левка, ну, а что-нибудь приятное-то будет? Уже понятно, что и так плохо, и так плохо…
— Вот ты мне потом и расскажешь, было ли что приятное, — усмехнулся Левка. — Смотри дальше, ты же пока только два варианта попробовала. Как ты отвечала, так и получилось… Там все хитро получается…
Я со вздохом вновь надела очки. Так, ну и что же мне выбрать? Посмотрю еще один и хватит. Одно расстройство… Еще мне Кирилла Сергеевича в мужья не хватало… Я щелкнула по фотографии, где я стояла совершенно одна у какой-то стены и, похоже, улыбалась. В руках у меня не было ни детей, ни кошек, и моря тоже не было видно. Когда я рассмотрела, что я не улыбаюсь, а как-то странно кривлю губы — кусаю их, что ли… — было уже поздно.
— Готово! Налево теперь! Налево, а не направо, тебе сказано! — Дядька в мешковатой одежде грубо заорал на меня, а я послушно повернулась к другой стене. — Снято! Ну, просто красотка! Приходи еще!
Я кивнула, а он заржал.
— Понравилось, да? Э-эх, дали бы мне тебя на пару часиков, тебе бы еще не так понравилось… — Он обернулся на конвой и с сожалением сказал: — Все, свободна.:.
Я вздрогнула, услышав это слово… Да, я действительно свободна — от всего и от всех. От сластолюбца и предателя Коркина, от хамоватого Вани, от каждодневной суеты, от своих сомнений, скачущих по кругу… Я свободна в замкнутом пространстве тюрьмы и сознания совершенного. Я убила Илюшу Коркина и таким образом наконец избавилась от него. От всех его неизбежных и жалких предательств, от своих унижений, от дурацких и убогих надежд — на счастье с этим человеком.
Пусть у меня не получилось сделать все так, как я хотела, и следователь, подслеповатый толстый мужик с одышкой и гнилыми передними зубами, как-то меня вычислил. Ему так этого хотелось, он так долго сопел, задавая бесконечное количество раз похожие вопросы… И все-таки свел концы с концами. Жаль, конечно. Но я сделала то, что хотела. Это было мое решение, и я его выполнила.
В какой-то момент я поняла — Илюша испортил мне всю жизнь. Я стала грубая, нетерпимая, я не верю больше ни во что. Меня раздражают мужчины, все без исключения, потому что в каждом я вижу Коркина с его позорными болезнями и унизительной манерой обходиться в любви без слов вообще, при случае молча расстегивая штаны и призывая меня жестами к исполнению своих желаний, с годами становящихся все более и более странными… Меня раздражают также все женщины, потому что мне кажется, что ни одна из них не соглашается на то, на что столько лет шла я… Вероятно, по глупости, по слабости характера, по привычке подчиняться — очень избирательно… Хотя Илюша Коркин имел обыкновение становиться неизбежностью, с упорством бетонной стенки вставая на моем пути время от времени… Вот я и подправила свою жизнь, как смогла…
Я почувствовала сильный толчок в спину и уперлась лбом в серую стену.
— Встать! Руки за спину!..
Я быстро нажала на левую кнопку мыши и вышла из этой картинки.
— Да что ж такое? Лева, ты издеваешься надо мной? — Я обернулась к однокласснику и не увидела его. Видимо, я нечаянно навела курсор на следующую фотографию. Это была как раз та фотография, где я держала на руках кота.
Он, мяукнув, спрыгнул с моих рук и пошел к своей миске.
— Сейчас, мой мальчик… Сейчас мамочка тебе насыплет «Фрискис», мы с тобой вчера купили такие вкусненькие печеньица… Ты мой сладкий…
Кот сидел, поглядывая на меня оранжевыми глазами, и слегка подрагивал хвостом. Я взяла коробку и, тяжело передвигаясь, подошла к нему. Ох, как бы так наклониться, чтобы не тянуться к миске и не поднимать ее… Нет, наверно, не получится. Рассыплю все печенья, придется ползать, собирать… Я с трудом взяла миску и поставила ее на стол у окна. В свете лампы я увидела свое отражение в окне. Да, ничего не скажешь… Дама… Сто два .килограмма… Ну, ничего, похудею как-нибудь. Не так уж это и сложно. Вот сейчас схожу на день рождения к папе, а потом сяду на диету. И как раз, месяца за два…
Вздохнув, я откусила кусочек «Фрискис». Прелестное печеньице, чуть солоноватое, но прелестное. Остренькое, ароматное… Ай… Не купила себе «Дэниш кейкс», с сырной прослойкой и нежным кунжутом сверху — а зря. Решила себя помучить… Но есть-то что-то надо! Хлеб, зерновые — обязательно. Белки нужны для здоровья, протеины… Это одно и то же, кажется.
Нет, все-таки хорошо быть большой… Никогда не мерзнешь, место в троллейбусе уступают, в машину не влезешь — как ни отодвигай кресло, руль давит на живот, вот и экономия на бензине .получается… Столько вкусненького можно купить…
Я услышала, как звонит телефон в прихожей. Надо бы трубку и на кухню сделать, а то пока дойдешь… Но кто-то, видимо, очень хотел дозвониться и настойчиво ждал, пока я подойду.
— Да! Я! — задохнувшись от быстрой ходьбы, проговорила я. Голос-то у меня какой стал — грудной, приятный… Конечно, с таким бюстом и голосу есть где укрепиться…
— Ваньку возьмешь на выходные? — спросил меня Коркин очень усталым, еле живым голосом.
— Но я же в те брала, Илья! — Я услышала, как он тяжело вздохнул, но ничего не сказал мне в ответ. Мне даже стало его жалко. — Ну… Я пока не знаю… Не уверена. Понимаешь, у папы день рождения, а Ванька так действует ему на нервы… Прическа эта его…
— Да он постригся вчера, специально… — заторопился объяснить Коркин. — Говорит: а то мама меня не возьмет на субботу-воскресенье больше… Насть…
— Постригся? Молодец… Как он вообще? Не болеет? — озабоченно спросила я. Главное, чтобы дети не болели.
— Да вот — сопли второй день. То ли аллергия, то ли что…
— Ну да, ну да… Вы лечитесь тогда — уж, Илья! Какие гости! Не надо, пусть из дома не выходит. Куда я его, больного, возьму…
— Ладно, — опять вздохнул Илья.. — Но он вообще-то скучает по тебе очень…
— Это хорошо, что скучает, — улыбнулась я и взглянула на себя в зеркало над телефонным столиком. Как же мне идет такая персиковая помада! Надо пойти еще купить. Дорогая, правда, зараза, но зато мягкая и держится прекрасно, а губы — ну просто две конфетки, с помадкой и нежным сливочным ликером… Я не расслышала, как Илья о чем-то меня спросил. — Что ты говоришь? Извини, я отвлеклась, тут у меня бумаги важные, делаю проект дорогой…
— Говорю, ты бы хоть позвонила ему, спросила — что да как… У него в школе, знаешь…
Сейчас начнется! Рассказы об учителях, которых я в глаза не видела, о Ваниных успехах… Хотя уже понятно, что Ваня — середнячок и так и будет всю жизнь с троечки на четверочку перебиваться…
— Ага! Конечно! — с энтузиазмом отозвалась я, пытаясь достать с полки книгу. Вот она где стоит, а я-то все у мамы с папой ее искала. Там была такая хорошая мысль, надо ее найти… Про возраст, про свободу одиночества и еще что-то, не помню, но очень светлое и мудрое… Созвучное моему состоянию. Книга выскользнула у меня из рук, и я случайно нажала на мышь, хотя мне тамошней отчего-то совершенно не хотелось выходить из той реальности…
Очутившись опять перед экраном с семью фотографиями, я поежилась, пытаясь прогнать наваждение. Неужели это была я? Ужас какой… Да, точно, снова ужас.
— Левка, знаешь что… — При попытке обернуться я опять увидела, как одна из фотографий увеличивается до размера экрана. И фигуры на ней начинают двигаться. «Наверное, это Левка специально так делает, чтобы я не отвлекалась», — успела я подумать.
— Мам! — Ваня протягивал мне на ладони маленький кусочек какой-то горной породы с красными прожилками и золотистыми точками на сколе. — Что это?
— Дай я посмотрю…
Ваня присел рядом со мной на корточки.
— Не знаю, сынок, может быть, полудрагоценный камень какой-нибудь. Давай возьмем с собой, положи в рюкзак. Ты отдохнул? Можем ехать дальше? Ваня кивнул.
— Хорошо здесь, правда? — Я окинула взором прекрасную долину с виднеющимися вдали маленькими деревянными домиками с красными и зелеными крышами. — Жить бы здесь всегда, дышать этим воздухом, смотреть на горы…
— А гимназия, мам? И здесь, наверное, нет художественной школы. И немецкий пришлось бы учить…
— Вот именно, — со вздохом согласилась я. — Хотя бы дачу здесь иметь, приезжать каждое лето…
— А давай купим?
— Дачу? — Я с сомнением покачала головой. — Думаю, сынок, что нам с тобой дачу в Австрии пока не потянуть… Но у нас и своя дача хорошая, там все друзья твои…
— Ну да, — кивнул Ваня. — Поехали, мам?
— Поехали.
Он сел сзади, а я, нетуго пристегнувшись, завела двигатель. Опять этот звук… Второй день не дает мне покоя…
— Ванюша, ты не слышишь? В двигателе как будто что-то то ли скребет, то ли… не пойму… Звук какой-то посторонний…
— Ты не привыкла просто, машина другая.
— Может быть… Ты бы пристегнулся все-таки. Там есть же средний ремень, сзади! Пристегнись, а…
— Дорога до следующего городка, куда мы хотели попасть, чтобы посмотреть развалины древнего замка, вела через небольшой горный перевал. Я не уставала восхищаться, как хорошо, как тщательно сделаны здесь трассы, как продуманно огорожены все повороты, сто раз повторяются знаки, ограничивающие скорость, предупреждающие, что сейчас надо быть внимательнее, осторожнее. И само шоссе — гладкое, будто вчера только залитое асфальтом и укатанное…
— Мам, смотри, кажется, виден уже замок! — Ваня показывал мне куда-то влево, но я не стала смотреть, потому что увидела, как сзади появилась и догоняла нас на бешеной скорости ярко-желтая спортивная машина с черным верхом.
Такую машину просто так не покупают… Понятно, что это супергонщик, которого хорошо бы сейчас с миром пропустить, прижавшись к горе справа, но дорога как раз резко поворачивала направо, а затем сразу влево, я это видела. И указатель только что был — «опасный поворот»…
Сбавив скорость, я как можно ближе прижалась к бордюру и тут же услышала страшный удар в заднее крыло. Наша машина как-то странно наклонилась, большая жесткая подушка больно ткнулась мне в лицо, рот мгновенно наполнился теплой соленой кровью, и свет померк.
Когда я открыла глаза, надо мной склонился очень симпатичный врач в зеленой шапочке и что-то спросил по-немецки. Я попробовала говорить, но с ужасом почувствовала, что челюсти у меня не двигаются. Нижняя была плотно прибинтована к верхней. Рот не открывался совсем. Я посмотрела на врача. Он улыбнулся и показал мне большой палец. Тогда я, пошевелила рукой, одной, второй, потом ногами, они ныли. Но все шевелились. Чуть приподняла голову, чтобы убедиться, что это действительно мои ноги, ничем не перебинтованные, ни к чему не привязанные… Вон вижу свои пальцы, из-под гладкой светло-зеленой простыни… Врач засмеялся, опять что-то сказал и показал мне уже два больших пальца. Я откинулась на тугую подушку. В затылке от резкого движения что-то звякнуло и тут же затихло. Ну, кажется, все хорошо. А где…
От мгновенной мысли, словно прострелившей меня, мне стало душно, и горячо запульсировала голова. Я замычала, пытаясь спросить врача о Ване, и замахала руками, насколько смогла их поднять. На одной из рук я машинально заметила туго завязанный бинт, под которым, похоже, лежала шина. Врач, кажется, понял, о чем я спрашиваю, и крикнул что-то в приоткрытую дверь. Через несколько секунд в палату вошла миловидная женщина невысокого роста и села рядом со мной на кровать. Она неторопливо и доброжелательно заговорила со мной по-английски. Я понимала почти каждое слово: что все хорошо, а будет еще лучше, что я молодец, мне сделали операцию, и я очень красивая и скоро смогу сама есть.
Я пыталась приподняться, чтобы спросить ее — о самом главном — и никак не могла. Я не могла сказать ни слова. Я мычала, а она, благожелательно кивая головой, отвечала мне на каждое мое мычание, что все просто отлично. Тогда я заметила ручку прикрепленную к кармашку ее халата. Я изловчилась и почти дотянулась до нее левой, незабинтованной рукой. Она поняла, чего я хочу, подала мне ручку и протянула блокнот. «Мой сын?» — написала я по-английски. Она кивнула и обернулась к врачу, стоявшему поодаль, что-то ему сказала, уже по-немецки. Он ей быстро ответил. Тогда она сказала еще несколько слов, тише. И он тоже ответил тише, как будто я могла их понимать. Что они говорят? Что?! Почему они не дают мне встать? Где Ваня? Почему я не могу к нему пойти?
Я снова попыталась привстать, и на сей раз у меня это получилось. Врач тут же подошел ко мне, предупредительно маша рукой, но я собрала все свои силы и села. И даже спустила ноги с высокой кровати на сверкающий светлый пол. Пол был ледяной и очень чистый. На нем лишь сиротливо белела застывшая капля какой-то жидкости, то ли молока, то ли хлорки… И в это время дверь в палату распахнулась, и Ваня, с большим зеленым пластырем на лбу, заглянул в палату. Увидев меня, он радостно замахал мне рукой и быстро подбежал ко мне. Он очень внимательно посмотрел на меня и дотом прижался головой к моему плечу.
— Мам… Я сам тебя нашел… — Ваня неожиданно погладил меня по голове. — Тут у меня друг есть, он тоже в аварию попал… Мы с ним по-немецки говорим… Я выучил столько слов… Мам, ты не можешь говорить, да? А ходить можешь? Хочешь, пойдем, я покажу тебе свою палату, она на другом этаже… У тебя такой шрам на лице, как будто ты улыбаешься все время, мам… Ты плачешь? Мам… — Ваня обнял меня и прижался ко мне коротко стриженной головой. «Хорошо, что постриглись перед поездкой», промелькнула у меня мысль. Хотя что тут особенно хорошего…
Забинтованной рукой я нажала на мышь, не надеясь сразу попасть на левую клавишу… И, вероятно, не попала, потому что теперь, сидя, я отлично видела себя в зеркале, висящем напротив на стене. Мое лицо перерезал свежий безобразный шрам. И правда, казалось, что я улыбаюсь ярко-красным, узким, бесконечным ртом… Я закричала и увидела, как этот рот приоткрылся длинной кривой щелью. Я кричала и кричала, и смотрела, не в силах оторвать глаз от того, что осталось от моего лица…
Картинка перед моими глазами вдруг застыла и резко уменьшилась.
Все. Я решительно сняла очки и повернулась к Левке, отодвинув от себя маленькую серебристую мышь.
— Спасибо, дорогой друг, за доставленное удовольствие.
— Подожди! Там еще, знаешь, сколько интересного будет!
— Так это ты придумывал эти идиотские сценарии! Варианты… Это не варианты, а бред какой-то! Бредовый ужастик на тему моей жизни…
— Да подожди, Настена, не кипятись, все совсем не так просто. Я…
— Все, Лева. Какое это имеет отношение к моим сомнениям, выходить ли мне замуж, я не понимаю.
— Нет? — грустно переспросил Левка. — Жаль. Я думал, тебе это поможет. Может, еще посмотришь?
— Нет уж, спасибо. Если из четырех сюжетов ни одного оптимистичного не было, вряд ли что-то будет лучше дальше.
— Из пяти, — вздохнул Левка. — Ты пять посмотрела… Но ты же сама так отвечала на вопросы… Вот и получилось не очень весело. Может, все-таки досмотрим?
— Сам смотри! — Я встала. — У меня, случайно, седых волос не появилось?
Левка посмотрел на меня, но почему-то не на волосы, а куда-то ниже — то ли на подбородок, то ли на губы.
— Что? Что-то не так?
— Да нет… Все нормально… Просто я… Да ладно. Самому мне досмотреть не получится. Тут хитрость одна есть… Вот антенки, видишь, короткие?
— Небось, собиратели психической энергии, а, Левка? — засмеялась я.
— Вроде того… — Каштанчик заметно погрустнел. — Не понравилось тебе, значит. А зря ты еще два варианта попробовать не хочешь… Зря. Вот так всегда и бывает — человек до своего счастья двух шагов не доходит…
— Нет уж, друг, спасибо. И так теперь буду ходить и думать, как бы не растолстеть, не попасть в аварию, не убить Коркина…
— И не забеременеть от него… — добавил Левка.
— Кстати. Самым лучшим вариантом в результате был тот, где Коркин упал мордой на очень дорогой телефонный столик. Ну, подумаешь, нарезался мужик, испачкался в чем-то неприличном, ругает жену…
— И сам повеситься хочет, убивать не надо… — добавил Левка.
Я засмеялась.
— Точно, в случае чего — пусть сам вешается… Да, пожалуй, никуда мне от него не деться, а ему от меня.
— Никуда? — уточнил Левка.
— Не-а. Тут уж… Ну ты сам видел… Ладно, спасибо, Лёв, пойду я.
Левка проводил меня до лифта. На прощание не удержался и снова предложил мне досмотреть оставшиеся «варианты».
— И все-таки… Вдруг там… А ты даже не хочешь узнать, какие у тебя еще могут быть возможности. Так и уйдешь, не узнав…
— Давай как-нибудь в другой раз, ладно, Лёв? Не обижайся, я на этом шраме жутком перегрелась.
— Хорошо, давай в следующий…
Я увидела, как его собака ревниво проводила меня взглядом красивых коричневых глаз и отвернулась первой. Ничего себе, гордыня какая. Мне бы хоть половинку такой царственной спеси…
Придя к родителям, я застала Ваню одиноко сидящим на полу в большом холле холодной родительской квартиры. Мама с папой любят ходить в теплых кофтах, носках и чтобы по всем комнатам гулял ветер, а температура в доме была бы не выше восемнадцати градусов…
Папа сидел у себя в комнате, оттуда раздавалась тихая музыка. Я прислушалась. Шуберт. Понятно. Значит, папа сегодня не хочет жить. Он всегда, когда не хочет жить, слушает «Блаженство» Шуберта.
— А бабушка где? — спросила я Ваню.
— Делает вареники с картошкой, для дедушки, — ответил Ваня, подняв голову от сломанной машинки, которой он играл еще в два года. — Пошли домой, мам…
— Тебе понравилось у дяди Левы? — спросил Ваня в машине. Но не сразу, а когда мы обсудили, как бабушка пыталась кормить Ваню по правилам: салат, первое, второе, компот… Бедный Ваня компот на дух не выносит, но сказал, что выпил половину, чтобы бабушка не ругалась.
— Вот и молодец, — вздохнула я. Ну почему все так получается, почему… — А у дяди Левы… страшновато было.
— Не смешно? — уточнил Ваня.
— Нет, сынок, не смешно.
— Ну и хорошо, что я не пошел, — небрежно заметил Ваня, который всегда считает, что если куда-то приглашают меня, то автоматически приглашен и он.
Дома нас ждал сюрприз. У нашего подъезда стоял, лоснясь чистыми боками, аккуратно припаркованный синий «опель» Кирилла Сергеевича. Его автомобиль всегда был сверкающим укором мне, хозяйке эффектного, но вечно забрызганного и немытого джипа, хозяйке, отлынивающей, но наотрез не отказывающейся от нечастых встреч с импозантным, начитанным и темпераментным владельцем «опеля».
Кирилл Сергеевич заметил нас и вышел из машины, застегивая на ходу добротный пиджак. Как обычно, он шел, будто вовсе не замечая Ваню, к одной мне. Он широко распахнул руки и даже чуть оттеснил Ваню. Обдав меня пронзительно-огуречным запахом «Фаренгейта», он проговорил:
— Предлагаю поужинать в итальянском ресторане «Лидо ди Езоло».
— Отказываюсь, — улыбнулась я, высвобождаясь из его рук.
— Настасья… Так сразу! — Кирилл Сергеевич неодобрительно покачал головой. — А я тебе букет приготовил…
Он полез в машину. Зацепившись там за что-то пиджаком, он крякнул и охнул. Ваня засмеялся, а я слегка дернула его за рукав. Кирилл Сергеевич в это время вытащил из машины довольно большой букет белых роз. Почему с белыми розами приходят не те мужчины, не тогда и, главное, — не по тому поводу? Не жениться же на мне мой не очень любимый друг надумал…
— Вот что я скажу, Настена…
— Вы скажите лучше, чего мама не видела в этом… как там его… «Людоеде»? А? — неожиданно перебил его Ваня и, резко размахнувшись, сшиб своим тяжелым рюкзаком сразу несколько тюльпанов, растущих на клумбе возле нашего подъезда. Узкие желтые и белые лепестки легко посыпались вниз, и теперь вместо цветков беспомощно качались черные толстые пестики, окруженные яркими тычинками на тончайших, почти не видимых ножках.
Кирилл Сергеевич не успел ничего ответить Ване, потому что в наш большой двор на сумасшедшей скорости ворвался желтый спортивный автомобиль и, обдавая брызгами из луж спокойно бредущих с вечерней прогулки мамаш с детишками и колясками, промчался мимо нас. Я еле-еле успела отпихнуть Ваню в сторону почти из-под его колес.
— Класс… — только и выдохнул Ванька, провожая зачарованным взглядом роскошную машину с бешеным водителем. Куда тот ехал, мы так и не узнали, потому что автомобиль вынесся из двора на такой же скорости и мгновенно исчез из виду.
— Я не человек! — раздался знакомый и очень пьяный голос. — Я — плесень! Белковая плесень на этой земле! Я думал, что я… А я!.. Потому что ты меня… А я тебя… А ты всегда меня обманывала… использовала…
— Ага, — вздохнула я. — Особенно когда тебе алименты в Гондурас посылала…
— В Эквадор! Я был в Эквадоре! И ничуть об этом не жалею! Ясно? Тебе ясно?
— Да ясно, ясно… — Я чуть придержала Илью рукой, чтобы он не упал на Ваню и на застывшего в ужасе около своей отполированной машины Кирилла Сергеевича. — Ты что пришел-то, Гондурас, а?
— Эквадор! Эквадор… Э-эх… — Илья вдруг всхлипнул и махнул рукой. — Вот так всегда… Пришел, чтобы жить с тобой наконец, Анастасия Коростылева… На-ко-нец! На весь конец нашей жизни! Ясно? А ты… Гондурас!.. А я… Эх, Настька…
Я увидела, что вся спина его любимой черной куртки — дорогой, но очень похожей на кожезаменитель — испачкана чем-то красным, вроде томатной пасты, густой, с кусочками лука, перца… Соус Карибских островов…
— Ты очень грязный, Илюша, — негромко заметила я.
— Зато ты очень чистая! — горько усмехнулся Коркин. — Вот это кто? Кто?! Думаешь, я не знаю? Это — кто? — Он широким жестом указал на отступившего на шаг Кирилла Сергеевича и чуть не упал.
— М-м-м… Кирилл Сергеевич, — слегка поклонился тот и сделал движение, намереваясь протянуть Илье руку. Но потом, похоже, передумал и почесал этой рукой ухо. — Я — хороший друг Анастасии. А вы, простите?..
— Э-эх! — Илья тоже почесал голову.
Я не выдержала и засмеялась.
— Может, вам в баню вместе сходить? Обсудить, как да что?
Они, вытаращив глаза, смотрели на меня и друг на друга. А я приветливо помахала рукой соседке, живущей этажом ниже. Она прошла мимо нас, ведя на поводке серого крупного кота с короткой, очень густой шерсткой, широкой симпатичной мордой и ярко-оранжевыми глазами. Британец… Конечно, эта порода называется британец. Умный, привязчивый и не очень пушистый.
Соседка оглянулась, посмотрела на обоих моих кавалеров и показала большой палец. Потом увидела огромный букет белых роз на капоте автомобиля и подняла большой палец на второй руке. Я развела руками и, чуть подумав, тоже показала большой палец, кивая на ее британца. Соседка величественно улыбнулась и пошла дальше, слегка колышась большим, мягким телом под длинным платьем. Она шла, а рассыпанные на черном фоне ее платья оранжевые и малиновые цветы медленно шевелились, заворачиваясь широкими гладкими лепестками" и снова расправляясь вместе с легкой струящейся тканью.
— Мам, — позвал меня Ваня. — Я писать хочу. Пошли домой.
— Пойдем, сынок, — Илья попытался увести Ваню к ближайшему кустику, — не надо терпеть!
Ваня вырвался и взял меня за руку. Я сделала два шага к подъезду и решительно вернулась за букетом.
— Все, друзья, сегодня уже нет сил… Ни на что. Даже на «Лидо ди…» Как ресторан называется?
— «Лидо ди Езоло», — сдержанно ответил не очень довольный всем происходящим Кирилл Сергеевич.
Илья просто помахал сцепленными в кулак руками над головой, очень стараясь, чтобы это выглядело независимо и хамски. Я послала воздушный поцелуй, особенно не адресуя его никому, и не оборачиваясь пошла к подъезду. Уже захлопнув дверь, я услышала вызывающе-громкое:
— «Путана — путана — путана…»
Была когда-то такая ужасная песня во времена нашей юности. Я понадеялась, что это кричит не Илюша. С чего бы ему называть меня так? Хотя это, конечно, лучше, чем плесень.
Той ночью мне приснился удивительный и странный сон.
Я отчаянно обнимала Илью, почему-то ставшего маленьким и толстым, и знала, что никогда его больше не увижу. Я чувствовала под своими руками его напрягшуюся спину, туго обтянутую белой рубашкой, на которой были отчетливо видны следы моей крови.
У меня не было никакой раны, но я точно знала, что кровь — моя. И от этого мне было еще печальнее. Я обнимала его в последний раз, а он как-то небрежно посмеивался и не знал, как больно мне прощаться с ним.
Потом я изо всех сил старалась взлететь, убегая от Кирилла Сергеевича. Мне это почти удалось, но земля как будто тянула меня к себе, и время от времени мое тело снова обретало вес и устремлялось вниз, к земле, где мчался на своем сверкающем автомобиле Кирилл Сергеевич. Я даже видела сверху, как блестят его вспотевшие залысины, и мне было его очень жалко, потому что я знала, что ему меня никогда не догнать. Ему никогда не попасть в эту прозрачную, легкую пелену облаков, в которой я лечу, не чувствуя вокруг себя потоков воздуха.
Зато я чувствовала, как крепко в меня вцепился Ваня и не отпускал — до самого утра.
— Вань, а не страшно ночью бродить в одиночку по квартире? — спросила я его утром.
— Так я же не бродил… Я к тебе бежал, — резонно ответил он.
— А зачем?
— Не зачем, а от чего, — грустно опустил глаза Ваня.
— Отчего же, сынок? — Я поцеловала его волосы, так еще приятно пахнущие детством.
— От страха, — честно сказал он, прижался ко мне и неожиданно спросил: — Мам, а Каштанчик женат?
— Конечно, нет, — ответила я.
— А почему?
— Потому что я с ним в пятом классе в театр не пошла.
— Ну какая же дура! — искренне сказал Ваня. — Машина, конечно, у него не очень, но я думаю, тебе надо сходить с ним в театр.
— Ты точно знаешь? — спросила я.
Ваня улыбнулся. И ничего мне не ответил. А я подумала: хорошо, когда у тебя остаются еще два варианта. Целых два.
Я вздохнула и решительно набрала Левкин номер.
— Жалко, что все так грустно, — неожиданно сказал Ваня, так и стоявший рядом.
— А как бы ты хотел, чтобы было? — Я услышала, как Левка ответил «Слушаю», и нажала клавишу отбоя.
— Ну… — Ваня показал руками что-то очень большое над собой и вокруг себя. — Чтобы… чтобы ты всегда смеялась.
— А в небе всегда светило солнышко, да, Вань?
Он совершенно серьезно кивнул и спросил:
— А так нельзя? Так не бывает?
Он ждал ответа. Я знала, что должна сказать ему правду. И я ответила:
— Так бывает, Ванюша.
Я посадила его к себе на колени и обняла. Вот оно, мое большое — надо мной и вокруг меня… Любит, ревнует, страдает оттого, что я мало смеюсь. И очень, очень быстро растет. Быстрее, чем я успеваю что-либо понять о себе, о нем и о том, сколько же на самом деле в году солнечных дней.