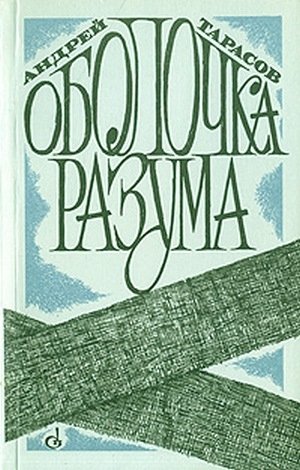
Андрей Тарасов
Оболочка разума
Москва, Советский писатель, 1986
1
Некий доктор Рыжиков приставил свой велосипед к скамье и огляделся.
Оркестр уже гремел «Прощание славянки».
Гудело множество людей.
Их тогда было гораздо больше. Их век был в разгаре, хоть и сильно урезанный смолоду железом и огнем. Что не помешало им в это утро быть уже под газком – как положено. Отчего и приподнялся тонус встречи, даже если встречались соседи. При объятиях смаху чокались знатные ордена и рядовые медали: «Знамя» со «Звездой», «Отвага» с «Будапештом», «Берлин» с «Ленинградом»… Боевой перезвон.
Наград – с большим избытком. А рук и ног – недокомплект. По мокрому асфальту утренне-бодро стучат протезы, палки, костыли. Коляска с безногим упорно пробивается сквозь массу к плакату «Ветераны бронетанковых и мехчастей». Во всех концах сзывали пехоту и летчиков, артиллерию и саперов. Даже кавалеристов, уж на что лошадей позабыли.
Только доктора Рыжикова никто не созывал. Потому он стоял в неприкаянности, высматривая где-нибудь таких же одиноких, как он сам.
– Чего стоишь? – сказали вдруг ему. – В строку попасть не можешь?
Доктор Рыжиков всю жизнь со всеми только «выкал». А с ним всегда сразу на «ты». Такое задушевное доверие он вызывал у незнакомых людей. Может, зеленым всепогодным плащом из клеенки, под путевого обходчика. Может, серым беретом, некогда принципиально голубым. Может, просто лицом.
– Тогда давай, садись! Захватывай НП!
Доктор Рыжиков захватил. Пригласивший был незнакомым, длинным и жилистым, кого в народе зовут «мослом». Городская шляпа, вытянутое костистое лицо, впалые щеки, выцветшие, как рыжиковский берет, но цепкие глаза. Ими он несколько раз измерил нового соседа. Он тоже был одинок и сочувствовал одиночеству.
– Десантникам почет и уважение. А где твой второй?
Доктор Рыжиков приятно удивился, что нашел тут признание. Но машинально спросил:
– Какой – второй?
– Ну усатый, котяра твой толстый… С которым афишку вы носите… Я-то вас тут каждый раз вижу. Не помер, случаем?
– Как – помер? –чуть не кинулся куда-то доктор Рыжиков, но заставил себя остаться. – Да нет… – сказал он, правда не совсем решительно, опасаясь проницательности соседа. – Почему помер?
– Да почему помирают… – философски пояснил сосед. – Срок выходит, вот и помирают… У нашего брата как: с виду такой бугай, вроде твоего, а внутри живого места нет… Я его еще где-то видел, клише вроде знакомое. Только вспомнить не могу. В газете про него писали?
– Может, писали давно, – вежливо ответил доктор Рыжиков, поняв, что речь в философском, а не в конкретном смысле. – Он вообще-то тренер по боксу…
– А-а… – зауважал сосед. – Тогда снимаю шляпу. А я тогда из артиллерии. Триста десятый гаубичный резерва Главного Командования и тэ дэ. Ну и хорошо, что не помер. А то помрет – один останешься с афишкой своей. Прямо смотреть жалко. Вас, десантников, наверно, меньше всего и осталось. К черту в пасть прыгать – это же прямо на шило ему… И во всем городе было вас двое? Никто больше на афишку не пришел?
– Приходили, – сказал доктор Рыжиков. – Но мало. А постоянно только мы…
– Десантник есть десантник, – сочувственно поддакнула артиллерия. – Это я ничего не скажу. Мы-то живьем немца мало видали. Но «юнкерсы» давали нам просра… Как вспомню, так вздрогну… Наших куда больше, гаубичников. Вот у нас кого погибло – это противотанковых. Как выставят на прямую наводку… Это я тоже сниму шапку… Я их вблизи только в сорок первом видел. И то издали. Как из окружения карабкались. Нам командир дивизиона, царство ему небесное, приказал пушки взорвать и на Бобруйск топать. А комбат, царство ему небесное, старший лейтенант, говорит: сам приказал и ускакал, убьют где-нибудь, потом этот приказ не сыщешь, а меня за эти пушки трибунал расстреляет… Ну, мы и впряглись. Все по болоту да по болоту. Сперва на лошадях, потом на себе… Пушка-то полковая, это тебе не пулемет. Чистый фельетон. Уже и комбата убило давно. Сперва ранило, мы на плащ-палатке к пушке привязали, потом голову осколком срезало… Немец на восток по шоссе движется, а мы туда же, только по болоту. «Мессеры» как налетят… Он на шоссе, сволочь, галеты бросал с самолетов, выманивал: мол, выходите, сдавайтесь. А на нас, на болото, бомбы и листовки, бомбы и листовки. Выходи, моя черешня. Ну не сукин ли сын? Как вспомню, так спину заломит. Постепенно одна пушка осталась, остальные утопли. Уж мы ее и толчком, и на канатах… Морды обросли, белье сопрело… Пьем из болота, у всех понос кровавый… А он в листовках поливает: зря тужитесь, уже Москву взяли… Видал? А сам только еще под Смоленском чешется. Ну не нахал ли? Да еще врет: у своих всем вам каторга и Сибирь, а здесь кормить и поить будут даром. Ну мы днем отлеживаемся, думаем: ничего, если с пушкой заявимся, скостят нам, не в Сибирь турнут, а снова на фронт. Уж мы тогда ему… Может, и командир дивизиона где уцелел, подтвердит про приказ… Только болото, дом наш родной, кончилось, впереди железная дорога и речка. И как хочешь. Хочешь – с немцем под ручку по понтону ее тащи… Ну, закатили мы ее в кустарник на сопочку и думаем, как употребить. Последний снаряд держим. Пушку ли им взорвать или по понтону садануть? А они по понтону идут, зубы скалят. Друг другу пинки весело так дают, будто нас уже и нет. Вот это нас заело. Так-то боязно, ведь сразу засечет. Кинется как овчарка. Сколько мы этих прочесов видели – огромные они специалисты. Но уж больно заело, что они такие наглые. Так куснуть захотелось – спасу нет. Всех тогда отпустили до выстрела, время дали, чтоб разбежались, а мы с сержантом навели. Перекрестились и… Он только полпонтона пролез, а ему – бах по башне. Башню как корова языком – раз! – и на транспортер закинуло. Как клопов их там придавило. Ну, забегали, запрыгали… Мотоциклисты, танки-броники в линию развернулись, и с фронта, и с фланга охватывают… Огонь из всех стволов, а нас-то всего… Смех, и только. Смех смехом, а драпать пора. Сержант говорит: вперед, к речке. Я – назад, к болоту. Как к мамке родной. Ну ладно, он рукой махнул, пригнулся и по кустам, по кустам, вперед на восток. А я замок вытащил – и по кустам, по кустам, вперед, на запад… Плюх его в болото – и по кочкам, по кочкам. Во счастье – никакой тебе пушки, сам себе начальник… Больше с сержантом и не увиделись. Может, еще живой где? Как ты думаешь? Да ты уснул, десантник? Со смены, что ли? Я говорю, а он дрыхнет…
– Да нет, я слышу… – с усилием открыл глаза доктор Рыжиков, сладко пригревшийся на утреннем солнце. – Может, и жив…
Он-то был уверен, что не спит, потому что все слышал и еще успевал думать, сколько такого у каждого, кто сейчас толчется на пятачке сквера фронтовым локтем к локтю. Сколько заштопанных дырок на коже, от головы до пят, прикрыто сейчас этими выходными костюмами, отглаженными женами и дочками на истинно мужскую встречу. Не считая отмороженных почек, сорванных нервов, измученных сердец. Да редко найдешь голову без трещины и вмятины – сколько доктор Рыжиков их перещупал своими руками…
Вот так и думаешь: просто сосед – здесь, на лавочке, в автобусе, в очереди за молоком. А он каждый – со своим последним выстрелом, которым прощался с жизнью. Самую малость только недопростился.
Таково свидетельство, что доктор Рыжиков не спал.
– …А почему я один? Вон они, наши толпятся, – артиллерист показал на шумную группу своих. – Потому что я им так и сказал: если будет как в тот раз, и близко не подойду. Ну их к богу. Это как называется? Сбросились все одинаково. А как садиться – так крупные погоны в отдельный кабинет. И тосты к нам выходят говорить. Как артисты на сцену, из-за занавески. К лейтенантишкам, значит, старшинам, ефрейторишкам. Выскажется, пожелает долгих лет – и обратно за занавес. Я подполковнику Шишко и говорю… Подполковника Шишко знаешь? Начальник не большой, но в любой президиум втереться норовит. И тоже с речью вышел. И только обратно за занавес – я встал и говорю: «Постойте-ка, товарищ подполковник запаса. Может, мы, рядовые, тоже вам хотим речь сказать. Вот вы тут про боевую дружбу очень красиво говорили. А почему теперь от этой дружбы исчезаете? Едрено шило! Почему от нас за занавеской загородились? Или мы плохо пахнем?» Он даже рюмку выронил. Так наши же энтузиасты на меня зашипели: ты, мол если пить не можешь, сиди, не высовывайся! При чем тут «пить»? У нас всегда так: чуть что – пить не умеешь. Один сиди пей. Ну и буду один, говорю. Нет, деньги внес, все чин чином. Чтобы не думали, что жмусь. А чтобы поняли, что у рядовых тоже гордость должна быть. Или давайте по-людски, чтобы без разделения, как у танкистов, или я там не участник. Найду, с кем отметить. Если бы мне Клавку не разорвало, вообще бы горя не знал. И стол, и закуска, и все… Правильно, едрено шило? Ты-то сам в каком звании? Спишь, что ли? Опять задрых десант… – Острый локоть бомбардира ткнул доктора Рыжикова в ребро.
Доктор Рыжиков с трудом оторвал подбородок от груди, еще более пригретой майским солнышком.
– Десант? А-а… Почему сплю? Думал… Я ефрейтор.
– Ну, если думаешь, тогда скажи: правильно?
– Что – правильно?
– Ну что хлеб-соль ешь, а правду режь.
– Все мы немножко лошади… – сочувственно вздохнул всей грудью доктор Рыжиков.
– Вот именно – кони, – согласился с таким странным суждением артиллерист. – Когда они сытые, они бьют копытами… Может, и мне орать нечего было… Сколько наших уже и не поорут ничего! Чаще вспоминать надо, тогда и сами не такие крикливые будем…
Было не очень понятно, про себя артиллерист или про тех энтузиастов, которым он пришелся не к столу.
– Я говорю – народ жалко. Сколько его пострадало! А кто остался – сколько крови насмотрелся! И ничего – смеются, радуются… Как с гуся вода. Я иногда поражаюсь. Хоть сейчас на передовую. А иных еще от боли крючит. Сам-то с ранением?
– Нет, – сказал доктор Рыжиков.
– Десантник – и не раненый? Повезло, выходит. И не царапнуло?
– Контузило, – сказал доктор Рыжиков.
– Тоже не мед, – признал сосед. – Мы в артиллерии все контуженые. Через одного без барабанных перепонок… Как выстрел – так тебя вроде палкой по уху… Да это каждый со своей приметой. Смотришь, рожа красная, как пирог подгорелый, – значит, летчик или танкист… Горел в бою. Я вчера в полосе про одного читал. К нам в город приехал, подпольного врача искать.
– Какого? – встрепенулся доктор Рыжиков.
– Подпольного, какого… Не слышал, что ли?
– Не слышал… – честно сказал доктор Рыжиков.
– Вроде не с луны свалился, в городе живешь, осудил артиллерист его неведение. – Весь город талдычит. Его профессора зажимают, которые завидуют, а сами ничего не могут. Так он без них, без их рецептов, нашего брата фронтовика это самое… выхаживает. Уж они его и так хотят, и так… На прицел взять, да руки коротки. Найти не могут.
– Кто? – спросил доктор Рыжиков.
– Да профессора же! Ты что, совсем выключенный? Не нравится он им. Зато теперь это кончится. Все. Теперь им шило в задницу, вот летчик специально приехал всю правду рассказать. Теперь его самого профессором заделают, раз газета написала.
Доктор Рыжиков слушал со все возрастающим изумлением. От сонливости и следа не осталось.
– Летчик здесь? – никак не верил он. – Так быстро?
– А чего тянуть? – ничуть не удивился артиллерист. – У него это как на ротаторе. Потому что способ знает. Этот летчик сущий дуремар был, как говорится, Квазиморда. Хоть и геройский человек. Разбился в самолете, лицо всмятку. Никто не мог выправить, мать родная не признала, жена отказалась. Ну никуда ходу нет. А наш взялся. Новую рожу смастрячил, ты понял? Вот он в День Победы вернулся благодарность объявлять. Я лично прочитал.
– А у вас нет газеты? – осторожно спросил доктор Рыжиков.
– Не, я на верстке читал, по металлу. Навыворотку, ты так не сладишь. Вот он где-нибудь здесь небось, на трибуне. Почетный гость, герой. Придет же искать доктора среди нашего брата… Он его людям и покажет.
Доктор Рыжиков сперва вытянул шею, силясь разглядеть стоявших на трибуне, потом втянул ее, как бы сам прячась.
– Теперь не спи, – подбодрил бомбардир. – Он как его узнает, встреча начнется. Я это очень уважаю… Смотри, начинается!
– Товарищи ветераны, фронтовики! – Густой и сочный голос с характерным прихрипом от многих сотен военных команд пронесся над орденами и медалями, над нежной майской зеленью, над мирными крышами, над затаившим дыхание городом. – Боевые друзья! Городской совет ветеранов от всей души рад приветствовать славных ветеранов в честь ваших славных подвигов, совершенных в честь…
Видит добрый майский бог, что председатель митинга немного запутался в славных ветеранах и славных подвигах и некоторое время потратил на то, чтобы с честью продвинуться дальше. Но ветеранам всегда больше нравилась задушевная речь, чем казенное чтение по бумажке, поэтому они одобрительно заурчали. Кроме, наверное, артиллериста.
– Опять небось про Кенигсберг ни слова! – ревниво опередил он ход событий, не в первый раз слушая это вступление. – Про Берлин и Прагу всегда скажет, а Кенигсберга как не было. Вот увидишь! Сам-то где кончил?
– Под Веной, – сказал доктор Рыжиков. – У нас и дивизия Венская. И корпус…
– Значит, не в Кенигсберге… – немного разочаровался в нем сосед, многих, наверное, меривший Кенигсбергом. – Но где-то я твоего усатого видел. Где-то видел… Это уж как заело, если вспомнить не могу… Кто же из них летчик-то будет? Может, хоть он под Кенигсбергом был? Ты как думаешь? Или опять спишь?
Теперь-то доктор Рыжиков точно не спал. Теперь он искал летчика среди почетных гостей на трибуне, но делал это так, чтобы самому не попасть на глаза.
Он искал летчика, но не мог найти, потому, что никогда его не видел. Тут многие бы удивились – разве можно чуть не год смотреть на человека и не видеть его… Но доктор Рыжиков был прав – он никогда не видел летчика в его окончательном виде. И кто из людей на трибуне, за спиной председателя, есть больной Туркутюков, решить пока не мог.
Строго говоря, все почетные гости там выглядели вполне здоровыми. Просто в привычке врачей даже давно здоровых спустя многие годы называть «больными». «Вчера видел больного Сидорова». Хотя Сидоров, здоровей всех здоровых, нес на спине бельевой шкаф. Или: «Завтра хоронят больного Васильева». Хотя какой же изверг решится хоронить больного…
– А сны тебе про войну снятся? – осведомился вдруг артиллерист.
– Сны? – Это был новый поворот. – Сны – нет… Один сон.
– Один?! – Артиллерист очень заинтересовался соседом. – Смотри ты, случай! И мне один. Сколько всего намолотило, а выходит – только один. И то…
По лицу пробежала кривая усмешка привычной застарелой боли, и он осекся. Доктор Рыжиков посмотрел повнимательней – как всегда, когда замечал признак боли.
– Что снится-то? спросил артиллерист как собрат у собрата. – Веселое или дурное? Может, тебе хоть повезло? А то у меня хорошо начинается, но конец в хвост вылазит. Никак в рамку не попадет… А у тебя как?
2
Как в дурном сне…
– Не приведи господи, если кто встретит… – прикрыла рот ладонью медсестра Сильва Сидоровна. – Весь город распугает!
Да, было дело. В палате летчика Туркутюкова – скомканные простыни, разбросанные туфли, забытый халат. Следы бегства или похищения. И – ни в уборной, ни в столовой, ни в закоулках коридора.
– А дежурная где? – заметил он еще одну пропажу. Уж дежурная должна знать как пить дать, что тут нужен глаз да глаз. Что больной боится то посторонних глаз, то своей закупоренной комнаты, где сначала сам требует герметично закрыть окна и двери.
– Может, совратила и оба убегли? – не скрывала своей застарелой приязни к дежурной врачихе праведная Сильва. Она и подняла доктора Рыжикова по тревоге, ворвавшись к нему в дом. И спасла бедой от беды.
Он только пропедалил через полгорода домой в приятных сыроватых весенних сумерках. И первым его встретил Рекс. Огромная овчарка темной масти, с могучими лапами, мощнейшей таранной грудью, рыцарской мордой и саблеподобными клыками. У Рекса было множество достоинств и только один-единственный изъян. Он был патологический трус, вызывавший у мальчишек всей улицы приступы издевательского смеха, когда при приближении соседского кота, поджав хвост, терся о рыжиковскую калитку. Любая такса наводила на него кошмар и ужас. Зная свой этот грех, Рекс давно не выходил на улицу. Он чувствовал всеобщее презрение. Единственным же, кто его жалел и понимал, был доктор Рыжиков. Поэтому Рекс встречал его всегда со слезами радости.
Втолкнув в сарай облизанный велосипед, доктор Рыжиков еще с веранды, снимая туфли и плащ, уклоняясь от мокрого и преданного носа, услышал из большой общей комнаты чужой назидательный голос:
– В наше время без телевизора жить просто несовременно. В конце концов, он способствует интеллектуальному развитию! Возьмите передачи «Час науки», «В мире животных»… А эстетическое воздействие! Фигурное катание – это такое наслаждение!
Голос был женский и привыкший к почтительному вниманию. Доктору Рыжикову стало интересно, кто там поучает его безалаберных дочек. На телевизор он пока не накопил, и как бы там девочки чрезмерно не расстроились. Чтобы по возможности их успокоить и напомнить, что форма существования белковых тел, именуемая жизнью, возможна и без телевизора, как была возможна до радио, трамвая и даже до газет, он перешагнул порог.
Незнакомая дама сидела на знакомом месте, на его собственном. Определенный стиль: дорогая кофта из пушистого мохера, колечко со скромными камушками. Маленькие желтые сережки. Если бы доктор Рыжиков хоть чуть разбирался в камнях и металлах, он насчитал бы на даме минимум три-четыре телевизора. По тем еще ценам, конечно. Но при всем этом она хотела выглядеть скромной. И чтобы всех это восхитило. Ну так – значит, так. Все были вполне согласны.
Дама тоже никогда раньше не видела доктора Рыжикова. Поэтому, когда он вошел, еще не сняв линялого берета (еще не такого линялого, а на целый год голубее) и не отцепив от штанов бельевые прищепки, она через плечо скользнула взглядом и отвернулась к обществу. Это был явно какой-нибудь слесарь-сосед. Или шофер санитарной машины. В общем, что-то такое, за что всегда принимали доктора Рыжикова.
Не удостоенный ее кивка, он так и прошел на кухню мыть руки перед едой.
Остальное общество за круглым семейным столом было ему более чем знакомо. Студентка юридического факультета, почти прокурор, а может быть, и почти адвокат, так же как, может, и безобидный инспектор ОБХСС, Валерия Юрьевна. Старшая дочь. Две Юрьевны – Анька и Танька – школьницы постарше и помладше. Их разбавлял аспирант-культурист Валера Малышев, по-старинному выражаясь, ухажер Валерии. Но от старины в наше время совсем ничего не осталось: ни существа, ни слов.
Все это молодое общество с огромным интересом смотрело на даму, которая чувствовала себя уверенно.
– Долго же задерживается ваш папа, – посмотрела она на часики. – Может, он нашел себе новую маму?
Ее игривый тон сразу все испортил. Анька с Танькой отвернулись, Валерия, наоборот, уперлась даме в переносицу холодным взглядом. Валера же Малышев почтительнейше предупредил: «Вот же он…»
– Пардон, пардон. Я так неловко пошутила… Моя фамилия Еремина.
Она так подала руку, что ее можно было понять протянутой и для пожатия, и для почтительного поцелуя. Доктор Рыжиков выбрал товарищеское рукопожатие. Видно, с его стороны это было не слишком, так как она сочла нужным добавить:
– Жена товарища Еремина.
Анька с Танькой за ее спиной делали знаки. Если бы люди знали, что за их спиной всегда кто-то может делать какие-то знаки, – например, важно надувать щеки и вытаращивать глаза, а то еще рисовать пальцем на плече генеральский эполет, – они бы, как уже давно доктор Рыжиков, опасались без оглядки называть свой обозначительный титул. Врач… Поэт… Председатель… Жена товарища Еремина… Лично он в таких непроясненных случаях представлялся как гвардии ефрейтор Рыжиков.
Ну как угодно. Жена так жена.
Она немного выдержала паузу, видно дожидаясь, когда до него дойдет, чья она жена, и тихо попросилась поговорить с ним.
К доктору затем и приходят, чтобы с ним говорить. Пытаясь вспомнить, кто такой товарищ Еремин, доктор Рыжиков одновременно решал, куда бы удалиться для разговора с его женой. Уединенным местом был, например плотницкий сарай во дворе. Веранда, где грыз заскорузлую обувь храбрый Рекс за неимением более серьезных врагов. Домашний кабинет, он же мастерская и спальня доктора. Но везде находилось какое-нибудь неудобство. В кабинете, например, скопилось слишком много черепов. Это могло быть неправильно понято. Оставалась комната Аньки с Танькой.
Но на пороге он сразу раскаялся. Зрелище было, как всегда, вопиющим. По углам комкались трусики и колготки разных цветов, одеяла скручены – недавно ими дрались, в самом центре из ночного горшка вверх ногами торчала кукла.
Он выругал свое серое вещество, которое до сих пор держит в клетках устройство всех систем противопехотных и противотанковых мин, структуру армий многих наших вероятных противников, целые статьи боевого устава воздушно-десантных войск и не может запомнить, кто такой товарищ Еремин, а также что представляет из себя Анькистанькина светелка.
Доктор Рыжиков успел только ударом ноги загнать под кровать горшок с куклой и схватить одеяла с пола. Дальше его схватили за руку, и он почувствовал на ней слезы: «Доктор, я так несчастна!»
Счастливые врачей не посещают.
Есть же на свете работы, где встречаешь только счастливчиков.
Из общей комнаты донесся взрыв смеха. Очевидно, Танька передразнивала жену товарища Еремина или Валера Малышев снова рассказывал, как аспиранты вроде него, культуристы и математики, задают своему киберу идиотские вопросы. Это было их обычное развлечение за ужином. Анька с Танькой тоже упражнялись в придумывании идиотских вопросов и превзошли в этом не только аспирантов, но и кандидатов наук. И подбирались к докторам.
– Доктор, спасите нам сына! – всхлипнула жена товарища Еремина.
Доктор Рыжиков поразился, как она владела собой, когда рассказывала про пользу телевизора. И тут же его осенило, кто такой товарищ Еремин. Он ведь сам записывался к нему на прием, но не как к врачу, а как к городскому начальнику. Чтобы внести предложения по улучшению медицинского обслуживания населения. Но Мишка Франк его образумил и обозвал идиотом. Такие дела так не делаются. Для начальника все жалобщики, сидящие в очереди у него в приемной, – сумасшедшие. Какие у них могут быть идеи? Идеи излагаются в официальном письме, с подписью главврача, зарегистрированные где надо как рассмотренный специалистами документ… «Ну да, – сказал тогда доктор Рыжиков умному Франку. – Наш дед скорее удавится, чем для кого-то подпишет…» На том дело и кончилось. Так доктор Рыжиков и не дошел до товарища Еремина.
– Его… – она всхлипнула горше, – признали умственно отсталым. Не могу даже выговорить…
Вот так. Кому на Руси жить хорошо…
– Дебилом? – осторожно уточнил доктор Рыжиков, и она даже вздрогнула возмущенно, хотя в данном случае здесь не было никакого оскорбительного смысла. – Или олигофреном?
– Да… – хлюпнула она в раскрытые ладони. – Из четвертого класса… В школу умственно отсталых…
Доктор Рыжиков представил, какими муками учителя дотащили сына товарища Еремина до четвертого. И снял берет перед подвигом неизвестного учителя. На плачущую мать он просто боялся смотреть. Легче было запустить руки в любую кроворазверзшуюся рану.
– Для Петра Константиновича это такой удар… Он у нас всегда такой ласковый, такой послушный… Петр Константинович не хочет второго ребенка, у него служебный долг…
В общей комнате снова взрыв хохота. Наверное, Валера Малышев сказал, как кибер на вопрос, что было раньше, курица или яйцо, ответил, что раньше было и мясо.
– Я конечно, могу посмотреть вашего сына, – со всей присущей ему сочувственной мягкостью сказал доктор Рыжиков. – Если вы захотите. Но вы должны знать, что у меня другая специальность. Я хирург. Если бы нейротравма или опухоль…
– Доктор! – чуть не сломала она заломленные пальцы. – Может быть, правда опухоль? Мы согласны на любую операцию! Нам сказали, вы можете! Вы только посмотрите, может быть, просто опухоль!
– Понимаете, – мягко воззвал к ее сознанию доктор Рыжиков, – врожденное слабоумие не лечат хирургически. Это невозможно. Вам надо…
– Почему это врожденное! – шепотом закричала она. – Это все школа с ее дурацкой программой новой! Еще учителей надо проверить! Может, там над детьми издеваются! Никакой мозг не выдержит! Нет, нет! – схватила она докторский рукав. – Только не говорите «нет»! Лучше нечего не говорите! Я этого не вынесу!
Доктор Рыжиков открыл дверь: «Воды!» Таблетки у него всегда были с собой в пистончике. Для родственников. Не своих, конечно, а ждущих конца операции.
– Из-под крана? – хлюпнула носом в стакан жена товарища Еремина. – Извините меня, я расстроилась… В школу слабоумных… Скажите, это на всю жизнь? Или есть хоть какая надежда? Мы согласны на любые траты, только скажите…
Траты, мысленно сказал ей доктор Рыжиков… Траты будут в том, что придется по выходным, а иногда, и в будни посещать на служебной машине интернат умственно отсталых детей. И там среди взрослеющих толстоватых плаксивых мальчиков и девочек находить своего сына. Вытирать ему рот и нос, угощать вкусненьким. Играть с ним в красный мяч в игральной комнате. Петр Константинович снова научится пускать мыльные пузыри. Будет ловко протыкать им перламутровые бока своей авторучкой… И будет счастлив, когда сын засмеется своим странным пугающим смехом. И мать будет счастлива. Вот все издержки для начала. Если так можно выразиться.
Но вслух он сказал:
– Я могу кипяченой. Только она горячая…
– Не уходите!
Слушать мольбы о помощи входило в его профессиональные обязанности. Научиться на них отвечать – это уже нужен талант. Всегда есть ответ честный: «Операция здесь не поможет». И ответ более или менее честный: «Сделаем все, что в наших силах». На честном ответе редко кто настаивает сначала. Жена товарища Еремина тоже. Лишь бы сейчас не наглухо. Хоть какой-то просвет. От просвета к просвету жить можно. Она умоляла его что-нибудь обещать. Ну хотя бы сделать все, что в его силах.
От обещания доктора Рыжикова и спасла Сильва Сидоровна. Она вдруг появилась, костлявая как смерть, с синеватым истовым лицом, как будто навсегда окостеневшим. Она здесь никогда почти и не появлялась, считая отдых доктора Рыжикова священным. Она сурово осуждала людей, покушавшихся на него, и могла встать перед радиатором «студебеккера». Но тут что-то вышло за рамки.
– Юрий Петрович, – проскрипела она, – Туркутюков исчез.
3
Если бы родители, давая имя, могли заглянуть наперед…
Папа Сидор увидел бы свою девочку выросшей, чтобы попасть под колесо войны. Санитарка на передовой, полтысячи вынесено на себе под огнем, по траншеям и воронкам. Три ранения, в том числе позвоночника. Несколько операций, в том числе уже после войны у доктора Рыжикова. Медсестра в медсанбате. Муж-лейтенант, один из погибших за Берлин. Окостеневшее вдовство, исступленная работа в больнице между своей болью и чужой кровью. Запавшие глаза в глубоких черных ямах, пересушенная пергаментная кожа. Ни одного намека на улыбку за много лет.
Если б могли – не назвали бы Сильвой. Усовестились бы. Но в те восприимчивые времена в именах царила оперетта, и папа Сидор не устоял. Вот откуда взялась Сильва Сидоровна.
Дежурным врачом была рыжая кошка Лариска, которую боялись буквально все. Она была начинена огненным перцем. Она могла все, даже совратить Туркутюкова. Однажды она деду Ивану Лукичу (Ивану Грозному) брякнула, чтобы он тщательней проверял трусики своих внучек, а не выслеживал, с кем стоят на лестничной площадке подчиненные ему врачихи. Иван Грозный смог только раз открыть и закрыть рот. Рыжую Лариску спасала лишь невероятная ловкость рук. Не в чем-нибудь таком, а в сшивании почти невидимых, упруго-скользких сухожилий и нервов, деле ужасно нудном и выводящем из себя самых долготерпеливых. Она этим пользовалась.
– А вы-то тут чего офонарели? – услышали сзади себя доктор Рыжиков и Сильва Сидоровна.
Это и был стиль рыжей Лариски.
– Гадаем, куда вы сбежали, – ответил доктор Рыжиков пока еще миролюбиво.
– Домой, – без замешательства ответила она. И даже пояснила: – Мой мужик утром в командировку намылился. На сборы. Осталась последняя ночь его выжать. Чтобы он там не шелудил.
Муж у Лариски был мирный и добродушный борец-великан, не помышлявший ни о чем таком не только с посторонними дамами, но и с женой.
– У вас, пока вы бегали, больной исчез, – сказал доктор Рыжиков буднично.
– Хотя бы они все поисчезали, – ответила Лариска не моргнув. – Красавцы ваши. Куда же он исчезнет! Его в дворянское гнездо забрали. Ядовитовна сама явилась, развилялась хвостом. Он, что ли, большой шишкой оказался, Герой Советского Союза. Она не перенесла. Своих завмагов ей мало.
Доктор Рыжиков шлепнул себя по лбу: соображать надо.
Где как, а здесь не удержались. Отгородили сусек для местных выдающихся больных. Чтоб не томились в обществе простых нечесаных. Кадки с пальмами, мягкие ковры, телевизор, особые улыбки персонала.
– Ну он им там ковры пооблюет…
Это все та же Лариска, так как Сильва Сидоровна молчала, лишь отворотом головы выражая полное неодобрение ее распущенности.
Да, там такого соседа не одобрят. Ни завбазой «Росторгодежды», слегший с панарицием на указательном пальце левой руки. Ни директор «Обувьторга», у которого малость скакнула кислотность после ревизии на складах и прилавках. Ни главный товаровед горкниготорга, схвативший легкую форму нервной экземы, наоборот, перед ревизией в подписных отделах. Ни главный художник Дома моделей, получающий цикл общеукрепляющего массажа. Ни уважаемый товарищ из горжилотдела, ни почтенная дама из горконцерта…
В общем, здесь за час-два было легко договориться о паре югославских туфель, польском пальто, ящике марокканских апельсинов, финском спальном гарнитуре, подписке на Жорж Санд, билетах на Пьеху, гэдээровских обоях и прочем смысле жизни. И главное – никаких раков желудка, водянок, туберкулезов и прочих менингитов. Только шаги по мягкой дорожке, приглушенный говор старых знакомых, понимание с полуулыбки. Шоколадка сестре, торт персоналу на прощанье. Уютно, пристойно, спокойно. В народе называется заповедником.
И вдруг такой скандал. С непроизвольным мочеиспусканием (или чего похуже), пеной изо рта, прокушенным языком, общими судорогами. Персонал, обмякший на культурном обращении, в ужасе разбегается прочь. Соседи брезгливо затыкают носы – им такого не обещали.
– Ада спустит вам его на блюдечке с каемочкой. На фиг им там нужен эпилептик! Хотите, угощу паштетом?
Этот переход тоже был в стиле рыжей Лариски.
Съесть порцию паштета, вытереть рот и откланяться? Это было бы не в стиле доктора Рыжикова, не привыкшего бросать боевых товарищей, вычистив их провизию. Быть же в ночи одиноким собеседником женщины, огненной сверху и наперченной изнутри, просто рискованно.
– Столько соблазнов, Лариса, – пожаловался он. – И все запретные.
– С каких пор баба и паштет стали запретными? – удивилась Лариска. – Вы ангел, а не знаете, что самый большой грех – это отказываться, когда женщина сама дает.
Доктор Рыжиков даже заозирался – не слышит ли Сильва Сидоровна? Но она убиралась в туркутюковской одиночке. Хотя одно другому не мешало.
– Знаю, – сказал доктор Рыжиков. – Знаю и презираю себя. Я предлагаю вот что. Оставьте мне паштет как военный трофей. И дуйте к мужу на попутной «санитарке». Еще захватите…
– Захвачу… – покривилась рыжая кошка. Было бы что захватывать. Ну ладно, не хотите, как хотите.
Она высыпала из сумки все, что могло быть трофеем победителя-десантника. От наклонившихся рыжих волос пахнуло шампунем. Женщинам-врачам стоит огромной борьбы отбить от себя острый запах больницы.
– Вот вам селедочный паштет, вот растворимый кофе. Знаете, у меня какие паштеты? Никакого запаха, хоть целуйся. Да ладно, не полезу целоваться. Бог с вами, оставайтесь ангелом.
Она забросила опустевшую сумку за спину и равнодушной походкой пошла в коридор. В коридоре она еще немного постояла – сначала на одной ноге, потом на другой. Несколько раз крутнулась на месте – руки в карманах плаща. Показала язык в сторону доктора Рыжикова и резко вышла.
А доктор Рыжиков остался в ординаторской, чтоб удивляться, до чего она все-таки ловко находит и распутывает обрывки намертво вросших в рубцы нервных лесок.
А суровая Сильва шуровала тряпкой в туркутюковской келье, всем своим видом показывая осуждение такого распутства, хотя и показывать уже было некому.
Потом доктор Рыжиков пошел наверх, в заповедник, проведать виновника. Но виновник уже крепко спал, и говорить с ним было не о чем. Тогда доктор Рыжиков спустился и внимательно осмотрел свой хирургический коридор, который не шел ни в какое сравнение с уютом и комфортом заповедника.
Коридор спал больным сном. Чуть спокойнее – те, кого уже резали. Чуть тревожней – те, кого собирались. Доктор Рыжиков прошел по палатам, поправил несколько одеял и подушек, повернул несколько голов, чтобы остановить храп, открыл несколько форточек, чтобы сделать воздух выносимей.
В это время приоткрылась дверь мужского туалета и бессонный курильщик на костыле шепотом предупредил в глубину: «Доктор Петрович шмон делает». Оттуда ответил приглушенный кашель.
Когда-то из названия «доктор Юрий Петрович» выскочило одно слово. Так стало короче и удобней.
В ординаторской доктор Петрович взял забытую второпях похитителями туркутюковскую историю болезни. Там не было не слова, что он Герой Советского Союза. Но Ада Викторовна великий организатор и заведующая заповедником, имела лисий нюх на знаменитости. Она могла при нужде и сделать из кого-нибудь героя. Великий организатор и любимица (только любимица) Ивана Лукича. Ее власть тут была безгранична.
– Доктор, вы мне обещали совет…
Дверь ординаторской скрипнула. Осторожным бочком влез больной Чикин. Небольшой, аккуратненький, с красно-багровым напряженным лицом. Повязка на раненой голове. Сел напротив, преданно поглядел.
– В нашем учреждении, – чисто по-рыжиковски вздохнул доктор Рыжиков, – советы пишутся латынью и называются рецептами.
– Ну рецепт, – покорно согласился больной Чикин. – Подавать на нее в суд или не подавать?
4
По этому вопросу в его родной палате нейротравмированных царило дружное раздвоение. Он и здесь был самый больной – вопрос справедливости. Как будто больше некуда за ней было податься.
С точки зрения нас, простых жителей, существование, по крайней мере, перемежается. Могут отключить водоснабжение, но зато выбросят в магазин бананы. С точки же зрения доктора Рыжикова, оно состоит из одних трагедий. Потому что в основном они проходят где-то от нас стороной, как косой дождь, а его прохватывают до нитки.
– Где, вы думаете, самая запущенная техника безопасности и самый высокий травматизм? – спрашивал он, бывало, своих молодых малоискушенных коллег. – На дорогах или в цехах со станками и кранами? Вот и нет, братцы кролики. В семейной жизни. В тихой, мирной семейной тине…
И точно, в тот момент в его рискованной палате собрался выдающийся семейный совет. В нем пока не участвовали только двое новоприбывших, поскольку находились полностью во власти своих ощущений и в затуманенном полусознании. Один из них был до этого несчастья исправным работником, автокрановщиком, примерным заботливым семьянином. И надо же было его жене приглянуться ее начальнику. Начальник был человек скорее неприятный, с выпученными и красными, как у рака, глазами. Но из-за своего руководящего положения в этой конторе местного значения считал себя неотразимым парнем. И настойчиво приглашал чужую жену-подчиненную на прогулку в своем «Москвиче». Чтобы отвязаться (исключительно – без всяких других мыслей), она даже рискнула, но в пути ее стало тошнить от бензиновой вони, смешавшейся с вонью его синтетических носков. Ему, видите ли, доставляло удовольствие вести машину в одних носках, сняв туфли. К сожалению, порой, иногда, кое-где люди, упоенные своим положением, забывают следить за собой, весьма сильно обманываясь в том, какое они производят впечатление. Свой-то запах им родной. Словом, начальник был не на шутку удивлен, когда подчиненная отказалась повторить эту поездку. А удивление у таких людей легко перерастает в притеснение. Он стал заставлять ее по пять раз переделывать разные протоколы и справки: мол, исказила его ценнейшие для человечества канцелярские мудрости. Бедная женщина была доведена до слез и до жалобы мужу. «Говорил, чтоб не мазалась, дура!» – вспылил муж. Но вынужден был думать о дуэли. Дуэль была назначена за городом, на лесной дороге. Имелось в виду с приятелем, шофером самосвала, перегородить «Москвичу» путь и как следует попугать хама арматурным прутом и велосипедной цепью. Не доходя до увечий, конечно. Но, к несчастью, самосвал, стоявший в засаде в кустах, в решающий момент не завелся. Помертвевший муж и моргнуть не успел, как «Москвич» с женой и начальником мелькнул мимо засады и был таков. Лишь через два часа, в темноте, одичавший от ярости, один, с арматуриной и цепью в руках, он дождался машину. Что там произошло у них в поездке или не произошло – не будем злоязычить. Никто не знает, кроме них. Но муж и не стал выяснять. Начав с лобового стекла и ярких фар, он перешел на выскочившего из кабины начальника, а когда тот уже лежал на асфальте – на саму кабину. Жена успела убежать, а железу досталось. Железо не выдержало стычки с крохотным, величиной с копейку, если не со спичечную головку, очагом ярости в голове человека. Какой-нибудь грамм вещества, на пальцах разотрешь – и без следа. А сколько понаделал грохоту! Сколько оставил металлолома!
Покончив с этой созидательной работой, муж сам попал под районный автобус, слишком быстро и внезапно выскочив под его фары. И теперь как из тумана возвращался в этот мир с трещиной в черепе, ушибами мозга, переломом ключицы, разными вывихами, ссадинами, синяками. И первое, что услышал над собой как сквозь вату, – знакомо бубнящее, много раз повторяемое: «жена», «жены», «жену», «женой»…
– Подавать или не подавать? – спрашивал кто-то еще невидимый с робкой надеждой.
– Подавать! – отвечал кто-то с обиженным хрипом. – А то как нас – так сразу, а как их – так…
– Да вы что, мужики, оборзели? – вмешивался кто-то рассудительный. – Судиться с женами, детьми, родителями – тьфу, слизь какая…
– Главное – квартиру держи! – стоял на своем хриплый. – Они за квартиру ноги поперебивают… Бьют в кость!
Сквозь пелену боли и мути новичок начинал разбираться в картине. В нее входили люди, чем-то похожие друг на друга, хотя в сущности разные. Похожими их делали бинты и серые сиротские халаты. Самым выдающимся был один – с очень гордым и высокомерным видом. Прямая шея, подбородок, надменно задранный вверх, поворот всем туловищем при разговоре… Вот что делает с человеком корсет шейного гипса, тем более с человеком обиженным. А обид тут было поверх горла. Это был тренер футбольной команды, который отрабатывал на тренировке удары головой и свихнул шею. Команда приезжала в гости и давно уехала, оставив тренера в больнице. И давно нашла нового тренера. Еще раньше в другом месте тренер развелся с женой и оставил квартиру. Поэтому он был особенно непримирим в том, что касалось жены или жен. А гипсовая крепость возводила эту непримиримость в сущую гордыню.
Другой, который за жену заступался, лежал на кровати с перевязанной левой рукой. В отличие от тренера, он добродушно улыбался и всем своим видом выражал душевный мир. Это был крупный белокурый парень, а может, и мужчина лет сорока, красивый своим сильным спокойствием, подтянутый и внимательный. В отличие от тренера, он терпеливо давал каждому договорить, не перебивал и не отмахивался. Трудно было поверить, что три месяца назад его привезли сюда в раздробленном состоянии после прыжка с поезда на полном ходу. Он работал лейтенантом милиции и догонял двух человек по всесоюзному поиску. Еще более удивительно, что после этого прыжка, судя по всему, уже получив травму, он тут же на откосе вцепился в преступника и вел с ним борьбу. Его пырнули ножом в живот и в руку, он продолжал крутить противника. Второй испугался и убежал, бросив товарища на произвол судьбы. Того так и нашли связанным возле потерявшего сознание лейтенанта. Лейтенанта оперировали раз пять, в том числе три – доктор Рыжиков. После реанимации и сборки раздробленного черепа он полмесяца ночевал в изоляторе с лейтенантом. «Таких десантников мы старухе не отдаем», – приговаривал он, а когда лейтенант впервые открыл глаза, сказал ему: «С возвращеньицем…» В борьбе за спасение живота и головы как-то забыли про руку, а когда спохватились – упали. Перерезанные в запястье нервы и сухожилия скрючили ладонь в неподвижный комок. Ни один палец не шевелился – чистая инвалидность. Теперь потребовалась и белошвейка Лариска. Восемь часов они с доктором Рыжиковым разбирались в этом окровавленном кружеве – ниточка к ниточке, жилка к жилке. «Хорошо, что рубцы молодые, – похвалил доктор Рыжиков, всегда находивший во всем что-нибудь хорошее. – Помните, Лариса, руку Ломова? Больше двадцати лет рубцам, спаялись, как вулканическая лава из древнего вулкана… А тут – как по маслу, истинное наслаждение…» Лейтенант, под местным обезболиванием, добродушно улыбался и косил глазом на вспоротую руку, выискивая, какое же там обнаружено удовольствие. Но хорошо, что ничего не видел, закрытый низкой ширмочкой из простыни. А то бы ни за что не поверил, что сможет этой рукой еще когда-нибудь скрутить преступника. «Это рука закона, – объяснял участникам операции доктор Рыжиков, у которого от многочасового сидения в напряженном наклоне задубела спина. – И мы не вправе оставить закон одноруким. Он для нас старается и не щадит себя. Мы тоже должны постараться». Через неделю после операции он принес лейтенанту теннисный мячик и сказал: «Сожимте-ка». Лейтенант не смог шевельнуть ни одним пальцем. «Вот и начинайте, – приказал доктор Рыжиков. – С этой минуты только жмите и жмите. Теперь все зависит от вас…» И лейтенант жал и жал.
Самое же поразительное то, что он не потерял в этой и других передрягах своего добродушного миролюбия. Может, потому, что был награжден именными часами. Может, что его навещала заботливая и такая же добродушная жена, подолгу сидевшая с ним и ворчавшая: «Хоть бы доктор тебя пожалел, инвалидом оставил. Меньше б в драки лез…» И раскладывала на тумбочке банки с вареньем, пирожки, котлеты, которых хватало потом на всю палату.
Поэтому он был за жен. И маленький, съеженный, краснолицый человечек с забинтованной головой не знал, кого слушать – его или тренера. Ему было трудно решать – его жена ударила по голове, ныне забинтованной, утюгом. И всего-то за то, что он, лучший городской изобретатель и рационализатор с двумя инженерными образованиями, просил ее с друзьями по тресту столовых и ресторанов не так орать и топать ночью в их квартире, когда он за дверью в маленькой спальне чертил чертежи и ковырялся в справочниках. Притом просил всегда тихо, жалобно и наедине. Она, уже под утро, отдирая ресницы, смазывая тушь и стягивая тугое трикотиновое платье, полураздетая, полупьяная, обвисшая складками сала, кричала на него, что он неблагодарный скот, нахлебник, тунеядец, что он благодаря этим людям живет. Что он достал? Хоть один ковер, хоть одну хрустальную вазу? А откуда у него импортный японский микрокалькулятор, которым он считает на ходу, по дороге на работу и с работы? Он что, думает, его жалкой зряплаты вместе с нищими премиями хватит на жизнь? Кто надрывался и изнашивался в табачной вони по двенадцать часов за паршивые чаевые? Кто губил здоровье, чтобы свить элементарное человеческое гнездо? А кто нахлебничал, воображал из себя мыслителя века? Конечно, весь следующий день (невыход) – повязанная полотенцем голова, стоны, охи: он, мол, довел. Как будто он вчера после смены заставлял ее смешивать коньяк, ликер и водку. Он, простота и вправду виноватился. Выпрашивал отгул и суетился. Бегал за тортом и шампанским, просил забыть вчерашнее, то есть свои дерзости. К концу дня она взбадривалась, приходили гости и все начиналось сначала. И вот однажды он взбунтовался. Сам не может понять: то ли потому, что она, раскрасневшись, с капельками пота на верхней губе, сидела на коленях у некоего Кучеренко, директора гостиницы, и даже не потрудилась при входе мужа натянуть на толстые колени задранную юбку; то ли потому, что его вчерашними чертежами застелили винные лужи на скатерти и полу. Но бунт его был страшен. Он слабо замахнулся портфелем – как воробей чирикнул. Она как завизжит – чем-то ему в голову. Этим чем-то оказался утюг, стоявший почему-то на приемнике. Просто ничего другого, полегче, не подвернулось. Это уж не ее вина. До клинической смерти, правда, не дошло, но хлопот было. Словом, первое, что он сказал соседям, осознав себя, было подавать ли на жену в суд. С тех пор уже многие успели выписаться, многие – снова испытать прочность своей черепной кости, а больной Чикин все спрашивал. Каждый, кто поступал в палату или приходил в сознание, видел над собой его вопрошающее робкое лицо.
Муж-автокрановщик, когда к нему вернулась речь, высказался в том роде, что их без всякого суда надо топить в мешке.
Кто-то из дальнего угла, похожий на китайца (узкие глаза на отекшем лице), слабым, но убежденным голосом объяснял, что есть даже бабы, которых специально подсылают провоцировать авторитетных руководящих работников, чтобы их компрометировать. Он лично, например, порядочный человек, семьянин, в верхах на хорошем счету. А к нему подослали. У него и в мыслях ничего такого не было, а она прокати да прокати. Он с подчиненными работницами строг, но невежливым нельзя же быть. Он и повез. Его подкараулили на шоссе человек десять, вооруженные до зубов. Но он им показал. У него хоть глаз не видит, из них тоже кое-кто так и не встал. А с машиной что сделали, гады, изуродовали от бессильной злости. Это запланированное вредительство, вот это что…
Муж-автокрановщик даже есть перестал с ложечки, с которой его кормили, и поднатужился на локте, не веря глазам и ушам. У него сил хватило метнуть в сторону китайца тарелку с остатками супа, но она упала в постель лейтенанта с теннисным мячом и облила его. Муж сам тоже рванулся, но только упал с койки, рыча и ругаясь, раздирая повязки. Поднялся гвалт, донесли главврачу. Доктор Рыжиков схватил выговор.
«… Но допускать в больничной палате пьяные драки, как в каком-то низкопробном ресторане?!..» Это из выступления на чрезвычайной планерке возмущенной до глубины души Ады Викторовны.
Вдобавок у доктора Петровича была опасная привычка выражать свои тайные мысли молниеносным рисунком. В кармане халата у него вечно торчал блокнот с излюбленной толстой бумагой и прятался жирный черный карандаш-стеклограф, вернее – огрызок стеклографа, за которым охотились все медсестрички, так как тушь тогда была импортной роскошью и девушки красили веки карандашами. Чтоб не соблазнялись и не крали, он стал ломать их на огрызки помалопривлекательней. Доставала ему эту редкость по своим каналам рыжая кошка Лариска – из жалости к таланту. Доктору Рыжикову всегда казалось, что собеседники не понимают его невнятных объяснений, и для полного понимания он пририсовывал.
– … И вы дождетесь, что нас с вами повесят на одном суку, – пригрозил толстым пальцем с почти ликвидированным ногтем патриарх Иван Лукич.
После этого его любимица Ада Викторовна, осмотрев, как всегда, помещение, обнаружила на месте доктора Петровича содрогающий душу рисунок. На длинном и прочном, очень удобном суку высокого стройного дерева бок о бок, рядышком, плечо к плечу, висели погрустневшие Иван Лукич (бородка тупым клинышком набок, апоплексическая лысина, язык прикушен – ошибиться невозможно) и доктор Рыжиков (берет набок, нос картошкой, язык прикушен – ошибиться невозможно).
– То-то я смотрю, вы говорите, а они там хихикают. Он их развлекает, видите ли, – скорбно сказала любимица.
Иван Лукич побагровел, его дыхание утяжелилось.
– Самое печальное, – с ангельской кротостью сложила руки Ада Викторовна, – когда у людей нет ничего святого. Ни чести коллектива, ни нашего героического прошлого.
Это был прямой намек на партизанскую биографию Ивана Лукича, которая являлась гордостью всей больницы и города. Пальцы патриарха с хрустом сжали гнусную бумажку. Но это пока был не взрыв. Это тикал взрывной механизм.
5
– А вы ее любите? – спросил он в ответ.
Можно ли любить коротконогую грузную бабу в фиолетовом парике, с табачно-алкогольным перегаром изо рта, которая врезала тебе электрическим утюгом в лоб?
Но Чикин понял доктора и подумал не об этой, а о другой. О ясных голубых глазах и черных кудрях. О стройных ножках и ангельской шее, сразивших в заводской столовой не одного инженера и техника. Только куда все это делось вместе с застенчивой нежной улыбкой? Кто подменил все это?
Больной Чикин все отказывался понять, куда делась одна женщина и откуда взялась другая. Он все еще верил, что первая где-то есть.
– Наверное, люблю…
– Тогда сложнее, – чисто по-рыжиковски вздохнул доктор Рыжиков.
Не в первый раз говорили они о любви, с тех пор как чикинский рубец стал зарастать. После каждого вопроса, подавать ли на жену в суд, почему-то любовь начинала витать вокруг них. Старинная любовь по строгим правилам, с верой и преданностью, со «жди меня, и я вернусь», с «я помню чудное мгновенье», с «жизнь прожить – не поле перейти». Наконец, с «сам погибай, а товарища выручай».
– Знаете, какую книжку про любовь я больше всех люблю? – спрашивал доктор Петрович.
– Какую? – интересовался больной Чикин.
– «Старосветские помещики», – открывал ему лечащий врач. – Вы читали?
– Нет… – качал головой Чикин, предпочитавший технологические справочники. – Я думал, это про крепостное право. Если бы я знал, что про любовь…
– Когда легкомыслен и молод я был, – говорил доктор Рыжиков, заполняя операционный журнал, – то думал, что любить – это обязательно выносить из огня и обстрела прекрасную девушку-партизанку…
– … Она сначала думала, что я талантливый, – полностью соглашался с ним Чикин, – и далеко пойду. Защищу кандидатскую. Может, я сам виноват? Ученым не стал, остался простым инженером, а она выросла до завпроизводством…
– … Мысленно я дрался на ее глазах один с целым взводом немцев, – ловил его мысль на лету доктор Рыжиков. – И даже с целой ротой…
– Но ведь я делаю все, что могу. На дом беру чертежи, сижу до четырех утра… И все равно больше ста восьмидесяти со всеми премиями не выходит. А она с одного банкета приносит двести, говорит: сэкономила. Я говорю: Люсенька, разве так можно? Ведь если обнаружат… А она смеется: что ты как половая тряпка? Ведь ни одной жалобы, одни благодарности. И даже друзьям говорит: сегодня моя половая тряпка зарплату среднего инженера принесла…
– А потом только с одним подраться надо было, – тонко понимал доктор душу больного. – А я даже не сообразил, что пора…
…Все мы немножко лошади…
Что-то витало в ночной дежурке, как будто что-то должно было случиться. И это «что-то» не задержалось. Сильва Сидоровна сунула в дверь свое преданное костлявое лицо и даже онемела от их душевной гармонии. «Вас там спрашивают», – проскрипела она, искренне считая это шепотом. Как видно по лицу, кто-то не очень приятный. «И чего в полночь-заполночь… Дамочка вроде из богатых…» Сильва Сидоровна четко делила на «из богатых» и «из простых», как бы подсказывая, кому и вправду срочно, а кто подождет до утра.
Доктор Рыжиков тяжко вздохнул, ожидая, что снова добралась жена товарища Еремина.
– Если Еремина… – начал он осторожно.
– Еремина… – скривилась Сильва Сидоровна. – Еремину здесь каждая собака знает. Эта красивая… плачет…
Это была уступка, сопровождаемая, правда, неуступчивым ворчанием, что «неотложка» принимает сутками, а у нас хоть ночью отдохнуть бы дали… Ворчание сначала удалилось, потом снова приблизилось вместе с шарканьем тапок. Чикин незаметно исчез. Доктор Рыжиков оглядел дежурку – достойна ли она взгляда красивой женщины. Но застарелых немытых кефирных бутылок и затвердевших кусков бутербродов не было видно. К паштету он еще не приступал. Можно было встать и корректным поклоном встретить красивую женщину.
Она была действительно красива (хотя вкусы Сильвы Сидоровны во многом спорны при бесспорной антипатии к красивым женщинам). И несчастна.
– Доктор… Вы меня, наверное, не помните… Я просто не знаю, что делать…
А вот запоминать таких женщин мужчина обязан. На то у него и клетки мужской памяти. Не то чтобы очень красивая и вопреки Сильвиной ревности, скорее скромная. Гладкие волосы забраны в узел – именно так, как всегда нравилось доктору Рыжикову. Особенно в таких спокойных, крепких, развитых женщинах. Чуть скуластое широкое лицо, мягкие губы. Все очень ясно и чисто. Особенно серые глаза, чуть покрасневшие, правда, от слез.
– Я жена архитектора Бальчуриса…
Тогда все ясно. Архитектора Бальчуриса доктор Рыжиков вспомнил гораздо быстрее. Просто мгновенно. Ибо ничто так не хранят клетки докторского архива, как истории болезней. И вообще истории…
Как забыть эту замечательную победу городской медицины! Наша газета с чувством писала об этом подвиге врачей. Как они спасли жизнь человеку, размолотому на куски. И персонально доктору Рыжикову досталась голова.
Кто говорил, что архитектор выпил немного сухого вина по случаю очередного проекта. Кто, наоборот, что он в рот не брал, а не сработал шлагбаум на переезде. Факт тот, что у тепловоза царапина, а «Волгу» архитектора даже не показывали ремонтникам. Прямо с места повезли во Вторчермет.
Еще спасибо, что с ним с дачи не ехала жена. Вот эта самая, с заплаканными серыми глазами, со скромной прической, к которой доктор Рыжиков неравнодушен.
Правильно, во время операции она сидела в коридоре. Все родственники ждут внизу, в вестибюле, а ее провели в коридор. Потому что они были особенные. «Как в лучших домах Филадельфии», – говорила Ада Викторовна, побывав у архитектора и архитекторши на даче. Лично архитектором отделанная дача, под маленький замок, с камином, зимним садом и живым деревом, росшим сквозь крышу. Слово «интерьер» тогда вторгалось в нашу жизнь как «кибернетика». По схемам, срисованным у архитектора, местные молодые скудно оплачиваемые интеллигенты уродовали свои скромные жэковские однокомнатные жилища. Этой парой любовался весь город. Он и она на банкете в ресторане «Якорь» по случаю открытия зимнего пионерлагеря по его проекту. Он и она на приеме в горсовете в честь делегации японских архитекторов, интересующихся проблемами развития советских городов средней величины (откуда-то сбоку, из-за чужих локтей выглядывают ус и трубка Мишки Франка). Его интервью в городской газете о генеральном будущем нашего города. Ее выставка эскизов декоративных тканей в фойе кинотеатра «Комсомолец». Наконец, знаменитые званые вечера у них на даче, на которые из всех знакомых и незнакомых доктору Рыжикову раз попала одна Ада Викторовна. «Как муха в сливки», – добродушно добавлял доктор Петрович, оказываясь среди слушателей ее впечатлений. Она смеялась и грозила ему пальчиком.
Как, в сущности, все хрупко. Один невозвратимый миг. Один бы шаг назад. Неужели нельзя? Этот миг не отыгрывается. Скрежет, звон, хруст черепа в своих ушах. И местный обыватель с некоторым облегчением подводит итог завидно недоступной светскости: нечего было выдрючиваться.
– Доктор, я не знаю, что делать…
Сколько прошло лет? Тогда он вернулся из Бурденко со специализации и только что выцыганил маленький изолятор для особо бессознательных. Там у него стояла и кушетка. Там архитектора Бальчуриса и подключили к аппаратному дыханию. Доктор Рыжиков не потому ночевал, что в хирургию каждый день ходили чины из горсовета. И не потому, что плакала жена, как все жены, про которых в таких слезах не замечаешь, красивые они или нет. И не потому, что не доверял дежурной бригаде или еще что-нибудь. Просто потому, что тут сегодня был его личный окоп.
– Доктор, мне стыдно ужасно… Не знаю, как сказать…
Терпение доктора – половина успеха. За стенами палаты стонали, всхлипывали и метались пробитые головы и вывихнутые суставы, воспаленные почки и прободные язвы, закупоренные вены и вздутые желчные пузыри. Разбитые сердца… Все требуют от доктора терпения. А доктор требует терпения от всех. Терпение – лекарство. Слезы женщины, хоть и красивой, все же не перелом свода черепа. Тяжко, но терпеть можно.
– Доктор, я мерзкая тварь… – В стакан воды, уже вторично поданный доктором Рыжиковым для утешения, капнула растворенная точка туши. Слезы, как известно, сопровождают жизнь врача от и до. Кто привыкает, кто как. – Доктор, я не должна была к вам приходить… А домой не могу… Я ведь была так счастлива…
Доктор Петрович кивнул. Выйти живым и после гриппа приятно. И для самого, и для родных. Тем более для доктора. Вот о каком счастье в его жизни мы чуть не забыли.
– Я думала, выдержу все. Думала, ночей не буду спать, жить для него. Быть его руками, ногами, глазами… Я никакой уборки не боялась… Можно, я закурю?
– Конечно, – привстал доктор Рыжиков и огляделся. – Только у меня нет папирос.
– Я принесла, – судорожно достала она из сумки какую-то не нашу пачку. – Это, конечно, чистое пижонство… Вы знаете, какой это был человек?
Доктор не спросил, почему «был», а только деликатно кивнул.
– Нет, ничего вы не знаете. Вы думаете, все это пижонство: машина, дача… Я ведь вижу. Вы человек простой. И все так думают. Это все плесень. Этого ничего не жалко. И машины, будь она проклята трижды. Он был такой умный и добрый, что я каждый час удивлялась, какой это бог все в него вложил. Ведь такого в жизни не бывает. Кто бы сказал – не поверила. Но ведь я сама его одиннадцать лет вот этими руками трогала. Вы знаете, какая я была? Девчонка с фабрики. Сколько он в меня всего вбил. Ничего не жалел. Вы бы хоть раз поговорили с ним о кино, о театре, о живописи… Когда он читал Блока, у людей слезы выступали…
Доктор Рыжиков сник головой, будто и он услышал Блока.
– Знаете, что значит быть счастливой? А я была. И это он сделал. А это у женщин бывает на тысячу у одной. Вы врач, вы должны знать. Ваша жена счастлива, доктор?
Второй раз в этот вечер доктор Рыжиков пожал плечами, мямля что-то отрицательно-утвердительное.
– Я с ней не знакома, но уверена, простите, если бы вы для нее сделали хоть десятую, хоть сотую долю того, что было у меня, она узнала бы счастье. А женщина устроена так, что за одну минуту счастья потом не пожалеет жизни. Вы верите, доктор?
Доктор Рыжиков, видно, не сделал ни десятой, ни сотой доли, пока ночевал на кушетке в дежурке или изоляторе. Но верить верил.
– Вы, помните, говорили… Он может оставаться неподвижным. Помните?
Доктор Рыжиков помнил. Такую победу да не упомнить. «Исцеляющий скальпель», «Жизнь архитектора Бальчуриса находится вне опасности. Хочется от всей души поблагодарить за это настоящих кудесников в белых халатах, и прежде всего нашего уважаемого Ивана Лукича Черныша с его коллегами и учениками, среди которых выделяются…»
– А я тогда от счастья плакала, думала: какая ерунда… Пусть неподвижный, лишь бы живой. Я тоже сумею создать ему мир, полный жизни. Он будет читать, слушать музыку, смотреть телевизор, беседовать со мной и с друзьями… Работать. И никогда не почувствует себя одиноким и неподвижным. И это будет моим счастьем…
Она надолго замолчала. Никто не хочет признаваться, что сдается. Доктор Рыжиков снова деликатно молчал, ибо уже сделал что мог. И даже был отмечен в приказе по горздраву среди других кудесников в белых халатах, отвечавших в свою очередь за ребра, почки, желудок, селезенку, руки и ноги архитектора Бальчуриса, за его сердце, к которым в основном претензий, видно, не было.
– Вы думаете, я устала? Да у меня на все хватит и рук, и любви, и терпения. И менять простыни, и совать утку, и очищать его, извините, от кала… Тут одной стирки… Я никого домой не приглашаю, мне жалко, что его увидят… А знаете, что страшно?
– Что? – спросил доктор Рыжиков, давно прекрасно это зная.
– Что ему ничего не надо. Ничего… Я выписала журналов гору, приношу все новые книги, читала вслух статьи по архитектуре… Массу иностранной литературы… Друзья изобрели ему чертежную доску… Доктор, он никого не узнает. Он даже не страдает, доктор! Он…
– Ведет себя спокойно? – по делу спросил доктор Рыжиков.
– Хоть бы раз обиделся или рассердился! Я б счастлива была! Тарелку дашь – перевернет на одеяло и с одеяла ест… А иногда так посмотрит, будто нарочно… Все понимает. Я глупости говорю…
Доктор Рыжиков забарабанил пальцами по настольному стеклу. Музыкальное ухо уловило бы в этой дроби «Прощание славянки».
– Я пришла ни о чем не просить. А только спросить…
Доктор Петрович затих, изображая предельнейшее внимание.
– Это навсегда или…
Что такое «навсегда» и что такое «или»?
– А я вас помню, – вдруг сказал он, когда почувствовал, что можно говорить.
– Но я…
Она должна была сказать, что он ей лично раз сто одну только валерьянку выносил в коридор. Ну, не сто, а сколько она провела в коридоре…
– Я был на вашей выставке и сделал в книге отзывов восторженную запись. И дома рисовал по памяти ваши ситцевые березки.
– Правда? – слабо, но улыбнулась она.
– Зуб даю, – невесело сказал доктор Рыжиков.
– Зачем зуб? – удивилась она.
– Мальчишки так клянутся.
Говорить что-нибудь, когда от этого ничего не изменится, доктор Рыжиков почти не умел. Но в то же время обещать – священный долг всех врачей. Не потому, что там что-то, а обещание рождает надежду, надежда помогает бороться. Аксиома. Но обещать вслепую – невежество или прямой обман. Как тут быть?
– Если вы хотите, я посмотрю…
Что тут такого – посмотреть больного. Святое дело, если попросят. Доктор смотрит сто больных в день. Один краше другого.
– А вы можете сказать мне правду? – вдруг спросила она.
Кто же не знает правду лобного синдрома, мысленно ответил доктор Рыжиков. Одна из жестоких правд жизни. Настолько жестоких, что неизвестно, куда их девать или куда от них деваться. Но он пообещал, хоть и не так уверенно.
– Его бы все равно спасли?
Доктор Рыжиков сделал вид, что не понял.
– Если бы… я там не плакала и не сидела ночами…
И сама испугалась. «Простите, я такая дрянь…» – и замолчала. Доктор Рыжиков понял, что должен поспешить на выручку.
– Да вы тут ни при чем, – сказал он ловко. – Там и без вас хватало. Все начальство из горсовета. Главврач только и успевал вытягиваться, как на генеральском смотру. И каждый с приказом: спасти!
(Среди начальства солидно высилась увесистая фигура Мишки Франка, вежливо гмыкающего в черные усы.)
– Значит, его все равно бы спасли? – спросила она.
– Это наш долг, – отвечал он с достоинством. – Врач борется за человека независимо от того, кто за него плачет или приказывает в коридоре. Слесарь или министр – мы в одинаковом долгу перед человеческой жизнью.
Доктор Рыжиков знал свое свойство прибегать к общим фразам о гуманном долге, когда деваться было некуда. Да, в общем, все так делали. И понятливый сразу чувствовал, что эту стену не обойдешь.
А что ж ему, так и говорить: увлеклись, мол? Что не в плачущей женщине и не в руководящих товарищах дело, а в волшебном дыхательном аппарате, который отключил – умер, подключил – ожил? Только баллоны подтаскивай. Кому тут не покажется с первого раза, что вот она, жар-птица жизни? Отключил – умер, подключил – ожил. Что вот они, поистине безграничные возможности, о которых только и мечтало гибнущее человечество… Не «исцеляющий скальпель», а исцеляющий насос. Отключил – умер, подключил – ожил…
– Ну спасибо вам, – вздохнула она, хотя он ровно ничего не сделал. Но в ее вздохе было огромное облегчение, словно свинец упал с души.
Доктор Рыжиков понял, если бы он не поторопился подменить рыжую кошку Лариску, можно бы было сейчас пойти с велосипедом провожать жену архитектора Бальчуриса. Прошли бы остатками больничного парка, потом по длинной городской аллее… А если бы тогда, при одиннадцатой остановке сердца, он просто вышел и сказал: «Он умер»? То что бы было? А что можно ждать? Что-то новое? Те же слезы, тот же нашатырь. Она стала бы рваться в изолятор, кричать: «Почему все стоят?..» Не верила бы никому и ничему. Потом бы потеряла силы – не только рваться, но и жить. Какая жестокая боль – потерять человека! Она прокалывает грудь, и там ни шевельнуться, ни вздохнуть. Колет и колет. Кажется, навсегда. Потом постепенно стихает. Очень медленно. Страх и боль постепенно проходят. Наступает тоска. Такая долгая и горькая тоска. Но уже не такая острая. Уже можно что-то делать. Например, навестить кладбище, заказать памятник. Может, на городском кладбище их могилки оказались бы рядом. Он бы подкрашивал свою, она – свою. Сначала она бы его ненавидела как виноватого, потом чуть привыкла. Он бы помог ей поправить штакетник, поднес бы пару ведер воды. Потом проводил бы по длинной заросшей боковой кладбищенской дорожке, где давно никого не носят, а только ходят озабоченные родственники с граблями и ведерками. Он вел бы рядом с ней велосипед. Она бы постепенно привыкала. К нему, к стихающей тоске. К портрету на стене с аккуратным черным уголком. К неприкасаемой рейсшине на рабочем столе. К тишине строгого чистого дома, хранящего светлую память. К тому же можно одиноко и долго бродить по улицам и скверам, никуда не спеша. Кто скажет, что на что менять? Тот приступ счастья на эту грустную задумчивость? Или это отчаяние на ту иглу в сердце? Бог, черт или компьютер Валеры Малышева – кто лучше знает?
Вслух доктор Рыжиков сказал совсем другое:
– С кем он сейчас?
– С соседкой… телевизор смотрит. – В ее голосе новая нотка. Ожесточенное упорство прачки, стирающей гору белья. – Мне только раз бы выплакаться. И дальше повезу. Думаете, не повезу?
– Повезете… – сочувственно вздохнул доктор Рыжиков. – А родители у него есть?
– Родителей немцы убили. Они коммунистами были, их кто-то выдал. Он один рос, учился. Вы хоть не говорите никому, что я вам тут наговорила…
Это была самая легкая просьба за весь этот вечер.
Мысленно доктор Рыжиков ответил, что сделал замечательное научное открытие. Почему-то захотелось поделиться. Что он открыл, где у человека душа. Что ее столько тысячелетий не там искали и не туда гоняли. А она в лобных долях. Там, где он выбирает, как поступить. Где все наши старинные рефлексы сдерживаются предвидением результата. Что кому-то будет грустно или больно, поэтому, поэтому… Мысленно он долго и проникновенно говорил. А вслух сказал коротко:
– Если бы их куда спрятать…
Это звучало как жалоба.
– Кого? – испугалась она.
– Лобные доли, – как о детях опечалился он.
– Зачем? – не связала она.
– Все бьются лбом, – обосновал он. – Самое бьющееся место. Мотоциклисты – лбом, ныряльщики – лбом, драки – лбом… Спрятала бы их природа не в лоб, а… – Тут он запнулся, так как не смог с первого раза решить эту конструкторскую задачу, на которую природа потратила миллионы лет. – Как же вы ночью пойдете? Я вам найду попутную санмашину…
По дороге к попутной санмашине он еще отметил, что и человек с прекрасно сохранившимися лобными долями может быть сущим животным. Так что не надо отчаиваться.
Еще он должен был сказать: как известно, дело не в том, что лоб у нас очень хрупкий – он как раз сделан с запасом, щелчком не прошибешь, – а в том, видите ли, что собственные запасы кислорода в мозге ничтожны. Серое вещество потребляет его в четыре раза больше, чем белое, и в пятьдесят раз больше периферических нервов. Кровоснабжение же лобных долей весьма ранимо, поскольку его обеспечивают длинные, тонкие и очень уязвимые передние артерии… Так что чуть что…
Если так можно выразиться о душе.
6
Мало кто, излившись доктору Петровичу, как и любому врачу, ждал ответную исповедь. Будь иначе, ему бы пришлось выворачивать себя наружу раз по пятнадцать в день. А этим желанием он не горел. Но в этот раз дрогнул. Чуть-чуть. Когда жена архитектора Бальчуриса коснулась его собственной жены. Не то что дрогнул, а мелькнуло, что и он рассказал бы… Но она ушла в ночь, и слушать его стало некому. А следовательно, и рассказывать некому, что сам он, например, женился по чистой случайности. То есть потому, что уцелел после первого боя. И что нюх у немцев на наши десанты был какой-то собачий. И что их уцелело четыре из роты. И что правду говорят (если ей говорил кто-нибудь): первый бой – это что-то неописуемое. В памяти никакого порядка. Только неистовые скачки, заячьи петли и немыслимое везенье. Прорваться сквозь гавканье собак и пулеметов, сквозь колючую проволоку, рвущую ватник, сквозь прожектора и ракеты – куда? Где он, этот железнодорожный узел, где его северо-западная окраина с ориентиром – элеватором?
Элеватор он увидел только после боя, когда разбитый узел уже был в нашем тылу. И был уверен, что их, уцелевших, построили с целью сурово и справедливо наказать за срыв боевого задания. Он еще не мог знать и не смел думать, что закон первого боя известен всем командирам. В том числе и командиру дивизии, генерал-майору с рукой на широкой черной перевязи.
– Эти? – спросил комдив, разглядывая жидкую шеренгу уцелевших, которые не понимали, что они совершили: боевой подвиг или воинское преступление. – Сколько лет?
– Восемнадцать… – сглотнул слюну будущий доктор Рыжиков, надеясь отделаться хотя бы штрафбатом.
– Восемнадцать… – повторил генерал. – Дом под немцем?
– Под нашими… – ляпнул от растерянности юный Рыжиков.
– Так… – прищурился генерал-майор. – Есть кто-нибудь?
– Мать… Отец пропал без вести…
– Так… – повернулся к нижестоящим командирам генерал-майор. – В отпуск их. До переформировки. Кому есть куда. Вопросы?
– Товарищ генерал, – пискнул кто-то. Это был юный Рыжиков. – У меня есть вопрос. У меня еще друг есть. Земляк школьный.
– Отлично. – невесело порадовался генерал. – Увидишь друга. Расскажешь о подвигах.
– Он из нашего же батальона, – начал объяснять спешащему генералу юный Рыжиков. – Только раньше в госпиталь попал, в Самарканд. Можно его тоже в отпуск?
Он думал, что генерал-майор всемогущ и его власть простирается от боевых порядков дивизии до самаркандских госпиталей и мечетей. Просто он еще не знал, сколько на этом пространстве функционирует генералов.
– У друга твоего теперь свое начальство. Пусть обращается по команде. – И повернулся, и так уж задержавшись непомерно возле худого, как жердь, десантника. Но потом повернулся еще раз. – Ты хоть там подкормись. Хотя в тылу там какая кормежка… – махнул рукой. – Или женись. Послушай старика, женись. Найди себе девушку и женись. По-настоящему. Понял?
Юный Рыжиков понял. Притом как приказ. А приказы в военное время выполняются свято. Плюс шикарные кирзовые сапоги. На фоне всеобщих обмоток он выглядел почти офицером. Плюс один школьный друг, который своим умом догадался прибыть из Самарканда на долечивание.
В обмотках и без школьного друга это могло и не произойти, несмотря и на приказ генерала. Но все-таки произошло.
А была она их одноклассницей, работавшей в грозное военное время в тыловом госпитале на оформлении раненых и больных. Работа чистая и аккуратная, с бумагой, а не с грязными бинтами, склеенными кровью и гноем. Поэтому на нее и смотреть было приятно. Очень она была красивая и гордая, с нежным кукольным личиком, в белом халате и эффектной шапочке с крахмальным куполом.
Школьный друг как узнал про приказ генерала, так сразу и ткнул в этот купол: «Подходит?» – «Ну да…» – недоверчиво хмыкнул жених. Слишком уж увивались вокруг шапочки выздоравливающие офицеры. Но школьный друг взял дело в свои руки.
Не верилось, что где-то на Курской дуге стоит адский грохот. Здесь было тихо и пыльно, и как-то особенно мирно тарахтели полуторки. Вечером все, кто мог и имел право, гуляли по городской аллее. Они втроем тоже. Юный Рыжиков с удовольствием отдавал честь выздоравливающим офицерам, с не меньшим удовольствием ловя на своей однокласснице завистливые взгляды. На сапогах же – похожие взгляды солдат, даже усатых с медалями.
Лично он в обмотках никогда не пошел бы гулять по аллее с такой привлекательной девушкой. Не осмелился бы. Даже если бы она его уговаривала. Но тут его удивляло другое. То, что одноклассница ходит по аллее не с офицерами, а с ними, с рядовыми. А это была хитрость школьного друга, заимствованная у Шехерезады. «И тут вдруг пулеметная очередь пробивает мой парашют…» – заканчивал он очередной рассказ и обещал продолжение завтра.
Липово-жасминное удушье кружило головы. Вокруг было столько скороспелых военных романов и свадеб! Женились на медсестрах лейтенанты, чтоб через день сгинуть бесследно в глотке войны. Играли свадьбы молодые офицеры запасного полка выздоравливающих со своими новыми подружками с городской танцплощадки, где через вечер духовой оркестр на треть состава пьянил довоенными «Брызгами…». Всем так хотелось кого-то ждать и провожать.
Под эти «Брызги» школьный друг и прошептал: «А Юрка на тебе жениться хочет». Игра ей нравилась. Она сказала: «Правда?» Школьный друг прошептал: «Зуб даю».
Может, она подумала, что юный Рыжиков пусть и не офицер, но носит сапоги, а не обмотки. И что десантник – это так красиво… И что у них настоящий роман. Еще одна их одноклассница работала в городском загсе. Она же и второй свидетель. После формальностей осталось пожить семьей ровно два дня и одну ночь. Только вопрос – где? Почему не у родителей? Во-первых, у всех жили по три семьи эвакуированных. Во-вторых, они, кажется, так и узнать ничего не успели. На два же дня и тревожить не стоило. Кажется, так.
Опять подружка. Вернее, ее комната. Вернее, комнатушка. Молодая жена из дома вышла на работу. А на работе взяла двухдневный отпуск. Им даже начальник отделения пожаловал четвертиночку спирта, правда так и не поняв до конца, кто на ком женится. Весь первый день они и просидели за ней и молодой картошкой с селедкой, все четверо. Только отрываясь, чтоб покрутить патефон. Ах эти черные глаза… Глаза у молодой жены были темно-карие. Иногда школьный друг и подружка переглядывались, и кто-нибудь стыдливо говорил: «Горько…» Юный Рыжиков с одноклассницей сближали лица и легонько сталкивались сперва носами, а потом вытянутыми губами. Друг с подружкой аплодировали, патефон спрашивал, помнит ли Саша наши встречи и вечер голубой… Школьный друг поднимал тост и желал этому дому много веселых детей. «Этому дому» понималось фигурально, так как на самом деле дом был чужой. Но суть все схватывали и, в общем, радостно краснели.
Потом они долго гуляли по вечерней аллее, пили у мальчика самодельный кислый квас, смотрели кино «Большой вальс» (век бы смотрели), затем танцы для выздоравливающих. Доктор Рыжиков и его школьный друг переминались в углу, а молодая жена и подружка были нарасхват у лейтенантов. Лейтенанты превосходили друг друга в галантности, только шеи были тонковаты для стоячих воротников гимнастерок.
Танцы кончились, и все разошлись по домам. Ночевать молодой жене пришлось дома под страхом родительской кары, поэтому и доктор Рыжиков поплелся к матери.
Оставался день последний. Вечером поезд доктора Рыжикова уходил в сторону фронта. Школьный друг обегал последние комиссии. Подружка трудилась в горзагсе. С утра зарядил дождь, по улицам растеклись грязи, спасительного гулянья не предвиделось. Пришлось начинать семейную жизнь. Была голубая кровать с никелированными шариками, которая мучительно скрипела, чуть на ней шевельнешься. Были пугливые холодные руки и синие пупырышки на коже. И желание снова вернуться за ту черту, где все так понятно и просто: аллея, танцплощадка, шепот на скамье.
Остаток времени доктор Рыжиков, как более хозяйственный, стирал подружкино постельное белье, а жена-одноклассница с обиженным лицом читала на диване «Анну Каренину». Доктор Рыжиков исподтишка посматривал на нее с состраданием и испугом, мучаясь, все ли сделал как полагается или что-то напутал.
После отпуска и переформировки генерал-майор снова осматривал свое воинство, и когда проходил рядом, доктор Рыжиков почему-то решил доложить:
– Товарищ генерал, ваше приказание выполнено!
Генерал от такой неожиданности даже запнулся в своем ходе вдоль строя. Слыхано ли – приказание выполнено! Он поискал глазами подателя этого дерзкого писка и, конечно, его не узнал. То ли податель в отпуске действительно разъелся, то ли генерал в последнее время слишком много приказывал. Поэтому доктор Рыжиков взялся напомнить:
– Насчет жениться, товарищ генерал!
Комдив уставился в испуганно-счастливое лицо.
– Так… Ну и что?
Взгляд генерала сурово и неподкупно еще что-то требовал.
– Вы приказали, товарищ генерал, я женился…
– Я?! Ну, тогда молодец. Я понял. Молодец. Теперь и умирать не страшно, верно, боец?
– Так точно, никак нет, не страшно! – с энтузиазмом согласился боец, не очень понимая в свою очередь, почему это раньше было страшно, а теперь должно быть не страшно. И почему, собственно, все вокруг хихикают в кулак, комбат исподтишка кажет кулак и лишь один генерал хмуро смотрит сквозь всех как бы в какую-то даль. Как будто и не рад, что его приказы выполняются с полуслова.
Не все из подробностей у него повернулся б язык рассказать жене архитектора Бальчуриса. Но, может, ей интересно было бы знать, что комдив вообще любил поговорить с солдатами. Особенно перед высадкой. Наденет солдатские ватник и шапку, подсядет, заведет компанию… Раз даже старшина попался. Подходит к роте, а там какой-то охламон консервами НЗ обедает. Взрезал банку и как ни в чем не бывало даже других угощает. Старшина по спине его хвать: «Под трибунал захотел?» Он только что на построении запретил прикасаться к сухому пайку. А то сожрут, черти, все до вражеского тыла. «Я вас, таких-сяких, зря двойной порцией каши кормлю?!» А солдат повернулся – старшина чуть не умер. Солдат оказался комдивом.
Теперь-то доктор Рыжиков знал, куда, в какую даль смотрел сквозь него и сквозь строй десантный генерал-майор и почему хмурился, когда все хихикали. Смотрел он сквозь время, а видел впереди еще полвойны. И ничего особо радостного в этой половине для рахитичного молодожена и его юной жены он не видел. Просто ничего.
Почему доктор Рыжиков сейчас захотел рассказать то, о чем никогда не рассказывал? Кто знает… Скорее всего он не решился бы на это, останься здесь еще жена архитектора Бальчуриса. Но когда ушла – тянуло рассказать. Ночь и усталость, внезапное дежурство, похищение больного, вина за давнюю удачу – много чего есть на свете, чтобы поколебать самого стойкого.
С печальным, почти детским вздохом самый стойкий уже был готов принять как неизбежность свой заветный единственный сон про войну. Но святое отношение к дежурству, еще со времен караулов, взяло вверх. Он прошел по постам. Неслышно останавливался возле палат, вслушивался, не тяжко ли кому. Зашел к своим. Привычно открыл форточку, чтобы закрыть на обратном пути, вынул мячик из руки спящего лейтенанта и переложил под подушку, подоткнул одеяло футбольному тренеру, легким движением ладони снял храп бедолаге крановщику.
Обследовав свой коридор и осторожно заглянув в листок с процедурами перед спящей за своим столом дежурной сестрой, он обошел ее и снова двинулся на четвертый этаж, в заповедник. Там, как в другом царстве, прокрался по мягкому импортному ковру между пальмами и пейзажами маслом. Среди многих одинаковых дверей с рельефным матово-зеленым стеклом (а не убого покрашенным масляной краской, как в родной хирургии) он снова нашел ту, возле которой, стоял вечером. Снова прислушался – и снова ничего тревожного. Во сне припадки случаются реже, но он все-таки боялся отойти.
С той ночи, как больного без документов, имени и адреса, но с жуткими эпилептическими судорогами, сняли с проходящего поезда, доктор Рыжиков старался лично его и укладывать спать, и поднимать по утрам, чтобы быть более или менее спокойным за начало и конец дня. Пришлось еще много писать по разным городам, чтобы найти концы и родственников, вытребовать историю, оповестить о нахождении сбежавшего, как оказалось, от своей мнительности бедняги… Единственное, на что доктор Рыжиков не решился, – отправить его обратно на прежнее место. Хотя за одноместную палату для иногороднего больного его довольно-таки грызло экономное начальство. С припадками возился он один, при поддержке и помощи суровой и прямой медицинской монахини Сильвы. Она являлась тут же – с полотенцем, шприцами, резиновыми бубликами. Дверь запиралась изнутри, и пугливые больные менялись в лицах, проходя мимо. На больных плохо действуют даже чужие стуки и стоны.
Откуда взялось, что он еще и Герой Советского Союза, доктор Рыжиков знать не знал. Но сразу все изменилось. И неудобный иногородний мгновенно оказался в лучшей «одиночке» заповедника. Может, это и справедливо, может, только он и оправдывал наличие этого размалеванного коридора… Так что спорить было не с чем.
Доктор Рыжиков и не спорил. Он стоял и прислушивался.
7
Утром можно было подумать, что он с этого места не сходил. Но он побывал у себя, благополучно сдал дежурство и даже получил какую-то бумажку, в которую сейчас и вчитывался, прежде чем открыть дверь.
«Прошу разобраться, с какой целью врач Рыжиков Ю.П. не выпускает меня из палаты и систематически приходит срисовывать и измерять мою голову в целях тайного эксперимента… Меня фотографируют как экспонат для показа, несмотря на мое тяжелое положение… Это не кончается, несмотря на мои жалобы и обещания выпустить меня, пока меня здесь не нашли… Требую разобраться, почему со мной проводят эксперименты…»
Предстояло писать на это объяснительную, и доктор Рыжиков со вздохом спрятал бумажку в карман. Время растекалось, как неуловимая ртуть из разбитого градусника.
Не резко открыл дверь.
– Можно вас потревожить?
Зашторенная мгла скрывала кого-то, кто тенью метался по комнатке.
– Пришел поздравить с новосельем. Подарки принимаете? Только надо смотреть на свету.
То, что он услышал в ответ, походило на бульканье с зажатым носом: буль-буль-буль… Другому бы потребовался переводчик, но он уже успел изучить этот язык.
– Нет, – сказал он, – я один. Никто подглядывать не будет. – И включил свет.
Больной повернулся к нему лицом.
Но лица у него не было.
Вместо лица – нечто срезанное или, точнее, вмятое наискосок. Бесформенный, безносый и безскулый, безлобый комок. Только неизвестно как примостились глаза. Очень испуганные от вспыхнувшего света. Синеватая, пористая, мертвенная кожа. Мы бы с вами упали, а доктор Петрович как ни в чем не бывало сказал, и даже с завистью:
– О, у вас здесь комфорт! Мягкая мебель, полировка. Правильно сделали, что переехали. Вот вам от всех нас… И развернул большой альбом Бидструпа, от которого самый мрачный рот сам растягивался до ушей.
В ответ ему что-то пробулькало.
– На той неделе, – дал он ответ на ответ. – Вы сейчас готовы на «хорошо», а будете на «отлично». Все идет прекрасно. Живете в комфорте… – Повторив про комфорт, он пощупал в кармане бумажку и хотел было добавить, что «у нас», конечно, такого не дадут. Но решил не жаловаться. – А вам десантники не говорили про нашу традицию? Веселая была традиция. Если эшелон шел на фронт, а на разъезде паслась коза, ее забирали с собой. А к столбу прилепляли записку: «Прощай, бабка! Ушла добровольцем в десантные войска…»
Снова «буль-буль-буль».
– Да, – согласился доктор Рыжиков. – Это вы правы. Теперь об этом думаешь иначе. Что старушка – вдова, что немец хату спалил, что коза последняя… А в девятнадцать перед боем… Но все равно десантники хорошие ребята… Когда-то вы их спасли, а теперь, и они вам помогут. Это ведь и есть фронтовая взаимовыручка, правда?
Чуть более проникновенное бульканье, как бы с нотками признательности.
– Ну и отлично, – сказал доктор Рыжиков. – Хотите теперь новости? Вот в Америке, в штате Огайо, в одном округе шерифом назначили женщину, Кэтти Крэмбли. Рост 186 сантиметров, вес 110 кило. Ничего себе Кэтти, не правда ли? Как бы вы, подчинились такой участковой?
Не успел больной сообразить, как быть, подчиняться ли, как дверь открылась и возникло новое, пока еще полузнакомое для нас лицо.
– О чем вы тут секретничаете? Юрочка! Это не меня ты называешь участковой? Я могу рассердиться!
Несмотря на обещание рассердиться, голос был самый игривый, а выражение – сладчайшее. То и другое в основном типично для заведующей заповедником Ады Викторовны. Особенно в момент выпускания яда.
– Юрочка, не забывай про режим! В нашем отделении режим – святая святых! Сначала процедуры, потом эксперименты!
Любезнейшая улыбка, шутливо грозящий пальчик.
И все. Яд впрыснут, дверь закрыта. При слове «эксперимент» больной как ужаленный вздрогнул и отодвинулся от доктора Петровича. Вернее, отдернулся. Доктор Петрович же снова нащупал в кармане сложенное заявление. Мнительность таких больных известна всем. И даже слишком хорошо известна. Сколько ни расслабляй больного, как ни массируй его настороженное сознание, одно меткое слово – и он снова непримиримо сжался. Как сейчас больной Туркутюков.
– Да ну, какой эксперимент! – как ни в чем не бывало сказал доктор Рыжиков вроде бы в дверь, а на самом деле для своего подопечного. – Это давно делают в любой райбольнице. Любой районный хирург. Еще в Севастопольскую оборону, при Пирогове отработано. Очень простая, надежная операция. Проще, чем военный котел. Кстати, войны здорово хирургию продвинули. Хоть благодари их за это…
Вопросительное бульканье, тревожное бульканье.
– Да нет, – ответил ему доктор Рыжиков. – Так готовят каждого. Только в зависимости от организма. Меня, вас – каждого немножко по-своему. Я ведь сказал, сейчас вы хорошо готовы, а через неделю будете отлично… Да вам вообще ни о чем думать не надо. Вы уснете и проснетесь. И все. Я вот так же один раз под Балатоном заночевал в одном погребе, а в это время немцы успели и прийти, и уйти… Шестая танковая армия СС прорывалась. Мать чуть не получила похоронку…
Иногда доктор Рыжиков договаривался до того, что Туркутюков даже хихикал, проникаясь к нему глубочайшим доверием. С доктором Рыжиковым ему было хорошо. Но после его ухода, с другими людьми, становилось тревожнее, во всех словах чудились намеки. И он плотнее зашторивал окна.
Дверь снова открылась, но на этот раз вошла суровая монахиня Сильва. Бром, дегидратирующее, успокаивающее, расслабляющее, внутреннее, внутримышечное… Туркутюков глотал и запивал, косился на острие шприца, а доктор Рыжиков расслаблял, расслаблял, расслаблял…
– Наша медицина, как и ваши ВВС, – страна чудес. Бывают такие загадки, что ни одна академия не разгадает. Например, в национальном парке Йеллоустоуна есть чудак-охранник. В него уже целых шесть раз попадала молния. Представляете? И ничего. Даже инвалидом не стал. Только небольшой нокаут – и снова под молнию… Удивительные есть люди. Мы даже не подозреваем всех возможностей человека. Я сам видел, как одного демонстрировали в качестве изолятора. Дают ему два оголенных провода по двести двадцать, он держит, и лампочки не горят…
Потом он рассказывал, как сначала десантников возили на выброску в ящиках, подвешенных под крылом аэропланов. Как бомбы. Нажал пилот на педаль – и все высыпались… А главное – нечего нервничать, насиловать себя. Лежи спокойненько и жди.
Потом, вечером, рисовал разницу между немецкой и сибирской овчаркой. Или подвесную дорогу тбилисского фуникулера. Или что угодно, лишь бы Туркутюков уснул без припадка.
8
– …Ну хорошо, – частично сдался он Валере Малышеву, – кое-что можно доверить машине. Но пусть она сейчас решит, кому идти, кому ехать.
– Как идти?! – заволновались Анька с Танькой. – До леса далеко!
– Нас в наличии пятеро, – продиктовал он условия. – А велосипеда четыре. Из низ два полувзрослых и один дамский. Допустим, кто-то берет Таньку на багажник…
– Я сама поеду! – воспротивилась Танька.
– И я сама! – на всякий случай Анька. – Мне пора взрослик покупать, я уже не вмещаюсь.
Велосипеды, как и «геркулес» на воде, были символом воспитательной веры доктора Рыжикова. А прогулка в лес в первое настоящее летнее воскресенье готовилась целый год. Лес уже звал их шелковой травой и новенькими клейкими листочками, а доктор Рыжиков все не мог до него доехать. У Аньки с Танькой уже четыре раза высыхали бутерброды с колбасой. Вернее, конечно, высохнуть им не давали. Но на доктора Рыжикова уже сильно обижались.
– Ну, я вообще-то лишний, – бодро сказал Валера Малышев, которому до смерти хотелось в лес, но только не со всеми, а вдвоем с Валерией.
– Только без дезертирства, – предупредил доктор Рыжиков. – Это не математический способ.
– Давай уж прокатись на дамском, – покривила губы будущий юрист. – Все равно феминизация. А я соседский телевизор посмотрю. Нам за «Человек и закон» зачеты ставят. Если бы «В мире животных» шло за семейное право, так я бы просто день и ночь училась.
– А я ужасно в лес хочу, – вздохнул доктор Рыжиков по природе. – Наверное, я в душе волк, и как меня ни корми… Мы с Рексом родственники. Нам надо тереться о деревья, кататься по траве, выть на луну и лаять друг на друга. Если бы нас отпустили, мы убежали бы в лес или в горы, жили бы честным разбоем, я его научил бы смелости, он меня – мышей есть… Есть теория, что в каждом человеке сидит какая-то зверушка. В общем, это и научно. В нас наслоились нервные системы, начиная от амебы. Затем все по очереди: червяки, рыбы, птицы, птеродактили… – Он обрисовал червяка ящерицей, потом зубастой акулой, потом своим любимым волком, потом добродушным слоном. – И кто-то застрял в этом лифте… И так и остался… Вороной… Или крокодилом…
– Ты тюлень, папа! – сказала суровую правду Валерия. – Волк не жалеет ни ягнят, ни зайчат, режет всех. А ты переваливаешься с боку на бок и жмуришься. И ешь кефир и травку.
– Все мы немножко лошади, – покорно вздохнул доктор Рыжиков. – Ты в таком случае рысь. С примесью ехидны. У тебя мелкие острые зубы, злая высокомерная улыбка, быстрая реакция…
– Кого же это я загрызла? – заинтересовалась Валерия.
– А я, чур, ежик! – закричала Танька, не дав доктору Рыжикову ответить, что Валерия еще загрызет многих.
– А я мартышка! – обрадовалась Анька. – У-у!
Доктор Рыжиков ловко обвел своих слонов и ящериц и поверх всех образовался человек. Снизу к нему приделался велосипед, сверху – берет. Человек в берете ехал на велосипеде, неся внутри себя множество всякого зверья.
– Вот и венец творения, – представил свое произведение доктор Петрович. – А знаете, что венчает это грандиозное сооружение?
– Берет венчает! – сразу нашла Танька.
– Велосипед! – солидно поправила Анька.
– Овсяная каша, – брезгливо оттопырила губу Валерия.
– Пожалуй, хороший компьютер, – прямолинейно подошел к делу Валера Малышев.
Доктор Рыжиков только открыл рот, чтобы сказать про свои любимые лобные доли. Какие они замечательные, и как обязывают каждого хорошо учиться и помогать дома старшим (отчего Анька с Танькой сразу сморщились бы: опять завел про свое лобное место). И как надо беречь лоб от ударов. Лобные доли были третьим незыблемым постулатом воспитания, исповедуемым доктором Рыжиковым вместе с велосипедом и овсяной кашей.
Но, посмотрев в окно, он почему-то промолчал.
От калитки по кирпичной дорожке в очень красивой солнечной светотени к дому шла девушка в длинном зеленом платье. Платье было вечерним, а час был утренним. Поэтому доктор Рыжиков и задумался. Кроме того, с каждым шагом все виднее становились трагические глаза девушки. Не говоря ни слова, она остановилась у окна и стала смотреть через комнату на доктора Рыжикова. От этого молчания и взгляда все вдруг оглянулись и тоже увидели ее.
– Маша… – сказал наконец доктор Рыжиков. – Вы как классический женский портрет в иссохшей раме нашего окна.
Она трагически молчала.
– Я бы назвал вас «явление весны народу», – вынужден был дальше заполнять паузу доктор Петрович. – Если бы уже не начиналось лето…
Перед комплиментом Маша не устояла и робко улыбнулась. Но продолжала чего-то ждать, глядя на доктора Рыжикова. Ему пришлось подняться, перегнуться в окно, оказаться наполовину в саду и там выслушать несколько слов шепотом на ухо. Все притихли, гадая по его спине, доброй или худой будет весть.
– Вот и прекрасно! – выпрямился он. – Один велосипед по блату освободился. Я приглашен в гости.
Девушка Маша замкнулась. Анька с Танькой надули губы. Валерия прищурилась на зеленую пришелицу. Но вслух никто ничего не сказал. Это было не принято и бесполезно. Четыре велосипеда (взрослый, дамский и два полувзрослых) нехотя протарахтели по кирпичной дорожке, выложенной лично доктором Рыжиковым. Протарахтели и продренькали, что что-то вдруг расклеилось, что зря со вчерашнего вечера так радостно резали колбасу к бутербродам (любимую в отличие от нелюбимой овсянки) и заливали в термос чай.
– Красивый у вас сад, – вырвалось у зеленой девушки.
– Запущенный, – почтительно ответил доктор Рыжиков. – Как вся семейка. Зато у вас замечательно модное платье. Я бы изобрал вас царицей бала.
Вместе со старинными маршами доктор Петрович обожал и старинные вальсы.
– Сейчас придем на бал, – сказала она и заплакала.
Среди сногсшибательной молодой сирени, нежных зарождающихся роз, отцветающих яблонь и вишен, наверное, никогда еще не было такой грустной девушки. Ни на одной картине. И на улице тоже. Поэтому у встречных молодых людей захватывало дух и они спотыкались, заглядевшись на Машу.
– Смотрите, в каком вы успехе, – порадовался доктор Рыжиков. – Себе завидую. – И спросил непонятно о чем: – Давно?
– Со вчерашнего вечера, – ответила она не более понятно. – Все, брошу я этот бал. Если не выйдет, не вернусь. Переночую на вокзале и уеду. К маме… И вас только зря мучаю. И все время боюсь.
– А вы не бойтесь, мучайте, – серьезно сказал доктор Рыжиков. – Я думаю, выйдет.
– Вот наш крейсер, – сказала зеленая Маша.
Из всех этих непонятностей пока было понятно, что крейсер – пятиэтажка, обвешанная по балконам бельем. К каждому балкону подводила своя наружная лестница, так что все квартиры имели капитанский мостик.
– Ну что ж, – решился доктор Рыжиков. – Наверх вы, товарищи, все по местам? А вы пока куда?
– Пойду на речку, утоплюсь, – решила зеленая Маша.
– Утопленные и повешенные лучше поддаются реанимации, – одобрил выбор доктор Рыжиков. – Если, конечно, не проломлена теменная кость или не сломан шейный позвонок с повреждением спинного мозга. Так называемый синдром ныряльщика. Проходили? Так что не прыгайте вниз головой, а постарайтесь солдатиком. Крепко зажмурьтесь, наберите в грудь воздуха и прыгайте стоя. Как мы на парашютной тренировке. Нам лейтенант Бабакулов приказывал зажать между сапог расческу, и кто уронит – добавка в пять вышек. Вот только неудобство с вашим бальным платьем. Раздуется как парашют, накроет пузырем, вместо того чтобы камнем идти ко дну, будете барахтаться, визжать противным голосом, мальчишки прибегут хохотать… Другое дело – в купальнике. Эффектно, элегантно, грациозно. И главное, ноги красивые.
– Да ну вас, – отвернулась Маша спрятать улыбку, несовместимую с ее трагическим решением.
– Идите-ка в кино, – дал совет доктор Рыжиков. – Там две серии «Гамлета». И обе, говорят, без дураков. Говорят, там Смоктуновский какой-то объявился с новой трактовкой. Я все рвусь, да не судьба. Был бы моложе – сам повел. А из кино – на танцы…
– Вы придумаете…
Крейсер гостиничного типа переживал полундру. На всех надстройках с длинными общими перилами суетилась команда. Все вытянули шеи – и именно туда, куда поднялся доктор Рыжиков. По обнаженной, как ребра на рентгене, лестнице он дошел до источника скандала и позвонил в дверь на третьем этаже. Из-за перегородки с соседнего балкона высунулась осторожная голова и предупредила: «У него там ружье! Мы вызываем милицию».
– Я как раз из милиции, – любезно сказал голове доктор Рыжиков, – Пойдете свидетелем?
Голова скрылась. Доктор Рыжиков позвонил еще раз. Потом еще. Пока не дозвонился до того, что в дверь грохнуло что-то стеклянное и хриплый голос заорал: «Пшел вон!»
Доктор Рыжиков вздрогнул, но позвонил снова. «Стрелять буду!» – предупредил гостеприимный голос.
– А реанимировать тоже? – спросил доктор Рыжиков в дверь.
– Реанимировать?! – захохотали там. – Пусть лысый черт тебя реанимирует!
– Успешная реанимация облегчает участь обвиняемого, – терпеливо пообещал доктор Рыжиков.
– Ты, что ли, Петрович? – узнали его наконец.
– Я, – признался он кротко.
– Чтой-то голос не твой, – усомнились внутри. – Ее там нет?
– Отослана в кино, – доложил доктор Рыжиков. – Ты в безопасности.
Дверь приоткрылась. В щели возникло узкое нетрезвое лицо. Не теряя момента, доктор Петрович просунул в дверь носок туфли – на случай, если его не узнают и захотят захлопнуть.
– Мастер! – Узкое лицо стало чуть шире от пьяной улыбки. – Родной. Весьма. Какого же ты… Голос вроде не твой, а рожа твоя. Может, ты вампир в образе мастера? Пришел напиться моей крови?
– Сопротивление бесполезно, – сунул носок поглубже доктор Петрович. – Я воевал в десантных штурмовых группах.
Взяв штурмом комнату, он увидел экзотику. Посередине стояла шеренга бутылок – в основном по ноль восемь. Одни были в разной степени опорожнены, другие еще полные. Хозяин в тельняшке прохаживался перед ними и разговаривал как с людьми, время от времени откупоривая и прикладываясь вразброс. Такова была диспозиция в момент прихода доктора Петровича.
– Мастер пришел, – объяснил он им, усадив гостя в зеленое вытертое кресло, единственную мебель этой комнаты, не считая полутораспальной кровати, больничной тумбочки и этажерки. – Свой в доску. Я вам про него говорил. Он друг. Ему на нас Машка накапала. Сейчас будет нас агитировать. За лобные доли. Но они у нас тоже не медные. Мы сами агитаторы с усами. Ну-с слушаем!
Хозяин тоже был малый длинный, под стать доктору Рыжикову, только сутуловатый и чуть развинченный в движениях. Правда, выпив, он стал как деревянный и держался доска доской с задранным подбородком.
– Виноват, – поправил доктор Рыжиков. – Я бы еще послушал. Может, они что-нибудь скажут?
– Они говорят! – воскликнул радостно хозяин. – Надо только слушать! Они говорят: выпей, Коля, еще и угости нашего дорогого мастера! Налей ему штрафную!
– Да у тебя и ружья нет, – пропустил доктор Рыжиков мимо ушей это заманчивое предложение. – А крик поднял – весь дом в круговой обороне. Вот прибежит участковый, начнет руки выламывать…
– Мастер шутит, – объяснил Коля-хозяин взволнованным бутылкам. – Сейчас он с нами выпьет за здоровье Ядовитовны и Вани Дикого, своих лучших друзей.
Коля поднял почти литровую бутылку, поглядел ее на свет, болтанул чернильную жидкость и сделал гулкий булькнувший глоток прямо из горла.
– На! – протянул он бутылку. – Или стаканом? Ты же воспитанный. Всем дорогу уступаешь. – Он налил полный граненый стакан, от вида которого по спине доктора Рыжикова побежали мурашки.
– Коля, – сказал он просительно, – я ведь контуженный. А завтра операцию готовить.
– Да хоть сию минуту! – воскликнул Коля развязно. – Ты меня когда-нибудь видел без формы? О! Ты, я вижу, усомнился! По глазам вижу, усомнился! Тогда я сейчас добью этот пузырь и…
Коля в тельняшке что-то решил доказать и задрал бутылку донышком к потолку.
– Коля! – с ужасом сказал доктор Петрович. – Это же анилиновый краситель!
– Краситель?! – Коля вытер рот рукавом тельняшки, уже пошедшим чернильными пятнами. – Да! Но это священный краситель!
– Бурда! – с жалостью сморщился доктор Петрович.
– Священная бурда! – подтвердил Коля-моряк. – От слов «академик Бурденко». Отец родной советской нейрохирургии! Но можем перейти с бурды на спирт…
Он с деревянной прямотой отправился в совмещенную ванную, где в тайнике за унитазом была заначена прозрачнейшая склянка.
По всему было видно, что полосатый Коля собрался в далекое плавание, а главным образом – по начатым и заготовленным бутылкам. Доктор Рыжиков представил Аньку с Танькой рвущими зубами любимую вареную колбасу возле велосипедов, лежащих на траве. Валерия небось отдала им свою, прекрасно зная, чем отвлечь этих маленьких людоедок от своих интересов…
– Небось ворованный? – спросил он про Колину склянку.
– Покупного не держим! – гордо ответствовал Коля. – Сэкономленный, чтоб тебя не кривило. Зато кристальный как слеза. Благородный, как ангел с крыльями. Специально для ангелов, таких, как ты, Петрович. Ты знаешь, что ты у нас ангел?
– Конечно, – благоразумно согласился доктор Рыжиков, чтобы не спорить лишний раз. И даже набросал на подобранном куске картона ангела в белом реющем халате и с медчемоданчиком. Ангел пролетал над крейсером. Из крейсерских труб валил дым, ветер трепал развешанные матросские кальсоны, Бугшприт крейсера венчала фигура, похожая на выпившего Колю. – У меня есть даже пара запасных крыльев. Хочешь, подарю?
– Нет! – гордо отказался Коля. – Я буду пикирующим дьяволом. Чтобы боялись.
– Кого пугать-то? – удивился доктор Рыжиков.
– Кого надо, – угрюмо посулил Коля-моряк. – Давай мы с тобой составим гармонирующую пикирующую пару.
– Гармоничную, – подсказал доктор Рыжиков.
– Раз пикирующую, значит, гармонирующую, – заупрямился Коля. – Ты будешь пикировать, творить свое добро, а я после тебя исправлять твое добро на свое зло. И в мире будет гармонировка. Гармонизация…
– А почему не наоборот? – полюбопытствовал доктор Петрович. – Почему сначала не ты со своим злом, а потом не я со своим добром?
Из-под его карандашного огрызка вылетела в небо полуночи странная пара. Один – из себя чернокрылый, в тельняшке и, разумеется, со зверской мордой – сыпал на землю из соответствующего места авиабомбами. По его следам второй, с приторно-сладким лицом и цветочками на концах крыльев, сыпал под себя цветами и конфетами.
– Это я скажу, когда ты тяпнешь, – пообещал моряк.
– Коля, я контуженный, – слабо напомнил доктор Рыжиков.
– А я проутюженный, – мрачно ответствовал Коля. – Мешком стукнутый.
– Голова разболится, – воззвал ко всему лучшему в нем доктор Рыжиков.
Но все лучшее в Коле оглохло.
– Голова не задница, – запросто срезал он. – Сидеть не мешает. Редко приходится видеть людей, равнодушных к халявному спирту. Ты первый такой. Я лично его просто не достоин. Он слишком чист для моих черных мыслей. Не для себя держу, для почетных гостей. Мне и чернил хватает. Ну давай, мастер. А то моя душа не успокоится. А ты успокоишь – и все… Зуб даю, остановлюсь.
Тут его отвлекли. Он раздраженно бросился к окну, в которое ворвалось что-то резкое и вредное. Оно действовало на слух и на нервы как визг циркулярной пилы по ржавому железу. На челюстях у Коли-моряка напряглись желваки. Он мотнул головой, как бы сгоняя с лица муху, которая не сгонялась. Доктор Рыжиков на слух определил, что во дворе вокруг дома гоняли два садиста на велосипедах с моторчиками, исконные враги тихих и правилолюбивых велосипедистов-педальщиков.
Треск удалился за дом, и малость полегчало.
– Да, о чем это мы? – вернулся Коля.
– По небу полуночи Врангель летел, – напомнил доктор Рыжиков. – И грустную песню он пел. Товарищ, барона бери на прицел, чтоб ахнуть барон не успел.
– Да… – вернулся к существу Коля. – Ты долго еще на себя чихать позволишь всякому дерьму?
Доктор Рыжиков пожал плечами, как всегда, когда что-то его не касалось.
– Я их, тля, расстреляю! – снова метнулся Коля к окну, куда вгрызалось нечто бормашинное.
Весь город ненавидел этот треск. Весь город им желал повышибать мозги напрочь. И только доктор Рыжиков сейчас мысленно благословлял их. Коля от них забывал все на свете. По его закостеневшей позиции было видно, что в своем подкорковом кино он беспощадно расстреливает гонщиков из автомата Калашникова. Он даже пошел пятнами, всаживая – нам не понять такое наслаждение! – в них очередь за очередью огромно-фантастический боезапас.
Но и после детоубийства ему не полегчало. Даже когда треск снова заглох за углом.
– Они же из тебя мартышку делают!
Видно, Коля еще не со всеми расправился.
Доктор Петрович стал рисовать мартышку в докторском колпаке. Мартышка висела на хвосте и разбивала нервным молоточком кокосовый орех (каким его представлял автор, ни разу в жизни не видевший настоящего кокосового ореха, но видевший очень много нервных молоточков и весьма симпатизировавший обезьянам).
– А ты изволишь балагурить! Блаженненький… – Коля все норовил стукнуть куда-то копытом. – Ты не прикидывайся! Ты что, не знаешь, что эта дама творит?
Доктор Рыжиков показал своим видом, что лучше жить как можно меньше зная.
– Пока ты там кровь проливаешь, она деду мозги угольной пылью пудрит! Что ты хочешь на этом вшивом мотоботе свой флаг поднять, а его за борт сплавить. И он же верит! Он звереет! Ты понял? Она его как пузыря накачивает! Я этими ушами слышал! Ну и санобработочка! Много я видел их на море и на суше, но такой не видал! Ты дурак дураком, честный солдат, ничего не видишь и не слышишь, кроме устава пехоты. Знаешь, что она вчера корреспонденту сказала, который приперся в больницу?
Доктор Рыжиков снова показал, что все знать невозможно, да и вредно.
– Сказала, что про тебя писать нельзя, поскольку ты баптист!
Доктор Рыжиков удивился, но, по мнению Коли, так мизерно, что Коля только растравился.
– Баптист ты, понял? «Он у нас такой странный. Не курит, не пьет, за бабами не бегает, соблюдает правила своей секты». Понял, нет? Ну и тот дурак пошел акушерок с двойнями фотографировать. Скажи хоть что-нибудь!
– Акушеркам за полноценные двойни надо выдавать премии, – послушно сказал доктор Рыжиков. – А матерям, во-первых, материальное пособие, во-вторых, квартиру без очереди, в-третьих, бесплатные ясли, в четвер…
Тут Коле-моряку слов не хватило, и он чуть не бросился на доктора Рыжикова, но по пути подвернулась бутылка, и он ее сердито взболтнул.
– Все мы немножко лошади, – вздохнул доктор Петрович.
Коля чуть не метнул бутылку в окно. Но сделал два больших глотка и успокоился.
– Может, она тебя домогалась, а ты… Бабы после этого лютуют. Коленки-то у нее ничего. Показывала?
Естественно, что доктор Рыжиков при встречах в коридоре косил на Ядовитины округлые коленки. Конечно, чисто машинально. И даже когда-то однажды, в бытность молодыми врачами, проводил домой после дежурства. Без ничего, а просто как попутчик. Но в общем вокруг нее всегда увивались взаимно нужные ей люди с золотыми зубами, и доктор Рыжиков знал свой шесток.
Но про одно он забыл. Коля просто не знал. Как однажды, не так давно, она действительно проявила к нему интерес. И даже попросила в сторону с чарующей улыбкой: «Юра, это похоже на сдавление мозга?» Юра добросовестно уперся взглядом в понятные им, докторам, кривые энцефалограммы. «В общем, похоже», – сказал он. – Только не разобрать, чья голова, лошади или собаки». – «Ах, – заворковала она, – Юрочка, ты просто прелесть! Напиши, что это сдавление головного мозга. Это надо для одного очень хорошего человечка, ты не пожалеешь. Ну сделай это для меня!» У некоторых миловидных дамочек есть такой неотразимый каприз: «Для меня». Прыгни в окно, укради, убей, продай. «Пожалуйста, миленький, для меня». – «Я как-то не могу писать заключение лошади, не будучи уверен, что это не собака…» Доктор Петрович и думать не думал рвать из-за лошадей и собак отношения с коллегой, носящей такие кокетливые темно-коричневые кольца волос под кокетливой шапочкой. Но и спинным мозгом можно было понять, что просто-напросто готовится военная отсрочка какому-нибудь завмаговскому отпрыску. Капризно оттопыренная губка выдала большую удрученность Ады Викторовны. «Юрочка, давай мы с тобой хоть в кабаке как-нибудь посидим, а то ты такой медвежонок… Юрочка, ты ведь такой хороший человечек, и я для тебя что-нибудь сделаю, ну скажи, что тебе надо?» Доктор Петрович только раз в жизни обманул военкома, когда в сорок первом клялся, что кончил десять классов. «Между прочим, в воздушно-десантных войсках замечательно кормят. В военное время там гораздо сытней, чем в пехоте. Очень рекомендую». Как будто не знал, что женщины паролем «для меня» больно жалят за отказы, но смертельно – за догадки. Хотя и продолжают улыбаться.
Ну, забыл так забыл. Все не удержишь в памяти. Даже докторской.
– Не предлагала? – задумался Коля. – А почему жужжит как осиха ужаленная? – В данный момент в представлении Коли осихи особенно ядовиты в ужаленном виде, если так можно выразиться. – Ну что? – напомнил он. – Трезвый пьяному не товарищ. Долго я за тебя буду мучиться?
Налитый спиртом стакан оказался под носом у доктора Рыжикова.
– Я же контуженый, – почувствовал он тошноту.
– А я? – осадил его Коля. – Когда тебе дают под зад с ракетного противолодочного крейсера, думаешь, это не контузит? Если не тяпнешь, буду сосать, пока не высосу их все. Вот так. – Он сделал крейсерский глоток из необъятной бутылки и обвел рукой всю остальную стеклянную братию, готовую и к смерти, и к бессмертной славе. От этого широкого движения бутылка выскользнула из ладони, и красное вино забулькало по полу. Коля помедлил лишь секунду. Тут же, пав на колени, он стал вылакивать с серого линолеума красную лужу. Потом поднял лицо с кривой усмешкой. – Что, оскотинился? Будет хуже. С тобой – последняя!
Доктор Рыжиков знал, что Коля не обманет. Ни в том, ни в другом. Ни в том, что остановится, ни в том, что будет хуже. Колю он знал лучше, чем те, кто погнал его с ракетного крейсера.
Но доктор Рыжиков знал и то, что произойдет с его натруженным затылком от глотка спирта. Что на неделю череп сожмут чугунные слесарные тиски до тошноты и треска. Между тисками и Колиным штопором и надо было выбирать. В этом и состояла решающая минута его воскресной миссии.
Тут снова выручили братья мотовелики. Их стало штук пять. Пронзительный треск одноцилиндровых дешевых моторчиков насквозь раздирал череп. По скулам Коли-моряка пошли красные пятна. По новой боевой тревоге он схватил автомат и бросился к амбразуре. Треск очередей покрыл треск моторчиков. Пороховой дым смешался с бензиновым. Улица билась в судорогах. Но доктор Рыжиков был только благодарен. И даже наслаждался.
– Уф… – отстрелялся Коля. – Ну ты мне можешь сказать?
– Сказать – не сделать, – пообещал доктор Рыжиков.
– Сказать старому идиоту, что он старый идиот? И крашеной суке, что она крашеная сука? Сколько мы будем сидеть и кивать как ваньки, когда нам козью морду делают? И голосовать: то его в кандидаты, то в комиссии, то в президиумы… Единогласно, мать его дери! Все думают по-разному, а пружинки в локтевых суставах одинаковые… Ну почему, почему?
Доктор Рыжиков мог бы сказать Коле, что никто ему лично не запрещает сказать старому идиоту, что он старый идиот. Пожалуйста, иди и говори сколько влезет. Но беда была в том, что сейчас Коля мог действительно, недолго думая, выпрыгнуть в окно и побежать выкладывать Ивану Лукичу все насчет старого идиота.
– Я думаю, – осторожно повел он, – что все мы…
– Немножко лошади, – скривился Коля.
– И древние люди… – вздохнул по-рыжиковски доктор Рыжиков.
– Какие еще древние? – встряхнулся Коля.
– Обычные. Лет через триста после нас ведь тоже кто-то будет. И через тысячу. Для себя-то мы верх совершенства. А для них – древние люди со всем своим недоразвитием… В чем-то мудрые, в чем-то смешные…
– Ну и что? Что-то не доходит.
– Ну, не доходит так не доходит. Я просто думаю, как они будут рассматривать следы нашей с тобой культуры… Кем ты им покажешься, жрецом или шаманом?
Карандаш уже начал набрасывать здоровенного волосатого мужика, танцующего вокруг груды свежих черепов, похожих на бутылки.
– «Все мы лошади…» – передразнил Коля доктора Петровича. – Нет, ты не лошадь, ты баптист. Не пьешь, не куришь и теории разводишь. Думаешь, они насухую зафилософствуют? Дудки-с! Слушай, ты мне недавно приснился. Будто мы с тобой вдвоем тяпнули. Какой-то берег, травка, речка… Сидим и смотрим в костер… Ну почему во сне бывает счастье? Ну почему не наяву? А тут у Машки есть котлеты с чесночком. Она хоть и кобенится, но может…
Скользя в домашних тапочках, он съездил в кухню к холодильнику. Достал там холодные и маленькие, но очень аппетитные котлетки, застывшие прямо в сковородке. От котлеток доктор Рыжиков не отказался бы. Но насчет другого – лучше бы наехали мопеды. А они, как назло, атаковали какие-то дальние улицы. Подмоги не было.
– Приговор прозвучал, мандолина поет, и труба, как палач, наклонилась над ней, – взял он последнее слово. – Коля, завтра вас совесть замучает.
– Тебя завтра совесть замучает, – отразил Коля. – Слово военного моряка: выпьешь это – я выливаю все в раковину. И поговорим о твоем баптизме. А нет – мне тут на месяц хватит. Понял?
Не знаем, кем он себе представлялся в этот момент: может, и альбатросом, может и «летучим голландцем»… Но в самом деле от него просто невыносимо разило вонючейшим перегаром и табаком, глаза неряшливо воспалились, с волос сыпалась перхоть. Но он этого не замечал.
– Кстати, – почему-то вдруг вспомнил он, – вот ты, певец лобной доли, сколько навскрывал черепов. А есть разница между долями умного и долями дурака? Честного и прохиндея?
– Честного дурака и умного прохиндея? – задумался доктор Рыжиков.
– Ну, хватит баснями кормить, – вспылил Коля, возомнив себя соловьем. – Сейчас или никогда!
– Я лично разницы не видел, – тем не менее уклонился доктор Петрович. – Может, нужны специальные тонкие приборы, а я простой рядовой хирург. И даже не ефрейтор. Но вот когда вскрывают череп пьяного, из него несет сивухой, как из бочки.
– Я сам знаю, чем от меня несет, – высокомерно выразился Коля. – И ты непростой солдат. То есть я твой солдат. Хоть я военный моряк, а ты сухопутный десантник… Я мертвый встану и приду. Ты понял? А ты…
Наших все не было. Доктор Рыжиков выдохом подавил приступ отвращения и поднес стакан ко рту. Коля скомандовал «внимание» невидимому оркестру. Поднес котлетку и глоточек пива для запития. Затаил дыхание. Доктор Петрович выждал еще секунду – мотопедисты не возникли. Дальше отступать было некуда. Он опрокинул стакан себе в рот и задохнулся.
Пришел в себя уже с котлетой во рту. Но она не мешала выдыхать синее пламя.
– А ты далеко не слабак, – похвалил Коля. – Одним духом. Виден мастер по полету. Смотри, я свое слово держу, как морской узел. Засасываю и… – Он сделал настолько мощный глоток, что чуть не проглотил и саму бутылку. Затем поставил ее в ряд, критически осмотрел свою братию и выдал всей стеклопосуде: – Слушай мою команду! Караул и оркестр – в помещение! Команде разойтись! На верхней палубе прибраться!
Снизу ответили радостным треском мотопедисты – теперь уже не меньше дюжины. Как будто они со всего города собирали подмогу доктору Рыжикову. Но это была жизнь, а не кино, поэтому подмога опоздала.
9
…Маша давно ждала под крейсером. Он увидел ее уже в свете неверных микрорайонных фонарей. К вечеру она подмерзла в своем зеленом максималистском платье. Лицо тоже казалось зеленым – не то от усталости, не то от отражения зеленых листьев.
– Маша! – вгляделся он. – Откуда вы, прелестное дитя? Как русалка из вод Комсомольского озера. А мы ваши котлеты ели. Такие вкусные, что и вам не оставили.
– Мне и не надо, – сказала Маша кротко. – Кушайте на здоровье, приятного вам аппетита.
– Спасибо, – сказал он учтиво. – Но лично я проел хозяйские харчи не даром. Он вылил все бутылки в унитаз. Своей рукой. А теперь спит как сурок. Когда проснется и начнет лизать вам руки, вы уж не вредничайте, не пилите… От этого все часто начинается сначала. Обещайте быть Аве Марией.
Доктор Рыжиков ждал похвалы. Но Аве Мария, которой он так красиво польстил, вдруг отвернулась и расплакалась.
– Ах, надоело! – вырвалось у нее из самой горькой глубины. – Все люди как люди, а тут то руки лижет, то свиньей хрюкает. Сколько мне к вам бегать как собачке?
Доктор Петрович, нейрохирург и десантник, повесил голову. Как действовать, он знал, а как утешать – не всегда. Когда-то от военных волнений и послевоенного недостатка витаминов он болел куриной слепотой. Но сейчас даже в зеленых сумерках видел, что русалка с тонкой шеей никак не потянет одна костистого и щетинистого Колю Козлова, который сначала вызвался носить ее на руках сам. Тут нужная не нежная и ласковая, а тертая и острая. Терявшая и находившая. Как, например, рыжая кошка Лариска. Или какой будет Валерия, когда заживут первые сердечные рубцы, а зажив, затвердеют и будут ему надежной защитой. Вот тогда она криво усмехаясь, вытащит из бутылки сколько хочешь таких Козловых и даже не заметит.
– Все мы немножко лошади, Маша, – вздохнул он о том, какие же это рубцы предстоит получить Валерии. – Вы, пока можете, бегайте. Пусть каждый бегает, пока может. Ведь вы пока можете, правда?
– Могу, – вздохнула и Маша.
– Ну вот… – На него что-то навалилось, как после шестичасовой операции со скусыванием многих толстых и крепких костей. – А в кино вы ходили? Как там Гамлет? Будет или не будет?
– Не знаю… – съежилась она. – Я никуда не пошла. Я тут простояла как дура…
10
Обоих вместе он увидел их уже утром. Доктор Коля Козлов перекуривал на окне в своей реанимационной караулке. Цвет лица у него был здоровый и бодрый, только немного скептичный. Ибо он наблюдал, как молодой собрат из практикантов надувал Таню. Таня возлежала на кушетке и глухо охала. Она была резиновая и служила для упражнений в искусственном дыхании.
– Да выкинь ты ей соску! – высокомерно советовал Коля. – Дуй рот в рот!
Практикант моргнул за толстыми очками.
– А на практике тоже рот в рот?
– А что такого? – с дьявольским весельем подтвердил Коля. – Вот попадется клевая чувиха, нацелуешься до смерти.
Аве Мария ответила ему тревожным взглядом от письменного столика, где что-то заполняла.
У доктора же Рыжикова от бодрого и свежего лица Коли Козлова заломило в затылке. Слишком самодовольный вид был у творения, над которым он бился все вчерашнее воскресенье, пожертвовав велосипедной прогулкой в лес, если можно так выразиться.
Затылку предстояло ломить еще неделю. Как минимум. А операция завтра. Сегодня Туркутюкова должны брить. С ним надо долго беседовать на ночь. Но это все пустяки по сравнению с тем, что доктор Коля Козлов мог бы сегодня вместо подготовки своей усыпальной бригады… В общем, продолжать. И что тут важнее – боль в затылке или Коля Козлов в рабочей форме, – не нам решать.
Вот он, не замечая доктора Петровича, со своим свежим и сильным, выспавшимся лицом соскочил с подоконника и продекламировал:
– В вознагражденье для тупицы был сладок поцелуй мертвицы!
– Как – мертвицы?! – резко отдернулся от куклы Тани практикант.
– А так, что он – это мертвец, а она – мертвица, – со всем добродушием, на какое был способен пояснил доктор Коля Козлов. – Если это вообще не гермафродит.
Практикант отдернулся от куклы еще раз.
11
Привычка перед операцией сидеть одному в дровяном сарае появилась еще тогда, когда дом был переполнен. То есть когда все были живы.
В честное наследство доктору Петровичу достались и этот дровяной сарай, и запущенный сад, и сам дом. Здесь и была контора садово-опытной станции, где работала мать, Елизавета Фроловна, селекционер-испытатель. В молодости она стажировалась у Мичурина и город Мичуринск всегда называла Козлов. «Когда мы ехали в Козлов…» Она ходила между своих яблонь, вишен и смородины решительным шагом неизменных резиновых сапог, в сером берете (любовь к беретам у доктора Петровича), с неизменной длинной довоенной папироской в зубах (его ненависть к курению), а вечером раскладывала по пакетам семена и писала письма своим французским, польским, шведским, люксембургским корреспондентам на их родных языках. Вернее, на международном садоводском сленге. Отец же, местный фельдшер Петр Терентьевич, пухнущий от водянки, сидел у окна, раскрытого в тот самый сад, и читал ей вслух диковато залистанный пухлый том «Будденброков», сменявшийся «Семьей Тибо», «Отверженными», «Жаном Кристофом», «Доктором Фаустусом». Он был большой любитель толстых книг. «Скажи-ка, Лиза! У нас в плену был немец, точь-в-точь как этот старик, который пишет про жизнь немецкого композитора Адриана Леверкюна, рассказанную его другом. В точности как этот самый друг. Он был у них вроде ефрейтором, но не из эсэсов, а простой. Воду носил, на кухне помогал, за продуктами ездил, охранникам бутылки выбрасывал… Его я никогда не видел с автоматом. Работает себе понемногу, а сам к охранникам в компанию не лезет. Вежливо так, но в сторону. И лицо такое, будто он думал вот это (опухший палец начинает водить по строчкам): «Смогут ли в будущем немцы о себе заявлять на каком бы то ни было поприще и участвовать в разговоре о судьбах человечества?» Вот видишь, немец, а стыдится. «…Немцы, десятки, сотни тысяч немцев, совершили преступления, от которых содрогается весь мир, и все, что жило на немецкой земле, отныне вызывает дрожь отвращения, служит примером беспросветного зла». Прямо не верится, что немец пишет. Особенно вот: «Каково будет принадлежать к народу, история которого несла в себе этот гнусный самообман, к народу… – вот! – к народу, который будет жить отрешенно от других народов, как евреи в гетто, ибо ярая ненависть, им пробужденная, не даст ему выйти из своей берлоги, к народу, который не смеет поднять глаза перед другими».
Голос старого фельдшера по мере прочтения наполнялся пророческой силой, насколько позволяли астматическое удушье и кашель. «Проклятие, проклятие погубителям, что обучили в школе зла некогда честную, законопослушную, немного заумную, слишком теоретизирующую породу людей!»
«У нас в плену», – говорил он, немного успокоившись, как будто бы «у нас в Рязани» или «у нас в Саратове». «Скажи-ка, Лиза! Недаром я тогда смотрел на этого ефрейтора и думал: эх, бедолага! Ну мы-то, бедолаги, ладно. Не дома на печи, за чужой проволокой. Но у нас есть свои. Да не какие-нибудь вшивые, идут – земля гудит. Вот придут – забегаете и запрыгаете. Еще, может, увидим, если не перебьете напоследок, собаки. А у тебя, старик, свои-то хуже смерти. Смесь торжествующей свиньи вонючей с шакалом, поедающим трупы. Тебе от их вони противно. А дышать надо, куда от них денешься, от кровных своих фрицев? Мы, может, и хорошие да чужие. То есть податься некуда, весь в своем же дерьме. Стою я так однажды в ряду на утреннем разводе да думаю: бедняга ты, бедняга… А он за проволокой в хоздворике возюкался. И так случилось, выпрямился – тоже на меня. Мундир потерся, коленки на штанах висят. И мы глазами встретились. Нечаянно, конечно. И он, старик немецкий, понял. И посмотрел так грустно. И улыбнулся как виноватый – чуть-чуть: мол, признаю. И опустил голову, согнулся. Они обычно никогда не отворачивались. Ты должен первый, иначе загрызут. Игра у них такая. А этот сам отвернулся, будто он пленный. И этот друг композитора Адриана Леверкюна точно такой же. Скажи-ка, Лиза!» Так он торжествовал и поднимал указующий палец, когда находил в толстых книжках что-нибудь родственное: «Скажи-ка, Лиза!»
«То, что в Европе вызывает восторг, в Азии карается. То, что в Париже считают пороком, за Азорскими островами признается необходимостью. Нет на земле ничего прочного, есть только условности, и в каждом климате они различны… Незыблемо лишь одно-единственное чувство, вложенное в нас самой природой: инстинкт самосохранения… (Голос чуть падает с торжественных высот: ну, не только…) В государствах европейской цивилизации этот инстинкт именуется личным интересом. Вот поживете с мое (побываете, значит, за проволокой), узнаете, что из всех земных благ есть только одно, достаточно надежное, чтобы гнаться за ним. Это… золото. В золоте сосредоточены все силы человечества…»
«Ну это уж зря, – смотрит он с сожалением на толстый том Бальзака, обманувший его ожидания в столь важном вопросе. – Так здорово начал и так прискорбно кончил. Не золото, а доброе сердце везде самое надежное. Это я за любой проволокой видел. Скажи-ка, Лиза!»
«Скажу, скажу…» – приговаривала Елизавета Фроловна, не разгибаясь. Ее рабочий стол под лампой, облепленной ночными мотыльками, был завален разноязыкой пожелтевшей перепиской, пакетиками с семенами и почками, рецептами и словарями. Бабочки и стрекозы бились о лампу и падали, усеивая письма на столе своими легкими телами.
Иногда залетев в родной дом на свет этой же лампы, доктор Рыжиков весело говорил Петру Терентьевичу, что что-то он не встречал на войне таких грустных и задумчивых немцев. Разве что в нашем плену до первой кормежки, пока боялись, что расстреляют. Петр Терентьевич молчал да похмыкивал. Что-то ему из-за колючей проволоки было виднее.
Дом был конторой садово-опытной станции, а сад – собственно полем. У Рыжиковых при конторе жильем служила одна комната, где они все трое и скучивались. Потом садовой станции построили в чистом поле на выселках целый городок, ближе к реальным условиям, а Рыжиковых наградили всей конторой. Сначала на две семьи, потом соседей поселили в новом доме с теплыми удобствами. Удобства Рыжиковым тоже нравились, но Елизавета Фроловна не могла расстаться с окном, в которое влетали мотыльки, с резиновыми сапогами у двери – солдаты судьбы в карауле. С удобствами, конечно культурнее. Но зато Валерия, Анька и Танька почти в центре города ходили босиком по спутанной траве и грызли одичавшие яблоки, не поднимая глаз от раскрытых страниц толстых книжек, завещанных им старым фельдшером Петром Терентьевичем.
Все, в общем, оставалось так же. Только на месте Елизаветы Фроловны за письменным столом и Петра Терентьевича в кресле у окна витали их души. Окно осталось там же, но стол перетащили. Сад тот же, только видно, что без хозяина. И те же толстые тома на грубых полках. Где-то в сарае и резиновые сапоги завалены дровами.
По саду и дому слоняются явные люди с совсем другими именами – Валерия, Анька и Танька. С другой походкой и другими звуками шагов. И с разговорами не о Фейхтвангере и Лире, а о Высоцком и Булате Окуджаве. Или с хныканьем, чтобы купили телевизор.
Но в этих явных человечках скрывались тайные. В той глубине клеток, о которой они сами не знают. Те, кто сидел здесь вечерами у стола и окна и говорил об Анатоле Франсе, мудро сказавшем: «Он не рассеянный, он целеустремленный…»
Поэтому доктор Петрович не мог думать и чувствовать, что Елизаветы Фроловны и Петра Терентьевича на свете больше нет. Они были. Они витали где-то здесь; может, иногда отлучались постранствовать над миром, потом вернуться. А слившись с мыслями других, маленьких и великих, от Пушкина до рыжиковского комбата, разорванного миной в Венгрии за то, что не пустил вперед себя солдата, создали что-то вроде оболочки, хранящей нас от холодного космоса.
…Вместе с ним в сарай заскочил Рекс. Им обоим было здесь замечательно. Доктору Рыжикову – потому, что ему лизали руки и лицо, не сводили с него преданных глаз, виляли перед ним хвостом и вообще всячески признавали, Рексу – потому, что ему грели широкими и теплыми ладонями холодный нос, ни в чем не упрекали и позволяли быть самим собой. «Что, опять? – сочувственно спрашивал доктор Петрович, имея в виду грозу улиц, одноухого и коренастого, бродячего безголосого пса. Урку с выдранным с корнем хвостом, сто раз выдиравшегося из собачьего ящика. Бандита, от одного появления которого в дальнем конце улицы принц благородной немецко-овчарочьей крови весь день дрожал мелкой зыбью. А от мыши, мелькнувшей в саду, чуть ли не карабкался на яблоню. «Ничего… С людьми тоже бывает. А может, мы тебя на стол? Чуть-чуть прижгем трусливый центр… Во сне и не почувствуешь… Только коснуться кончиком электропинцета. Легкий треск, сладковатый дымок… Запах подгоревшего мозга… А проснешься – и на медведя, не то что на бродячую дворнягу. Р-раз – и пополам… Хочешь? Ну, а вдруг промахнемся? Прижгем вместо очага трусости очаг любви к хозяину? Тогда совсем конец. Трусливый раб…»
Рекс вздыхал вместе с хозяином и утешающе лизал хозяйский нос: мол, проживем и трусами, невелика беда. И не забывал вздрагивать от разных ночных звуков. Например, от скрипа двери, от шагов по веранде. Что там еще за молодые голоса? Полоска света от веранды – острое ухо Рекса стало еще острее…
– Планк приехал в Берлин читать лекции…
Валера Малышев в кольце трех сестер, трех нахалок, которые давно должны спать. Две по крайней мере обнаглели совсем. Никакого понятия о девичьей скромности. Сидят до полуночи с посторонним мужчиной, как будто они тут кому-то нужны. Мускулатура Рекса напряглась, готовая мощным броском метнуть себя под верстак. Доктор Петрович успокоил беднягу, погладив пальцами надбровные дуги на шерстяном собачьем лбу. Оба затаились.
– …И забыл, в какую аудиторию явиться. Делать нечего, идет в канцелярию спрашивать. Где, значит, должен читать свою лекцию Планк. Там пожилой такой ученый секретарь с сизым носом, шарфом и одышкой. Протирает на Планка очки, долго кашляет, потом сипит: «Малаой челаэк, уж вам-то туда ходить незачем. В такие молодые годы вы ничего не поймете из лекции всемирно знаменитого профессора Планка…» А Эйнштейн когда открыл свою теорию относительности? Еще тридцати не было. Это только у нас держат в мэнээсах, пока последние волосы не повыпадают…
Радостно-пискливое хихиканье Аньки и Таньки. Гордое молчание Валерии. Мимо сарая – шлеп-шлеп – домашние шлепанцы младших и четкие каблучки старшей. Правда, в калитке всю дружную гурьбу заклинило. Согласье кончилось, послышались шлепки, шипение и охи от щипков. Видно, победили большие и сильные. Младших и слабых, что неудивительно, в шею втолкнули обратно во двор. Они прошлепали мимо сарая обратно, горько обсуждая свою несудьбу.
– Что это мы шагом марш, чего это мы шагом марш! – предерзко замахала после драки кулачонками Танька. – Пусть сама шагом марш! Мы тоже проводить имеем право!
– Что мы, рыжие? – пробурчала солидная Анька. – Еще щипается… Вот будут синяки, а мне на тренировку…
– И в школу не идти, – сварливо пропищала Танька, хоть спорить было уже не с кем. – Каникулы уже! Вот скажем папе, что она уходит, когда он ночует в больнице… Ехидна!
Раскол в столь дружном стане доставил доктору Петровичу маленькое злорадное удовольствие. Меньше будут поддакивать своему кумиру Валере Малышеву. Но тут он совсем затаился, нечаянно присутствуя при таинстве, которое не дозволено видеть и слышать ни одному смертному, а только ночному бездонному небу.
– Подумаешь, – буркнула более опытная Анька, по-видимому – а вернее, по-слышимому – задравши под сараем платьице, приспустивши трусишки и писая под куст цветущей сирени «Фирюза». – Как будто мы не знаем, что они там целуются.
– Давай расскажем папе, – подзуживала Танька, изливая и свою обиду под тот же сиреневый куст. – На мне, наверное штук десять щипляков. У-у…
– А в нашем классе двое целовались, – надела Анька трусики, щелкнув резинкой по животу. – Их на родительском собрании ругали. А мы их спрашиваем: ну как, приятно целоваться или нет? А она говорит: я вам желаю это испытать самим. Подумаешь, тайна военная! Это раньше запрещалось целоваться, а теперь целуйся сколько влезет.
– Ну давай скажем папе, – щелкнула трусиками и Танька, не оставляющая вредной идеи.
– Папе не надо, – задумалась предусмотрительная Анька. – А то она на нас закапает. А он в нас кашу пихать станет.
Эта моральная стойкость понравилась доктору Рыжикову.
– Интересно, а папа целуется? – вдруг проявила Танька нездоровый интерес.
– Не знаю, – честно ответила Анька. – Он все время работает. Ему, наверное, некогда.
– Там есть красивые врачихи, – вздохнула маленькая Танька почти по-рыжиковски. – Наверное, как мама.
– Вот еще, – возмутило Аньку такое кощунство. – Как мама там и близко нет!
– Конечно нет… – взгрустнула Танька. – А ты маму хорошо помнишь?
– Хорошо, – отрезала старшая Анька.
– Жаль, ее нет, и папе целоваться не с кем. А как ты думаешь, это здорово?
– Тебе-то что! – почувствовала Анька ответственность старшей за нравственность младшей. –Ну-ка домой, расцеловалась! Шагом марш!
– Отстань! – взвизгнула ущипленная Танька. – Сама ты шагом марш, пришибейка! Ой, дождик, бежим!
По крыше рыжиковского сарая ударили теплые летние водяные дробинки. Две пары тапочек прошлепали по мокнущему кирпичу к веранде. Худая Танька увертывалась от плотной, скорой на расправу Аньки, почему-то болезненно реагировавшей на клички «унтерша» и «пришибейка».
Размельченные капли брызгали в щели сарая. Доктор Рыжиков никак не мог пошевелиться, связанный чужими тайнами. В том числе и тайной дочери Валерии, не ночующей дома. Валерия, тот выросший сюрприз, который поднесла своим родителям юная одноклассница доктора Рыжикова после того дождливого медового дня. Когда он давно был на фронте, не гадая и не думая, что стал отцом, наравне с бородатыми «батями». Отцом, которого ее родители в память о том сюрпризе еще долго называли только «он» и «хулиган». И пускали на свой порог только для того, чтобы высказать все как губителю ее судьбы и красоты, якобы увядшей от раннего материнства! Для них, но не для него!
Так и узнаешь, что творится в твое отсутствие. Оказывается, просто некому варить утром овсяную кашу, в которую он свято верил. И девки, видимо, перебиваются хлебом с колбасой. Ночуя дома, доктор Петрович лично к семи тридцати утра варил эту бурду на воде – в одной руке ложка, в другой книга. Для спящих девок это позвякивание ложки и побулькивание массы было ненавистным предвестником неотвратимого пробуждения. Они, в отличие от доктора Петровича, ни в грош не ставили значение для развивающихся девичьих организмов овсяной каши «геркулес» (на воде). Они любили колбасу.
Без него эта обязанность возлагалась на старшую дочь. И вот тебе на! Жизнью пользуйся, живущий. Может, Валера Малышев ему уже и не будущий родственник, а настоящий? Пока он тут в сарае вор вором. Глаза слипались… Когда-то он умел не спать по три ночи. Теперь это кончилось. Сам не заметил как. Наверное, как кончается молодость. Тоже незаметно. Недоспав, доктор Рыжиков ходил теперь в летаргии, и выручали только заседания. Но завтра заседаний не было. Только одна операция. И пять часов сна ему были нужны позарез. Пожалуй, даже шесть. Но, допустим, он заявится. Что тогда? Эта дурочка будет поймана. Высокомерная Валерия. Гордая и недоступная. Как ледниковая вершина. Как ледяной склон, к которому каждый раз снова и снова подступает атлет и кибернетик Валера Малышев. Чтобы завоевать улыбку или взгляд. И поймана.
Даже зайцу противно быть пойманным. А гордой вершине подавно. Она, вершина, на свое имеет право. Если бы даже это была посторонняя вершина, доктор Петрович вообще философски смотрел бы, какая сейчас над ней крыша. Но вершина была своя. И то-то и оно. Тот самый двухлетний сюрприз. Гордая и пойманная своя вершина – как это грустно! Если в дом. А если обратно в больницу – промокнешь как суслик. И рыжая Лариска в дежурке бог знает что решит. Куда же тогда?
Дождь приударил стеной и промыл все насквозь. Капли сочились за шиворот. Запахло мокрым деревом и молодой сиренью. Никто не прибежал спасаться. Время шло. Дождь только сначала был теплый. С сыростью в сарай проникал холод. Он отпугивал от ночевки здесь с Рексом. Доктор Рыжиков сидел и думал, как ему быть. Во-первых, с гордой вершиной, во-вторых – с Туркутюковым. Во-вторых, с Рексом, во-первых с гордой вершиной. Во-первых, с архитектором Бальчурисом, во-вторых – с Туркутюковым. Во-первых, с гордой вершиной…
12
Один механик электронного концерна в ФРГ слухом отличает шумы, которые не улавливает ни один прибор. Слышали? Он там работает акустическим дегустатором. Пришлось ему застраховать свои уши в агентстве Ллойда на полмиллиона долларов…
Обритая голова Туркутюкова представляла собой нечто ни на что не похожее. Может быть, на высоту военных лет, изрытую траншеями и воронками. Вечером он уснул, убаюканный бромом, люминалом, хлоралгидратом, демидролом, седуксеном или черт-те чем еще, а также спокойным лицом доктора Рыжикова, монотонно рассказывающего про наиболее яркие воздушно-десантные операции второй мировой войны. Во сне он даже взлетел, только не на своем «дугласе», а на реактивном «МИГе», думая, что так помогла операция.
Неохотно проснувшись, он опять увидел широкое и доброе лицо доктора Рыжикова, беззаботно говорившего о каких-то не имеющих отношения к делу застрахованных ушах. Вокруг сновали какие-то люди в зеленых пижамах со шприцами и склянками. Пока ему делали укол, Туркутюков успел услышать, что, по последним данным, исходя из анализа множества электроэнцефалограмм, крокодилы, когда они спят…
И снова провалился в теплую мягкую вату.
Потом сквозь эту вату к нему снова пробились слова доктора Рыжикова, объяснявшего, что если бы у него были три парня, а не три девки, то он всех троих обязательно бы спровадил в… Рязанское воздушно-десантное училище. Про них бы сняли фильм «В небе только Рыжиковы». Туркутюков начал сердиться, что ему не дают спать и будят каждые пять минут, да еще недосказывают что-то начатое. «А где вы родились?» – вдруг спросил доктор Рыжиков. Туркутюков чуть шевельнул губами: «В Ростове». – «А на какой улице?» – почему-то пристал доктор. «На Арнаутской», – ответил Туркутюков недовольно. «А где сейчас живете?» – «В Калинине…» – «А уехали оттуда давно?» – «Зимой…» – «Зачем?» – «От фотографов…» – «А война когда началась?» Удивившись явной глупости этого вопроса, Туркутюков назвал год и добавил: «Сами не знаете?»
Все это доктор Рыжиков угадывал скорей по шевеленью губ, но в общем был доволен. «Ну, хорошо. А как вы себя чувствуете?» – «Хорошо… А что крокодилы?» – «Какие крокодилы?» – «Которые спят…» – «А-а… Снов не видят. Оказалось, крокодилы спят без снов. Понимаете?» – «Понимаю… А когда операция?»
В общем, ему уже было давно все равно. Никакого страха или нетерпения. Только ватное равнодушие.
– А уже, – вдруг сказал доктор Рыжиков. – Сделали…
– За пять минут? – не удивился бедный летчик.
– За шесть часов, – уточнил доктор Рыжиков со всей присущей ему приветливостью. – Ну, теперь спите.
С облегчением радости – не операции, а разрешения спать – Туркутюков снова канул.
13
И очень хорошо, что проспал все на свете. А то бы его очень обидело, что доктор Рыжиков начал это священнодействие с настоящего оскорбления, то есть иголкой и ниткой пришил к его многострадальному бритому темени кусок стерильной бурой простыни. Вряд ли кто перенес бы таковое издевательство спокойно, тем более больной с ярко выраженным эпилептическим комплексом.
– На первый взгляд, это, конечно, варварство, – пробормотал доктор Рыжиков, выряженный в столь же бурый и мятый халат вместе с такой же жеваной шапочкой. Он оправдывался перед трагическим взглядом Аве Марии Козловой, пробившимся между ее зеленой шапочкой и марлевой маской. – Так делают только аспиды нейрохирурги. Всю остальную честную братию это почему-то шокирует. Не пойму, почему. Лучше раз пренебречь дипломатией, чем сто раз править поле и дергать себя и сестру… Ну как там, заинтубировали? О! Сейчас только начнут! Вам бы кота за хвост тянуть, братцы кролики…
Аве Мария работала в бригаде реаниматологов-анестезиологов, или, по-русски выражаясь, воскресителей-усыпителей, в подчинении Коли Козлова. Там она его и полюбила за удаль и талант основателя. «Не забывайте, Маша, – повторял ей доктор Рыжиков в трудные минуты жизни, – он – основоположник. Его имя будет золотыми буквами выбито в истории нашего города вместе с именами других первопроходцев. Например, основателями водопровода, трамвая, главной аллеи, театра…» Как всегда Аве Мария смотрела трагически, не понимая, шутит он или серьезно. Сейчас над марлевой повязкой ее глаза стали еще трагичней, хотя Коля Козлов был как никогда хорош – трезв, деловит, весел, умен как черт.
Начав отслаивать бритую щетинистую кожу от запущенных рубцов и трещин черепа, доктор Рыжиков тяжко вздохнул: «Ох, нелегкая это работа… из болота тянуть бегемота…» Рубцы туркутюковской головы спрессовались в окаменевшую породу, в которой, кажется, можно было найти отпечатки древнейших рыб и птиц. Шустреньким остроконечным ножницам этот материал был непосилен.
– От такого скальпа и апачи отказались бы, – снова обидел доктор Рыжиков Туркутюкова, когда жалкий клочок истерзанно-красной, с прорехами, увешанной блестящими зажимами, кожицы отделился от черепных надолб. – А это прийдется выковыривать прямо с костями. Коля! Вы здесь самый высокий, поправьте, пожалуйста, лампу. Что-то в глазах зарябило. Сильва Сидоровна, у вас есть куперовские ножницы? Самые острые? Уф… Братцы кролики, дайте на чем сидеть! Я ведь контуженный…
Коля Козлов, мелькая из-под зеленой пижамы тельняшкой, задрал над всеми руки и стал наводить лампу точно в цель. Кто-то пододвинул крутящийся музыкальный стул и стал его крутить, прилаживая под зад доктора Рыжикова. Он говорил: «Выше, ниже…» – пока наконец не приладился, после чего тяжко вздохнул: «Эх, рвануть бы этот железобетон динамитом…»
К счастью, Туркутюков проспал и это рацпредложение.
Гудела и сипела аппаратура, нагнетая в него смесь кислорода и азота, то есть обычный воздух, если так можно выразиться в присутствии медицины. Кого-то второстепенного от этого гудения начало клонить в сон. Доктор же Рыжиков, севши на стул, стал окончательно похож на добродушного сапожника, тачающего обувь. Только в руках у него был не башмак, а кровоточащая и истерзанная голова героя. Сердце уже ныло при виде ее, но это было только начало.
– Вот вам классическая линия Маннергейма. И мы тоже берем ее буквально голыми руками.
Летчик и эту обиду проспал.
– И классический образец запущенности. За такую запущенность надо и больного, и врачей… Штрафбат по ним скучает. «Вы лучше лес рубите на гробы, в прорыв идут штрафные батальоны…»
Нарастающая словоохотливость доктора Рыжикова во время операции сбивала с толку многих. Им казалось, что все ему раз плюнуть. Что с ним запросто можно беседовать на самую любую тему, а операция идет сама собой. Но свои знали, как это обманчиво. И что у доктора Петровича просто такой способ сосредоточиваться. Поэтому даже рыжая кошка Лариска, никогда не лазившая за словом в карман халатика, сейчас молча давала ему побалаганить. Доктор же Рыжиков уже переходил на складный лад, в котором мешались рифмованный и белый стих, походно-строевой эпос, фольклор города и деревни. Например: «А ну-ка, Маша, Маша с Уралмаша, налей-ка мне зеленочки, налей!»
– Но эта запущенность уважительная, – все-таки сменил он гнев на милость. – И в трибунале я занял бы место защитника. Вы знаете, кто лежит перед вами, товарищи судьи? Героический транспортный летчик, который спас полный транспортный самолет таких гавриков, как я… Они шли на высадку. Их, конечно, подбили. Самолет загорелся и стал беспорядочно падать прямо на голову торжествующему врагу. Но летчик свято помнил, что у него полная кабина живых людей, у которых парашюты уже не успеют раскрыться. Так бы никто и не пикнул, если бы он не сумел посадить самолет на поле. Правда, сам изувечился, но десант в основном спас. Они несли его на руках, без сознания, трое суток по немецким тылам. Потом оставили в деревне у крестьян. Ну, а крестьяне как лечат? Перебинтуют, дадут самогону – и лежи…
Туркутюков лежал с откинутым на лицо розово-жутковатым скальпом, пугая присутствующих. Но это здесь никого не смущало. Тогда, для большего устрашения, ему на голом черепе зеленкой вокруг огромной вмятины, захватившей темя и лоб, был начерчен пятиугольник с пятью жирными точками на углах. Татуировка на кости. Но все равно пугаться было некому. Не дай, конечно, бог ему увидеть себя в зеркало. Но пронесло.
– Так… Тут нужно вдохновение… – всмотрелся в этот рабочий чертеж доктор Рыжиков из своей амбразуры между низко надвинутой шапкой и марлевой маской. – Кто-нибудь из вас знает данные физиологов, что за время операции – большой, конечно, – хирург должен быть в среднем два раза в предынфарктном состоянии? Никто не знает… Я сегодня держался за сердце? Никто не помнит… Значит, буду держаться. Ну, так… Коловорот мне. И пот со лба стирайте, чтоб не накапать.
От вращения коловорота (чисто слесарного) очищенная сперва от волос, а потом и от кожи голова бедного Туркутюкова тряслась и прыгала. Не отрываясь просверлив первую дырку, доктор Петрович взбодрил окружающих:
– Эй, братцы кролики, следите-ка за интубационной трубкой! А то она от моего усердия выскочит изо рта. Уф! «Солнце скрылось за горою, затуманились речные перекаты, а дорогою степною шли домой с войны советские солдаты…» Твердая же у него кость… Гвардейская!
Все гвардейское доктор Рыжиков уважал. Сам гвардеец. Это Туркутюков мог бы и слышать.
– Маша! Не ваша Маша, а наша Маша! Вы фрезу точили? Что-то совсем не берет… Перекись мне! И воску!
Кругленькая, с копейку, дырочка в черепной кости быстро наполнилась розовой влагой. Оказывается, кость тоже кровоточит, не хуже мяса.
На третьей и четвертой дырке доктор Рыжиков говорил уже меньше, дышал тяжелее.
– Вот так и зарабатываешь дочкам на телевизор… Мне бы парня в напарники, а у нас тут гарем…
Вынул коловорот из дырки и отдохнул немного, пока рыжая ассистентка вымакивала оттуда кровь. Руки уставали главным образом потому, что крутить необходимо на весу. Чуть поднавалишься телом, поднажмешь – можешь проломиться сверлом в святая святых. В то самое серое и студенистое, совсем уже ничем не защищенное.
Четвертая и пятая дырка в основном прошли в молчании, которое не нарушалось даже при смене копьевидной фрезы на конусообразную.
Но все пять дырок оказались только началом.
Дальше некоторое время не произошло ничего обидного для оперируемого. Зато доктор Рыжиков самого себя назвал примером пещерного кретинизма. Это у него всегда вырывалось легко.
По счастью, жизни и здоровью (дальнейшему) Туркутюкова промашка доктора Петровича не угрожала. Просто тоненькая и гибкая ниточка-пила Джигли отказалась пролезать под черепной костью от полыньи к полынье.
– Пожалте, вход бесплатный, – пригласил доктор Рыжиков всех посмотреть на себя. – Первобытный кретин во всем волосатом сиянии. Там же одни рубцы и сращения. А я верблюда в игольное ушко. Как после ашхабадского землетрясения. Она же и лезть не должна. И что тогда делать? А делать вот что. Раз-два, взяли… Что взяли? А взяли вот что…
И его пальцы с каемочкой туркутюковской крови под ногтями несколько раз сжали воздух. Сильва Сидоровна, за что она и была на вес золота, мгновенно вложила в них костные кусачки. Тут уже клацануло всерьез.
– Сегодня накусаемся, – предсказал доктор Рыжиков. – На всю оставшуюся жизнь. А как там трубка? Прочно сидит?
Ему сказали, что пока прочно. Тогда череп стал постепенно скусываться, то есть кусачки стали в нем проделывать траншейку от лунки к лунке. Труд стал медленно-каторжным. Кус кусачками, осторожный щелк ножницами, затем скальпелем – костные надолбы и ежи переломанного черепа вросли в разорванную мозговую оболочку, врезались в сам мозг и усердно сверлили его. По-медицински выражаясь, это и была зона эпилептического раздражения. Выражаясь по-простому, доктор Рыжиков ее сейчас вырубал железом и огнем. Зажим, тампон, электропинцет. Дымок подгорелого мяса. Четверть сантиметра окаменевшего рубца пройдено. Доктор Рыжиков разгибает контуженую спину, разминается и сгибается снова. Несколько раз ему в лицо брызжут капельки крови и застывают там коричневыми точками. Ему хочется попросить кого-нибудь постучать по спине кулаками, но он боится, что это бестактно. И говорит о другом.
– О-хо-хо, братцы кролики… До чего мы с вами отсталые по уровню технического прогресса и малой механизации. С каменным топором лезем в венец природы… Что про нас скажут они?
– Кто – они? – осмелился Коля Козлов.
– Будущие люди, – охотно пояснил доктор Рыжиков. – Что-то мне кажется, они будут делать иначе. Не так кровопролитно. Скорее всего – лазерным лучом. Одно лишь утешает, что скифы этим тоже занимались. Я скифскую трепанацию специально смотрел на эрмитажевском кувшине. Один скиф раненому голову ковыряет, а еще четверо сидят на руках и ногах, чтобы не дрыгался. Это значит – ваша бригада анестезиологов, Коля… Но мы же их не осуждаем, правда? И даже говорим: молодцы. Кто-то ведь должен начинать. Чем богаты, тем и рады, правда?
В тазик с кровавыми тряпками все чаще летели тряпки с его докторским потом. Там кровь Туркутюкова и пот доктора Рыжикова образовывали какой-то новый состав, еще не изученный химиками.
Между тем еще раз хрум – кусачки Сильве Сидоровне. Она дает ножницы, потом забирает ножницы, протягивает тампон, дает пинцет – забирает пинцет; дает скальпель – забирает скальпель, снова дает «крокодильчики» – снова забирает. Продвинулись еще на три миллиметра, если какой-нибудь упорный сосудик, запрессованный в рубец, не держал их минут по пятнадцать на месте, как цепкая огневая точка в рубеже обороны.
– Так у нас и от дуры ничего не останется, – забеспокоился доктор Петрович. – Дура-то у него вся станет как решето…
Туркутюков, к счастью, проспал, что у него не только дура, но и как решето. Хотя, выражаясь по-медицински, это вполне законная дура, твердая пленка под черепом.
Возможно, головной мозг летчика Туркутюкова, много лет сдавленный шпорами обломков и рубцов, растревоженный кровавой резней и трясучкой, посылал своей нервной системе чудовищные сигналы. От них должна была содрогнуться вселенная. Но, к счастью, шестеренки передач отключились, и весь этот источник душераздирания крутился вхолостую.
Ибо Туркутюков больше чем спал, если так можно выразиться.
И вот венец природы. В окошечке, пробитом, а вернее – прокусанном в кости и твердой оболочке. Паутинная пленочка жилок. То, ради чего природа вступила в эту непрерывную игру из чудовищных взрывов в безразмерном и черном пространстве. Что-то взрывалось и переплавливалось, остывало и снова взрывалось, собиралось в раскаленные шары и снова распылялось, сталкивало и разводило галактики – и вот вам результат. Комочек серого студня в два кулачка величиной, изрезанного разными бороздками. Радиостанция, посылающая в эфир вечности радиограммы-мысли. И сколько же таких мыслей сейчас над нами вьется! Тьмы и тьмы. Враждующие или родственные, попутные или встречные. Наверное, их там, над головой, как в колонии летучих мышей. И все пищат, мелькают… Ведь не могут они, появившись, исчезнуть. Появились – значит, летай.
…Вслух доктор Рыжиков сказал совсем другое:
– Как бы нам теперь сослепу не наворотить дел…
Это значило, что, влезая своими не очень уклюжими пальцами в это чудо космического самопроизводства, мы попросту не знаем, не прибавятся ли к искореняемым припадкам еще и слепота и глухота заодно со слабоумием. Тьфу-тьфу-тьфу!
– Ведь мы чудовищно слепы, – вздохнул доктор Рыжиков чисто по-рыжиковски. – Слепые, режущие слепых. Как у Брейгеля-старшего. Ну вот… Я сделал все, что мог. Кто может больше, пусть моет руки. Маша, откройте-ка мне атлас. Нет, наша Маша, а не ваша Маша. На лобных долях. Так…
Услышал бы Туркутюков, что его режут слепые, да еще на ходу заглядывают в атлас…
– Так… Вот наступил решительный момент и подошел легавый элемент…
Как всегда, к наступлению решительного момента и подходу легавого элемента доктор Петрович задумался. Глядя в атлас, он словно рассчитывал многоходовую шахматную партию.
– Боюсь, что эти мощные рубцы… И трогать страшно, и не трогать нельзя. Ох господи, господи, за что такие страсти… А этот осколочек кости как бы сосудом не пророс… Дернешь – и нефтяной фонтан… Сильва Сидоровна… Наваляйте-ка мне марлевых шариков… ну, размером… как козий помет. Кто не видел козьего помета, тот не служил в воздушно-десантных войсках. «Прощай, бабка, ушла добровольцем в десантные войска». Да… Многие любящие козы на нашем пути… И пульсация какая! Чуть тронь – лопнет… Лариса, держите наготове маленький иглодержатель. Если что… Ну что, рискнем, помолясь? Пошевелим мозгами? Что вы замолчали, как на похоронах? Нас не надо жалеть, ведь и мы б никого не жалели… Мы перед нашим комбатом… как перед господом богом… Что? Чисты… Чисты? Чисты. Чисты, чисты, чисты. Чисты-чисты…
Далее последовало еще множество раз «чисты» в разном ритмическом сочетании. Например, в ритме «Прощания славянки»: «Чисты, чисты-чисты, чис-ты, чисты-чисты…»
– Нет, он всем героям герой, – перешел он вдруг снова на прозу. – Я бы лично после такой оплеухи в лоб уже бы ни на что не смотрел и не разговаривал. А он еще жалобы пишет. И довольно осмысленные. Ну, тянем-потянем. Пометик наготове? Эх, полезли, граждане, приехали, конец, Охотный ряд, Охотный ряд. И как нас только мать-природа терпит… Природа-мать, когда б таких людей… Он спас целый самолет десантников, значит он мне друг, товарищ и брат. А по спине ручей бежит… Холодный. По спине ручей бежит холодный (на мотив «Широка страна моя родная»)! Конечно, это не смертельно, но фиг его знает… Что искромсано ножом, от того не отпишешься пером. Эта голова для нас мина с сюрпризом. А сапер, братцы кролики, сколько раз ошибается?
Мину с сюрпризом Туркутюков тоже проспал.
– Эх, попался бы он нам сразу после травмы… Мы бы такую свеженькую, такую славненькую, такую симпатичненькую травмочку…
Не хватало только восхвалять тяжелейшее боевое ранение, принесшее человеку неизгладимые бедствия и уродство. Но и это летчик-герой проспал.
– Уф… Кажется, вылезла. И что? И ничего. И тишина. И ножнички кровавые в глазах…
Сильва Сидоровна поняла, что надо дать ножнички.
Так расчищалось поле боя. Когда на нем не оставалось ни костных сучков, ни рубцовых мозолей и все мешающее, колющее и раздражающее было раскусано, вырезано и выщипано, Туркутюков казался не жильцом. У него почти не оставалось черепа. Прямо из костного выреза лезло что-то мягкое и сероватое… Клочки изорванной и обожженной пленки… Конченое дело.
Но доктор Рыжиков смотрел на это бедствие не так уж обреченно, скорее с некоторым глубокомыслием.
– Лариса… Вы видели когда-нибудь шагреневую кожу в момент девяностопроцентного истощения? Вот это, по честному, ваше женское дело. Сшейте ее как можете. А я пока умою руки.
Лариска (гений всякого сшивания) стала из крохотных ноготков сшивать для головы Туркутюкова розовое лоскутное одеяльце. Доктор Рыжиков даже не смог оторвать взгляда. Его всегда гипнотизировало Ларискино швейное мастерство. Но в этот раз не помогло и оно. Одеяльце из обескровленной пленочки никак не прикрывало и половину мозговой наготы. Все посмотрели на доктора Рыжикова.
– Делать нечего, братцы, – вышел он из задумчивости. – Давайте пленку. Лариса, кроите. Будет товарищ с окошечком. Чтоб можно было заглянуть, нет ли там вредных мыслей.
Это обещание Туркутюков тоже проспал.
…Рыжая кошка Лариска ловко пришивала к раскроенной голове кусочек стерилизованной полиэтиленовой пленки, вырезанной доктором Рыжиковым из магазинного пакета. Впрочем, хирургическая ловкость состоит из скользких окровавленных пальцев, живодерского протыкания человеческой ткани довольно-таки грубой с виду загнутой иглой, частого прорывания истрепанных краев и нового протыкания, вытягивания окровавленной нитки и завязывания узлов почти таких же, как на ботинках.
– До чего ловко, – все же пробормотал доктор Рыжиков, вернувшись от умывальника и держа руки так, будто кого-то собрался душить. – Я бы так не сумел. Я такая копуша… А косточки-то у нас не осталось. Что же нам делать без косточки.
Это о черепной кости, искрошенной кусачками. Получалось, что голову и прикрыть нечем.
– Ну что ж… – сказал доктор Рыжиков своему скромному окружению. – Без головного убора так без головного убора… Только предупредим, чтоб мухам не давал садиться. А то помнут вещество.
И поскольку возражений не последовало, герою стали натягивать отвернутый набок и тоже далеко не новенький скальп.
– М-да… – печально посмотрел доктор Рыжиков на своих рук дело. – Раньше он был красивее…
А ведь оперируемому предстояло проснуться и когда-нибудь посмотреть на себя в зеркало. И спросить: куда, скажите, делся огромный кусок лобно-височно-теменной кости?
Голова с одного боку сплющилась, как будто из нее выпустили воздух, и вообще потеряла форму.
– М-да… – покачал головой доктор Рыжиков. – Подкачать бы ее…
Во время зашивания обстановка стала не такой напряженной. Доктор Петрович ответил на несколько вопросов присутствующих.
– А что? – заглянул ему через плечо доктор Коля Козлов. – Затащить бы ее сюда да разложить и…
Аве Мария стрельнула в него трагическим взглядом от своего контрольного столика.
– А что? – развил свою мысль Коля. – Очень эффективное средство. Вырезал, зашил – и будь здорова. Вместо ядовитых одни витаминные…
– Прекрасно, – не мог не одобрить доктор Рыжиков, один из всех понявший, о ком и о чем речь. – Но как бы во вкус не войти.
– Да нет, дозированно, – успокоил Коля Козлов. – Только дозированно.
– С дозированного только начинается, – пообещал доктор Петрович. – Потом разложат и нас с вами.
– Это за что же? – возмутился Коля Козлов, а взгляд Аве Марии усилил тревогу. – Почему?
– Потому что судьи сменятся, – объяснил доктор Рыжиков, завязывая узлы по указанию рыжей Лариски, а также подавая ей крючки-иголки и ниткой, вдетой Сильвой Сидоровной, до сих пор не проронившей ни слова. – Судьи сменятся и начнут вырезать наши мысли, – выразился он как об опухолях и аппендицитах.
– Вот не надо и ждать! – настроился Коля совсем агрессивно. – За задницу их – и на стол!
– Это преступление перед природой, – вздохнул доктор Рыжиков, очевидно с трудом отказываясь от столь заманчивого варианта. – Знаете, что считал Маркс главным чудом природы?
Все призадумались и стали вспоминать кто что.
– Надстройку над базой, – пробурчал нечто полуморское Коля Козлов. – База давно под водой, а надстройка растет и растет.
– Это чудо человеческой руки, – поправил всеведущий доктор Петрович. – А главное чудо природы для Маркса – наша с вами мысль. Человеческая в смысле. Как продукт вот этого не очень красивого вещества. Особенно когда его размажет по асфальту после автокатастрофы. При этом он добавлял, что даже лукавая мысль последнего воришки такое же равноправное чудо, как мысль мудреца. Ради него природа миллионы лет камни грела. А вы хотите грубыми ногтями…
– Нашла ради чего… – проворчал Коля, не совсем, видно, довольный этой инкубаторской деятельностью матери-природы. – Что же с ними делать, с этими бандитскими мыслями? В музее их показывать?
Лукавые мысли и воришки казались ему милыми симпатягами рядом с… Он даже слова не мог подобрать. Он знал, что доктор Рыжиков вынужден много говорить, чтобы анестезировать боль, разламывающую затылок. И ненавидел за это вражеский лагерь тем пуще, чем гуще его жег тот собственный стакан спирта, сэкономленного, если так можно выразиться.
– С мыслями надо бороться мыслями, – вздохнул доктор Рыжиков без особой надежды.
– Вы вроде в ВДВ воевали, а не в пацифистских войсках, – укорил доктор Коля Козлов.
– …Которые, овладевая массами, становятся материальной силой.
– Ну, это слишком… по учебнику, – срезал Коля.
– Это единственный путь не нарушить эволюцию, – строго предупредил доктор Петрович. – Но только зрелые мысли. Только зрелые, Коля. А то пойдем от древних людей к еще более древним. А потом к обезьянам, как уже не раз, к сожалению…
В тишине было слышно, как игла протыкает кожу истерзанной туркутюковской головы. Последняя завязка стянула разрез, сомнительную красоту которого подмачивала только резиновая ленточка дренажа.
– М-да… – полюбовался доктор Рыжиков. – К вопросу о ликвидации последствий второй мировой войны.
– Ну а допустим… – о чем-то забеспокоился Коля. – Кто там из нас для них будет там… самым диким?
Аве Мария бросила в доктора Рыжикова трагически предупреждающий взгляд.
– Черт его знает, братцы кролики, – простодушно признался он. – Может быть, я. А может быть, вы, Коля. А может, моя Танька… Надо бы их знать хоть немного.
– Кого? – напрягся от глухого опасения непробиваемый и жилистый Коля.
– Будущих людей, – чем-то успокоил его доктор Петрович. – Да в общем-то для них все будет как для нас.
– Как? – спросила впервые Лариска.
– Я думаю, самый большой восторг у них вызовет самодовольный древний человек.
– Какой? – нахмурился Коля.
– Самодовольный.
– А кто это?
– Это… – призадумался и сам доктор Рыжиков. – Это… Я думаю, очень часто каждый из нас…
– И вы? – с подозрением посмотрел на него Коля.
– А я чем других хуже? – обиделся за себя доктор Петрович. – Как люди, так и я. «С ними жил и воевал, курс наук усвоил; отступая, пыль глотал; наступая, снег черпал валенками воин…» Слышали? Твардовский…
14
Чем длинней операция, тем дальше он заезжал от города в лес. Ноги сами знали, какую норму педалей крутить, чтобы привести в равновесие всю внутреннюю гидродинамику. Пока не перестанет стучать в висках или ломить в затылке. Ноги крутили, лес мелькал, голова думала что попало. На мотоциклах, самосвалах, «Волгах» его небрежно обгоняли будущие пациенты. Он вежливо уступал им дорогу, глотая пыль обочин, зная, что, когда надо, и остановятся, и позовут. Правда, необязательно, чтобы до этого доходило. И даже нежелательно. Он им никогда не навязывался. Но если бы, например, городская милиция знала, что доктор Рыжиков, столько раз заделывавший черепа ее храбрецов после разных автомотостолкновений, так рискует собой на лесной автостраде, то окружила бы его велосипед заботливым патрулем на колесах. С сиренами и мигалками. Но без охраны, доверившись педалям и машинальным мыслям, он не заметил, как оказался снова в городе, притом перед домом архитектора Бальчуриса, а потом и перед его дверью. Там ему почему-то сказали, что слесаря вызывали на завтра.
– Иногда меня принимают и за плотника, – утешил он как бы с некоторой виной. – А иногда за маляра…
– Ой! – сказала жена архитектора Бальчуриса.
– Но я могу, если надо, и кран починить, – сказал доктор Петрович.
В квартире архитектора он был впервые. Но много слышал, что квартиры архитекторов всегда являются произведением искусства. У Рыжиковых тоже были полки, табуретки и шкафчики, грубо сколоченные еще старым фельдшером. Ну и немножко самим доктором Рыжиковым в том самом дровяном сарае с верстаком. Но куда им до этого, до архитекторской мебели то есть. Хотя собственно мебели и не было.
– Это мебарт, – тоном экскурсовода сказала она, поймав его взгляд, потерявший привычную опору. – Архитектура мебели.
А вообще в разгаре была охота за глупой полированной мебелью. Всеобщее схождение с ума. Тогда еще не каждая паршивая мебельная фабрика могла плодить шедевры из ДСП, очереди скапливались огромные, и люди даже выбрасывали старинную угловатую обстановку, за которой опять же через десяток лет начнется судорожная охота как за антиквариатом.
Архитектор Бальчурис, как подобает настоящему художнику, пошел своим путем. Он сделал все в своей квартире сам. В чем, в чем, а в мастерстве доктор Рыжиков разбирался. Это была работа умных рук, судя уже по выбору дерева, бережности к фактуре, чистоте и прочности стыков. Но главное – самостоятельность. Это была не мебель, а мебельный комбайн. Нечто единое из лавок, столиков, ящиков, полок, полатей, бара, секретеров, лестниц, ведущих на разные уровни, ниш для светильников и телемузыкальной установки, интимных закутков и т. д. Каким-то образом в центре вместился довольно большой стол и даже навесной кульман на рычаге…
Он вспомнил, что городские жены закатывали глаза и истерики городским мужьям, попрекая их умельцем архитектором, а в особенности – требуя пробиться сюда на четверги, где якобы собирались разные умные гости и шли разнообразные беседы за чашкой кофе. Было дело, страдал и он сам. Частично, разумеется.
И вот он здесь. Сначала осмотрел дело умных рук архитектора Бальчуриса, потом должен был перейти к делу своих умных рук.
Жена архитектора Бальчуриса что-то готовила в спальне к его появлению. Там трепыхались перестилаемые простыни, переставлялись утки, двигалась тумбочка. Доктор Рыжиков деликатно обратился к корешкам умных архитекторских книг. Он чувствовал, что с удовольствием поговорил бы с их хозяином о волновавшей его проблеме неправильного понимания стиля Корбюзье, неограниченных возможностях монолитного железобетона и, наконец, изоляции пешего жителя от транспортного потока с существенным ускорением последнего. Велосипедистам здесь отводился особый почет, но к кому их относить – к пешеходам или к автотехнике, – это хотелось бы выяснить теоретически.
– Вы так неожиданно… – появилась жена архитектора Бальчуриса и распахнула дверь в спальню.
И он увидел дело своих рук.
Оно полулежало на подушках. На сложных рычагах над ним удобно висел кульман. Белейший ватман – будто только что была сдана одна работа и должна была начаться следующая. Дело рук доктора Рыжикова смотрело на этот новый лист прицельным взглядом профессионала. Потом посмотрело на самого доктора, да так умно, ласково и проницательно, что Рыжиков приостановился: зачем его сюда заманили?
– Здравствуйте… – чуть оробел он и вежливо, по рыжиковски, поклонился делу своих рук.
Дело понимающе подмигнуло ему и пустило слюнный пузырь. Струйка слюны покатилась по подбородку на крахмальную простыню… Сзади прижали к глазам полотенце и всхлипнули.
– Так… – сошла робость с доктора Рыжикова. – Ну как мы себя чувствуем?
Вопрос, конечно, был нахальный. Ибо все было видно с первого быстрого взгляда. Но он все же подсел к делу своих рук. И попытался заговорить с ним, привычно взяв за пульс. Но не о стиле Корбюзье, конечно. «Как вас зовут?» Хотя прекрасно знал, как зовут дело его рук. «Где вы сейчас находитесь – дома или на улице?» Хотя прекрасно знал… «А что вы сейчас делаете?», «День сейчас или ночь?», «Сколько вам лет?..» Потом попросил повторить: «Ба-о-баб… зо-ло-то… по-ле…» Потом попросил трижды стукнуть пальцем по кульману. Вот так: тук-тук-тук. Нет, не кулаком, а только пальцем, и не раз, а три. И не стучать все время, не надо… Потом нарисовать кружок. Нет, не зигзаг куда попало, а кружок. Нет, не на простыне…
Здесь самому жестокосердному пора было сжалиться над женой архитектора Бальчуриса, хоть она и ушла от этого несчастья в другую комнату. Доктор Рыжиков допивал сию чашу один, глядя, как дело его рук с умной проницательной улыбкой ковыряет в носу и чистит палец о белоснежный ватман кульмана.
Он не мог встать и выйти. С делом своих рук так просто не прощаются, тем более с предметом профессиональной гордости, вызвавшим в то время у жены слезы радости, а у городского руководства приветственный адрес коллективу горбольницы. «Товарищи архитектора Бальчуриса по работе выражают горячую признательность вам, представителям трудной и благородной профессии врачей, за сердечную отзывчивость и высочайшее медицинское искусство, благодаря которым возвращен к жизни наш уважаемый друг и товарищ по совместной работе после происшедшего с ним несчастного случая».
Это была истинная правда, и этих теплых слов заслуживали те, кто отвечал за внутренние органы и за сращение костей, за сердечно-сосудистую систему и многое другое. Внутренние органы могли проработать еще лет семьдесят. Архитектор Бальчурис выглядел здоровяком, и пульс у него был похвальный. Ну, паралич нижней части тела и конечностей не в счет – среди таких известны и поэты, и ученые, и даже президент Рузвельт. Судьбу еще можно переиграть. А вот лобные доли…
Ответственного за них должны были выгнать отсюда с позором. Но почему-то поставили в большой комнате чай.
– Я это скрываю от всех… Отвечаю за него на все поздравления, сама поздравляю, плачу взносы в союз…
Серебряные ложечки, изящные розетки… Тигриная шкура на лавке грустно свесила лапы… Дверь приоткрыта, чтобы видеть архитектора. И он посылает сюда свою добрую, всепонимающую улыбку.
– Убираться, наверное, трудно, – звякнул ложечкой доктор Петрович. – Столько полок…
– Что вы… – звякнула ложечкой она. – Это сейчас просто. Пылесосом за полчаса…
Нет, это, конечно, непростительная его слабость. Мужская белая рубашка с закатанными рукавами, сильные круглые локти… Гладкая прическа, домашний милый узел на затылке. Серые встревоженные глаза на широком лице.
Он-то думал про другую уборку – в спальне архитектора Бальчуриса. Но сказал о другом:
– Но все же книги должны быть поближе. Где-нубудь на расстоянии руки. А то пока лестницу, пока влезешь на потолок, то и читать раздумаешь…
Он говорил осторожно, так же, как и помешивал ложечкой в чашке, чтобы не вызвать звяк и не коснуться главного.
– А так экономится место, – сказала она, повторяя, как видно, один из постулатов архитектора Бальчуриса. – Сколько его под потолком пропадает… Мы просто привыкли размещать все в одном уровне. А есть варианты…
Она тоже говорила осторожно и тоже боялась звякнуть ложечкой.
– Может быть… – Он хотел сказать что-то вроде, что в этом может быть, сермяжная мужицкая правда. Но передумал. – В сущности, мы сами тоже вариант…
– Какой? – устало удивилась она.
– Может, и тупиковый… Это зависит от нас. Можем мы дальше развиваться или останемся… в нашем дремучем древнем виде…
– Почему дремучем? – спросила она.
– Ну… Может, медведей озарит сознание, и они опередят нас в развитии. Или лошадей. Природа ведь перебирала тысячи вариантов и видов, пока дошла до сознания. Может, еще не выбрала окончательно…
– Вы думаете? – заопасалась она.
Давно он не сидел в таком уютном зеленоватом свете, давно не пробовал янтарное варенье такой фигурной ложечкой. Давно его не слушали с таким наивным интересом. Дочки доктора Рыжикова тоже неплохо заваривали чай (не пора ли заменить граненые стаканы на что-нибудь приличное, подумал он сегодня), но как только он начинал говорить, их нахальные губы складывались в кривую ухмылку высокомерия и недоверчивости, особенно при Валере Малышеве. Даже у Аньки с Танькой. Вернее, особенно у них. Им казалось, что все, что он ни говорит, и все, что ни скажет в дальнейшем, – только о пользе овсяной каши на воде. А они уже выше этого.
А может, он сидел не потому, а потому, что ждал главного вопроса. А главный все не задавался. Все шло окольное.
– А почему? – поискал он, на чем бы нарисовать свою мысль. – Если мы выродимся или там эпидемия идиотизма… А это уже охватывало целые народы… Придется или кончать эксперимент, или искать замену…
– Эксперимент? – Она и удивлялась плавно, как бы замедленно.
– Ну а что же такое прийти от камня к мысли? Высечь из камня мысль? Например, ум хорошо – два лучше. Какой-то камень бросили в пробирку, начали раскалять, охлаждать, растирать в пыль, снова сплавлять… Пробирка огромная – миллионы галактик… Но я, наверное, вам надоел… – Он заметил, что разговорился как на операции.
– Нет… – сказала она и подлила чаю. – Но кто же элкспериментатор?
– Природа… – пожал он плечами. – Больше вроде некому…
…И умный, понимающе-значительный взгляд архитектора Бальчуриса.
Она тоже почувствовала его. И потеряла интерес к природе. И ко всему на свете. И только безнадежно спросила: «Ну как?..»
Картина, характерная для медио-базального поражения передних отделов мозга с явным вовлечением глубинных и боковых структур, должен был сказать доктор Рыжиков.
Поэтому вслух он сказал:
– Да как сказать…
– Скажите прямо, да и все, – с неожиданной твердостью предложила она. – Я, в общем, фабричная, выдержу…
Доктор Рыжиков только вздохнул, и в этом было все объяснение.
Она спокойным жестом убрала с чистого лба прядь теплых пепельных волос и посмотрела вдаль, в свое будущее, обозримое до тех пор, пока будет исправно работать сердечно-сосудистая система архитектора Бальчуриса, его печень и почки, селезенка и прочее.
«Но часто просим мы…» – вспомнил доктор Петрович назидательно поднятый палец старого фельдшера Рыжикова. Только что просим, сразу не вспомнил. Что просим-то?
Китайские фарфоровые чашечки и блюдца такие тонкие и издают такой интеллигентный звон…
– Мы сделали все, что смогли, – не нашел он ничего лучшего, чтобы сказать дальше. Кто-то здорово это придумал. Спасибо ему.
– Да… – сказала она, после чего оставалось только встать и откланяться. Доктору Рыжикову стало почему-то тоскливо. – А я послала заявку на конкурс…
Он понял, что не все потеряно. Еще минута-две у него есть.
– А какой конкурс? – осторожно спросил он.
– Международный… – сказала она. – Пришло приглашение. Очень красивый бланк. Закрытый конкурс. Я у него в конспектах разные черновики нашла… И заявку оформила. Чтобы не подумали, что он… Лучше б ее и не приняли. Теперь пришел ответ, что принята. Что теперь делать?
Конкурс оказался серьезный – на лучшую жилую и культурно-оздоровительную пригородную зону.
Доктор Рыжиков повертел заявку и так, и сяк. И приглашение тоже. Завистливо вздохнул. Повеяло дальними странами и городами.
– Вы уж простите контуженого, – попросил, поразмыслив. – Если с точки зрения изоляции пешехода от усиленного транспортного потока… Короче говоря, я ведь учился а архитектурном… Правда, полтора семестра…
– Правда? – не поверила она. – А почему…
– Перекинулся? – подсказал он. – Очень просто. За доппаек. В медицинском дополнительный паек давали к стипендии. Вот и продался…
Это замечательное простодушие обезоружило жену архитектора Бальчуриса.
– Ну вот… – воспользовался этим он. – Давайте сами нарисуем, вырежем макет из пенопласта… Эскизы и имя – его, оформление – наше… И посылаем… По-моему, справимся.
Как справятся, он пока знать не знал. Это была высадка в неизвестное, прыжок на плацдарм. Чтобы не уходить безвозвратно. Других дел здесь уже не осталось. С делом своих рук…
– Что вы! – Она даже отшатнулась от таковой чисто десантной наглости. – А если архитекторы возьмутся за ваши операции? Первый курс – это еще…
– Сначала перережут человек по сто, – хладнокровно подбодрил он зодчих. – Потом из десятка один как-нибудь получится. Потом начнет получаться. Мы тоже так учились, не думайте. Каждый на своих трупах… – И язык прикусил. Чертова все же контузия! – То есть, я хотел сказать – даже медведи… Медведя…
– Не надо… – сказала она. – Я понимаю.
Провалиться, и только. И чашечки эти такие тонкие и хрупкие, так и норовят раздавиться в слишком бережных пальцах.
– В конце концов, это и профилактика… Чем потом черепки склеивать, лучше развести пешехода с дорогой. Разве это не мой долг? Вот…
Он поискал в кармане огрызок, верно уведенный какой-нибудь медсестричкой, огляделся в поиске бумажного листа.
Она молчала так, будто сейчас его выгонит. Потому что каждому надо хорошо делать свое дело, а не чужое. Потом вдруг сказала:
– Хотите, покажу его эскизы?
Эскизы были там, у архитектора. И в приоткрытой двери – проницательно-ласковый взгляд: мол, я все понимаю и одобряю, действуй, хирург, будь десантником!
Чему же верить? И что просить?
«Но часто просим мы…» Что мы там просим? О чем подымал назидательный палец старый задыхающийся фельдшер над томом Шекспира? «Смотри, Лиза! «Но часто просим мы себе во вред! И боги мудро отвергают просьбы, спасая нас…»
Кто же возьмет на себя смелость точно решить, когда просить, а когда – нет? Когда бороться, не щадя себя, до конца, до последнего вздоха, который сам тебя освободит и остановит, а когда даже не начинать борьбу? Кто? Валера Малышев со своим электронным шефом? Доктор Рыжиков слегка поежился. Он всегда знал только один путь – бороться, ни у кого не спрашивая разрешения. Каждый раз снова, чем бы ни кончилось дело вчера. Но бороться выходило легче всего. Труднее – жить потом рядом с плодами своей борьбы. И смотреть им в глаза.
А может, он хоть в чем-то живет прежней жизнью, бросил доктор Рыжиков каплю надежды и ей, и себе. Может, во сне. Во сне проектирует, строит, участвует в конкурсах, получает награды. Едет с женой из своей уникальной квартиры на свою уникальную дачу. И если это так, если в какой-то личной, спрятанной форме жизнь все-таки продолжается и приносит ему… Стоило за нее цепляться и бороться?
Не в силах ответить один, он хотел спросить у нее, когда она внесла альбомы. Альбомы были уже пыльные, тяжелые и толстые. Доктор Рыжиков подхватил их, опасаясь коснуться ее рук, открытых по локоть. Но что может ответить она? Конечно, одно: стоило. Стоило, стоило, стоило. Для него – стоило. Даже без всяких снов. А сон – это уже награда.
Чтобы хоть как-то ее наградить, он сказал ей про сон.
– Правда? – со слабой надеждой спросила она. – А это можно знать точно?
Не успел он собраться ответить, так ли надо нам знать это точно или хватит надежды, как она отказалась сама.
– Хотя зачем? Лучше так верить… Даже если вы только так, утешаете…
15
Но ведь и утешать – его работа. Когда не остается другого. И когда боль не проходит.
Та боль, которая свела его с ума в архитектурном и от которой он бежал куда-нибудь. Никаких там пайков в медицинском – он про них знать не знал. Пайки – это потом, за санитара и медбрата. Да и какие там пайки в сорок восьмом… Подкормка крохами, чтобы студенты не свалились.
Но что ей толковать про свою боль, когда там и своей хватает.
И про несправедливость боли.
Как она искажает и как уродует мир, когда разламывает череп. И вместе со всем миром перестаешь быть собой. Ты – это уже не ты, это твоя дикая боль, которая помыкает тобой по-своему. А не по-твоему. Как верить человеку, который искажен болью? И как судить его? Доктор Рыжиков, тогда еще не доктор, подумал, что его города будут нести гримасу его боли. Да просто ни на что и не хватало, кроме как тупо смотреть на бумагу и мычать, сжав руками виски. «Отруби мне топором затылок!» – требовал он у своего школьного друга. Школьный друг, мокрый и потный после своей боксерской драки, с широкой и мохнатой грудью, с синяками на морде, говорил в утешение: «А вот меня по ней бьют, как кувалдами, и хоть бы раз заболела!» Каждый утешает как может.
Он понял всех, кто убивал себя от боли.
Один старый лекарь, довоенный друг Петра Терентьевича, еще отчищавшегося от плена, сказал тогда доктору Рыжикову, тогда еще не доктору: «А что, другим легче? Ты что, один такой у нее выкормыш?» У второй мировой, стало быть.
В архитектурном был один, а в госпитале окунулся в море общей боли. И сначала услышал, что это все. Что он неизлечим и обречен выть от нее всегда. Потом заметил, что чужая заслоняет свою. Что чужой болью можно спастись от своей или от наркомании лекарствами. Заметил, что просто забывал о своей боли, когда в их многоместной палате грудью падал держать соседа-фронтовика, бившегося в эпилептическом припадке. Забывал, когда вытаскивал из операционной тазики с отрезанными руками и ногами. Забывал, когда нес из палаты по коридору, а потом по больничному двору носилки с телом, еще не остывшим, но уже накрытым простыней, и боялся только одного – столкнуться с женой или матерью…
Забывал – и она отпускала. Потом возвращалась – ломить череп тисками. Особенно когда оставался с собой – приседал на пенек съесть пирожок. Высоко она сидела, далеко глядела. Не давала передохнуть. Он не передыхал, когда был сталинским стипендиатом и медбратом в институтской хирургии. И когда после первых операций под неусыпным оком Ивана Лукича дежурил возле своих больных, не доверяя персоналу ни укола, ни перевязки. Пока, по крайней мере, не появилась Сильва Сидоровна.
Словом, боль разрушенных домов и улиц так не вылечила бы его, как боль израненных людей. Особенно боль головы. Самая невыносимая, узнал он на себе.
Старый приятель Петра Терентьевича оказался провидцем. От своей боли доктор Петрович отделался. Вернее, загнал ее в какое-то десятое дно головы, в глубину, в крохотную, почти незаметную точку. Вроде ее больше не было. Но она все же была и хоть редко, но из норы выползала, запуская клешни во всю голову. Иногда после тяжелых операций. Иногда после того, что проделал с ним Коля Козлов, а вернее, что он проделал сам во имя спасения Коли Козлова. Или… Или… Или…
Но это уже было счастье. Вспоминать, что могла бы быть боль, а вот ее нет. Можно было вспомнить об архитектурном, но осталась бездна чужой боли, при которой он притерпелся быть черпальщиком. И черпал, и черпал без надежды и с надеждой увидеть когда-нибудь дно.
Если бы жена архитектора Бальчуриса спросила, откуда взялась эта боль…
Он бы сказал: «Как у Твардовского, помните?» «Я не слышал разрыва, я не видел той вспышки.» И вообще все про войну найдете у Твардовского. Только здесь он немного ошибся. Разрыва я правда не слышал, хотя это лупанула немецкая самоходка из восьмидесятивосьмимиллиметровки. А вспышку видел – вот как эту лампу. Такую яркую, отчетливую, закроешь глаза – и сейчас в них стоит. И все. Черная тишина. Или тихая чернота. Не знаю, на сколько. Просто потом открыл глаза – вокруг ребята, разевают рты, вроде говорят, а не слышно, как в онемевшем кино. Мне смешно, я в них пальцем тычу и ухохатываюсь. А они в каком-то столбняке, уставились на меня и позеленели. И тоже пальцами тычут, как на медведя. У некоторых даже челюсти отвисли. Потом, на меня глядя, так робко захихикали. Потом смелее. Потом во все горло, вместе со мной. Друг на друга тычем пальцами и ржем. Дождь, мокрота, все в грязи и глине, особенно я, с головы до ног. И рожа вся как у Бармалея. Я думаю, они над этим и потешаются, а я – над их зевками. Пошевелят ртами – у меня новый приступ. До слез дошли. Я ничего не пойму…»
Не сразу и поймешь, что за миг от вспышки до немого кино ты успел побывать в братской солдатской могиле. Подобранный на поле боя, бездыханный и беззвучный, со всем согласный, наскоро завернутый в плащ-палатку, был вполне надежно и добросовестно закопан трофейно-похоронной командой и уже, согласно смертному пистончику, внесен в тот скорбный акт, где для архивов и похоронок четким военным языком указано на века: «…в воронке от авиабомбы, триста метров западнее развилки шоссейной и проселочной дорог – два сержанта, ефрейтор и восемь рядовых…» И одиннадцать имен. А также «и три неопознанных ввиду сильного искажения трупов и отсутствия уцелевших документов, удостоверяющих личность».
Очень может быть, что доктор Рыжиков так и лежал бы там до сих пор. Если бы не подоспел его школьный друг, отряженный со старшим писарем на осмотр поля боя и опознание своих.
«Он мой пистончик и увидел, – мысленно продолжал доктор Рыжиков. – И даже врет, что заплакал. «Готов Юрка…» И решил ни в коем случае не оставлять меня в братской воронке, а снести в батальон, чтобы там похоронить в самостоятельной могиле, в гробу, а не в плащ-палатке, со звездочкой. Почти как офицера. Он сказал, что рассчитывал: при случае я то же самое произведу и с ним. Мне-то что, я и так был доволен. Меня зарыли в шар земной… Ну, а похоронщики с ним почему-то были не согласны. И сильно заупрямились. То закапывай вашего брата, то выкапывай – мало ли что…»
Трофейно-похоронные команды комплектовались из несговорчивых парней. Из легкораненых, выздоравливающих или больных, которые еще долго после боя, когда вся братва в блиндажах и землянках или просто окопавшись ела горячую кашу, выполняли тоскливый свой долг – сортировку остатков людей, вдавленных гусеницами в грязь или снег, разорванных на куски минами. Так что школьному другу пришлось чуть не подраться. Но их он заставить не смог – только отбил лопату, чтобы копать самому. Сначала лопатой, потом руками, из страха поранить уже искромсанные трупы. Доктор Рыжиков по чистому случаю лежал не так уж глубоко, во втором ряду от верха. И его сапог, хорошо знакомый школьному другу, вызывающе торчал среди обмоток и ботинок первого пехотного ряда. Растолкав других спящих вечным сном, он с чьей-то помощью вытащил за эти сапоги доктора Рыжикова из его коченеющей компании. Решено было на той же плащ-палатке и тащить его в батальон. Но тут доктор Рыжиков зашевелился и открыл глаза…
Принесли его домой, оказался он живой, должен был закончить он вполне в своем духе. Точнее, полуживой, что он почувствовал, насмеявшись до слез. Оглохший, окосевший, из носа и ушей сочится кровь, ноги не слушаются. А надо еще помочь школьному другу снова забросать разрытую могилу. Все вокруг было красного цвета и куда-то плыло. Они бросали в яму комья вязкой и мокрой глины, под которой навеки скрывались недавние сотоварищи доктора Рыжикова.
«А может, там еще живые были?» – спросила бы его, наверное, жена архитектора Бальчуриса. Он бы немного подумал, потом неохотно ответил, что остальные… Что остальные были уже разобраны по частям и по косточкам. И на каждого из них не подоспело по школьному другу…
В тот день доктор Рыжиков не придал этому никакого значения. Закопали, выкопали – ну и ладно. Насыпали на пару новый холмик и поплелись в батальон. Его рвало навыворот, кишки лезли изо рта. В голове – оглушительный звон. Теперь-то он такого пациента уложил бы дней на двадцать. С неподвижным режимом. Но тогда, к счастью, в этих тонкостях не разбирался и еле уговорил ротного не посылать его в медсанбат, чтобы там не застрять и не отстать от своих. Спасибо, ротный пожалел, не отправил. И даже позволил поездить в трофейной повозке, тяжело груженной разным ротным скрабом. Только старшина смотрел косо: сидит сачок в фургоне – ни царапины на нем. Старшинское сердце не выдержало, каждый штык на учете, занарядил сачка в караул. Тут-то доктор Рыжиков и погубил свое счастье. На посту ночью, возле полевого склада с горючим, стрельнул с глухоты в подозрительное пятно, лезущее сквозь кусты. Пятно оказалось ротной лошадью, тащившей чуть не от границы ту самую повозку. А выстрел оказался метким. «Я тебя самого запрягу!» – шипел на меткого стрелка старшина, брызгая как сковородка. Остатки роты тоже норовили сказать ласковое словцо, принимая на плечи ручные пулеметы, ящики с патронами и гранатами, телефонные катушки, консервы, трофейные фаусты и все, что сердцу дорого. Так обошлась ему собственная глуховатая бдительность. Причем самому досталась в назидание от старшины «медаль за пререкания». Что такое «медаль за пререкания», он любил рассказывать медперсоналу во время длинных операций, ибо это была такая симпатичная стальная плитка ротного миномета. Миномет был самый маленький из минометов, но плитка от этого не была легче, когда гнула солдатскую спину. Его шатало и без плитки от собственной чугунной головы. Но чувство вины помогало держаться. Хотя спустя годы он подумывал, что окажись лошадь не своя, а чужая, забредшая из соседнего батальона, то дело могло кончиться и настоящей медалью – за бдительное и неусыпное несение караульной службы. Всяко бывает. Но эти сомнения посещали его спустя годы.
Спустя годы он стал думать о той братской могиле больше. Можно даже сказать, сначала он и не думал о ней. Просто вспоминал иногда – мало ли что с кем приключалось на зыбком том пути… До первой операции. Когда из дальнего медвежьего угла неслись пронзительные телефонные звонки. Мальчишка-турист свихнул шею и расколол черепок, сорвавшись с лошади. Пока ребята донесли его из леса в деревню, пока из сельсовета дозвонились в райбольницу, пока запрягли лошадь переправлять туда, пока разобрались, что сами не справятся, пока стали звонить в город… А там в санавиации все врачи на выезде, сидит один студент-практикант, подрабатывает. Не то чтобы еще в полном смысле студент, но и не полностью врач – пока был только ассистентом на операциях. И поехал с мыслью только доставить больного. Но его уже нельзя было не то что везти – шевелить. Нетранспортабельный турист был совсем плох, почти не дышал. О том, чтобы везти, не могло быть и речи, притом полпути на телеге. С дорогами тогда было не так. А в больнице – стоматолог, акушер и ухогорлонос. Без пяти минут доктор Рыжиков хоть видел операции, а они даже близко не стояли. Хорошо еще, что, когда начал ездить на вызовы с Иваном Лукичом, взял и завел себе такой же выездной чемоданчик с инструментами. В общем, надо было их кипятить и рисковать. В сиротской операционной, под местным обезболиванием, с ассистентами – толстым, разленившимся зубником и боязливой ухогорлоносихой, которая все волновалась, имеют они право это делать или не имеют. Дело не в том, что сложно, – момент был роковой. Все там уже было сдавлено насмерть, без раскупорки черепа – конец. Приговаривая для успокоения себя и ассистентов, что эту операцию делали еще скифы, юный доктор Рыжиков трудился над бессознательным туристом, а потом не отлучался от него еще две недели, пока не подпустил к койке родителей.
Тогда запоздавший к событиям местный хирург и сказал: вот, мол, здорово, что подвернулся такой практикант, а не какой-нибудь дерматолог. Доктор Рыжиков со свойственным ему с юных лет легкомыслием добавил: хорошо, мол, что этот практикант не лежит сейчас в полях за Вислой сонной, где его раз уложили, а то бы другой еще с перепугу не стал сам ковыряться, а потрясся с больным в город.
С тех пор, когда что-то удавалось, он говорил в ответ на благодарности: «Что вы, это повезло нам обоим». Когда не удавалось – молчал и дальше, чем обычно, уезжал на велосипеде от города. А молчал он о том, что зря его, наверное, выкопали, что если бы вернули кого поумнее, то пользы человечеству было бы больше… Но потом постигал, что раз уж так получилось, раз вернули его, а кто-то поумнее остался тлеть в тех полях, то надо тянуться, надо выплачивать долг. Не ради же его персоны как таковой судьба сделала этот немыслимый жест – разверзла вновь уже зарытую могилу. Кому тут нужен лично он, если счет шел на десятки миллионов? Песчинка в урагане войны – что она могла требовать? Чем ей должно было быть лучше других? Значит, это все ради тех, кому она потом послужит, кому пригодится.
Теперь он считал про себя: вот я лежу уже семь лет, десять… пятнадцать… переваливает за двадцать… Уже и костей не осталось, пуговицы – в порошок… Может, поставили плитку с фамилиями, может, перенесли на чужое аккуратное австрийское кладбище, а может, забыли, и холмик сровнялся с землей… И только нас на ней и видели…
Такой календарь.
Оказывается, почти жалобно мог бы сказать он жене архитектора Бальчуриса, двадцать с лишком лет лежать в могиле – это так много, так долго… А это же время прожить – так быстро, так мало… Чихнуть не успеешь. Сделать что-нибудь путное все собираешься и собираешься… «Про меня даже Твардовский написал», – мог бы похвастать он с невеселой усмешкой. «Вы знаете Твардовского?!» – спросила бы она всерьез. Я его – да. «И устаю от той игры, от горького секрета, как будто еду до поры в вагоне без билета…» Он-то меня – навряд ли…
И только потому, что в доме архитектора Бальчуриса, на его знаменитых интеллектуальных четвергах, звучали при свечах или там торшерах стихи совсем других – не скажем, что худых, – поэтов, она не смогла бы ответить: «…А что ж ты, собственно, хотел? Ты думал: счастье – шутки?»
Но объективности ради надо все же сказать, что в медицинском тогда студентам-дежурантам, а также санитарам, сестрам и братьям действительно перепадали пайки. И студенческий голод в послевоенные двадцать в самом деле не тетка. Так что доктор Рыжиков ответил истинную правду, почему он пошел в медицинский.
16
Потом он за кого-то заступался.
– Просто старость не радость, – говорил он сочувственно, как про какого-то больного, с которым надо быть особенно внимательным. – К старости развивается масса неприятных осложнений личности… Мания величия, синдром непогрешимости… Жажда всепослушания… Начинаются перебои в пресловутой обратной связи. Сам себя слышит хорошо, а на ответе засыпает… Ты учти, что это все ждет нас. Готовься потихоньку.
– Ну прямо адвокат… – некий Мишка Франк пустил из своей трубки паровозное облако дыма.
Трубка у него была короткая и мощная, под стать самому приземистому и квадратному Мишке Франку. Доктор Рыжиков звал ее кулацким обрезом. Притом не одна трубка, а две. Пока одна курилась, другая заряжалась.
– Я что-то не пойму, жалеешь ты его? Ты себя пожалей!
– Нас не надо жалеть, – отказался доктор Рыжиков. – Ведь и мы б никого не жалели…
– Уж вы-то всех подряд жалеете, – хмыкнул Мишка Франк в густые черные усы. – Только не пойму, почему…
– Все-таки он много вынес, – снова заступился за кого-то доктор Рыжиков. – Оперировать в лесу, в землянке – это жуткое дело. Ты даже не представляешь. Без антисептика, без наркоза, без инструмента…
– Ну хорошо, если ты так его любишь, то что же ты с ним разругался? – снова не понял доктора Рыжикова Мишка Франк.
– Не я с ним разругался, – спокойно сказал доктор Рыжиков, – это он разругался со мной.
– Ничего себе – не разругался! – Мишка Франк даже бросился ко второй трубке, запустил ее во всю мощь и начал выколачивать пепел из первой. Для этого служила здоровая каменная лоханка, громоздившаяся на письменном столе. Кстати, подарок самого доктора Рыжикова, в котором он теперь каялся: не следовало бы помогать Мишке Франку в его непрерывном курении. Ибо, выколотив первую трубку, он тут же стал набивать ее новым табаком. Этот конвейер работал без остановки. – Ляпнуть такое насчет президента Кеннеди!
– Уши у тебя длинные, но кривые. Я ляпнул не насчет президента Кеннеди, а насчет сенатора Кеннеди.
– Ну да… Чуть ли что он его там убивал вместе с Освальдом…
– И телефон у тебя испорчен, – резюмировал доктор Рыжиков так, что Мишка Франк удивленно посмотрел на телефонный аппарат, верой и правдой служивший ему. – Освальд убивал президента, а сенатора – совсем другой террорист. Его зовут…
– Да не морочь ты мне голову! – вспылил Мишка Франк. – Я тоже газеты читаю! Говорят, его из-за тебя кондрашка хватила!
Даже трубка-обрез мощным пыхом разделила возмущение хозяина.
– Кондратий тебя раньше хватит! – посулил доктор Рыжиков. – Если будешь коптиться как окорок и сало наедать. А он здоровей нас с тобой, бегает по корпусу и пыхтит как самоходный вулкан.
Для пояснения он тут же набросал бегущего со свирепым выражением Ивана Лукича, своего корифея, у которого вместо лысины зияло жерло, извергающее пепел и огонь.
– Ну вот! – подтвердил свои подозрения Мишка Франк. – А прикидываешься мальчиком. Чем-то ты его до этого довел! Ведь так просто любимых учеников не гонят взашей!
– Меня никто не гнал! – сказал доктор Рыжиков миролюбиво, но с примесью самолюбия. – Я сам ушел. И доводить я никого не доводил. Я только тихо и мирно сказал, что такая тактика и отправила на тот свет сенатора Кеннеди. А консервативная должна была спасти.
– Только и всего?
– Только и всего!
– Врешь ведь! – убежденно пыхнул дымом Мишка Франк. – Еще что-то добавил!
– Добавили, – послушно согласился доктор Рыжиков. – Приступ начался, когда ему сказали, что вас тут считают убийцей в белом халате. Ну тут он, конечно, побагровел, набычился… Ну и…
– А кто сказал? – полюбопытствовал Мишка Франк.
– Ну… Какая тебе разница, я ведь пришел не жаловаться… Это на меня тебе нажаловались, вот и разбирайся. Наказывай.
– Я вашему сусеку не начальник, чтобы в ваших катаклизмах разбираться, – снял с себя эту приятную обязанность Мишка Франк. – Ладно, я и так знаю.
– Что ты такое знаешь? – заинтересовался доктор Рыжиков.
– Кто там масло в огонь подливает… Да не в ней, в общем, дело. Сколько тебе говорить можно: не лезь на рожон!
– А куда лезть? – справедливо спросил доктор Рыжиков, снова что-то прилежно рисуя.
– Иди ты…
– Ну хорошо, пойду, – послушно вздохнул доктор Рыжиков. – Но если можно, то поеду на велосипеде.
Мишке Франку на миг не хватило энергичных выражений, и он заменил их ужасающим облаком дыма. Похоже, он почти сердился. А с виду человек добродушный, век из себя не выведешь. Толстый, усатый…
– Тебе-то что стоит быть осторожней с начальством, если оно такое обидчивое! Шею свернуть не боишься?
– Нет, не боюсь… – просто и без фасона ответил доктор Рыжиков. – Отбоялся. Знаешь, что об этом было сказано? «Теперь, я знаю, будет трудно, но чтобы страшно – никогда». Ты хоть стихи читаешь… или только докладные?
Мишка Франк даже поперхнулся своим любимым дымом. И этот тип якобы муху не обидит! Да он бегемота толстокожего из себя выведет, тихоня! Со стихами своими…
– Тебе бы годик потерпеть, посидеть тихо! Ему замена скоро нужна будет, а кроме тебя, и взять некого! Он сам тебя и выдвинет! Ну потерпеть ты можешь?
– Что я, наследник богатого дядюшки, чтобы мечтать о его скоропостижной кончине? – отказался от такой романтической роли доктор Рыжиков. – А до этого кланяться и улыбаться каждой его глупости? Я-то бы еще смог, но люди жить хотят. А это все на их шкуре и жизни… Мне уже за сорок, меня вызывают оперировать во все больницы города. Даже в военный госпиталь. Бегаю от больного к больному, как заяц от борзых. А у себя – все за мальчика, могут в любой момент то на аппендицит поставить, то на грыжу… Приходится тайком меняться больными с коллегами. В общем, я к тебе как к городскому начальству. С официальным заявлением. Прошу выделить мне корпус на шестьдесят коек… – Он стал со свойственным ему оптимизмом набрасывать роскошный архитектурный проект. – Из них тридцать – для ветеранов войны, инвалидов с нейротравмами. Десять детских, десять спинальных, десять женских… Первый этаж – приемная, процедурная, спортзал, профилакторий для восстановления… Второй – палаты, перевязочная, столовая. Третий – оперблок, интенсивники, мастерская…
– Юра… – Мишка Франк все больше вытаращивался по мере этого строительства. – Раньше в городе была одна одноэтажная больница. И людям вполне хватало. Всех лечили: и слепых, и глухих, и с животом, и с горлом… А теперь посмотри, что делается. Сердечникам подавай корпус, почечникам – корпус, глазникам – корпус. И детской хирургии, и пожарникам…
– Ожоговикам, – оторвался от проекта доктор Рыжиков.
– Ну, ожоговикам. Все равно всем по корпусу. И каждый – роскошнее прежней больницы. Совесть у вас есть? Город же не вырос до Токио! С вами мы до двухтысячного года, кроме больницы, ничего не построим! А жилье, а магазины, а соцкультбыт? Вы же все городское строительство хапнете!
– С тобой хапнешь, – не очень-то и разогнался доктор Рыжиков. – Значит, отказать? Инвалидам войны отказать? А знаешь, сколько их только по моему профилю?
– Слушай, не ты один заступник инвалидов, – вступился за городскую власть Мишка Франк. – Я тебе могу показать, что для них делается. Дать список мероприятий? А про вас еще старик Щедрин сказал. Раньше люди помирали от одной болезни, по имени кондрашка. И на весь город был один врач. А как врачей стало больше, то на все их специальности размножились и болезни. А тут попробуй выторгуй лишнюю копейку в облплане.
– Понял, понял, – разочарованно сказал доктор Рыжиков. – Ворон ворону глаз не выклюнет. Вместе в одних президиумах дремлете, станете из-за меня ссориться…
– Ах, так? – Мишка Франк встал в боксерскую стойку. – Повтори-ка!
– И повторю! – сказал доктор Петрович. – Только драться будем велосипедными насосами!
– Трус! – выпустил презрительное облако дыма один из городских руководителей.
– Помпадур! – не задержался доктор Рыжиков.
– Изверг в белом халате! – вернул Мишка Франк. – Врач-палач!
Низенький и грузный, как паровоз, умные и грустные черные глаза выглядывают над прижатыми к лицу волосатыми кулаками. Все это и увидела секретарша, заглянувшая в дверь напомнить о близком совещании. Заглянула и сказала: «Ой!» Первый раунд кончился.
– Ладно! – отложил избиение кулачных дел начальник. – Скажи хоть, куда человека-то спрятал.
– Какого человека? – изобразил невиннейшее удивление доктор Рыжиков.
– Какого, какого! Ну мне-то ты можешь сказать? Что я, побегу выдавать? Только зачем тебе вообще вся эта детективщина? Снова переполох в благородном доме, крик, шум… Ну ладно, скажи, не выдам… Ну, я попрошу завгорздрава…
– Купить хочешь? Десантники не продаются!
– Ну ты хоть объясни, зачем… Ладно. Совещание начинается. Если бы я один решал, что ты думаешь… А тут на каждый строительный рубль сто желающих. Да не желающих, требующих. Нуждающихся вот так… – Мишка Франк провел рукой по горлу. – Бедные мы еще. Да еще математиков сверху спустили, по разнарядке. Зональный центр… Ну что я один могу? Ну а чем ты на хлеб заработаешь? Грузчиком, что ли, пойдешь? Может, прорабом ко мне? – Он насобирал в ящиках штук десять папок разной толщины, сложил под мышку. – Видишь, сколько строек? Одни только горящие, которые больше миллиона. Хочешь, последнее отдам, что имею?
– Что? – спросил доктор Рыжиков.
– Этот кабинет, – Мишкина трубка обвела прокуренные стены, обитые недорогим провинциальным деревом. – Можешь разворачивать здесь медсанбат. – И последнее, уже совсем пятясь: – Привет оболочке!
Иногда с этого он начинал их очередной, не очень частый разговор: «Как там твоя оболочка?» Оболочка вела себя по-разному. Иногда вполне прилично, вежливо, культурно. Доктор Рыжиков так и говорил Мишке Франку. Иногда хулиганила и дебоширила, о чем также незамедлительно сообщалось. «Весьма нахальна», – жаловался он тогда. Иногда заболевала – чихала и кашляла. «Сопли потекли…» Или: «Сегодня ничего, веселенькая, скачет…» Или: «Скучная, как протокол вскрытия». Мишка Франк уже привык ко всему, но каждый раз оболочка удивляла какой-нибудь новой выходкой. Оказывалась, например, в стельку пьяна и буйна, так что без вытрезвителя не обойтись. Вроде это была их общая знакомая, живущая где-то здесь, в городе, и в свою очередь передававшая Мишке Франку светский привет. Сегодня она, видно, осуждала его вместе в доктором Рыжиковым, потому что Мишка Франк вынужден был много оправдываться и даже отдал во искупление вины свой казенный кабинет под благое дело.
Но в кабинете даже не было водопровода, и доктор Рыжиков в большим сомнением изучал его, оставшись ненадолго один. Может быть, все же думал здесь кого-то спрятать, о ком расспрашивал с таким нескромным любопытством Мишка Франк. Место неплохое, под присмотром аккуратной секретарши. Только надо продумать доставку пищи и вынос отходов, а так – за какой-нибудь ширмочкой вполне и вполне…
17
Все это означало, что шнур наконец-то дотлел. Взрыв грянул. Доктор Рыжиков снова оказался, как когда-то, подброшен взрывной волной, десять раз перевернут и брошен оземь непонятно где.
Хотя ничто не предвещало взрыва, когда он тихо-мирно сидел себе в дежурке, где все скрипели перьями и чесали языки и где перед ним предстал кузнец дядя Кузя Тетерин. Поскольку на нем не было признаков колотых или рубленых травм головы, дядя Кузя виновато улыбался и тянул доктору Рыжикову здоровенную, в зазубринах, рабочую ладонь. Аккуратно пожал белую, пахнущую дезинфекцией докторскую руку. Сел на кушетку, куда велели, осмотрелся. На вид абсолютно здоров – и телесно, и нравственно. Доктор Рыжиков уже давно не встречал таких здоровых положительных людей.
Только вот почему-то вокруг дяди Кузи все боялись дышать. И смотрели на него как на падающий хрустальный сосуд. И дрожащими пальцами протягивали доктору Петровичу мокрый снимок человеческого черепа, с виду тоже вполне добродушного. Но только с виду.
Доктор Рыжиков встретился взглядом с глазницами черепа и тоже содрогнулся. И тоже перестал дышать. В самой его глубине, в мозговом веществе, четко темнел посторонний предмет, продолговатый как осколок. Но дядя Кузя на войне и ранен был не в голову, да и сейчас голова абсолютно цела… Ему осталось только родиться с посторонним предметом в ней.
– Братцы кролики, протрите мне глаза, – попросил доктор Рыжиков. – А это точно его снимок?
По заданию доктора Рыжикова дядя Кузя исправно шевелил руками и ногами, попадал пальцем в нос. Единственное что – болела голова. Просто трещала. Особенно когда глаза следили вправо-влево за докторским молоточком. Притом не первый день.
Но голова – не палец, более нужный в работе на пневмомолоте. Притом понедельник. Какой же понедельник без головной боли… И дядя Кузя думал: так и надо. Исправно простоял у пневмостукалки, исправно прокрутил заготовки. Конец декады – не до головы. Под вечер полечился пивом – думал, пройдет. Утром во вторник еще хуже. Стошнило. Глазами не пошевелить. Перед работой забежал в санчасть, спросил пирамидону. Запил таблетку, подмигнул сестре, оставил на стакане темный след пальца. Пошел давать норму. А она разламывается. В обед явился снова. Чтой-то не то. Смерили температуру – нормальная. Дали еще две таблетки. Выпил. Уже и подмигнуть не смог. А от стука вообще смерть. Бух-бух-бух-бух-бух… В цехе-то канонада. Бьет по мозгам. Дали записку в поликлинику. Там тоже за температуру: нет. Врач и так напуганный: бюллетенщики обложили. Что дядя Кузя симулянт, он прямо не сказал, но щупал очень неохотно. Вместо больничного дал еще таблеток: к утру пройдет. А не проходит. Чтобы так затянулся понедельник – с ним еще не бывало. Люди жалеют – а нечего делать. Температуры нет, кровь не течет – что еще надо? Одни советуют в бане попариться, другие – водки с перцем, третьи – на голове постоять, ногами в стену упершись. Ему бы денек отлежаться, да без него кузнечно-прессовый как без рук. Да он и сам их первый враг, прогулов. Как член цехкома и ударник. Думал дотянуть до выходного – не вышло. Хоть лезь на стену. Стало просто выворачивать. Вроде глаза вылезают и тошнит непрерывно. В третий заход врач сдался, послал на снимок. Или решил доказать симуляцию. На снимке дядя Кузя терпеливо сидел в очереди. Потом там выключили свет. Потом свет дали, но рентгенщицы стали обедать, кипятить чай. Тетки, боевые, облученные вдоль и поперек, весело огрызались, ничего не боялись. Они кузнецу даже понравились. Тем более что в очереди от спокойного сидения полегчало. Напились чаю с леденцами, вызвали. Пошел, подставил лоб излучающей трубке. Тоже техника, уважения требует. Потом висок. Потом спросил, куда идти – домой или в цех. Они захмыкали: не их, мол, дело. Он побрел на работу, хоть там остался час. Потом в автобусе домой в микрорайон. Автобус попался трясучий – дух вон. И не то что присесть – зажали, не дохнешь. Кряхтя и мыча чуть доплелся. Не хотелось ни пива, ни раков. Ни сидеть, ни лежать, ни смотреть футбол, ни забивать козла. Соседи даже поразились. Только от боли стучал себя кулаком в лоб и мычал. Утром даже не поднялся – будь что будет. Тут за ним и явились. Тот же врач желдорбольницы, но уже выпучив глаза. «Вы лягте, мы поможем, вы головку вот так, мы подержим…» Дали б больничный, и дома бы отлежался, а так только старуху напугали.
– Сознание не теряли? – приветливо спросил доктор Петрович.
Слово «сознание» имело для дяди Кузи только идейный смысл. От «сознательный» и «несознательный».
– Ну, обмороки были?
За «обморок» дядя Кузя даже обиделся.
– Значит, ничего страшного, – успокоил доктор Рыжиков, как первым делом успокаивал каждого пациента. – А это что? – И дотронулся пальцем до чуть припухшего правого века.
Кузнец чуть дернулся.
– Да искрой обожгло… щипнуло.
– Давно? – внимательней всмотрелся доктор.
– Да уж забыл… Ну, дня четыре… Да не болит она…
– До головы или после? – уточнил доктор Рыжиков.
Дядя Кузя, нарушивший технику безопасности и пренебрегший защитными очками, на этот вопрос отвечал неохотно. Сам расписывался в книге, знал все последствия, о чем теперь речь? А ведь могут навесить за свой счет – не нарушай! Так, что ли? Уж больно он очки не любил. Да кто их надевает? Если все выполнять, что написано да за что расписался, то до работы не дойдешь.
– Бюллетенчик бы мне, – ласково ушел он от вопроса. – Денек передохнуть – и пройдет.
Доктор Рыжиков пообещал бюллетеньчик. Но отдохнуть попросил пока здесь.
– Да дома полежу, не беспокойтесь, – махнул кузнец признательной рукой. И сморщился от головного приступа. – Эк меня!
Эк его, только и осталось сказать. Доктор Рыжиков молча посмотрел на железнодорожного коллегу. Железнодорожный коллега густо побагровел. «Ничего, – подумал доктор Рыжиков. – Значит, еще не все потеряно. Все мы немножко…»
– Ну, есть кузнечный бог, – сказал он, когда дядю Кузю осторожно увели переодевать и укладывать.
Это была не искра, а кусок здоровенной окалины. Осколок, будь это на фронте. Но только из-под молота. И до чего он ловко проскочил в глазную яму мимо глаза и застрял в мозговом веществе! Потом этот снимок годами будут демонстрировать друг другу братья доктора Петровича – нейрохирурги – и объяснять друг другу, что стало бы с дядей Кузей, возьми осколочек миллиметром правее или левее, а также выше или ниже. А так, в горячке выполнения плана дядя Кузя и не заметил, что ранен в голову, в самую ее мякоть.
Дядю Кузю осторожно положили в палату лицом вверх и велели не двигаться. Редко он с таким удовольствием подчинялся. Лежать и смотреть в потолок было делом приятным. Доктор ему тоже понравился как человек свой, мастеровой. Не стал выламываться с этими очками. А главное – никуда больше не посылал, сам все решил. Таких людей дядя Кузя научился ценить за свой век.
Он лежал закрыв глаза, и боль постепенно переставала разламывать череп, собираясь внутрь в одну точку. Где-то рядом шептались соседи, с которыми не мешало бы познакомиться, но он выполнял приказание не вертеть головой и не рыпаться. Поэтому не мог быть вежливым.
Он выпил несколько таблеток, вытерпел укол от сердитой костистой женщины с сжатыми в нитку губами, тихо-мирно уснул. Проснулся и увидел над собой, на фоне белого больничного потолка, незнакомое деликатное лицо красноватого цвета.
– Как вы думаете, – вежливо спросило лицо, – можно подавать на жену в суд или нельзя?
…В это самое время Иван Лукич и выслушал доклад о столь необычном явлении.
– Готовь к операции, – пожевал он губами.
– Какой операции? – мирно спросил доктор Рыжиков.
– Осколок надо извлекать, голубчик!
Тут доктор Рыжиков опять-таки мирно сказал, что извлекать не надо. Что он закрепится и больше ничего там не нарушит. А если ковырять в мозговом веществе…
Но доктор Черныш его по-профессорски оборвал. Сегодня ничего, а завтра железяка перережет сосуд, и человек погибнет. А человек-то, видно, неплохой, работник. Так или не так?
Доктор Рыжиков сказал, что не так. Тут Доктор Рыжиков и сказал, что консервативная тактика (если так можно выразиться) спасла бы жизнь сенатору Кеннеди, а вот такая погубила.
– Наверное, Юрий Петрович считает и вас таким же хирургом-убийцей, – вот тут-то и сказала Ада Викторовна.
Доктор Рыжиков на это не прореагировал и сказал, что он операцию делать не будет, а будет лечить консервативно.
– Юрий Петрович думает, что он тут один царь и бог, – премило улыбнулась Ада Викторовна.
Доктора Черныша это завело, и он сказал, что сделает операцию сам. И при этом начал багроветь.
Доктор Рыжиков опять-таки мирно заметил, что доктор Черныш не специалист по нейротравмам, а для такой операции надо быть специалистом.
– Юрий Петрович думает, что его командировка на практику перевешивает весь ваш опыт, – еще любезнее улыбнулась Ада Викторовна.
Все шло как по маслу. Иван Лукич наливался кровью, его взгляд тяжелел.
– Юрий Петрович думает, что только он спаситель президента Кеннеди, что других больше нет. А человека украшает скромность…
– Юрий Петрович думает…
– Юрий Петрович думает…
– Ты, Юра, мне здесь мозги не крути. Ты скальпель когда в первый раз увидел? А я в землянке партизанской пилой, понимаешь… – На глаза Ивана Лукича наворачивается слеза былых событий. – Холод вокруг, кровь в красный лед превращается… Дашь ему стакан самогона, остатками пилу протрешь и… Легко, думаешь?
До этого момента все было терпимо. Но тут доктор Петрович и сказал непоправимое. Оно прозвучало все так же спокойно и мирно, без всякого нахальства, которое потом ему приписывали как друзья, так и враги.
– Иван Лукич, – сказал он, – пятнадцать лет назад, на практике, я этим восхищался. И пилой, и самогоном. И даже брал пример. Но мы ведь сейчас не в лесу и не пилой больных пилим. Давайте уже смотреть не назад, а вперед…
– А это не тебе решать! – рявкнул Иван Лукич по-полковничьи. – Ты разговаривать сначала научись! Я советских бойцов, партизан спасал от смерти, а он меня президентом Кеннеди тычет! С американскими наемными лжехирургами олицетворяет! Мне до сих пор люди пишут, благодарят, что живут!
Дошел-таки заряд Ады Викторовны!
– Виноват, но… – пикнул доктор Рыжиков.
– И никаких «но»! Нахал! И я, старый дурень, нахала своими руками вырастил! Отец бы на тебя, покойник, посмотрел! Отца бы постыдился! Ах, пень я, пень…
Доктора Рыжикова еще долго корили и под конец даже пытались взывать к его чувствам. Кончилось тем, что Иван Лукич все же назначил день операции и велел брить дядю Кузю. Это все происходило в присутствии врачебного персонала, притихшего на время спора, и он должен был обязательно выйти победителем. Хотя бы в глазах Ады Викторовны. Уж так она прятала улыбку, когда этот щенок его срезал.
– Юрий Петрович, очевидно, считает, что он один разбирается в передовой науке, а вокруг, извините, одни рутинеры и доктора лесных наук…
Доктора лесных наук! Ну не хам ли?!
Иван Лукич вышел победителем, и Ада Викторовна восхищенно улыбнулась ему.
Только одно «но»: утром больного Тетерина не оказалось в палате. Пустая койка аккуратно заправлена свежим бельем. И следа нет. Ивану Лукичу доложили, а он как раз решил идти знакомиться и доказывать пользу головной операции. Лично. А тут пустое место. Вызвали доктора Рыжикова. Он пожал плечами и сказал, что ничего удивительного. Он выписал больного на домашний режим. Показатели очень хорошие, температура, давление, частота сердечных сокращений, голова…
– Ты что, смеешься? – сказал ему главный хирург гарнизона в присутствии больных, врачей и среднего медперсонала. – Чтоб через час больной был на месте!
Через час больного на месте не было. Иван Лукич разъярился. Домой к дяде Кузе послали санитарную машину немедленно его забрать. Но там была лишь дяди Кузина старуха, которая испуганно моргала и ведать ничего не ведала, кроме того, что от него только что принесли записку: «В больницу не ходи, переводят в другое место укреплять здоровье, сам жив-здоров, не хнычь, старуха, скоро заявлюсь».
– Его почерк? – спросили старуху.
– Вроде его… – посмотрела она на свет, как на денежку.
Удивились и уехали. Дед топал ногами и требовал уважения. В больнице все притихли и ходили пригнув головы, как под обстрелом. Такого здесь еще не было, как и везде, где есть свои великие.
– Я верну, – сказал доктор Петрович послам деда, которых привела Ада Викторовна, светившаяся небывалым счастьем. – Но при условии, что никаких разговоров об операции. Больному это вредно.
«Щенок! – передали ему вернувшиеся послы. – Я тебя под суд упеку!»
– Чужая голова покоя не дает? – спросил доктор Рыжиков не столько уважаемого шефа, сколько услужливых послов.
– Юрий Петрович еще шуточки отпускает, как будто здесь не больница, а кинокомедия…
– Ох… Сердце!.. Плохо мне… Бросаю… Не жилец… Ухожу!.. Пенсия… Я или он!.. Не просите…
– Какая жестокость! – громко прошептала потрясенная Ада Викторовна, расстегивая пострадавшему рубашку и укладывая его на кушетку. – А ему хоть бы что, как ни в чем не бывало!
18
– Это все потому, что вы на пальцах прикидываете, резать или не резать, – снисходительно сказал Валера Малышев, окруженный тремя восхищенными сестрами. – Для этого мы вам и делаем центр диагностики и прогноза. Сунули в щель перфокарту, нажали кнопку – ответ готов. Операция необходима. Или: оперировать бесполезно. И точка. Шеф говорит, что возможности математического прогнозирования беспредельны.
Валера Малышев никогда не говорил от себя: «Есть два метода математического моделирования – метод «черного ящика» и метод алгоритмического описания». Он говорил от шефа: шеф убежден, что есть два метода кибернетического моделирования – метод «черного ящика» и метод алгоритмического описания…
Шеф Валеры Малышева всегда незримо присутствовал за этим столом. Стоило доктору Рыжикову где-то дать маху, как Валера Малышев тут же возникал: «А вот шеф на вашем месте так бы не делал. Он бы сперва съездил к профессору такому-то в Ленинград, организовал звоночек от профессора в обком партии, а из обкома вопрос: кто там у вас этим занимается? И пошло-поехало… Его уже боятся».
Доктор Рыжиков чувствовал, что ему никогда не угнаться за шефом Валеры Малышева. Шеф здесь был эталоном. Когда Валера Малышев ссылался на него, крыть было нечем. По представлению доктора Рыжикова, шеф должен был быть чем-то вроде Валеры Малышева в кубе. То есть втрое снисходительней и уверенней в изрекаемых истинах, с втрое более накачанной шеей и грудью, с втрое более чугунными плечами. Встречая на городских улицах подобных молодых людей со стрижкой «бобрик», он подолгу в них вглядывался, подозревая в каждом шефа. Но их теперь стало много – с выпирающей мускулатурой, обтянутой майкой, с низковатыми лбами под бобриком, в стальных очках без оправы, за которыми щурились высокомерно начитанные глаза.
Многовато у Валеры получалось шефов, если так можно выразиться.
Пользуясь редким присутствием доктора Рыжикова, Валера Малышев воспитывал его дочерей на плачевном примере отца и блестящих успехах непобедимого кибернетического шефа. Шеф отличался железной самодисциплиной, стальным характером, непробиваемостью Швейка, остроумием Ландау, гениальностью Эйнштейна, волей Наполеона и т. д. Часть этих качеств автоматом переходила, разумеется, и на Валеру Малышева, но он больше скромничал. А уж будущий электронный врач, которым занималась их группа, – так это просто корифей.
Главное, что он слезам не верит, почему-то особенно козырял Валера. Слезы явление субъективное. Плачут от боли в коленке, а болезнь в позвоночнике… У него гениальная память на разные признаки, он видит их в комплексе. Он не начнет лечить заведомого мертвеца, несовместимого с жизнью, не будет зря тратить государственные средства. В крайнем случае поможет облегчить страдания… А то сколько переводится медикаментов и энергии на безнадежных, если взять в масштабах всей страны – колоссальные убытки. Ну повесите вы на семью такого идиота, как ваш архитектор, – кто вам спасибо скажет? А электронный врач не ошибется, у него все четко. Этот – труп, этот – жилец… И перспективным больным больше достанется, скорее встанут на ноги. Разве это не преимущества?
– Пока что это преимущества обыкновенного бездушия, – терпеливо выслушивал доктор Петрович. – Для этого не надо быть машиной. Его и у людей полно…
Валера с видом снисходительного сожаления пожимал накачанными плечами:
– Ну, если вы хотите лечить как при Ионыче…
Даже Аньке с Танькой не хотелось, чтобы доктор Рыжиков лечил как при Ионыче. И они тоже на него набросились. Никому не хочется, чтобы его отец был Ионычем.
– Ваш абстрактный гуманизм только плодит несчастных и недоразвитых. А это не так безобидно для генетического фонда человечества. Нам и потомки спасибо не скажут…
За абстрактный гуманизм доктору Рыжикову доставалось еще и на студенческой скамье, если вспомнить. И вообще это виновник всех бед человечества. Здесь Валеру Малышева нечем было крыть, кроме тех общеизвестных выражений которыми кроют беспробудно уверенных в себе спорщиков. Но доктор Рыжиков их применять не умел. «Понимаете, Валера, – должен был сказать он, – абстрактного гуманизма в природе не бывает. И вообще гуманизма с какой-нибудь приставкой. Абстрактный, конкретный, узкий, широкий… Гуманизм или есть, или его нет. Есть человечно и бесчеловечно…»
Но Валера, конечно, сразу скажет, что человечно – это прошлый век. Что шеф говорит – есть функционально и нефункционально. И это реальность. А остальное сантименты. И Анька с Танькой снова посмотрят на него как на безнадежного Ионыча. Им покажется, что Ионыч – это что-то отсталое, в сермяге и валенках, стыдное для культурной семьи. То же самое, впрочем, кажется и Валере Малышеву. Что это какой-то кучер, решивший лечить людей.
Поэтому вслух он сказал:
– Давайте тогда Рекса сдадим в собачий ящик…
– За что?! – ужаснулись все три собаколюбивые дочки.
– За нефункциональность, – ответил по-Валериному доктор Рыжиков. – Сколько костей зря съедает, неполноценный…
– Нет! – взвизгнули Анька и Танька и заткнули уши, чтобы не слышать дальнейшего. – Нет! Нет!
– Юрий Петрович, как всегда, преувеличивает картину. – Валера Малышев стал снисходительно делать сидячие статичные упражнения для развития плечевого пояса, рекомендованные учебниками культуризма. – Переносит научные категории на, так сказать, родственные эмоции. Это передергивание алгоритма, если так можно выразиться.
Было очень интересно, но доктор Рыжиков встал. У него было дело в своем кабинете. Раньше он быстро ужинал и садился на велосипед. Его ждала больница. Теперь велосипед не понадобился. Больной лежал рядом, за дверью, в его кабинете, на его личной кушетке, лицом к потолку.
Это был кузнец дядя Кузя Тетерин.
Рядом стояла кружка с компотом, сваренным Анькой и Танькой. Валерия напекла оладий. Вообще кулинарная жизнь дома заметно оживилась. Дядя Кузя постанывал от усиленного ухода и вспоминал свою старуху.
– Ну как? – спросил доктор Петрович.
– Нормально, – сказал дядя Кузя, не поворачивая, как и велели, головы. – Вон тот – вылитый наш начальник цеха. А этот – из отдела снабжения. Все, кричит, заготовок нету…
Прямо перед ним на двух полках в два ровных ряда стояли две шеренги черепов. Черепами вообще-то была обставлена вся комната. Других украшений тут не было. Черепа были и целые, и разобранные на части, полуфабрикаты и детали.
– И чьи же это? – осведомился дядя Кузя, войдя и оглядевшись. Добродушие ничуть не покинуло его.
После нескольких дней созерцания он нашел в каждом что-то знакомое и по вечерам обсуждал впечатления с доктором Рыжиковым. При этом он спокойно вертел в руках пластмассовые детали смертоподобных изделий и давал высокую оценку мастерству доктора. «Надо же, – приговаривал он. – А с виду будто из кости. Вроде покойников свежевали. А тут – надо же! В инструменталке на лекалах вам бы цены не было…»
19
– Как они посмели вас уволить!
Даже кулачки сжались, на глазах – слезы. Вся кипит.
– Ну что вы, Жанна… Кто меня уволит, тот три дня не проживет…
– А почему вы уходите?
– Не ухожу, а перехожу. На самостоятельный участок, который мне доверили.
– А как же мы?..
– А что «мы»? – сказал доктор Рыжиков с видом чистой совести. – Долечитесь…
– Без вас я не вылечусь!
– А это уже все само собой пройдет. И без меня, и без вас.
– А я буду лежать и не двигаться!
– Тогда я буду ходить сюда к вам на свидания. Идет?
– Идет! Только каждый день!
– В обмен на упражнения. Каждый раз к концу упражнений я тут как тут. Так?
– А как вы будете узнавать, когда я занимаюсь?
– Это мой вопрос. По рукам?
Жанна протянула узенькую ладонь. Ее взгляд требовал честности и правдивости.
– А кем вас повысили? – доверчиво спросила она.
Доктор Рыжиков улыбнулся сходству слов «повысили» и «повесили».
– А чего вы смеетесь? – вспыхнула она.
Как все великие артисты, она была самолюбива и мнительна.
Из-за этой Жанны доктор Рыжиков не раз говорил Мишке Франку: «И в кого это мои девки дурами растут?»
Мишка Франк искоса сравнивал оригинал с копиями, если это было в их зловредной компании, и, вместо того чтобы успокоить родительскую тревогу, философски выпускал свое паровозное облако: «А я тебе скажу. В ней одних кровей сколько! Русская – раз, латышская – два, еврейская – три, украинская – четыре, осетинская – пять…»
– Татарская – шесть, – заканчивал доктор Рыжиков.
– Как – татарская? – задумывался Мишка Франк. – Я о татарской родне не слыхал.
– А что каждый русский на две трети татарин, слыхал?
– А! – пыхнул Мишка Франк в знак согласия. – Вот видишь, какой генетический фонд! Не то, что у нас, вырожденцев.
Каждый день городская газета и радио дразнили городских матерей изящными стихами Жанны Исаковой, графическими рисунками Жанны Исаковой, восторгами о танцах Жанны Исаковой в детском ансамбле и серебристом голоске Жанны Исаковой, к тому же играющей себе на пианино.
Так что доктор Рыжиков был просто приятно поражен, когда к нему привели черноглазую резко угловатую девочку и сказали, что это Жанна Исакова. Оказывается, она и в самом деле существовала в природе.
Но поменьше бы таких знакомств. Хотя ничего страшного вроде сначала и не было. Просто несколько раз упала на репетиции, чего с ней сроду не бывало. Как бы подвернулась нога. А потом на концерте. Концерт был ответственный, перед руководящими товарищами из области. Ансамбль могли послать на зональный смотр. Когда Жанну ругали, она заплакала и сказала, что нога сама подворачивается.
Сама так сама. Сначала забыли, а потом пальцы стали неметь. Вроде бы ничего не чувствуют. Болеть не болят, а как будто отсидела и не разгоняется. Судили-рядили, искали советчиков и постепенно дошли до доктора Рыжикова.
– Ну-с, прекрасная и воинственная Жанна… – сказал он после некоторого знакомства.
– Почему «воинственная»? – улыбнулась она, напуганная белыми халатами в кабинете и серыми больничными в коридоре. Насчет «прекрасной» у нее вопросов не было.
– Потому, – улыбнулся и доктор Петрович, – что не прекрасных и не воинственных Жанн не бывает. Они все такие.
– А на отчетном концерте я выступлю?
– Конечно! – сразу сказал доктор Рыжиков. – Как же без тебя! Только сначала немного повыступаешь у нас. У нас тут своя сцена есть… Ладно?
– Ладно, – сказала Жанна. Ей нравилось, что доктор был простой, как плотник, и нос картошкой. Особенно нравилось, что он не ахал и не охал и не говорил «бедненькая», как разные тетушки-соседки, а особенно учитель танцев, который сначала ругался на недисциплинированность и лень, потом страшно расстроился, что сорвался отчетный концерт, где у Жанны было девять сольных номеров. Он прямо плакал, что вложил в концерт всего себя, а теперь все пропало. Доктор, наоборот, трали-вали, просто и весело, как ни в чем не бывало. Как будто у всех ноги только и делают, что каждый день отнимаются.
– А что там у тебя в концерте? – уточнил он программу.
– Ну, «Умирающий лебедь»…
– «Умирающего» мы, может, и пропустим… Начнем готовить что-нибудь веселенькое. Тут у меня зреет одна мысль. Когда дозреет, мы с тобой перевернем искусство. Только сначала ты подержись…
Жанна держалась. Она держалась, когда правая нога отнималась все больше, и сама успокаивала родителей – это пройдет. Она держалась при люмбальной пункции как сидя, так и лежа с иглой, воткнутой в позвоночник, и послушно стараясь побольше расслабиться. Она все могла вытерпеть, кроме ожидания, когда же созреет зрелая мысль доктора Рыжикова. И каждый раз при его появлении нетерпеливо спрашивала: «Ну как?»
– Зрелость мысли, – отвечал доктор Рыжиков, развивая свою любимую тему, – есть продукт миллионолетнего развития природы.
– Значит, ждать миллион лет? – пугалась Жанна.
– Миллион уже прошел, – спешил обрадовать ее доктор Рыжиков. – И не один. Да только зрелых мыслей маловато.
Ибо легко представить тьму незрелых мыслей, которые витают вокруг нас, преждевременно сорвавшись с древа сознания. Его зеленые плоды. О них и ушибаются редкие зрелые мысли. И даже расшибаются, если так можно выразиться.
Но Жанне он сказал короче:
– Осталось, может быть, несколько дней. Ну, неделя… Можно потерпеть?
– Можно, – успокаивалась Жанна, которая все с большим трудом поднималась с постели в столовую или туалет.
Ей уже выдали казенные костыли.
Учитель танцев как увидел ее на них, так и зашелся.
– А я еще верил в нашу медицину! – воскликнул он, придя к доктору Рыжикову.
– Уж извините, – вздохнул доктор Рыжиков, – чем богаты…
– Я понимаю, здесь не Москва… – вскинул учитель танцев артистический профиль, про который ему кто-то сказал, что он похож на Жерара Филипа. – Но вы поймите и меня. Мы хотели направить ее в училище Вагановой, она должна быть визитной карточкой нашей студии. Да, да, мы скоро будем студией, этот вопрос почти решен… У нас отчетный концерт, а ей все хуже. Уже и с костылями… А я ей столько доверил! «Лебедь» Сен-Санса, индийский танец, узбекский с косичками, соло в «Жоке», из «Щелкунчика» фрагмент… Мы ведь перестроиться не успеем. У меня есть способные девочки, но такой одаренной… Может, вы можете вызвать профессора из Москвы? А как называется ее болезнь? Ведь мы для нее столько сделали…
Жанна с лету попала в заповедник, в отдельную палатку с ковриком и полированной мебелью. Это учитель приписывал себе, потому что родители Жанны были люди простые. Но на самом деле в этом полностью была заслуга Ады Викторовны, так как место в танцевальной студии после поездки в Артек на детский фестиваль стало в городе большим дефицитом. Говорили, так можно и за границу попасть, на международный смотр. И она сразу получила учителя танцев в свои бархатистые руки.
Правда, она с той же чуткостью улавливала издалека запах окровавленных бинтов и полных уток, выносимых из палаты с неподвижным больным. Поэтому Жанне незаметно приготовлялось место в простой хирургии. И перед операцией ее перенесли туда.
Родители услышали об операции со страхом.
Они стояли перед доктором Петровичем – как напуганные сверхсрочники перед сердитым генералом. Он никак не мог усадить их и тоже был вынужден встать. Так они стояли, разделенные столом, как на дипломатических переговорах.
Будь его воля, он во всех таких случаях вывешивал бы на дверь одну универсальную вывеску: «Сделаем все, что возможно.» Эта латинская тарабарщина с названиями пострадавших органов только допугивает и без того пугливых.
– Не буду ни пугать, ни обнадеживать, – понес он свой крест. – Клиническая картина более или менее ясна, анализы закончились. Если сможем – обойдемся без операции. Если нет – будет нужен серьезный уход.
– А вы… – сглотнул комок тихий отец-экономист, – такие операции… делали?
– Я их делаю десять лет, – скромно сказал доктор Рыжиков.
– А бывает, что… умирают? – сглотнула комок мать.
– Чаще всего, по статистике, умирают вполне здоровые люди, которые больницы и не нюхали, – вполне серьезно сказал он.
– Как? – спросила она.
– Под колесами транспорта, – вспомнил он заклятого врага нейрохирургов. – Самый высокий процент смертности там. А на операциях смертность меньше полпроцента. И то смертельно больных. Жанне до этого далеко.
Отец-экономист несмело улыбнулся матери-библиотекарю.
– А чем она болеет, доктор?
– Знаете, – сказал им доктор Рыжиков, – у нас в медицине каждую болезнь кто как хочет, так и называет. В общем, ей может быть на какое-то время и хуже, чем сейчас, она может временно потерять подвижность ног, но вы никогда не говорите с ней как с больной.
– А как? – спросили она оба.
– Как с обычной симпатичной талантливой девочкой. – выдал он откровенно. – Вы такие же врачи, как и мы.
– Как это? – спросили она оба.
Он растолковал, как. Они перестали дрожать и расслабились. Мать Жанны даже села. Отец так и простоял перед доктором Рыжиковым, преданно глядя ему в лицо. Но, уходя, все же спросил:
– А вы названия болезни нам не скажете? Нельзя сказать?
Он знал, как боятся названия. Того самого, рокового.
– Да почему же нельзя? – удивился он благодушно. – Самый обычный, примитивнейший блок спинального субарахноидального пространства. Вот разблокируем нашими домашними средствами – и затанцует…
– Правда? – Они пошли, обрадованно поддерживая друг друга. – Видишь, врач говорит…
Но кому-то все было мало. И он примчался, чтобы заявить доктору Рыжикову:
– Вы лжете!
Это был почему-то учитель танцев. Голос у него дрожал от возмущения.
Доктор Рыжиков в белой шапочке несколько оторопел, хоть в жизни видел много всякого.
– Вы вводите родителей в заблуждение! У нее рак позвоночника!
Почему-то ему очень хотелось разоблачить доктора Рыжикова, а с ним – и всю медицину. И он торжествовал, будто рак позвоночника – это первая премия на балетном конкурсе.
У доктора Рыжикова открывалась чуть заметная дальнозоркость. Особенно от усталости. К концу дня он обычно начинал потихоньку и понезаметнее отодвигаться, чтобы лучше разглядеть то, что надо. Или кого надо. Но в общем зрение было еще морским. И никаких следов куриной слепоты.
– Вам никогда не говорили, – взял он карандаш, – что вы похожи на Жерара Филипа?
Учителю танцев надо было немного. От самой малой похвалы он становился еще высокомернее.
– Это здесь ни при чем, – повернулся он профилем, чтобы было виднее, и доктор Рыжиков сподручнее набрасывал его на листок ватмана.
– Такой болезни и в природе нет, – сказал доктор Петрович. – Рак позвоночника. И откуда вы взяли?
– Как это нет? – Жерар Филип показал своим профилем, что его не проведешь. – Вы просто скрываете, чтобы…
Зачем доктору Рыжикову надо скрывать, он не успел договорить, так как в дежурку влетел молодой и рьяный медбрат из практикантов в кокетливой шапочке на вершинах могучих кудрей:
– Юрий Петрович! У Филиппова моча с кровью!
Учитель танцев дернулся. Доктор Рыжиков сказал что-то на латыни. Медбрат исчез.
– Моча с кровью, – гостеприимно объяснил он учителю, – чаще всего означает разрыв или повреждение почек. Это характерно для падения с высоты плашмя, когда пострадавший ушибается животом или спиной…
– Стойте… – уже тише сказал учитель танцев. – Я хотел только насчет Жанны…
– А… – припомнил доктор Рыжиков. – Строго говоря… А вам правда самому лично нужна или для кого-то?
– Вы сами всегда говорите: правда – лучшее лекарство, – гордо ответил Жерар Филип.
– Кто это «вы»? – уточнил доктор Рыжиков.
– Вернее, мы с вами, и педагоги, и врачи! Ложью еще никого не лечили!
– Ну хорошо, – проникся доктор Рыжиков. – Я вам раскрою всю правду. Но только для вас. У нее не может быть рака. Никогда.
– Почему? – удивился Жерар этой твердости. – А зачем же тогда операция?
Правда так правда, решил доктор Рыжиков.
– Хотите знать все? – спросил он в упор.
– Хочу… – чуть побледнел отчаянный Жерар.
– Опухоли делятся на качественные и злокачественные. Вы слышали, наверно.
– Слышал… – кивнул учитель танцев, готовясь к самой страшной правде.
– Даже простейший лимфаденит. У вас, допустим, здесь, повыше соска, ближе к подмышке… Немного расстегнитесь, я покажу… Вот здесь, например… образовалась припухлость, воспаление кожи… потом боль… При прощупывании увеличенные болезненные узлы… Это воспаление лимфатического узла. В него внедряются гноеродные микробы, стафилококки или стрептококки и… Что с вами? Да ничего у вас нет, это к примеру. Или липома, жировая опухоль, доброкачественнейшая и безобиднейшая. Растет медленно, но вырасти может размером с голову, вот здесь откуда-нибудь, из подбородка… Ну это мы вырезаем шутя. Да вы не волнуйтесь, это любой четверокурсник перочинным ножичком чик – и нету… Так же, как атерому. Только не надо путать с мозговой грыжей, они образуют похожие шишки на голове. Вот у вас тут что за бугорочек? Может, она и есть… пока что небольшая… Ничего страшного, просто закупорилось отверстие сальной железы на поверхности кожи, и развилась ретенционная киста…
Учитель танцев выдернул голову из широких и теплых ладоней доктора Рыжикова и попытался встать.
– Да вы не волнуйтесь, – нежно сказал доктор Петрович. – Это почти безболезненно, и за неделю управимся. Только побрить голову придется или выбрить кусочек вокруг шишки. Прикроете волосами потом, да и все… Никто и не заметит. Ну что еще там у нас? Ангиома. Весьма доброкачественная опухоль сосудистого строения. То есть из кровеносных или лимфатических сосудов. Они сплетаются в такой плотный змеиный клубок и бывают простые, кавернозные и ветвистые. Ну, простые чаще встречаются на коже лица или головы. Такие синевато-багровые пятна… может, видели? Бывает, и на пол-лица, как повезет. А вот кавернозные лезут глубже, в подкожную клетчатку, в мышцы, иногда даже в кость… Как увидите у себя такой бугорок на коже, мягкий и пружинит, когда нажмешь, значит, она… Вы уже собираетесь? Но я ведь только начал. Кавернозные ангиомы встречались и на слизистой рта, иногда и во внутренних органах, в печени… Бывает, во рту кровоточит, а сначала не поймешь, что… Да что вы? Мы до саркомы еще не добрались, вот когда дойдем до саркомы…
Учитель танцев стал бледнеть и заваливаться.
– Некоторым вообще ничего не надо, – успел еще сказать доктор Петрович. – Кефалогематома, например, сама рассасывается, если не загноится, конечно. Это кровяная опухоль головы, между надкостницей и наружной поверхностью черепа…
Доктор Петрович даже не дотронулся – только протянул пальцы к виску учителя танцев. Жерар Филип поднял ладони, чтобы защититься, и ему показалось, что на него стал медленно падать шкаф с медицинским оборудованием и черепом наверху.
– Юрий Петрович! – снова ворвался медбрат. – Шаликов вчера попросился сходить; мы думали, сегодня тоже попросится, и утку не дали, а он наделал под себя и по большому, и по малому, в палате у них вонь, а санитарка вроде сегодня не вышла, договорилась с коридорной Сенькиной, а Сенькина теперь говорит, что утки подносить договаривались, а с загаженным бельем возиться – нет… Что теперь делать?
Учитель танцев ощутил тошноту и рванулся к умывальнику за ширму.
– Во фронтовом медсанбате знаете что вам было бы за этот вопрос? – ответил доктор медбрату в упор.
Медбрат исчез.
– С этими простынями, – доверительно вздохнул доктор Рыжиков появившемуся из-за ширмы учителю танцев, – просто мучение. Спинальники пачкают, санитарки капризничают, их друг у друга отделения переманивают, санитарку сейчас найти труднее хирурга… Ну вот, а если папиллома, то тут без операции не обойтись. Папиллома у вас может возникнуть в гортани, на слизистой желудка, кишечника, мочевого пузыря… Она растет на ножке как гриб… Куда вы?
Заглянув за ширму, он увидел Жерара Филипа повиснувшим на умывальнике. Жерар Филип, придя в себя, с развязанным галстуком и ваткой нашатыря под носом, увидел в высшей степени обеспокоенно любезное лицо доктора Рыжикова и услышал его успокоительные слова:
– Это ничего… Я сам на первой операции, студентом, упал в обморок, хотя и был десантник демобилизованный. Хирург бритую голову зеленкой помазал – у меня уже в глазах потемнело. А он иглу под кожу – новокаиновой блокадой. Шишка с новокаином вздувается, вздувается… Вот и я так же… – закончил он со знакомым сочувственным вздохом, принимая на себя обмякнувшего Жерара Филипа. – Так и грохнулся на пол…
Кажется, более правдивой информации он никакому посетителю или родственнику никогда не давал.
А девочкам, которые пришли проведать Жанну, он прямо и честно сказал, что в спину ей попала вишневая косточка.
– Как – косточка?! – доверчиво моргнули из глаза-вишенки.
– Ну да, – со страшной доверительностью сказал доктор Петрович. – Бывает, человек ест вишневый компот… Разве она не любит компоты? И неудачно вишенку проглотит, прямо с косточкой. Она пойдет не по тому пути, запутается, попадет в позвоночник, застрянет… И мешает прыгать и сгибаться. Теперь мы ее достанем и снова запрыгается… Но это пока секрет!
Девочки сбились в стайку и стали секретничать.
…В день операции Жанна, уже лежа на животе и полузасыпая, слабо спросила:
– Ну как, созрела мысль? – Голосок замирал от страха и слабости, но она старалась держаться.
Когда такие маленькие человечки в своей беде стараются держаться, сердце доктора Рыжикова обливается кровью и гордостью.
– Созрела! – торжественно объявил он, присев перед ее лицом на корточки. – Не зря в этом году вспыхнула сверхновая звезда, а на Курилах началось извержение давно потухшего вулкана. Это знак, что созрела еще одна человеческая мысль. И мы с тобой совершим переворот в искусстве. Поднимется трам-тарарам, к тебе сбегутся журналисты за автографами… Не забудь тогда оставить контрамарочку старенькому Айболиту. Ладно?
– Ладно… – улыбнулась Жанна, хотя в этот миг ее кольнули еще одним уколом, расслабляющим мышцы. – А мысль какая?
– Гениальная! – без ложной скромности пообещал доктор Петрович.
– Нет, вы скажите, именно какая… – прошептала она, борясь со смыканием глаз.
– Вот жалко – уже не успею, – огорчился он искреннейше. – До операции. Придется после. Видишь, лично Коля Козлов прибыл за нами. Такой зеленый-зеленый…
Доктор Коля Козлов в зеленой реаниматорской робе и шапочке улыбнулся им специфичной анестезиологической улыбкой, подмигнув Жанне.
– Кто это? – не устояла ее девичья душа.
– Главный маг и волшебник нашего города, – с гордостью представил друга доктор Рыжиков. – Морской офицер, гвардеец-андреевец! Ну, поехали!
Тележка двинулась.
– Как Юрий Гагарин? – вспомнила она.
– Он самый! – подтвердил доктор Рыжиков. – Считай, ты репетируешь танец космонавта…
Тележка катится по коридору, больные жмутся к стенке. Тело, распростертое под простыней, глаза цепляются за остающихся. Остающиеся бледнеют и как бы отталкивают от себя: нет, мимо, мимо… Сегодня не меня, меня не так… И только доктор Рыжиков, как носильщик на вокзале, толкает себе тачку да похваливает танец космонавта. «Комбинезон мы сошьем сами, материал я видел в одном месте, в магазине таких не бывает. Серебристый, как у рыбки…»
В конце коридора расстались, а когда встретились снова, Жанна уже спала на высоком, как полка, узком поднятом столе, на правом боку, с резиновым шлангом во рту, со стеклянными трубочками, воткнутыми в проколотую вену, со шлангом в мочеточнике. Словом, много тяжкого. Ее невинное ангельское дыхание и притихшее перед судьбой сердцебиение мигали на экранах наркозной установки. Вдоль хрупкого позвоночника уже проведена полоса из зеленки.
Доктор Рыжиков, растопыривший руки, вымытые в трех тазах с аммиаком, прицелился на худенькую спину, обложенную простынями, и попросил показать рентгенснимок.
– Ну, братцы кролики… Нагните-ка ей вперед голову…
Меньше чем через час в этой нежной спине зияло окровавленное продолговатое оконце, облепленное розовеющей марлей и увешанное гирляндой блестящих зажимов. Внутри оконца торчали резко обнаженные кости позвоночника, отслоенные от мышц.
– Маша, – как всегда, сказал доктор Рыжиков, – не ваша Маша, а наша Маша, протрите мне глаза…
На полоске лица между колпаком и марлевой маской чернели точечки брызнувшей Жанниной крови. Их размывал пот.
Но это было только начало.
– Девушка хоть и совсем молоденькая, – прокряхтел он через час, – и не закостеневшая, как мы с вами, но кость у нее… Дай бог!.. Уже кисть онемела…
– Долго жить будет, – предрекла Сильва Сидоровна мрачно, как будто обрекала Жанну не на жизнь, а на смерть.
– Похоже, – поддакнул доктор Рыжиков. – Соломинкой не перешибешь.
– Хотя у иной, – сурово осадила Сильва Сидоровна, – кость трухлявая, а живет до восьмидесяти…
– Да, бывает, – согласился и тут доктор Рыжиков, опасаясь спорить с суровой помощницей.
Опять кровоточила отщипываемая по мельчайшему кусочку кость. Кто бы мог подумать, что дужки позвонков даже у молочных еще девушек такие мощные и крепкие. Вот что значит забота природы.
– Вот это архитектор… – прокряхтел про природу доктор Петрович. – Вот это на века… И конструкция изумительная, и прочность… И главное – рекламацию слать некому…
Из зеленого окружения Коли Козлова святым трагическим светом его облучили глаза Аве Марии.
– Живодеры мы, живодеры, – застеснялся он их. – Неужели так навсегда и будем живодерствовать? Мясники скотобойные, убивать нас надо… Неужели никто не придумает что-нибудь поизящнее? Лариса, давайте еще раз посмотрим… Эй, кто-нибудь нестерильный! Так… Найти бы эту штуку с первого раза… И лишнего не ковырять. Вы Родионова из железнодорожной хирургии знаете? Мы с ним раз промахнулись на целых три позвонка. Пришлось скусывать полпозвоночника лишних… А ведь ей танцевать… Изгибаться… Мы, конечно, своего удобства ради можем скромсать вверх и вниз по два лишних… Чтобы влезть легче… А танцевать? Как вы думаете, Лариса?
Рыжая кошка Лариска пожала стерильными плечами. Когда дело касалось другой женщины, пусть малолетней, она сохраняла бесстрасность.
Перед самой тонкой частью операции доктор Рыжиков снова мыл руки.
– Нет, все-таки надо мне парня, – бурчал он, оттирая щеткой Жаннину кровь под ногтями. – Без парня с этими костями…
Теперь в глубине этой прорези, без защитных костей, белело вещество спинного мозга. Такой мягкий белый податливый студенистый шнурок. Толкнут под локоть, ткнешь лопаточкой – сам не заметишь. И все. Никаким клеем не склеишь перерезанного пополам человека. А доктор Рыжиков так и лезет длинной блестящей лопастью в самое дно позвоночной ямы и даже отодвигает ложечкой этот магический нервный шнур. Он должен рассмотреть, что еще там под ним. И наконец рассматривает.
– Вот он, скорпион… Посветите-ка мне. Выше немного…
И совсем стал похож на механика, лезущего внутрь разобранной машины. Все головы сблизились, чтобы увидеть, что там пряталось, под мозговым шнурком.
– Ничего себе… – разжалобилась даже беспощадная к женщинам любого возраста и веса хищная рыжая лиса. – Оттанцевалась девочка… Переходим на жалобные песни.
– Если бы воздушно-десантные войска состояли из женщин, – задумчиво ответил доктор Рыжиков, – мы до сих пор бы так и не прорвали оборону на Свири… Так и сидели бы напротив финских дотов. А доты у них были на совесть. По-моему, мы так и не завоевали секрет этого железобетона. А внутри чуть ли не ковры и телевизоры…
– Если бы ваши вэдэве состояли из женщин, – зловредно отозвалась рыжая кошка, – то может, и войны бы не было…
– Как это – без войны? – не согласился доктор Рыжиков. – Скука… Ни тебе пробитых черепов, ни оторванных рук… Матери по сыновьям не плачут, бомбами детишек не разрывает… Если ее потянуть? Как вросла, нахалка…
– Ругайтесь не ругайтесь, все равно расти будет, – мрачно пообещала рыжая. – Да и фонтан устроит. Сцену у фонтана. Так что лучше не троньте.
– Ну да… – перешел на предсказания доктор Рыжиков. – Взяли ходячую, а выпустим параличную? А как хорошо начиналось… Клиническая картина яркая, границы затемнения четкие… Что крайне несвойственно нашим рентгенологам вообще… и ветвистым гемангиомам в частности…
Из птичьей бубнежки окровавленных мастеровых еще нельзя было понять дальнейшую судьбу Жанны Исаковой: будет она танцевать или только петь жалобные песни. Пальцы доктора Рыжикова рыскали внутри ее разрезанной спины, как будто щупая там золотое яичко.
– Ну что, оставить и зашить? – вздохнул он уже очень и очень устало. – Все-таки хоть декомпрессия… А может, испугается, перестанет расти…
– Очень она вас испугалась… – прошептала Лариска. – Страшно, аж жуть!
– Ну, а если на всякий случай вырезать? – поинтересовался он у окружающих, одновременно подкапываясь под мозговой жгут пальцами и инструментом. – Ну-ка, подержите мне его, чтоб не мешался… Прижмите вверх лопаточкой… Или нет, отожмите вниз… Черт возьми, и так нехорошо, и так плохо. Хотя и без того хуже некуда… А вдруг? Ну-ка, ножницы…
От неподвижного сидения с поднятыми руками у него давно ныла спина. Острыми ножничками он подлез под жгут, который придерживала рыжая, и стал вырезать из тонкой пленки-оболочки что-то темное и паукообразное. Рука при этом запустилась так далеко в спину Жанны, что ножницы должны были показаться откуда-нибудь из горла.
Никто бы не поверил, что Жанна после всего этого не только пошевелится, но и вообще проснется. Живодерня, как говорит доктор Рыжиков.
– Не дай бог, она там вросла… – накаркал он – и тонкая, острая струйка Жанниной артериальной крови брызнула ему в лицо.
Он зажал прорыв пальцем и потребовал, чтобы ему протерли глаза – он ничего не видит. Поднялась суматоха, типичная для любой кровотекущей паники. Хотя от суеты остальных ничего не зависело. Разве от Сильвы Сидоровны, которая молча подала зажим и иглу. И от швейных талантов Лариски. «Пульс в норме, дыхание в норме», – трагически сказала Аве Мария от своего столика. Кровь фонтанировала из-под пальца, спинномозговой жгут все ерзал, мешая подлезть к прорыву и к скорпиончику.
– Самого его, что ли, пришить, – пропыхтел доктор Рыжиков, борясь со скользким шнуром, по которому текла сейчас вся сонная Жаннина жизнь и который только не хватало проколоть.
После фонтана долго переводили дыхание, как зайцы, убежавшие от собак.
– Вот теперь понятно, что нельзя, – смирился с судьбой доктор Рыжиков. – Этак мы с корнем артерию вырвем…
И он, и рыжая Лариска были в крови, как мясники. Нежная Жанна…
«Пульс в норме, дыхание в норме…»
Держись, Жанна!
– Сочатся и сочатся… – сообщил доктор Рыжиков, еще раз слазив в эту спинную шахту. Сочились веточки коричневого переплетенного скорпиона. – Уф, братцы кролики! Сил моих нет. А может их прижечь?
– А заодно и мозговое вещество? – съехидничала рыжая лиса.
– У вас, у рыжих, сильно развито воображение, – отплатил ей доктор Рыжиков. – Притом злокачественное…
Заложив дырку марлей, они пошли снова мыть руки, чтоб не скользили пальцы в ответственный момент.
– Жестоко, – сказал доктор Петрович, вернувшись и снова всмотревшись в шахту. – Но делать-то нечего. Она тут век сочиться будет, и мы отсюда никогда не выйдем… При нашей жизни…
– Тогда полный вперед и жгите, – поторопил Коля Козлов, который отвечал не за то, чтобы Жанна потом танцевала, а только за то, чтобы она нынче проснулась. Поэтому он был смелее, но его сразу осудили за это трагические глаза Аве Марии.
– А если узнают? – Рыжая кошка Лариска всегда была смелой во многих других вопросах, но тут ответственности брать не захотела, упрямилась. – Во всех учебниках запрещено…
– Да, конечно, узнают, – обреченно вздохнул доктор Рыжиков. – Оперу-то написать придется…
Писать оперу по-ихнему, по-медицинскому, – заполнять операционный журнал.
– Вы мне светите здесь лампочкой… – начал он давать последние распоряжения. – А Коля пусть наведет лампу, чтобы мне тень не… Полезли, что ли?
Прижигают они там не спичками, конечно. Электротермокоагулятором, если так можно выразиться. Ну, типа тонкого паяльника. Доктор Петрович еще сообразил электропинцет, но некому было сделать, а он электротехники побаивался. Не из-за себя, конечно, а не убить бы больного.
– Что за куриная слепота… – проворчал он на лампочку. – Опять батарейку не заменили?
– Нет батареек, – сухо отрезала Сильва Сидоровна.
– Ну вот… вэвээс – страна чудес… И я магазины объездил… Ну ведь спутники же запускаем, людей в ракетах на конвейер поставили… А батарейки такие маленькие, плюгавенькие, вшивенькие плосконькие штучки… Пятнадцать копеек за штучку. А министерств – одно страшней другого. Оборонное, транспортное, тяжелого, легкого машиностроения, электротехническое, химическое… И сколько в них пузатых дядь с толстыми портфелями и зарплатами… Дяденьки, дайте, пожалуйста, одну маленькую карманную батарейку за пятнадцать копеек…
Все стыдливо молчали, как будто они и были толстыми дядями, прятавшими от доктора Петровича столь нужную ему батарейку. А лампочка на гибком шланге агонизировала.
– Вот тут и промахнись… – Он, кажется, головой влез в рану. Внутри ее раздался легкий, столь знакомый треск, и из нее пошел запах паленой ткани. Жанниной ткани. Жанна даже не вздрогнула. Не ойкнула. – А, прищурились! – наконец-то повеселел доктор Рыжиков. – Съежились, черти…
Лариска одной рукой лопаточкой отжимала для него мозговой жгут, другой держала угасающую лампочку. Двоим тут было тесно, они даже прижались щеками друг к другу, но не заметили этого.
– А с этими что делать? – приостановился он. – Уже вросли в пленочку… Нахалы… Могут и в мозговое вещество… Эх, микроскоп бы мне… А ведь в порядочных институтах давно с микроскопами режут… А может, и до лазера доживем… Господи, скифы мы, скифы… О нас легенды потом сложат…
Легенды не легенды, а когда-нибудь, изучая в своих нерохирургических святцах методы, разработанные доктором Рыжиковым на разных черепных и позвоночных промыслах, студенты больших медицинских центров будут усердно заносить их в конспекты и думать, что некий доктор Рыжиков создал их в минуты и часы торжественных теоретических исследований. Увы, у него никогда на них не было времени. Это была защита от превратностей и капканов судьбы, очень часто в минуты паники, когда пульс так и прыгал до ста сорока… Просто в такие минуты у каждого свои привычки. И у доктора Петровича свои.
– Господи, спаси и помилуй! – Видно, он прикоснулся к чему-то крайне нежному и тонкому своим электрическим шилом. – Все-таки лучше без корешков… А все-таки морозом брать надежнее. Давайте в следующий раз запасемся жидким гелием…
Он распрямился и зажмурился, чтобы прошли красные кружочки в глазах. Но мысль о криогенной установке уже пошла расти. От кружочков еще можно было отделаться, а от нее – навряд ли.
– Как вы думаете, задел я мозговое вещество? Эх, как бы дожить бы… Главное, ребята, сердцем не стареть… Давайте помолимся, что ли…
Белый скользкий червь Жанниного спинного мозга спрятался наконец в своей розовой оболочке, из которой, по замыслу природы, и не должен бы был показываться на свет божий. Но по чьему тогда замыслу в юное свежее тело, в интимнейшую тайну нервной жизни, проник этот ныне подгоревший и съежившийся в корочку скорпион? Кто тут кого, а главное – чем?
– Кому молиться-то? – по деловому спросил Коля Козлов.
– Нашему богу, – сказал доктор Рыжиков. – Он у нас свой, персональный. Утрите, Маша, лоб… И Ларисе Сергеевне тоже… Допустим, милостливый бог коры и подкорки… сонных артерий и яремных вен… Больших полушарий и конечного мозга… Кто больше?
– Властелин центра Брока и мозолистого тела… – добавила рыжая портниха, завязывая окровавленные нитки.
– Не знаю, как там у вас, – снизошел и военный моряк, – но я бы сказал: виновник наиболее частых переломов свода и основания черепа и шейной области позвоночника…
– Это его рассердит, – предостерег доктор Рыжиков доктора Козлова. – Тут лучше подольститься. Повелитель хвостатого ядра и Варолиева моста… Хранитель лобных долей и продолговатого мозга, обонятельной луковицы и шишковатой железы… Покровитель Монроева отверстия, таламусов и веретенообразных извилин… По твоему велению, по нашему…
Все молчали. Зияющий разрезанными мышцами, какой-то неправильный, совсем не анатомический разрез на спине Жанны постепенно сужался. Зрелище не для учителя танцев. Особенно дренажные трубки, неэстетично торчавшие из шва.
– …Пусть ее ноги сами танцевать пойдут, – тихо и жалобно попросил доктор Рыжиков.
– Пульс нормальный, давление нормальное, – закончила Аве Мария.
… Жанна, как и многие такие же, проснулась от битья щек. Гармошка дыхательного аппарата уже встала. Юные легкие без чужой помощи набирали воздух. «Жанна, слышишь меня?» – спросил ее моряк, который ей понравился, хоть и был весь в зеленом. Она шевельнула губами: «Да…» – «Как твоя фамилия?» – «Исакова» – «А лет тебе сколько?» – «Пятнадцать…» – «А адрес у тебя какой?» – «Лазо, дом семь, квартира девять…» – «Ну хорошо, молодец, возвращайся в палату. Только лежи на животе и не вертись…» – «А операция когда?» – спросила она жалобно, как спрашивают все на этом месте. «Дурочка! – почему-то обрадовался зеленый военный моряк. – Сделали тебе операцию! Скоро затанцуешь!»
Ее глаза закрылись.
– Дурочка! – продолжал торжествовать Коля, когда Жанну давно увезли. – Великое дело – общий наркоз! Господа, если к правде святой мир дорогу найти не сумеет, честь наркозу, который навеет человечеству сон золотой!
Он хлопнул по загривку свой преданный наркозный аппарат. Колины помощники сворачивали шнуры и щелкали тумблерами. Как на телестудии после съемок.
Телезвезда зашитой спиной вверх катилась в коридоре. Подавленные зрители бледнели, ожидая того же. Разговоры стихали. Вот если бы из операционной выскакивали сразу живые и здоровые, розовые и румяные… В том-то и дело…
Открыв глаза уже в палате, она увидела доктора Рыжикова. Он прилаживал перед ней на стене, чтобы удобно было видеть, изрисованные куски ватмана. Они висели как белье на шнурке. В руках у доктора Петровича была указка.
– Пожалуйста, – сказал он тоном соискателя ученой степени. – Итак, моя долгожданная зрелая мысль. Литературно-музыкально-танцевальная композиция «Оживающий лебедь».
Жанна, щекой на подушке, слабо и недоверчиво улыбнулась.
– Это зрелая мысль? – прошевелила губами она.
– Так точно! – с десантной прямотой ответил доктор Рыжиков. – Балет одной актрисы, которая сама сочинила музыку, сама написала стихи, сама разрисовала декорации, сама сшила костюмы. Форма одежды – белая, нарядная. Фон – переходящий от черного, через трагически красный и оранжевый, к солнечно-желтому и небесно-голубому. Цветовые пушки ей сделают лучшие мастера. Содержание танца – победа светлой юности над ветхой старостью. Хотя вообще-то старость надо уважать… Словом, танец и Лебедя, и Кармен, и Орлеанской Жанны…
Лекцию доктора Рыжикова внимательно слушали заодно с Жанной две женщины после операции аппендицита; одна – перед удалением щитовидки, другая – с синими раздувшимися тромбами на ногах. Тайно от Жанны они смахивали жалостливую слезу.
– Это мысль? – снова пошевелила она губами.
– Так точно! – по-ефрейторски вытянулся он. – И пора приступать.
– Как? – столь же беззвучно спросила она.
Как, если у тебя нет ног? Ни правой и ни левой. Просто нет. Все.
– Начинай мысленно, – сказал доктор Петрович. – Сегодня отдохни, а завтра с утра начинай. Представь себя принцессой из «Щелкунчика». И мысленно танцуй. Принцессу, правда, скучно, лучше мартышку из «Айболита». Прыгай, кувыркайся, кривляйся. Приседай… А сейчас я тебя чуть кольну. Можно?
– Ой! – ойкнула Жанна.
– Ай да мы! – повеселел доктор Рыжиков. – Какие прыткие ноги…
– Ой! – сказала Жанна еще раз от укола во вторую бесчувственно белую ногу и заплакала от их такой прыткости. Вот насчет слез у нее ничего не бездействовало, и они текли ручьем, делая подушку мокрой и соленой.
…Через три дня он сказал, что Плисецкая от зависти заплачет и умчится в пампасы, когда увидит танец Жанны. И приходил к ней на репетиции каждый день. В коридоре больные и сестры слышали, как из палаты неслось:
– Блестяще! И еще раз гран батманчик. Раз-два! Три-четыре! Пять-шесть! Семь-восемь! И еще раз-два!.. Теперь крутанем пирует… Теперь покажем рон дэ жам партер… Соттэ… Батман тандю… И на закуску шикарный гран жэтэ… Бурные аплодисменты, влюбленные пылкие юноши бросают на помост букеты роз сорта «Принцесса грез»…
Всунувшийся в дверь мог видеть Жанну, все так же лежащую на животе неподвижно. Никаких гран батманов она совершать не могла. Тем не менее доктор Петрович стоял перед ней с книгой «Сто классических танцев» и воодушевленно ломал язык об их танцевальную тарабарщину. Раз-два! Три-четыре! Пять-шесть!
Заглянула и Ада Викторовна. Обаятельнейше усмехнулась кому-то, с кем шла по хирургическому коридору, показала ему доктора Рыжикова, покрутила пальцем у виска и, повеселев, пошла дальше…
Но это было еще до… до взрыва.
– На репетиции я буду приходить, – сказал он после, когда пришел посмотреть Жанну в последний раз.
Она держала его пальцы и не отпускала.
Он всегда был на каждой ее перевязке.
– А на перевязки? – спросила она.
– И на перевязки, – пообещал он. – Может, не каждый раз. Я теперь человек разъездной.
– А куда вы ездите? – спросила она.
– Жанна, отпусти доктора, – не выдержала мать. Она взяла отпуск без содержания и заслужила уважение даже суровой Сильвы Сидоровны. Заслужишь, если будешь работать бесплатно за двух или трех санитарок.
За доктора Петровича она тайком поставила свечу в городской церкви. Как будто Жанна уже вышла танцевать. Или хотя бы пошла на костылях. Или хотя бы перевернулась на спину…
– Куда же мне ездить кроме больниц? – чисто по-рыжиковски вздохнул доктор Рыжиков. – Из больницы в больницу… А хорошо быть разъездным киномехаником…
20
Чикин на прощанье сказал: «Как вы думаете, подавать на нее в суд?»
После ее посещения он стал еще неуверенней.
Она ворвалась в серый больничный коридор как яркая комета. Это было совсем не то, что все думали, жалея и слушая Чикина. Солнечная улыбка всем – больным, медперсоналу, посетителям и особенно Чикину. Яркое накрашенное лицо, фиолетовый парик, радостные глаза, заказной торт, букет прекрасных роз. Никого так не одаривали, как она своего Чикина. Волны первоклассной импортной парфюмерии проникли в самые забитые углы. Это оказался день рождения Чикина, про который он и сам забыл. Больничная толпа офонарела. Чмок в бинт на голове: «Ты так прекрасно выглядишь!» Бух все на тумбочку: «Мы все ждем тебя с радостью!» Бедняга не успел и рот раскрыть – кто это все? А только поморгал и понюхал. Понюхал оставшийся аромат лака, духов и пудры. Многие тут усомнились и в утюге, и в прочем. Между сестричками и санитарками пронесся шепот. Но доктор Рыжиков успел заметить то, что успел. «Синдром акулы».
Синдром акулы, объяснил бы он интересующимся, – это устройство психики из резких механических хватательных рефлексов. Смертельная хватательная функция, механическая пила, машина-убийца. Даже тигр перед прыжком являет признаки души. Крадется, бьет хвостом, играет с жертвой. Тут все проще: резкий бесстрашный и наглый рывок куска мяса из теплого тела, еще рывок – еще кусок, еще рывок – еще кусок… Вот, собственно и весь синдром.
Голубые холодные глаза, вздернутый нос, широкие ноздри на полном лице, чуть выдвинутые вперед зубы, вылезающие при улыбке. Когда-то, в молодости, понял доктор Рыжиков, все это было страшно обаятельно. Просто неотразимо. В той заводской столовой. Но по мере ожирения…
…Хлопок дверцей чьей-то «Волги» у парадного входа. След помады на бинте Чикина – как проступившая кровь.
– Будь мужчиной, – сказал, уходя тренер. – Подавай!
– Врежь ей! – наоборот, отсоветовал муж-крановщик, ставший таким женофобом, что страх брал за его жену. Это были его последние слова. Перед переводом в тюремную больницу. Конечно, если бы доктор Рыжиков оставался, он бы еще протянул мужа здесь. Может, и до суда. Но…
– Упеките в тюрьму! – распорядился начальник. – Согласно статьи уголовного кодекса.
Каждому Чикин послушно кивнул.
Дядя Кузя Тетерин из дома доктора Петровича велел передать: «Жену если окоротить, то либо лаской, либо таской. Каков ты… А Советская власть не поможет…»
И тут Чикин послушно вздохнул, глядя на доктора Рыжикова доверчивым и ясным взором. Доктор Рыжиков осмотрел ему шрам, зарастающий волосом, и спросил: «Вы ее любили?»
До того как Чикина забежала сюда, он говорил: «Вы ее любите?»
Чикин готовился возвратиться в семейное лоно.
Туркутюков же сказал:
– Когда вас нет, мне кажется, что меня фотографируют через стену. Когда вы приходите – кажется, что нет…
Если доктор Рыжиков правильно его понял…
По поводу снятого черепа он на прощанье долго объяснял, что череп обязательно будет. Череп будет, твердо обещал он. Настоящий крепкий череп. Пусть только судороги прекратятся.
– А если не прекратятся? – спросил Туркутюков на своем птичьем языке.
– Не бойтесь, вы не первый. Вы говорите им мысленно: ну и черт с вами, фотографируйте, если сможете, все равно ничего не выйдет… Да и вообще больше смысла снимать голых женщин, чем мужчин, притом в таких бинтах…
– Я понимаю… Только лучше, когда вы здесь… А когда судороги пройдут?
– Да они у вас уже совсем легкие, вам даже помощь не нужна, ведь так?
– Так…
– И простынь после них менять не надо, сухая остается, так?
– Так…
– Ладонь вы чешете?
– Чешу…
– А сейчас почему не чешете?
Туркутюков насупился и стал чесать. Доктор Рыжиков преподнес ему специальную деревянную лопаточку для чесания ладони и тоже долго объяснял, почему надо этой лопаточкой все время чесать левую ладонь и только левую. Можно, конечно и правую, но правой рукой удобнее. «Сменить центры раздражения», – загадочно выразился он, но когда он ушел, бедному летчику это стало странно. Ему снова показалось, что в это время, за чесанием, его фотографируют сквозь стену.
– Надоедает…
– Вам судороги больше надоели…
– А если я мягким мозгом?
– Сильва Сидоровна с вас глаз не сведет. И Лариса Сергеевна…
– А если во сне головой с кровати?
Это была пока любимая тема их разговоров. Доктор Рыжиков в свою очередь просил поменьше трогать мягкую часть головы. А то у некоторых больных появляется привычка поглаживать или прощупывать такие необычные места на своем теле. А мозг этого крайне не любит.
Летчик после операции вернулся уже не в заповедный коридор. Ада Викторовна выяснила, что он не Герой Советского Союза…
Приходить к нему доктор Рыжиков старался в часы, когда ему точно докладывали, что отец и благодетель Иван Лукич в отсутствии. Сидит в очередном президиуме или дремлет в очередной комиссии. Не то что его кто-то мог не подпустить к своим кровным больным, просто из соображений гуманности. Слишком уж багровел тяжкий затылок деда и мутнел его взгляд, если случалась их встреча. Так и до беды недалеко.
21
– Все-таки он меня учил правильно скальпель держать, – чисто по-рыжиковски вздохнул он Мишке Франку.
– И он же его жалеет! – офонарел Мишка Франк, еще малость не пришедший в себя от того, что оболочка сегодня хохочет. – Ты себя пожалей, нищий, безработный мойщик трупов!
Ремарка доктору Рыжикову было, конечно, не переплюнуть, и он ограничился в адрес Мишки дымящим бегемотом. Это было, конечно, слабовато. Зато можно проиллюстрировать.
– Учти, – предупредил Мишка. – Корпус будет один, а не два. Второй забирают под новый театр.
– Искусство радует только здоровых… – напомнил доктор Рыжиков, уже прослышавший о плане нового больничного корпуса.
– Да вы бы весь город из одних больниц сделали! – снова рассвирепел Мишка Франк. – Вас там на этот корпус уже набралось как на пятнадцать! Откуда вы только беретесь! Его еще и близко нет, а вы как коты мартовские… уже третесь.
– Это об какую мартовскую кошку? – полюбопытствовал по простоте душевной доктор Рыжиков.
– Вот я тебе! – встал в свою стойку Мишка Франк и выпустил грозное облако. – Ну хочешь, я тебя с ним лично помирю?
– Нет, – сказал доктор Рыжиков. – Возврата нет. Ты знаешь, как образовались люди, а приматы остались приматами?
– Брось мозги пудрить! – стал хамить Мишка. – При чем тут обезьяны?
– При том, – стал быстро рисовать доктор Петрович, – что обезьяны сильные захватили все деревья с вкусными плодами и выгнали обезьян слабых в каменистую пустыню перебиваться. Слабые обезьяны сошли вниз, встали на свои кривые ноги, взяли в лапы камни, начали постепенно распрямляться… И привратились в тебя и меня. А сильные до сих пор там висят на хвостах…
Мишка Франк оценил и раскачивающихся на хвостах шимпанзе, и себя с доктором Рыжиковым, еще мохнатых и сутулых, но уже двуногих, с каменными вилками в руках. Из обезьяньих зубов Мишки Франка, из-под усов, конечно же торчала трубка.
– Ну и где твоя пустыня каменистая? – спросил он, подумав.
– Значит, кукиш? – понял этот вопрос доктор Рыжиков.
Мишка Франк тяжко вздохнул.
– Ну откуда я знаю? Это же будет такая мясорубка…
– Значит, не надеяться?
– Почему? Надейся, пиши подробную заявку, рисуй проект, чтобы всех за сердце взяло…
…И уверенный голос Валеры Малышева в спину: «Уж кто-кто, а шеф в корпус влезет, вы у него поучитесь!»
22
– …А я вот, например, считаю, что этим разным трактористам много разной воли дали. Вы посмотрите, какие у них заработки. По триста в среднем. А им зачем такие суммы? Что они, книжки берут, Пушкина вашего? Или пианино белое? Да они водки одной тонны выжирают! А если этим суммам умную трату?
Знакомый тонковатый надсадный голос то усыпляет доктора Петровича, то снова пробуждает. Дворник моет стекло: вжик-вжик. Лето выдалось проливное.
Санавиация здесь есть, а погоды нет. Поэтому она посылает своих ангелов на обычных колесах. Чаще всего доктора Рыжикова возил Гена Пузанов. Ночные поездки делали его таким же разговорчивым, как операции – доктора Рыжикова. У Гены под рубашкой перекатывалась аккуратная круглая дынька, и это заставляло его говорить обо всем очень авторитетно. В волнение его приводили в основном три явления в жизни, и каждый раз он возвращался к ним. Синдром патефона, по-рыжиковски.
– Какое, например? – вежливо поддержал он беседу, чтобы не оставлять водителя наедине с дождем и ночью.
В дождь и в ночь их толкнула все та же наша людская глупость. В некоем поселке некий механизатор мелиоративной ПМК, напившись, на почве алкогольной ревности стукнул жену чем-то тяжелым в висок. Все до боли знакомое. Родное.
– Перво-наперво я бы роздал долги, – начал Гена распределение трактористских богатств. – Затем, конечно, вы меня осудите как интеллигент, но я бы стал откладывать на сберкнижку. Рублей по сто в месяц. Или лучше трехпроцентными. Сколько надо двадцаток на тысячу?
– Пятьдесят… – сбросил дремоту доктор Петрович.
– Правильно, пятьдесят, – похвалил Гена. – А если две тысячи по десять?
– Двести, – не смог противиться эксплуатации своего мозга доктор Петрович.
– И неужели из двухсот не выиграет ни одна? – ударил в точку Гена. – Как вы считаете, может такое быть?
– Не может… – просто поразился доктор Рыжиков глубине этих выводов.
– А если выиграет еще тысячу? Ну ладно, пусть пятьсот… И снова на них облигаций, тогда какая будет вероятность?
Облигации трехпроцентного внутреннего государственного займа скостили километров пятнадцать пути, а может, и больше.
– …Списанный газик. Сколько их списывают из санавиации! А куда их девают? То-то и оно! На них еще ездить и ездить. Другие на охоту, а я бы поступил так: взял бы дачный участок, в свободные дни стал бы ездить и потихоньку строить домик. Для здоровья полезно и семье выгодно…
Доктору Рыжикову думалось о своей корысти – выкрасть из заповедного коридора двенадцатиканальный электроэнцефалограф, выполнявший там роль мебели, для доверия солидной клиентуры. Такой красивый блестящий ящик со стрелками и кнопками, величиной с пианино. Только как его выкрасть с четвертого этажа?
– …А под гаражом вырыть погреб. Ну там метра два с половиной на два. Должно хватить. Снять осенью с участка картошки мешков пять… Засолить бочку капусты… И полку для варенья. Притом же смотровая яма бетонированная, ворота утепленные, и воду можно не сливать… Так?
Так, сквозь сон подтвердил доктор Рыжиков. Сухая яма не в пример лучше мокрой. Нет ничего противнее, чем лежать в мокрой яме. Да еще под дождем. Наверху стоят люди, о чем-то говорят между собой. Доктор Рыжиков ждет, что они заметят его, но они не замечают, а ему позарез нужно. И тогда он кричит им…
– …И все поймут. За такой газик «Волгу» будут давать, без балды. А вот я на вас смотрю… – И он посмотрел на доктора Рыжикова так, будто у него самого уже был кирпичный утепленный гараж с погребом, «Волга» и десять тысяч облигациями. – Я на вас смотрю, вы все на велосипеде и на велосипеде… Такой авторитетный врач – и даже без моторчика. Вот вы оттуда ушли и кем, например, сейчас будете? Выездным или как? И какая у вас, извините, зарплата?
Чтобы не быть невежливым, доктор Рыжиков назвал.
– Сто двадцать? – ахнул Гена. – И вы за это убиваетесь, можно сказать, днем и ночью? Да за сто двадцать сейчас и студент улицу не подметет! Я-то думал, вам за одну операцию столько платят! На что же живете?
В голосе Гены было искреннее сочувствие. В его руках по крайней мере было почти личное средство производства, да еще на государственном бензине.
– Ну, на дежурантские… Вызывные… – Доктор Рыжиков все же стоял за достоинство докторской гильдии. – Жить можно…
– Жить и карлику можно, – не возражал Гена. – Хорошо еще, дочки при вас. А если бы алименты платить на троих? Тю-тю…
А ведь могли бы они на его алименты покупать себе торт, лимонад… Гвардии ефрейтор-алиментщик… По воскресеньям приходил бы к ним… Валере Малышеву показали бы: это наш папа-алиментщик… И каждый день встречал бы ее на этой улице: ну, здравствуй, дурочка, врушка, соври что-нибудь… У каждой судьбы свои варианты развития, а судьба выбирает один. Как? Почему? Загадка выбора. Прощайте, остальные варианты…
«Прощайте, товарищи!» – крикнул он людям, которые стояли наверху, над ямой, и разговаривали между собой о нем, что-то готовясь с ним сделать. Они не услышали. Слишком сильно шел дождь. Доктор Рыжиков уже весь ушел в глинистую жижу, торчал только мокрый подбородок. «Прощайте, товарищи!» Он набирал полную грудь воздуха и раздирал горло криком. Но наружу выходил бедный слабый звук, который не долетал до них, а падал рядом, на дно ямы. Доктор Рыжиков снова набирал воздуха в грудь. Он очень боялся, что его так и не услышат, а поэтому и не узнают, что…
– …Если ему не подмазать! На резине этой сидит как Кощей Бессмертный заколдованный, а ты елозь по этой слизи! Трубу глушителя паршивую два месяца выпрашиваю как нищий. Вы запах чувствуете? В салоне больные угорают, как в немецкой душегубке. А он, подлюга, на рыбалку в новом газике укатил – якобы обкатывать! Да я его насквозь вижу, морду толстую! Списанные газики дружкам продает по дешевке, а с посторонних три шкуры сдирает. Хоть двадцать лет тут проработай, ни хрена у него не дождешься, если ты просто шофер. А завмаги за это любым дефицитом кормят…
В первый раз пластинка у Гены всегда заедала на одном и том же месте – на механике объединенного автопарка горздрава. Авторитетное лицо Гены пошло красными пятнами. Было ясней ясного, что механик не допускал Гену к дележу важных автопарковых благ. Гена за это был готов поставить его к стенке…
– …Такой кирпичной, красной, сзади гаража. И из пулемета лично в самое пузо– тр-р-р-р! Крупнокалиберным, чтоб дыры вот такие! (Величиной с баранку, как показал он ладонями.)
– Немного грубовато, – сказал доктор Петрович. – Есть способ потоньше.
– Какой? – заинтересовался Гена.
– Которым в старое доброе время кардиналы убирали неугодного римского папу. Если он очень заживался. Длинной тонкой иглой в затылок, прямо в продолговатый мозг. Через заднюю черепную ямку. Быстро, бескровно, эффективно. Папа и ахнуть не успевал… Мгновенный паралич дыхания и сердца. Очень качественная работа.
– Ишь! – позавидовал Гена анатомическим знаниям. – Эти кардиналы не дураки, видать, были. Только где там этот ваш длинный мозг, ищи его… А главное – страха нет. А тут как раз надо, чтобы прошиб. Вот постоит под пулеметом, потрясется, все свои подлости вспомнит. А ну, гад, на колени!
…Боже, до чего только можно договориться на долгой дождевой дороге, когда один сгорает от бессильной злости, а другой отгоняет монотонный свой сон, непрерывно и настойчиво возвращающийся снова! Не сегодня, не вчера – из месяца в месяц, из года в год.
…Крикнуть надо, что он не мертвый, а живой. Что он тут лежит по ошибке, что у него паралич, что закапывать его в могилу нельзя. Но кричать «спасите!» или «я живой!» почему-то стыдно, хочется сохранить достоинство и в то же время дать знать о себе. В крайнем случае хоть проститься. «Прощайте, товарищи!» Но слова глухо булькают рядом, как пузыри в тяжелой мутной воде. «Прощайте, товарищи!» Нет, не слышат. Сейчас закончат перекур, в последний раз передадут один другому солдатскую цигарку – из кулака в кулак, где она прячется от дождя, – и возьмутся за лопаты. А он не докричится. Тоска. Голос так слаб, а дождь так шумит. «Прощайте, товарищи!» Хоть бы спросили фамилию, чтобы на памятнике выбить. Нельзя же просто так, без фамилии, без памятника…
– …Я на эти памятники! Одних Пушкиных в каждом городе по пяти! Ну а за что, спрашивается? Стишки писал? Так это не кайлой махать в забое, угольной пылью дышать! У меня батя силикоз нажил, так я слушать не могу, как он сопит. Двадцать шесть лет под одной землей, и в забое, и в проходке. И что ему, памятник поставили? Состав угля нарубал, вагонов с тысячу, а на памятник не хватило! Транзисторный приемник за двадцать два рубля еле выделили. И то не торжественно, при людях, а после, через год после пенсии. Зайди, мол, в шахтком, там твой ценный подарок пылится. Притом на вертикальных выработках. Целую область отопить можно, а кто про него знает, кто про него слышал? А Пушкина – все! Еще детей учат: «У лукоморья дуб зеленый, у лукоморья дуб зеленый, у лукомо…» Нашли, кого в пример детям ставить! Я слышал, он одних баб сотню штук поменял, развратник был первого класса. Так бы вышел и сказал: знаете хоть, чьи стишки учите? И в карты по полста тысяч проигрывал махом! Крестьян своих эксплуатировал? Эксплуатировал! И голову мне не морочьте! Думаете, они в стихах этих там разбираются? Да не больше меня! Просто привыкли все: Пушкин. Так и я Пушкин, чтобы рыжим не быть. Как услышу это «ах, Пушкин!», так и хочется монтировкой по зубам въехать. На, не ври, собака! Попробовал бы я не то что пятьдесят тысяч – скат запасной в карты проиграть. Такой бы хай поднялся… Этот же механик… Батюшки, тут тебе и местком набежит, тут тебе и аварийная комиссия, и народный контроль! Хоть ты десять поэм напиши, переведут в слесаря. А вы тут: Пушкин, Пушкин, памятник…
Доктор Рыжиков ничего не говорил, потому что спорить с Геной было опасно. Он так яростно крутил руль на скользком шоссе, что при малейшем ослушании они бы очутились в кювете. Но и не заступиться за Пушкина было безнравственно. Доктор Рыжиков помучился, выбирая между жизнью и смертью, и все-таки сказал:
– А вы его стихи читали, Гена?
– Ну, читал! – вызывающе крутанул Гена баранку. – Не такой уж я волосатый. Один стих даже выучил в школе на пятерку.
– Какой? – осторожно спросил доктор Рыжиков, как при осмотре больного.
– Да все тот же… Ну, буря там кроет небо… Чем она там его кроет? Матом, что ли? Да ну, еще вспоминать…
– А вообще у вас какой поэт любимый, Гена?
– Какой? – слегка оторопел Гена, что тоже сказалось на очередном повороте. – Ну какой… Да хотя бы «Василий Теркин». Думаете небось, отсталый?
– Почему? – успокоил его доктор Рыжиков. – Наоборот, правильно. «Вот стихи, а все понятно, все на русском языке» – так ведь?
– Во-во! – обрадовался Гена поддержке. – Точно, на русском… А то понапишут, сам черт ногу сломит… Как знаки у нас на Пролетарской, в центре города. На трезвую голову не разберешь.
– А вот это? – попробовал доктор Петрович на Гене «Телегу жизни». – «…С утра садимся мы в телегу; мы рады голову сломать и, презирая лень и негу, кричим: пошел!.. Но в полдень нет уж той отваги; порастрясло нас; нам страшней и косогоры, и овраги; кричим: полегче, дуралей!..» Это понятно?
– Как не понятно! – заржал от удовольствия Гена. – Вот это по-нашему, по-настоящему! Таких стихов побольше надо! Как там? Телега едет, под вечер мы привыкли к ней… Правда, вся наша жизнь. А это кто сочинил?
– Пушкин… – коротко сказал доктор Петрович.
Восторги Гены как бритвой срезало. Он крепко призадумался и этим позволил доктору Петровичу снова, уже в третий раз за дорогу, попасть в мокрую яму, откуда он тужился крикнуть: «Прощайте, товарищи!» Товарищи снова не слышали, занятые перекуром и пряча в кулаках цигарку, ходившую по кругу. И все готовились начать бросать вниз мокрую глину, готовились уже сколько послевоенных лет, уже брались за лопаты, но все никак не начинали – сколько послевоенных лет! Только доктор Рыжиков-то не знал, лежа в яме, что годы уже послевоенные, что все миновало. Сейчас начнут забрасывать и так и не узнают, что он живой, только парализованный. Даже шеей не повернуть, чтобы отвернуть лицо от первых увесистых комьев…
– …Шеей не повернуть, вы поверите? Как игла застряла и в самый мозг втыкается! Сколько же терпеть можно? А им хоть бы хны! Я вот вам говорю: можно так человека лечить? Один прописывает плаванье. Я иду проситься в бассейн крытый, а туда разве просто так попадешь? Это же мода пришла – в бассейн ходить! Так все и полезли, как тараканы из щелей! Там двадцать пять метров всего, а весь город влезть хочет! Сельдям в бочке просторнее, чем этим пловцам! Без блата не пролезть – сколько записок от одного к другому перетаскал, сколько их перевозил то на базар, то на вокзал… Медосмотр один чего стоит, да еще сфотографироваться! Ну, получил абонемент…
Все понятно, поблагодарил Гену доктор Петрович за третье возвращение из ямы. Шейный остеохондроз – как с ним не возненавидеть не то что родного механика или бессильных врачей, но и ни в чем не повинного Пушкина… Зубная боль в шее – не приведи бог, приступы, застилающие свет.
– И что вы думаете? – Гена повернулся к доктору Петровичу, притом напоследок как бы довернул еще раз голову до легкого щелчка в области шейных позвонков. – Это вы не обращайте внимания. Это привычка такая, а то в шее что-то заедает… Ну вот, сходил два раза, поплавал, а тут врач в отпуск ушел. Пришел к другому, а другой говорит: с ума ты сошел, тебе купаться – смерти подобно! Ни в коем случае в воду нельзя! Ну и как? Что после этого? Можно вашим врачам верить? А двенадцать рублей за квартал кто вернет? Да бить их надо за такое лечение! Дипломы у них, кабинеты, халаты белые! И люди, дураки, верят! А им на человека наплевать, лишь бы написать что-нибудь. Лишь бы отвязаться. Бок болит? На тебе таблетку! Голова? На! Живот? На! А поговорить с человеком, в душу ему заглянуть, психологию понять, почему он болеет, – это им наплевать. Пусть подыхает, лишь бы не в больнице. Думаете, я не знаю? Не знаю, как там вы, а иной на вызов приедет, даже больного не посмотрит, чай попьет – и обратно. Думаете, мы за баранкой ничего не замечаем? Я, извиняюсь, тоже видел, как ваш брат за снижение смертности борется. В сводках. Иные даже говорят: давай вот этого покойника Рыжикову толканем, он со всеми возится, а то конец квартала… Не слыхали такого?
Доктор Рыжиков, честно сказать, не слыхал.
– Ну, а вы как мне скажете? Плавать или не плавать? Я как про это абонемент вспомню!.. Месяц ихнюю медсестру из бассейна домой после работы подбрасывал, а ей то в магазин, то в ателье, то к подруге… И все зря? Да что я им, игрушка? То плавай, то не плавай! Ну вы-то хоть дайте совет!
Доктор Рыжиков не хотел зря рисковать. И решил успокоить Гену, сэкономив ему двенадцать рублей. Да и не только поэтому – он искренне верил, что всякое движение полезно.
– Плавайте, Гена. Только когда обострения нету. А так и плавайте, и бегайте смело.
– А вы скажите, чем же это плаванье полезно? – потребовал научного обоснования пациент. – А то так все можно сказать!
Он был готов в любой момент снова вскипеть как закупоренный радиатор. Это грозило ежесекундным взрывом, и тогда где-нибудь на полпути между городом и районом проезжие и прохожие найдут когда-нибудь их обломки, разбросанные в большом радиусе.
– Вообще это явление у половины человечества, – стал действовать на него успокаивающе доктор Петрович. – Природа нас с вами вообще хорошо сконструировала и все предусмотрела. Но в одном месте допустила просчет. Наш позвоночник сделан для четырехножного хождения и горизонтальной нагрузки. А мы взяли и выпрямились. Встали на ноги. Нагрузка на столб возросла, а межпозвоночные диски как были, так и остались без кровоснабжения… Вот они и усыхают, то прессуются, то крошатся. Давайте вас прооперируем, это распространенная операция, скусим наросты, освободим диски и нервные окончания…
– Только не операция! – трусливо заерзал Гена. – Лучше я снова на карачки встану, как мартышка, чтобы позвонку легче было! Ну вас с этими операциями, еще горло перережете!..
…После чего на пороге райбольницы они и узнали, что ехали зря. Раненая, к несчастью, скончалась. Но в то же время не зря, потому что сам одумавшийся парень, узнав об этом, успел броситься со второго этажа райотдела милиции вниз головой…
– Ночь приключений! – пожаловался им на крылечке промокший районный хирург. – Как только они его без присмотра оставили? Только услышал, то и то, вскочил как бешеный, – и в окно головой… Надо же так допиваться – себя не помнить… Эх, народ!
У входа в операционную дремал сержант милиции в халате сверх погон. Запоздалая бдительность всегда повышена.
Больной Колесник меньше всего нуждался в охране. Он уже никуда не мог убежать. Перелом шейного позвонка, перелом задней черепной ямки (погибает две трети травмированных), левый височно-теменной участок – всмятку. Открытый вдавленный оскольчатый…
Вот такой самосуд. Сам себе и судья, сам себе прокурор и защитник. И исполнитель приговора.
Так что его сейчас нет. Приговор приведен в исполнение. Больной Колесник из этого мира ушел. Где он сейчас находится, никто не знает. Просто нигде. Ни в этом мире и ни в том. Может, где-то на полпути. Руки и ноги реагируют… Зрачки… Еще можно повернуть обратно. Вот зачем только. Он уже не чувствует ни радости, ни горя и ни боли. Для него всё. Полный покой. Так для чего его выдергивать оттуда? Чтобы он все-таки почувствовал? Конечно же не радость. Начнется с боли. Потом горе. Потом позор. И потом навсегда – боль, горе и позор. Никакой срок не сотрет. Только что вырвать память. Но это перестать быть человеком. А человеком оставаться надо. При всем. Даже при этом. Если уж оставили, то есть вернули.
А вот кто оставляет, что он думает? Имеет он право или не имеет? И на что посягает? На судьбу и на рок? И что ему скажут за это потом – на суде, после суда, после срока? «Спасибо» или «будь ты проклят»? И у кого бы спросить?
Спросить было не у кого. Только что у себя? Только что у какой-то оболочки, про которую его спрашивал Мишка Франк? Да где она… Пока мысли теснятся, руки делают. Пока доктор Рыжиков все это представлял и думал, есть у него право или нет, его руки без спроса сделали все, что надо, для возвращения ушедшего сознания. Извлекли мелкие осколки, сложили крупные, заштопали, оставили декомпрессионное окно…
– Будет жить? – тихо спросил молодой районный хирург, не отрывавший глаз от рук доктора Рыжикова.
– Гематома и отек… – уклончиво ответил доктор Рыжиков. – Некоторые носят до девяноста лет, только чуть ногу подволакивают… А некоторые не выдерживают суток… Есть у вас надежная сестра?
– Да какая надежная… – уныло сказал районный. – Пенсионерки, засыпают на ходу…
– Я обычно сижу и слежу суток трое, – поделился корифей из центра. – Вот этот перелом ямки… Даже не пойму, как угораздило. Нырял вроде темечком вниз… Если тут будет отек и сжатие, то… А вы далеко живете?
– Да километров семь…
– Успеете при остановке дыхания?
– Если машина будет, может, успею…
– Вы оптимист, – похвалил доктор Рыжиков. – Давайте лучше сделаем трахеостомию, и пусть трубка торчит…
– Зачем? – удивился районный.
– А сможет ваша пенсионерка тубу вставить?
– Да нет… без меня…
– Давайте снова руки мыть. Пусть его не уносят. Если что – сразу в трубку. На горле будет шрам, зато надежнее. Чик – и готово. И вы лучше домой не уезжайте…
– …Ну как, живой? – с облегчением встретил их чин раймилиции. Он думал, что сразу после операции больного можно увести в камеру и снять лишний пост.
– Пока живой… – вздохнул доктор Петрович. – А куда с такой жизнью?
– И то, – сочувственно вздохнул дежурный не то о себе, не то о преступнике. – Сиди здесь теперь до утра…
А утро давно наступило. И кто-то ждал его в дальнем и темном конце коридора. «Скажите, доктор-батюшка…»
– Кто там? – вгляделся доктор Рыжиков.
– Мамаша я… – ответили ему. Он вгляделся – и точно: мамаша. Пропитанная дождиком и страхом, деревенский платочек, узелок под лицом. Брезентовая сумка в сухих пергаментных руках. – Сынок он мне. Живой ли?
– Живой… – ответил доктор Рыжиков, чувствуя, что, может быть, не очень он и виноват.
– Сынок он мне, – повторила она. – Может, ему чего надо? Сметанки вот взяла да медку годошнего… Кусочек сала да пирожков вчерашних… Второпях, батюшка. Думала-то в милицию, да угодила в больницу… Варенца баночку…
– Пока не очень надо, – сказал доктор Рыжиков. – Пока побудет на уколах…
– На уколах… – вздохнула старушка, которая всю свою жизнь, с самого молоду, больше уколов боялась только, может, упырей. – Тогда хоть ты отведай, батюшка. Самой-то в горло не идет… Посидеть с тобой можно? Может, хоть глазком увижу… Уж пусть бы лучше срок отбыл, чем помер.
Она вздохнула озабоченно, но без слез.
Ибо плачут соседки и родственники. Старушкам матерям же не дает та вечная готовность русской матери к тюрьме и суме непутевого сына. Надеть свою плюшевую куртку, повязать платок в горошинку и понести в домашней сумке либо гостинец в госпиталь, либо передачу в тюрьму. А то и вовсе яблоко на братскую могилу, где и имени нет.
– Не откажусь, – сказал ей доктор Рыжиков. Он знал, что эта снедь отнюдь не пригодится сыну в скором времени. – Но если вы со мной. Идемте заполним журнал. Там теплее и плитка есть…
…Старушка пила чай, держась поближе к плитке. Ее бессознательный сын запрокинул забинтованную голову на койке в изоляторе, под дремлющей охраной. Его молодая жена лежала навеки молча на оцинкованной полке в черной комнате без окон. Его спаситель одной рукой подносил ко рту вчерашний пирожок с капустой, прихлебывая честно заработанным варенцом. Другой разборчивым, почти ученическим почерком писал, все, как было. «…Положение больного лежа на боку… Иссечены мягкие ткани в области височно-теменной травмы… Извлечены внедрившиеся в твердую мозговую оболочку костные обломки размером от 2х2 см до игольчатых в 1-3 см, волосы, мелкие фракции земли, песка, кирпичного порошка… Травме придана форма неправильного яйца 6х4 см… Рана промыта гипертоническим раствором… Одновременно остановлено кровотечение: перекись водорода, зажимы, коагуляция, воск. Отслоение кожно-апоневротического лоскута, рассечение мышцы и надкостницы…»
Старушка, не подозревая о страстях с головой ее сына, пригрелась, задремала. Знать бы ей, что еще предстоит вычерпывать гематому, освобождать спинной мозг от сдавления вывихнутым шейным позвонком, вставлять в горло свистящую трубку… Хоть и на бумаге, а ей больно. Уж лучше пусть не знает.
Чуть не днем он поставил последнюю точку. Уже и не хотелось привалиться к стенке, как в предутренние часы. А просто застыть как есть, не шевелясь. Но через три часа у Гены начинается переработка. Он потребует у завгара оплату сверхурочных. Завгар ему откажет и предложит отгул. Отгулов Гене и без того хватает, а деньги пусть платят из принципа, как для него – так закон, а как для них – так не писан. Доктору Рыжикову придется писать свидетельство, ходить к завгару подтверждать, просить справку в санавиации. Вот что такое минута покоя.
– Ну и чего вы старались? – спросонья спросил его Гена. – Я извиняюсь, конечно, дело не в том, что он преступник, преступник тоже человек. Но он на вас же бросится, когда очнется. Совсем уж помереть приладился, а вы его оттуда… Ему это не надо. Государству? Да какой из него в зоне работник? Спишут как больного, и все. Получается, ни ему самому, ни государству, ни жене… Для кого же стараться?
Такого не бывает, должен был сказать доктор Рыжиков, чтобы стараться было совсем не для кого. Пусть для платочка в белую горошинку, для пергаментных рук.
Но в это время лопнул скат, и Гена, чертыхаясь, полез вон. Доктор Рыжиков устремился за ним. Но Гена проявил устойчивую твердость.
– Это, извиняюсь, так не пойдет. У нас у каждого своя работа. Пока вы там горбатились, я спал на кушетке. Теперь я пошурую, а вы поспите. Тут без балды…
Но доктор Рыжиков все равно лез – на мокром пустынном шоссе, в скользкой жиже менять скат в одиночку не сладко. Но Гена гнал его в кабину.
– Вы же меня не зовете, когда свою операцию режете? А у меня тут своя… Я вас должен сухим и теплым доставить куда надо, хоть на Северный полюс. Хоть на Южный…
Так он носился от багажника к правому переднему колесу и обратно, не давая доктору Петровичу даже прикоснуться к домкрату. Доктор из солидарности не мог греться в кабине и заодно мок снаружи, надвинув на уши берет.
Зато как только они сели на мягкие сиденья, он снова провалился в яму. И почему-то рядом с ним – больной Колесник. Доктор Рыжиков теперь кричал: «Прощайте, товарищи!» – и за себя, и за него. Теперь-то обязательно надо было докричаться, если бы еще помогал больной Колесник! Но больной Колесник лежал без сознания, с перевязанной головой, и бинт пропитывался грязью и кровью. «Прощайте, товарищи!» Громче! Еще громче! Снова дождь, и снова они прячут в рукаве цигарку, идущую по кругу. Господи, неужели не услышат? Холодный пот – или холодный дождь – льет струями по лицу. Хоть бы поднять руку и закрыться от первых комьев глины… А главное – прикрыть рану больного Колесника. Неужели он умер? Хирург со своим больным в одной могиле, – может, так и надо, если хирург это заслужил. По крайней мере честно: не справился – полезай за ним, пусть люди вспоминают про твою честность…
– …Ха-ха, честность! Ну вот скажите мне, что такое эта ваша честность? Кому она нужна? Ну хорошо, допустим, я честный. А рядом мой завгар своим корешкам завмагам резину налево толкает. Ну? Нужна кому-нибудь эта моя честность?
Вопрос был мирового масштаба. Столько внутренней страстности и горячего пыла было в сипловато-надсадном голосе Гены, что неведомая оболочка, о которой спрашивал Мишка Франк, даже затрепетала. Видно, испугалась, что Гена решит этот вопрос отрицательно, и вся мировая честность рухнет. С доктора Рыжикова даже сон слетел. Сколько обеспокоенных людей задается этим извечным и мучительным вопросом. И вдруг кто-то из них окажется последним, на чьих плечах держится мировая честность. Но как он будет знать? Как предупредить его, чтобы держался до последнего? Что на него вся надежда? Вот в чем все дело…
23
– Дело не в пропорциях, – сказал он мудро, – а во всеобщей путанице. Архитектура не фасад, а сфера, а у нас фасад разукрасят – и радуются. Какие-нибудь кучки налепят над окнами и называют искусством. Вот отбейте с фасада Зимнего дворца всю лепку, что останется?
Жена архитектора Бальчуриса вопросительно посмотрела на него. Она боялась шуток с творениями Растрелли.
– Останется гвардейская казарма, – нахально доложил доктор Рыжиков. – Длинная и монотонная, как доклад на торжественном вечере. Да и весь Ленинград – это что? Военный городок Петра. Улицы – батальоны, площади – полковые плацы… Венец архитектуры – линейка и циркуль царя. Он, конечно, был и мореплаватель, и плотник, но…
– Но Ленинградом все так восхищаются… – напомнила она.
– Все восхищаются тем, чем положено восхищаться, – встал доктор Рыжиков на сторону Гены Пузанова. – То ли дело – Москва. Недаром ее матушкой зовут. И строилась не по ранжиру, все вкривь и вкось, зато уютно и человечно. За каждым углом мороженое. Стены толстые, дворы уютные, колокольни – как аэростаты… Собрались улетать. И ходишь по мостовым, а не по костям…
– По чьим? – испугалась жена архитектора Бальчуриса.
– По крестьянским, – напомнил доктор Рыжиков. – Которыми великий архитектор болота мостил.
– А, это из истории, – успокоилась она.
– Недаром над Петербургом витают суровые тени Достоевского и Щедрина, а над Москвой – все-таки добрые Пушкина и Чехова…
Если так можно выразиться. С учетом того, что литературоведение – не основная профессия доктора Рыжикова.
– А блокада? – обратилась она за смягчающим обстоятельством.
Доктор Рыжиков должен был сказать, что это вечный незаживающий рубец на той оболочке, про которую спрашивал Мишка Франк. Что эти тоска и боль нигде никогда никому не позволят быть безгреховно счастливым, какой бы коммунизм ни наступил. И чем лечить этот рубец на оболочке, долго никто не придумает. И пока она слабая, как цветовой налет на мыльном пузыре, и когда она будет мощной и прочной, как атмосфера, сквозь ее толщу, из прорезанной когда-то глубины будут сочиться и сочиться капли рубиновой крови. И наоборот: если лекарство найдется и эта кровь остановится, то этой нужной доктору Петровичу оболочке придет конец. Она окажется совсем не тем, а роговым наростом, под которым…
Но вслух он сказал:
– В сорок четвертом нас и бросили на Свирь – прорывать блокаду. Мерецков попросил у Сталина армию из резерва, а Сталин сказал, что даст корпус, который равен армии. Это и был наш корпус.
Видно, она посмотрела на него довольно восхищенно, потому что он даже расправил свои гвардейские плечи.
Он широко расставлял на столе свой макет из белых пенопластных домиков, лоскутных скверов и картонных эстакад. Весь массив поместился у него в сумке, которую он привез на багажнике и сейчас начал выгружать.
Из спальни в приоткрытую дверь на его новое детище понимающе смотрело прежнее дело его рук. К приходу доктора Петровича его и в сей раз тщательно протерли нашатырными тампонами от запахов и переодели во все чистое. На доску прикололи свежий ватман.
– Да только пехотное начальство, – отвел взгляд доктор Рыжиков, – нашу форму невзлюбило. Начали сдуру сдирать голубые погоны и навешивать свои пехотные… Мы голубые прятали и перед боем надевали, а они вещмешки обыскивали, и у кого находили, то был скандал… Как будто главными врагами у них были не немцы, а наши голубые погоны…
– Как вы только успели? – поразилась она количеству вырезанных доктором домиков и мостиков, галерей и эстакад, которые он ловко расставлял в специальные гнезда сборной подставки. Все это заняло постепенно весь стол. – Это ведь столько времени!
– А у меня сейчас отпуск, – сказал он безмятежно. – Порезал палец и не оперирую. Запрещено. Можно сидеть и выпиливать хоть сутками…
Выпиливал он вечерами в теплой компании дяди Кузи Тетерина, который подавал ему советы, высказываясь о своем заклятом микрорайоне, навек перерытом траншеями, об очередях в магазинах, нехватке воды в разгар лета, отключении света и прочем, чего не должно быть в жилой и культурно-оздоровительной зоне доктора Рыжикова.
– Но, в общем, все равно лучше, чем в общежитии, – заканчивал он убежденно. – У нас в общежитии по пятнадцать лет парни маются, все из-за этого остепениться не могут, бессемейные, кобелятся по танцам… Разве это нормально?
Дяде Кузе уже разрешалось вставать и осторожно садиться, ходить по нужде, ужинать вместе со всеми за общим столом. Там можно было и обедать, и завтракать, но для этого все вместе никогда не собирались, а перехватывали кто как мог, наспех. Танька и Анька по очереди ухаживали за дядей Кузей, вытребовав за это отпущение от пионерского лагеря, который был им с детства ненавистен. Дни были дождливые, не лагерные. Одна кормила дядю Кузю, другая шла в кино, а в кратких сухих промежутках обе висели на дереве как обезьянки и ели незрелые груши. Валерия практиковалась своему крючкотворному ремеслу в городской нотариальной конторе. Семья была устроена. Доктор Рыжиков чувствовал прилив вдохновения, и пригородная зона росла как на дрожжах.
– Экой вы мастеровой, – сказал дядя Кузя в конце. – У нас в штамповке цены б вам не было. Шаблоны тачать тоже ловкость нужна. Вас тут, часом, не обижают в больнице? А то я словечко перед главным технологом замолвлю, мы с папашей его кумовья…
Дядя Кузя не очень был в курсе того, почему он лежал не в больнице, а в доме. Ему сказали, что не хватает койко-мест для кого-то там очень разбитого. А он более или менее целый. Ну вот и нашли выход. Тем более что голова прошла и он давно домой просился. Только пока не пускали, а ему было совестно харчиться за чужой счет.
– …Но только коммуникации вы не продумали, – сказала, извиняясь, жена архитектора Бальчуриса. – Вы заботитесь только о пешеходах, а как продукты завозить, товары, мебель? А «скорая помощь» как за больными придет?
– В нашей зоне будут только здоровые люди, – зловеще пообещал доктор Рыжиков. – В отличие от многих других зон. Ну ладно, сдвинем магазины в калашный ряд, задом к одному съезду. Пусть тут будет общий хоздвор. Ну, пешеходные дорожки расширим ради мебельных фургонов. – Сколько их там в день – не миллион же… Хотя с этого весь погром и начинается… Ну десять «скорых» в день…
Он тронулся, чтоб передвинуть магазины и ресторан к объездной трассе; она отступила на шаг, чтоб дать ему место, да не в ту сторону, и случайно толкнула его спиной и мягким округлым бедром. Они ойкнули и разошлись. И тут он начал замечать все их прикосновения в случайных встречах рук, наклонах голов над каким-нибудь сквериком, передаче друг другу карандаша или лезвия. И начал опасаться столкновений. Отодвигался, если она придвигалась, не отталкивал ее с присущим ему десантным нахальством, чтобы поправить схему. Но чем сильнее его это заботило, тем хуже удавалось. Она вдруг дергалась вбок или вперед и задевала его коленом или боком…
– А вот автостоянка для автобусов и такси, – обозначил он круг возле трассы, и отступив, толкнул ее спиной в грудь, после чего снова отдернулся к столу, оказавшись в ловушке.
– А как же старички, сердечники, мамы с младенцами? – забеспокоилась она. – Им без такси отсюда не добраться. Или просто тяжелая сумка… Мы же слабых не должны бросать…
– Конечно, – согласился доктор Рыжиков. – Мы не фашистская Спарта. А вы знаете, что болезни сердца и сосудов у жителей шумных улиц бывают в три раза чаще, чем у тихих? Значит, сердечники наши поправятся. А старичкам ходить полезно, тоже не сахарные. Они и старятся потому, что ходить негде. Боятся улиц… Теперь авоськи… и младенцы… В Москве на ВДНХ ходят аккумуляторные поезда. Электрокары, в общем. Клади свою кладь и иди за ним от остановки до своего подъезда… Плохо? Или велотакси… Пусть студенты подрабатывают. Двадцать копеек – и садись, мать с младенцем…
– Велорикши?! – ужаснулась она.
– Бедные мы, бедные, – посочувствовал он. – Всего-то мы боимся, всем-то напуганы… Но ведь никто не станет его бить палкой по шее, как китайца в Гонконге. Только полезно и приятно. Одним облегчение, другие подработают и будут здоровее. Умеренная физнагрузка на свежем воздухе… Я бы первый нанялся показать. Вот дядя Кузя рикшу сварганит…
– Какой дядя Кузя? – совсем запуталась жена архитектора Бальчуриса.
– Хороший человек, – заверил доктор Рыжиков.
Он старался поменьше замечать линию пепельных волос, отведенных назад и открывающих нижний кончик нежного уха, мягкую линию шеи, белизну открытых рук. Ему казалось, поймай она такой взгляд, он вылетит отсюда навсегда, притом кубарем мимо велосипеда.
– Вас что-то беспокоит? – оказалась она наблюдательной.
– Да нет… – отрекся он. – Сегодня все в порядке… Возьму-ка я домой и еще доработаю… С детским лагерем и этим зрелищным узлом… Да и вообще все надо поменять, я теперь вижу…
– Как поменять? Мне просто стыдно нагружать вас… Нам… то есть… – поправилась она зачем-то.
– Это прекрасная психотерапия, – испугался он, что она откажется и тогда приходить станет незачем. – Вы слышали, что у американцев даже мужчины вязать начали, чтоб нервы успокоить?
– А у вас нервы? – встревожилась она.
– Нервы-то есть, но как тросы, – на всякий случай похвалился доктор Рыжиков здоровьем. Он боялся остаться сейчас и боялся не попасть сюда потом. Он заспешил и стал собирать со стола свои грезы.
Автор будущего великого проекта с пониманием следил за его суетой через приоткрытую дверь. И улыбался…
24
Самая-то прекрасная психотерапия нашла его в собственном больничном дворе, когда он оказался на пороге старого строения, предназначенного на слом.
Это строение было когда-то самым печальным на больничной территории – моргом. Еще когда в старых больницах употреблялось больше не иностранное, а добротное русское слово «покойницкая». Все-таки намного душевней. Ведь в морге лежат трупы, а в покойницкой – покойники. Покойный еще мог быть отличным семьянином и активным общественником. Покойного еще можно было чтить и уважать. В крайнем случае – память о покойном. Память о трупе – это уже другой разряд. То же и покойницкая против морга.
Потом, в новое время, с другого края больницы, у специальных ворот, поставили и новый оборудованный морг. С рефрежираторной установкой, кафельной облицовкой, бесстрастно ярким светом ламп над мраморными, можно сказать, столами и прочими признаками современности. Покойники справили новоселье, а их старое обиталище переделали под прачечную. Теперь и прачечную решили выселить и укрупнить, а больничный запущенный парк окультурить. Благое это намерение начало осуществляться, как водится, с полного запустения и захламления брошенного здания. Выбитые стекла, щербатые стены, вырванные патроны и выключатели, прогнившие полы, сдернутая проводка… Быстро поселяются ветер и разруха там, куда неохотно возвращается человек.
Доктор Рыжиков тоже завернул неохотно. Слишком хорошо помнил, сколько покойников препровождено сюда за годы и годы, притом частично и не без его рыжиковского усердия. Эх, живет же кто-то, не зная этих камней на душе. И помнил, как здесь же лежали безмолвными старый фельдшер и бывший военнопленный второй мировой войны Петр Терентьевич Рыжиков, под конец невозможно опухший, а потом, наоборот, высохшая, с ревматическими узлами в суставах селекционер-садовод Елизавета Фроловна Рыжикова.
Но это были хоть и щербатые, а стены. А он и искал хоть какие-нибудь стены – пускай без крыши. Для начала. Для плацдарма – по старой и верной десантной тактике. Мысленно сняв берет перед всеми покойниками, когда-то лежавшими здесь (снять реально мешал дождь, сочившийся сквозь крышу и потолок, как сквозь сито), он после некоторого раздумья и нескольких вздохов переступил-таки порог бывшей покойницкой. И, согнувшись, завел, как в пещеру, велосипед.
…Испуганный шорох. Наверное, вспорхнули сотни душ, поселившихся здесь. Что они, навсегда тут устроились? Выселять их теперь? Ничего себе душегубское занятие…
Это оказались летучие мыши, и доктор Рыжиков успокоился, даже стал что-то неслышно насвистывать, сложив губы трубочкой. Едва-едва. Нужно было сильно приблизиться ухом, чтобы эту трубочку расслышать. Что же она издавала? Все то же. «Соловей, соловей, пташечка, канареечка жалобно поет…» Любимая походная песня, под которую он пешком мерил город в периоды, когда оставался без велосипеда из-за очередного угона. Что же сейчас жалобно поет канареечка? Раз поет – большую поперечную стену долой. Два поет – всю эту гниль из полов вырвать с корнем… Три поет – всю эту плесень со стен и потолка ободрать до костей… Четыре поет – проложить коридор. Пять поет – на сколько же их тут разделить? По три с каждого бока? Ну да, а операционная с маленьким предбанничком, и, может, влезет все-таки по три с каждой стороны… Шесть поет – на рентген мы, конечно, не тянем… Семь поет – служебка с изолятором, тут никуда не денешься. Столовая – восемь поет… Девять поет – осталось три палаты. Палатки, вернее. А туалет? Десять поет, одиннадцать поет, двенадцать поет… Ох, да как жалобно канареечка поет!
«Солдатушки, бравы ребятушки, а кто ваши жены?..» Значит, перешел от теоретических расчетов к обмеру помещения шагами. Вдоль стен вперед и назад, затем поперек – тоже туда и сюда. По отсекам, отмеряя будущие перегородки, то увеличивая, то экономно уменьшая шаги, чтобы больше их получалось…
Потом, обрисовавши все дома на ватманах, целую неделю ходил с папкой под мышкой по кабинетам. В основном после операций, на которые его каждый день зазывали все городские лечебницы. С головой и позвоночником теперь никто не хотел связываться, если нашелся один такой чудак-любитель.
Отмыв руки и переодевшись, наскоро хлебнув кофе, изготовляемого во всех больничных ординаторских, и отказавшись от бутерброда с колбасой, он теперь бежал по городу, чтобы еще успеть вечером посидеть у больного. Начинал с Мишки Франка, который, выпустив задумчиво облако дыма, посылал его то в санэпидстанцию, то в горархитектуру, то к пожарникам – в какой-то своей мудрой последовательности. В горархитектуре у них был особый козырь – блестящее спасение архитектора Бальчуриса. Там на доктора Рыжикова смотрели с восторгом и подписывали все, что он приносил. Самый тугой ход был в горздраве – там таких сумасшедших идей набралось на века. Можно было пойти на самый верх, к товарищу Еремину. Но доктор Рыжиков не находил в себе для этого сил. Он был перед товарищем Ереминым в тяжком долгу и вине – так и не посмотрел сына товарища Еремина.
Надо было, чтобы шаги по проваленному полу прачечной обросли деловыми письмами, сметой, заявками, фондами, разрешениями, проектом. Он впервые вляпался в этот деловой мир, о котором толком знать не знал, и чувствовал себя как в смоле. Как мальчишка, который по чьему-нибудь совету влезет в это мягкое черное варево обеими ногами и вот уж час, а потом другой под смех дружков хнычет и не может двинуться с места.
Как ни странно, все решил местный корифей Иван Лукич, чьего гнева пуще смерти боялось руководство из горздрава. Ведь что-то разрешить доктору Рыжикову – значит, рассердить великого Ивана Лукича. Но Иван Лукич как раз очень-очень обрадовался такой возможности и даже радостно захохотал.
– Дайте ему, дайте эту развалину! Пусть попрыгает без оборудования, без персонала, без руководства! Выделиться хочет? Пусть выделяется! Пусть попрыгает!
– Юрий Петрович думает, что у него хватит организаторских способностей! – Это, как всегда кстати поданный, голос Ады Викторовны, сладко журчащий в мохнатое ухо деда. – Он думает, что создать отделение каждый сможет. Что сможет догнать даже вас…
Пусть все на него смотрят, решил дать показательный урок Иван Лукич. Все молодые задаваки и зазнайки, которые приходят на готовое, не зная, каким оно достается потом и кровью, а потом рубят сук, на котором сидят! Фомы, родства не помнящие! (Родства-то не помнят Иваны, но себя Иван Лукич полоскать не мог и сделал пересадку Ивана, родства не помнящего, к Фоме неверующему.) Ни одного шприца ему не давать, ни клочка ваты!
Как ни странно, эта буря гнева все решила. Доктор Рыжиков стал владельцем роскошного замка в укромном уголке больничного запущенного парка, который ему заодно вменили благоустроить.
Он, радостный, ринулся в дело, но тут же снова увяз – теперь уже в больничном хозяйственнике Сансаныче. Сансаныч его охладил, посмотрев как на контуженного:
– Да вы что, Юрий Петрович! Это же только в план на тот год вставить собрались! Ваше счастье, что по капремонту провели, а не по капстроительству. Не знаю, кто это вас надоумил… Этот ремонтик знаете, во что нам обойдется? Вот амбулаторный корпус починим, а с марта – и за вас.
– С марта?! – воскликнул пораженный доктор Рыжиков, так как был разгар лета. – А как же быть до марта?!
– До марта? – Вопрос озадачил маленького и кругленького, как мячик, Сансаныча. – До марта… Что же я могу сделать, если нам до конца года уже ни одного кирпича, ни одной доски не положено! А все за горло берут! Всем позарез надо! Куда мне бежать?
Он схватился за голову и умчался туда, где в который раз за день прорвало водопровод и забило канализацию.
Самое большее, что вырвал доктор Рыжиков – это полтора человека из рембригады для обдирки внутренностей и всяческого слома. Это, конечно, была всем операциям операция. Доктор Рыжиков, чтоб не мотать душу, сам являлся туда, как не смену, а поскольку стоять и смотреть не умел, брал в руки лопату или ломик.
Поглядев на это, рембригада вскоре стала оставлять его подолгу одного. Он уже хорошо усвоил задачу: аккуратно складывать целые кирпичи, если таковые попадались, соскребать старую штукатурку, беречь целые доски и оконные рамы, в общем быть большим экономом.
В этой завидной роли его и застал самосвал, прикативший за мусором. Мусор высился огромной кучей, чуть не выше самого флигеля. Откуда чего набралось!
Грузчика самосвалу не придали, а водитель вылезать из теплой и сухой кабины на мокрую природу отказался.
– Ну, тогда я поеду… – сказал он в окошко.
Доктор Рыжиков взялся за совковую лопату. Водителя, черного и кучерявого парня, осталось только серьгу в ухо, тянуло на беседу. Он поглядывал назад, как какой-то там разнорабочий лез на Монблан скользкой грязи с торчащими осколками стекла, и заводил разговор:
– Что-то ты там в час по чайной ложке бросаешь, папаша! У меня обед на носу, а я еще ходки не сделал! Давай там подналяг!
Доктор Рыжиков молча подналягал, воюя с обломками досок, гнилой щепой, пылью и грязью, скользкой ручкой лопаты, необъятным и высоким кузовом.
– А что, папаша, у вас тут, в больнице, спиртяшка, говорят, водится? Нельзя пощупать? Я бы, так и быть помахал тут лопатой, если б ты сгонял… Знаешь небось их заначки… У меня даже склянка пустая есть, вот возьми, если тут не хватает.
Все разлезалось и рассыпалось. В плаще было жарко, а без плаща – мокро. Для святого дела доктор Рыжиков никогда спирта не жалел. И Сильва Сидоровна бы ему не отказала при всей своей стерильной скупости. А если бы еще увидела своего кумира за этим занятием с этой лопатой… Ужас! Убила бы обидчика. Но он не хотел ни заступничества, ни разврата. И мирно ковырял свой Монблан, подбадривая себя солдатушками…
…Спина ныла еще неделю. Во флигеле без окон и дверей он сам себе казался привидением. И, услышав раз сзади чье-то деликатное покашливание, подумал: «Еще одно явилось…» Но это было не «одно», а больной Самсонов. Он стеклил в городе самые большие витрины. В результате этого однажды под ним разъехалась стремянка, и огромный лист стекла, упершись в подмышку, сработал как гильотина. Левая рука оказалась аккуратно отрезанной по плечевому суставу. Самсонова привезли в главную хирургию к Ивану Лукичу. Иван Лукич осмотрел руку стекольщика, болтавшуюся на кусочке кожи, и махнул своей крепенькой и здоровой: отрезай! Отрезать должен был его послушный и любимый ученик доктор Рыжиков, который тогда еще резал все что попало, от рук и ног до животов и грудей. Отрезать гораздо легче, чем приращивать, тем более когда дело и так почти сделано. Но доктор Рыжиков (тогда еще послушный и любимый) как-то постеснялся выбрасывать в таз довольно полноценную и на вид вполне приемлемую руку, отнюдь не измясорубленную, как бывает при отрезании поездом или трамваем. Ни у кого не спросив, он стал не отрезать, а пришивать. По нервику, по жилочке, по сосудику, по пленочке. Никто его не торопил, никто не изумлялся. Тогда еще о пришивании пальцев и других отрезанных членов в литературе так восторженно не писали, и это не казалось еретическим. Он так вообще считал, что это дело обычное. Единственное что – не нашел гепарина от сворачивания крови. Вся бригада разбежалась искать, осталась одна тогда более молодая Сильва Сидоровна. Бегали по всему городу как собаки, но ни в одной аптеке, ни на одном складе не нашли. Доктор Рыжиков пересыпал все окровавленные швы и стыки порошковым пенициллином, отгоняя вредные мысли, что если от подмышки пойдет гнойное воспаление, то здесь недалеки и шея с головой, и грудь со всеми внутренностями. Куда спокойнее пришивать большой палец правой ноги. Но не отрезать же только что сшитое. Подсыпая, все дошил до конца: суставную капсулу, разные пленки, кожу. Разрез проходил прямо по середине подмышки, больному Самсонову от цепляния там крючками и иглами должно было быть жутко щекотно. Пришитая рука выглядела вполне пристойно, только желтовато. Но так как гепарина никто не нашел, с пальцев пошла сухая гангрена. Стекольщику кололи все, что только можно и чего нельзя, но гангрена упорно лезла вверх. Оставалось ждать, долезет она до плеча и там остановится или… не дай бог… Гангрена сжалилась и остановилась на пядь ниже локтя. Оказывается, при сухой гангрене между живой и мертвой частью образуется даже демаркационная линия. Стекольщик Самсонов вышел из больницы, даже не удивившись тому, что несет домой только чуть укороченную руку. Но по некоторым признакам потом до него стал все же доходить смысл содеянного. И свою короткую левую он теперь любил больше, чем «даровую», как он определил правую. Доктор Рыжиков продолжал видеть больного Самсонова в больших магазинных витринах, пострадавших от разных праздничных или предпраздничных проявлений, и, проезжая на велосипеде, обменивался с ним поклонами. Однажды они обсудили некоторые вопросы рационализации, и в результате на конце самсоновской культи появился крючок для захвата стеклянных листов. Больной Самсонов нашел, что это даже удобнее, чем живая рука, – не боишься порезаться.
…Больной Самсонов деликатно кашлянул за его спиной, давая знать о себе. Доктор Рыжиков думал, что снова что-то с рукой, а тут некуда пригласить больного даже присесть. Но больной Самсонов не спешил жаловаться. Он пожаловал прямо с работы, в сером производственном халате, левая укороченная рука была аккуратно зачехлена.
– Вас-то за что сюда? – спросил он добродушно.
– А как вы узнали? – ответил доктор Рыжиков.
Больной Самсонов уклонился. Его сухонькое лицо с чапаевскими усами выражало все большую озабоченность.
– А планчик-то каков будет? – перешел он к делу.
– Какой планчик? – не понял, о чем речь, доктор Рыжиков.
– Планчик обустройства, – пояснил больной Самсонов. – Ну, допустим, каковы внутренности…
Доктор Рыжиков понял, что неизвестно как появившийся стекольщик интересуется ходом строительных работ не из праздности.
– А как вы узнали? – это он повторил потом еще раз сорок.
– Если, скажем, полы настилать, двери вешать, то тут возьмем Огуренко, – снова уклонился Самсонов.
– Какой Огуренко? – несколько растерялся доктор Рыжиков.
Больной Самсонов что-то промычал себе под нос, не желая вводить доктора Рыжикова в полный курс дела, а на другой день привел больного Огуренко.
Огуренко сам был не больной, а его дочку доктор Рыжиков помнил, конечно, прекрасно. Еще бы такое не помнить! Рука вспомнилась быстрее, чем фамилия, хотя на складах памяти их хранилось множество, детских рук, левых и правых, от поломанного пальчика до размозженных костей. И от каждой до сих пор – волна теплой боли в груди, снизу вверх, от живота куда-то к сердцу, если так можно выразиться.
Оказавшийся впоследствии строительным плотником, Огуренко начал ходить с девочкой по врачам, когда у нее правая рука стала пухнуть и отекать, как колодка. А кончил спустя год, когда начала сохнуть и скрючиваться. Насобирал штук пятнадцать диагнозов – от туберкулеза кости до какого-то невиданного в наших краях ревматизма. У каждого диагноза было свое лечение. В разных городах, где свои корифеи, взгляды и методы, ее кормили и кололи антибиотиками и витаминами, парили парафином и гальванизировали, терзали гимнастикой и массажем, полоскали душами и ванной, просвечивали ультрафиолетом и гипсовали грязями. Доктор Рыжиков увидел их уже прошедшими сквозь строй и выжатыми до измора материально и морально. Просто увидел в хирургическом коридоре два тоскливых лица – большое и маленькое. На маленьком маленькая тоска, на большом – большая. «Вы кого-нибудь ждете?» – это он спрашивал машинально при виде чьей-нибудь бесприютной боли. Они сказали кого. «А ее сегодня не будет, – честно предупредил он. – У нее сын заболел». Они только тоскливо вздохнули. Доктор Рыжиков не мог отойти, не спросив, чем он может помочь. «Да ничем, – махнул папа, – мы за направлением в Железноводск». – «А зачем в Железноводск?» Слово за слово, и вот доктор Рыжиков щупает дочкину руку и листает историю. Ни папа, ни дочка уже ничему новому не верили. Да и старому тоже. Доктор Рыжиков заставил рассказать все сначала и узнал, что до перелома все было в порядке, а вот выпрыгнула на лед из автобуса… В гипсе она жаловалась, что ноет, а врач говорил, что ничего, это с непривычки. Доктор Рыжиков никогда при пациенте не ругал коллег (все мы немножко лошади). Но тут не выдержал и что-то промычал. Баловство с ультразвуками и грязями надо было кончать. Начиналось торжество ножа и топора. Кровь, что ли, там задерживалась, в перетянутой руке, до посинения, а потом и вовсе скрючило. Операция часов на пять – семь, прикинул он сразу. Юные жилки и нервы такие нежные, их питать и питать. А отделять их по одной от друг дружки из спрессованного месива тоже занудство, что для него, что для нее. Хорошо, что они разговорились. Наркоз был местный, хоть ручонка и вывернута внутренностями наружу от локтя до кисти. Девочка Огуренко круглыми глазами следила за мельканием бликов и теней на хромированном боку хирургической лампы. «Ну так вот, – говорил ей доктор Рыжиков, – тогда бай стал кланяться ослу и даже встал перед ним на колени». – «Перед ослом? – поразилась девочка Огуренко. – Ой!..» – «Да еще драгоценностей под нос насыпал, – подтвердил доктор Петрович. – Новокаин! Нет, новокаин не ослу… Сейчас, сейчас… Чтобы он его пожалел и осыпал царскими милостями». – «Осел?» – строго спросила девочка, следя за лампой. «Осел, конечно… А осел понюхал драгоценности и страшно расстроился, он думал – дадут овес. Плюнул на них и заорал: и-а, и-а!» – «Он, наверно, сам был осел», – правильно решила девочка.
– …В сборную по волейболу взяли, – сказал прибуксированный стекольщиком Самсоновым плотник Огуренко. – Только справку от врача требуют, а она не идет. Заметят, грит, что одна рука тоньше, не пустят.
Доктор Рыжиков сочувственно вздохнул и сказал, что тут уже трудно что сделать. Надежда только на гимнастику и спорт. Жаль, если девочку это будет травмировать психологически…
– Я вот ей всыплю психически! – воскликнул Огуренко. – Это ей таких грабель-то мало?
Но вид у доктора Петровича все равно был виноватый.
– А вот подпол лучше забетонировать, – сразу перешел плотник к делу. – Это я вам точно советую. Не пожалеете.
Доктор Рыжиков снова только вздохнул.
– Ты советуй поменьше, – толкнул стекольщик плотника укороченной рукой в бок. – Руки две, лопату держать можешь? Я завтра в пять, после работы, самосвал пригоню с бетоном…
– А может, сперва стенки? – задумался плотник.
– Если стенки – тогда Захарыча, – уточнил больной Самсонов.
«Захарыч…» – напряг память доктор Петрович, но без фамилии не входило. Или хотя бы без диагноза.
– Это которому люлькой по голове – и доска из глаза, – понял его затруднение больной Самсонов.
Если бы, конечно, всей люлькой, то Захарыча сейчас бы не дозваться. Обломком люльки, оборвавшейся с четвертого этажа – другое дело. И не доска, а здоровенная щепка, и не из глаза, а из кожицы над самым глазом, пройдя юзом вдоль черепа. Поэтому потом упорно говорили, что доктор Рыжиков спас глаз, хотя он не менее упорно чертил ход щепки под кожей, доказывая, что глаз был цел.
– …А вы что здесь делаете? – где-то на пятый день спросил больной Самсонов, увидев его вблизи, то есть доктора Рыжикова.
Доктор Рыжиков как бы пожал плечами: мол, а где ему быть…
– Да вы к больным своим идите! – направил стекольщик Самсонов. – Тут, смотрите, кипит…
Пока ничего не кипело, только больной Захарыч выглядывал из-за первой маленькой стеночки, за которой еще нельзя было спрятаться и на корточках. Правый глаз у больного Захарыча несколько отпугивал сшитым веком, но видел на единицу. По крайней мере шов на стенке казался доктору Петровичу гораздо ровнее шва на веке, и он корил себя за спешку в тот раз. Вернее, за то, что чересчур уперся в перелом темени, а веко передоверил, притом не рыжей кошке Лариске, а другим людям. Поэтому ему казалось, что сшитый глаз Захарыча смотрит на него укоризненно, хотя на самом деле он смотрел восхищенно.
Больному Самсонову нравилось распоряжаться даже одним человеком, и он полководчески крутил чапаевский ус. Разумеется, целой, «дореформенной», по его выражению, рукой. Крючок для этой сложной операции не годился. Пора было думать о биологическом протезе.
– Ты только пока обозначь, – скомандовал он больному Захарычу. – До потолка не ложи, мы бетоном по гнездам зальем, а потом дальше… А то ждать долго.
Больной Захарыч беспрекословно повиновался.
– И кирпича закажи, – напомнил ему больной Самсонов. – А вы ваш планчик дайте и идите. Идите, вас тут пока не надо. Если что, позовем.
Тут доктор Рыжиков спохватился, что планчика у него и нет. Планчик был тут же составлен на докторрыжиковском блокнотном клочке его же карандашным огрызком. Больной Самсонов примерился к нему очками как линзой, приближая и удаляя их. Проставил метры, промерил шагами отсеки. На другой стороне дописал: доски, столярка, проводка, известь, стекло, цемент… И задумался, наморщив лоб.
– А где это достать? – спросил доктор Петрович.
– А, – махнул укороченной рукой больной Самсонов. – Само найдется.
И доктор Рыжиков еще раз не выдержал:
– Но как вы сюда все-таки попали?
25
– Юра! Сын разума и совести! Как ты сюда попал?
– По делу! – предостерегающе сказал доктор Петрович.
– Садись в любое кресло!
Но доктор Рыжиков опасливо стоял.
Ибо кресла были не какие-нибудь, а зубоврачебные. А розовая лысинка в лохматом черно-седом обрамлении, аккуратные кавказские усики, невыцветшие черные глаза, горбатый нос и прямая спина – главный зубник нашей местности, уважаемый Лев Христофорович Тунянц, оторванный от гор родной Армении, но неизменно много лет получающий оттуда посылки с марочным коньяком и душистыми травами.
– Ничего, я постою, – вежливо сказал доктор Петрович в присутствии старшего по годам и по разуму. – У меня…
– Извини, Юра! – строго поднял палец Лев Христофорович. – У нас в Армении стоя дела не обсуждают. Потому что дела, – он поднял палец еще строже и выше, – это дела!
С первого своего дня он отнесся к нам, местным жителям, как к неразумным младшим братьям, которых надо терпеливо учить жить и действовать так, как живут и действуют в мудрой Армении. Он был сын и миссионер народа, чей алфавит на тысячу лет старше того, которым пишутся эти страницы.
Доктор Рыжиков был из тех, кто уважает чужие обычаи. Он сел, но с большой опаской, и не в кресло, а на табурет. Армянский Лев в изгнании (как он утверждал) зачем-то отошел к раковине и старательно вымыл руки. Был тихий вечерний час, вечный дождь прервался, и в окно хлынуло предзакатное солнце, тревожно играя на зубном инструменте.
– Нет ли у вас лишних…
– Лишние есть, Юра. У нас всё и все лишние. За редким исключением. Кроме тебя, меня и еще одного парня. Но я тебе что обещал?
– Что? – насторожился доктор Рыжиков.
– Что не стану тебя даже слушать, пока не загляну в твой рот. Был разговор?
– Был… – чисто по-рыжиковски вздохнул доктор Рыжиков.
– А у нас в Армении, – он строго поднял палец, – мужчины держат слово, даже если оно режет рот как острая бритва!
Неизвестно, как там, в Араратской долине, а у нас в среднероссийской равнине на всех крупных свадьбах и юбилеях он был великим тамадой. Младшие братья носили его на руках.
– Тогда садись вот в это кресло, прямо на солнце, и открой рот… Да не дрожи, десантник! Я только гляну! Что там за это время стало…
Что было – то было. Доктор Рыжиков, прыгавший на парашюте в пасть смерти, дрожал от вида маленького гнутого зубоврачебного зонда. Как и большинство смертных, он умирал от зубной боли, но не сдавался, пока не лез на стену. Со стены его и снял как-то Лев Христофорович и по-отцовски сказал, глядя на лоснящийся флюс: Юра, ты сын разума и совести, ты должен понимать, что такое гнойник в черепной полости. Зубы ведь тоже череп. Тебе из-за них в жизни не будет ни вкусной работы, ни сладкой женщины, ни ароматного шашлыка!
Он дал доктору Рыжикову таблетку – положить на зуб для успокоения боли, но под честное слово, что, когда боль пройдет, сын разума и совести явится сам с повинной. После этого прошло, наверно, года полтора. Мелкие боли доктор Рыжиков героически превозмогал, а старый лев сидел в засаде. И наконец высидел.
– Да не болят, честное слово! – слабым голосом клялась испуганная жертва. – У меня только дело!
– У всех дело! – с мягкой ласковостью опытного хищника приговаривал лев. – Ну не дрожи, ты не девушка! И не кладешь голову в пасть льву! Смотри, маленькое кругленькое зеркальце, совсем не острое, совсем не опасное… Ведь ты же не боишься маленького зеркальца? Сполосни рот… Я только посмотрю, честное слово! А может, тебя к креслу привязать? Правую руку твоим ремнем, левую – моими подтяжками… М-да… Это не алмазы индийского гостя… Не жемчуга персидской шахини… Не сапфиры царя Соломона… Но ведь совсем не больно, правда?
Доктор Рыжиков промычал, что весьма доволен. Старый лев выпрямился и потерся спиной о соседний комбайн.
– Ну вот и все. Все ясно. Ты, Юра, истинный герой. Носить во рту такую выдающуюся гниль может только большой богатырь. Витязь в тигровой шкуре. Ты с женщинами что, уже разучился целоваться?
Доктор Рыжиков покраснел. И забыл закрыть рот.
В тот же миг армянский лев едва заметно чем-то щелкнул за спиной, раздалось мягкое, едва заметное жужжание, будто шмель пролетел, и что-то вонзилось в зуб доктора Рыжикова. Душистые крепкие пальцы старого льва сжимали челюсти, как клещи, и не давали сомкнуться, пока в зубе со скоростью тридцать тысяч оборотов вращался маленький твердый бор, распространяя запах паленой кости.
– Вот молодец, – похваливал старый лев, занимаясь своим злодейством. – Смотри, как терпит! Прямо Давид Сасунский! Вот это, я понимаю, мужчина! Ну как для такого не сделать, что он попросит! Все сделаю! Вот временную пломбу сделаю, потом на постоянную заменим, потом мост поставим… Потом все сделаем! Сполосни рот… Я тебе тройную дозу мышьяка по блату положил, в следующий раз совсем не больно будет. Даже не поморщишься. А теперь закрой рот. Два часа без еды выдержишь? А рюмочку армянского можно. Налить? Юра, очнись! Закрой рот, уже можно!
Но доктор Рыжиков застыл с открытым ртом и неподвижным взором.
– Эй, Юра… – осторожно испугался бесстрашный лев. – Ты в шоке, что ли? Или в гипнозе? Эй…
Доктор Рыжиков вперился взглядом в светлый эмалевый корпус универсальной стоматологической установки модели УСУ-3М. Доктор Тунянц вперился в доктора Рыжикова, выискивая в нем признаки жизни.
– Без коньяка не обойтись, – констатировал он. – Ты чокнулся слегка или идея осенила?
– Иея… – шевельнул языком доктор Рыжиков, боясь выдохнуть пломбы. – Галуоася… тьфу-тьфу-тьфу…
– Смотри не выплюнь, – успокоился старый лев. – И повтори с закрытым ртом.
– Залюбовался машиной, – повторил доктор Рыжиков, как будто она только что не сверлила ему дупла, а вкладывала в рот конфеты «Птичье молоко». – Замечательная машина. Мне такая нужна. Махнем не глядя?
– Ты что, – насторожился опытный и незаменимый зубник, – решил расширить производство? Жмут нейрохирургические туфли? Зачем мне такой талантливый конкурент, ты подумал? Ты лучше у гинекологов клиентуру иди отбивай, у глазников каких-нибудь.
Доктор Петрович осторожно засмеялся. Бормашина весьма хороша для органического стекла, бутакрила и прочих веществ, незаменимых при ремонте черепа. А то с напильником пилишь, пилишь…
– Для тебя, Юра, я готов вывернуть изо рта последний золотой мост, – расчувствовался старый лев. – Я даже знаю, что тебе надо. Тебе надо удобную и аккуратную настенную машинку. Мы только что такие получили для сельских больниц. Иди проси, пока не поздно.
– Мне б старенькую, списанную… – вздохнул доктор Петрович, зная, что в этом мире все новое не для него.
– Ха! – сделал волшебный взмах маг. – Раз – ставишь постоянную пломбу, два – делаем обточку, три – ставишь мост, четыре – получай свою настенную. Только во время ревизий мне приноси ее на пару дней, а то скажут, что продал на базаре, да? Тебе мост золотой или стальной?
– Подвесной бы… – попросил доктор Рыжиков.
– Ха! – оценил старый лев. – Но я тебе рекомендую, Юра, стальной. Сталь тверже и дешевле. И не ждать. А то тут из-за золота вечный скандал. Одни стоят пять лет, другие за неделю ставят, потом те на тех кляузы пишут, заодно и на нас, приходит ОБХСС, ищет у нас золотые прииски… Но я могу и золото достать…
– Нет-нет! – отдернулся доктор Петрович. Не потому, что боялся обэхээсов, а потому, что с далекого детства, когда еще слыл хулиганом, усвоил золотые зубы как примету нэпмана, шпиона или врага народа, что не к лицу простому советскому лекарю.
Сошлись на железном, более присущем суровому рангу десантника.
Только такими муками доктор Рыжиков получил право высказать идею, с которой пришел в этот дом. Выслушав ее, старый армянский лев четыре раза сказал «ха!».
– Но ты же говоришь, он псих, – ответил он. – Сделаешь ему рожу, а он в суд подаст. Знаю я этих личников. «Я в детстве был красивый, вы меня недоделали, требую денежного возмещения…»
Доктор Рыжиков вступился за психа и стал расхваливать его, какой он спокойный, рассудительный и послушный. Доктор Тунянц недоверчиво слушал. И судороги у него почти прошли, и характер улучшается, и контактность растет, и реакции адекватные, и совет ветеранов целой воздушной армии за него хлопочет.
– Так у нас подмороженные гранаты продают, – вздохнул о горной родине усталый лев. – Или зеленоватый виноград… Ну а если он потребует свое довоенное лицо? По суду? Нет, я их знаю, Юра, потом не отсудишься.
Но больше всего ему не хотелось соприкасаться с хирургическими владениями отца чугунных утюгов и дубовых дверей. То есть Ивана Лукича.
– Он и я уже не сыновья. Мы отцы. Мы оба уважаемые люди.
Это была застарелая ревность. Двое великих не могут вместиться в одну экологическую нишу. И хотя слагать тосты на именинах и свадьбах гораздо приятнее, чем преть в душных президиумах, яд зависти неодолим. Тамаде кажется, что депутат забрал его законное, а депутату – что тамада вставляет ему в стул булавку, хотя и произносит тост в другом конце города по другому поводу. «Болтун золотозубый!»
– Ну как я туда пойду? Он же лопнет от перегрева, когда узнает. У нас граница на замке. Как с Турцией.
– А я уже не в Турции, – сказал доктор Петрович. – Я вылетел. Вы что, грома не слышали?
– Я два дня как из отпуска. До Еревана, понимаешь, гром слабоватый… Значит, любимый учитель любимого ученика… Вот это ха… А где же ты обосновался? Дают место в новом корпусе?
Доктор Рыжиков сказал, что в морге.
– Ха! – сморщился старый лев. – Это, конечно, не Ереван. Это даже не Дилижан. Это… Но, как сказал Диоген, вот уж несчастен тот, кто завтракает и обедает, когда это угодно Александру… Но тебе товарищ Франк может дать место в новом корпусе?
Это был осторожный вопрос конкурента.
Доктор Рыжиков осторожно ответил, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Этим он не отказывался от места под солнцем, но и не злоупотреблял товарищем Франком.
Доктор Тунянц молчаливо оценил это.
– Значит, она там захватила все? – сделал он глубокомысленный вывод.
– Кто? – сделал вид, что не разобрал, доктор Рыжиков.
– Дочь мягкой мебели и странгуляционной борозды. Двадцать лет назад, когда нас направили в эту больницу, я думал, что его сердце не сможет размягчить никто. Я предполагаю, что такое быть партизанским врачом в немецком тылу. Что там можно увидеть. Но потом нашелся тот, кто размягчил его сердце. Это ты, Юра. Ну, а потом удалось размягчить его мозг. Это уже ее удача… Может, и я на него похож, только не замечаю, Юра? Ты мне скажи смело.
– Пока, я думаю, нет, – сказал доктор Рыжиков, и доктор Тунянц знал, что он никогда не кривит.
– Ну и спасибо. Значит, теперь ты будешь завтракать и обедать, когда захочешь сам, а не Александр. Но обеды у тебя будут, конечно, скудные. Сначала, Юра. Потом разживешься. Но сначала наголодаешься, учти. Только я тебе не могу сказать, что опасней, быть голодным или быть сытым. Когда ты голоден – слишком много замечаешь, когда сыт – не замечаешь ничего. Ну ладно. Тебе не мои окаменелые мудрости нужны. И сам не маленький. Но пусть про тебя и старого скажут: жил на свете рыцарь бедный. Бедный – но рыцарь. Видишь, на тост потянуло. А мы с тобой еще по рюмочке не выпили. Я, Юра, тоже старый, только я никому не говорю. У меня радикулит и руки дрожать начинают. Зуб вырвать еще могу и пломбу вставить. Не первоклассную, конечно, и только дураки ко мне в очередь стоят. А челюсть протезировать я тебе молодого дам. Хочешь? Есть у меня один, сын простого сердца и ясного взгляда. Сулейман! – крикнул он в приоткрытую дверь.
Сначала в коридоре было тихо, потом послышались шаги. Раздался вежливый стук в дверь и голос: «Можно?»
– Заходи! – разрешил старый лев. – Вот это Сулейман, сын народа-брата. Он здесь от мафии скрылся. С него за место зубника в Баку тысячу рублей брали. А он бедняк, пришлось сюда поехать. Хочет накопить и вернуться. Но пока накопит, там будут брать по три тысячи. Или их там наконец передавят… У вас будет время и построить, и пооперировать вместе. Сулейман, побудь с нами. Вот это доктор Рыжиков.
Сулейман, получив разрешение старших, остался стоять у двери. Доктор Рыжиков оценил его красивый вытянутый долихоцефальный череп с короткой темной стрижкой и действительно ясный взгляд с глубоко затаенной искрой.
– У него глаз точный и рука добрая, – похвалил сына народа-брата старый лев.
Искра в глазах Сулеймана неуловимо прыгнула.
– Я бы даже сказал, что лично для меня он совсем армянин. И даже больше чем армянин. В нем течет такая же древняя персидская кровь… – Лев Христофорович традиционно перешел на тост. – Посмотри, какой античный череп. Мне кажется, он современник Гомера. Ну признайся, ходил ты в походы в войсках царя Дария?
Искра прыгнула снова.
– Юра, ты не подумай, он не такой кровожадный. Он мог у них быть только полковым лекарем. Универсалом, конечно. Рискованное было дело – лечить сердитых персов. Ассирийцев. Сулейман, можешь тоже сказать что-нибудь. Как самый древний среди нас. Ха!
26
Хорошо, что у доктора Рыжикова были здоровы почки и прочее. Иначе урологи полезли бы к нему в мочевой пузырь, когда он пришел просить у них списанный операторский стол.
Но бог миловал. Их сестра-хозяйка долго и сердито гремела ключами в подвале, светила спичками и чертыхалась на перегоревшую лампочку и на доктора Рыжикова, наконец по частям стала выносить стол. Доктор Рыжиков нес его на спине через больничный сад тоже частями: в один прием – спинку, в другой – коряжистую ногу. Под их тяжестью раскланивался со знакомыми врачами и медсестрами. Когда у него появилась первая собственная каморка под ключом в сырой новостройке, он открыл в себе новое качество. Он стал Плюшкиным. Чего он только не тащил через больничный двор под «солдатушки, бравы ребятушки, а кто ваши жены?»! В местных больницах на выездах он выпрашивал все, что плохо лежало. Особенно ему нравились операционные инструменты из ленд-лизовских передач. То ли по законам военного времени, то ли еще почему, они были на редкость прочны и долежались в каптерках до наших дней в прекрасном состоянии. Английскими костными кусачками с рифленой рукояткой он просто гордился, а в местной больнице нашел их в куче хлама в кладовке, где выспросил разрешение порыться.
Это было блаженное чувство хозяина, до сих пор неведомое ему даже в собственном доме.
Стол был простейший, он дошел к нам через головы минздравов и правительств со времен великого Пирогова. Он не был украшен блестящими ручками и штурвальчиками, из-за которых операторские столы теперь похожи на станки с программным управлением. Со стороны казалось, что доктор Рыжиков несет гладильную доску.
Донеся ее до любимых дверей, он увидел на своем пути трех мрачных ангелов.
– Сантехники мы, – сказали они исподлобья. – Трубы надо крутить?
Доктор Петрович обрадовался и закрутился под доской, пытаясь снять ее.
– Наконец-то, сантехники, ангелы! Прилетели, родимые! Вы каким путем, через Африку или Австралию?
Три ангела мрачно переглянулись и пожали плечами, показывая, что еще ждать от контуженого доктора.
– А что?
– А то, голубчики крылатые, что мы вас вызывали, когда еще к отделке не приступали. В незапамятные времена… Вылетев из Африки в апреле к берегам отеческой земли…
– Какой апрель? – насторожился старший, поскольку на дворе стояло лето. – Чего-чего?
– Ну ладно, – сжалился доктор Петрович над их наморщенными лбами. – Нам нужен локтевой кран и кислородная разводка отсюда, мы здесь будочку пристроим, чтобы баллоны внутрь не заволакивать.
– Да мы в колхозе были! – перешли к оправданиям ангелы. – Технику для уборки готовили. Тока, зерносушилки… Там знаете возни сколько? Чего вы…
Все трое были в аккуратных синих новеньких халатах, а старший – в шляпе, которую он, объясняясь, приподнимал. Последовав за доктором Петровичем, они отмерили рулеткой расстояние от крана до втыка, обсчитали коридор, обменялись многозначительными взглядами и зачесали в затылках.
– Оно конечно, – приподнял шляпу старший. – Да только если без нарядов на вентили и трубы… то нужно и похлопотать…
Он задрал полу халата, достал из кармана штанов засаленную записную книжку, карандашик и поднял глаза к потолку. Губы его зашевелились: две по двадцатке да две по двадцатке, полтора метра и там метра два, это одно, да тут метров…
– Трубы у нас есть, – охладил его счет доктор Рыжиков, – можете начинать хоть сейчас.
Это весьма раздосадовало старшего, он даже выплюнул кусок карандаша и крякнул:
– Так дело не делают.
– А как? – доверчиво спросил доктор Петрович.
– Ну как… – посмотрел старший на доктора как на младенца. – Вы уж не обижайтесь, могли и сами предложить. Мы только из колхоза…
– Чего? – настала его очередь чегокать.
– Да его же… – кашлянул старший в кулак. – Для смазки, значит. А завтра утречком и глазом не моргнете…
Доктор Петрович понял. И новенькие халаты для благоприятного впечатления и доверия, и интеллигентная шляпа.
– С другой стороны, замерзли в колхозе, лето сырое… А то ходим, ходим… Попростужались… – поддакнули старшему младшие.
Дальнейшее решалось у Сильвы Сидоровны.
– А где бутылку взять? – огрызнулась она, мало вникнув в аргументы в пользу пролития в хрипловатые емкости кровного нейрохирургического спирта. – Вы с этой стройкой на них разоритесь, а им как в прорву…
Это было самое многословное, что пришлось слышать от нее доктору Рыжикову до сего дня.
– А вы без стеклотары? – вежливо спросил доктор Рыжиков старшего, с которым он проник в святая святых Сильвы Сидоровны.
Старший развел руками. Где-где, а в медицине стеклопосуды этой горы. Сантехническое представление о мире зиждется на этом.
– Да что у нас, ни одной банки? – наивно спросил доктор Рыжиков.
– Одна есть, – мстительно сказала она, поняв, что хозяин обманут бесповоротно. – Но только в ней моча.
– Как – моча? – спросили мужчины. – Какая?
– А так! – Сильва Сидоровна, естественно, ненавидела всех потребителей казенного спирта, грабивших доктора Рыжикова и государство. – Не лошадиная, понятно. Больной помочился, да в анализ не приняли. Завтра снова писать… Вылить, что ли?
Доктор Рыжиков растерялся.
– Ну так ведь это… – засуетился старший, – все же как… дезинфекция, что ли… Сама себя моет…
– Да и моча дезинфекция, – подбодрил его доктор Петрович. – Вы на ранку, если что, пописайте, быстрей пройдет.
– Так то на ранку… – проворчал старший, ревниво наблюдая за струйкой, льющейся в сполоснутую банку. – Да ты не жмись, хозяйка. Сделаем качественно!
Начались ритуальные клятвы и уверения, которые завершились во дворе взаимным пожатием рук и прижиманием их к груди. С банкой в кармане старший сделался для остальных двух магнитом. Они уходили, поддерживая его под локотки, чтоб не упал и не разбился. Они не вернулись ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю. Встревоженный Сансаныч с одышкой сказал, что слесарей снова услали в колхоз на огурцы и помидоры и ждать их не раньше сентября. Да и вообще им сюда наряд никто не выписывал, это ведь стройка будущего года. Как они про нее узнали, неизвестно. И вообще непонятно, откуда здесь все появилось – доски, кирпич, цемент, стекла…
Как заговорщик заговорщика взял доктора под руку и увлек в сторону, в заросли разных кустов, обступающих прачечную.
– Юрий Петрович, голубчик! Не погубите! Я плановый ремонт приемного корпуса начать не смог, материалов нет! С меня контроль народный шкуру спустит, откуда здесь есть, а там нет! И документика ни на один кирпичик, ни на один мешок цемента! Это же фондовые материалы, накапают на нас – всех собак спустят! Мне уже намекали…
Если бы сам доктор Рыжиков знал, откуда, из каких заморских стран, прибыл тот грузовик с кирпичом! И мешки с известью и цементом. И ящик стекла. Но он даже близко не представлял. И даже будить не собирался эту спящую собаку. Только сейчас мелькнуло: если даже и посадят – успеем отстроиться. Пока настучат, пока насобирают материалов, пока повызывают свидетелей, подведут статью… Вполне можно успеть закончить. Уж стены рушить на вещественные доказательства у них тупости не хватит.
Разве что вернешься стриженный, как Смоктуновский в «Берегись автомобиля», а в твоем флигеле хозяйничает приветливейшая Ада Викторовна. Конечно же ей донельзя понадобилось такое одинокое уютное строение для особо тонких ультрафиолетовых и электромассажных процедур, разной физиотерапии и лечебной гимнастики. Так что попробуй отлучись не то что на два года – на два дня. Так и делает круги вокруг новостройки, принюхиваясь к соблазнительным запахам свежих рам и дверей.
Не столько из-за себя, а сколько из-за Сансаныча, он все же осторожно подкатился к больному Самсонову.
– Пусть не дрожит! – молодецки подправил Самсонов свой ус крючком-держалкой укороченной руки. – Смелого пуля боится! Да ни одного ворованного камушка тут нет. Тут и надо всего кот наплакал. Кирпич и смесь я вот себе выписал в домоуправлении. На ремонт печки. Печка, понимаешь, греть перестала. Прогорела изнутри. Ну и на заборчик добавили… Не, печка греть будет, мне ее Захарыч обследовал и говорит, что тот кирпич пойдет… Не, платить я не платил, оне мне и так задолжали. Сколь витрин им за так повставлял, по дружбе. Оне и рады расквитаться.
Доктор Рыжиков убедился, что лично Сансанычу обеспечено железное алиби, но все-таки что-то смущало его подсознание. Он-то знал, каково выпрашивать у домоуправления материал для ремонта жилья. Что-то тут было еще.
– А кто вас все-таки сюда прислал? – спросил он стекольщика Самсонова уже в двадцать седьмой раз.
Стекольщик Самсонов только гмыкнул что-то невразумительное насчет того, что лучше бы заняться сантехником…
…Сантехник пришел неожиданно. И в неожиданном облике.
– Что, снова к нам? – сурово спросила его Сильва Сидоровна, держа в руках швабру. У доктора Рыжикова она работала, конечно, еще без ставки, а со ставкой – на старом месте. Но души больше вкладывала сюда, особенно в охрану и оборону объекта, зная лисьи помыслы Ядовитовны. – Голова, что ли, снова болит? Нет его, у него перелом позвоночника…
– Перелом?! – округлились глаза у недавно выписанного больного Чикина, ибо это был он. Но, к его счастью, перелом был только операцией в «Скорой помощи». – Придется ждать…
Там доктор Рыжиков и застал его в сумерках, услышав где-то в глубине флигеля кряхтение и звяк металла. Чикин был с гаечным ключом и лбом в ржавчине. Самсонов сразу спросил его про локтевой кран. Чикин сказал, что может. Странно, при двух инженерных образованиях, но он действительно мог.
Доктор Рыжиков тут же локтем проверил кран (еще без подачи воды) и задумчиво сказал, что о таком он мечтал. Чикин смущенно улыбнулся.
– Может, еще что-нибудь надо? – преданно спросил он.
Доктор Рыжиков только вздохнул. После операции он всегда становился неразговорчивым.
– А у меня завтра суд… – робко напомнил о своих обстоятельствах Чикин.
– Подали все-таки? – В голосе доктора Рыжикова едва заметно проскользнуло разочарование.
– Подали… – растерянно сказал больной Чикин. – На меня. Она на меня подала…
– За что? – Доктор Петрович почему то слегка потеплел, будто Чикин-ответчик был ему роднее Чикина-истца.
– Вот вы как врач… – спросил больной Чикин, – ну и вообще – Какой может быть приговор?
– Виновен! – твердо сказал доктор Рыжиков. – Виновен, но заслуживаете снисхождения. Что же вы натворить-то успели?
Еще не знает, но уже прежняя симпатия к больному Чикину.
– Мне бы справочку… – дрогнул голосок Чикина.
– Любую! – пообещал доктор Рыжиков.
– Что меня утюгом…
Вот уж правда утюгом приглаженный. Когда пришла повестка, даже удивился и подумал, что кто-то за него уже подал и теперь можно не мучиться. Но еще больше пришлось удивиться, когда оказался в суде подсудимым, а не потерпевшим. Здесь, на скамье ответчика, он и узнал, что в состоянии пьяного бреда в присутствии уважаемых гостей жены бросился на нее с кухонным тесаком, порезал ей ладонь, которой она в страхе защищалась, чудом только что не убил, потом шарахнулся от всех и бежал из дому, всю ночь пугал одиноких прохожих и где-то обо что-то пробил спьяну голову. Тяжелый разделочный нож прилагался, с ним – залежалая справка судебно-медицинской экспертизы о царапинах и порезах. Сами царапины, правда, давно уж успели сойти с пухленьких белых ручек, с окольцованных пальцев.
Чикин хлопал глазами на ржавый тесак, хлопал на листок экспертизы, хлопал на пухлые ручки супруги, которые она крутила перед судейской бригадой. Так ничего и не выхлопал – почему все-таки он с настоящим рубцом на лбу сидит на скамье ответчика…
– Я напишу справку и пойду с вами в суд, – решительно сказал доктор Рыжиков.
В суде рядом с трагически дышащей потерпевшей сидели те гости-свидетели, подтверждавшие каждое ее слово самыми клятвенными заверениями. Это были довольно солидные люди, по местным масштабам, и даже директор гостиницы. И среди них – ближайшая соседка, каждые день и ночь видевшая и слышавшая неимоверные страдания истязаемой Чикиной. От их дружного напора Чикин совсем растерялся, сам себе не верил, путался в минутах и секундах, блеял и мыкался. Всем было видно, что он заврался. И, наверное, судье – особенно. Этого опасался доктор Петрович, вглядываясь в неподвижно-истощенное, напряженно-недоверчивое лицо женщины судьи. Эта могла уж засудить так засудить. И слишком уж хорошо жена Чикина знала, где ей положено скромно опустить глаза, где затрясти плечами в неудержимом рыдании. «Вы не поверите, гражданка судья… («Вам можно называть меня товарищем!») Сами посмотрите, какой он красный! Это же явно ненормальная краснота! Это от проспитрованности! А вы все знаете, сколько горя мы, женщины, терпим от этих нестерпимых пьяниц! Сколько я ночами убегала к соседям, от стыда умирала, стыдилась постучаться, синяки показать, на улице спасалась до самого утра! Да он и сейчас красный как рак. Снова с пьянки своей!»
– Это не алкогольная краснота! – раздался вдруг голос из зала.
– Это еще кто такой?! – возмутилась судья.
Это был, конечно, доктор Рыжиков.
– Я лечащий врач! – встал и представился он. – Эта краснота не алкогольного характера, это последствия…
– Я протестую! – мигом встал прокурор, обвиняющий Чикина.
Чикину везло во всем. В прокуроре, который уверенно уличал его бархатным, проникновенным, а когда надо – стальным и беспощадным голосом. И особенно в адвокате, которая заслуживала всяческого снисхождения. Рыхлая, забывчивая, со слабым зрением и сильным насморком, она, чихая и сморкаясь, подолгу копошилась в бумагах, то приставляя к глазам очки, то отодвигая подальше, то откладывая, чтобы полезть за платком. Зрителей это даже веселило.
Пылая благородным негодованием, прокурор заявил, что этот гражданин не записан в свидетели, что он присутствовал в зале и давать ему слово – значит, подрывать краеугольный камень процессуальности.
Доктор Рыжиков был на суде впервые. И честь по чести не знал, почему если он в зале, то обязательно будет лгать и лжесвидетельствовать.
– Именно! – подхватила и потерпевшая Чикина. – У меня тоже есть парикмахер стригущий, я же его в суд не приглашаю!
Судья долгим взглядом осмотрела ее, потом Чикина, потом лжесвидетеля Рыжикова, потом сухо сказала:
– Протест удовлетворен.
Чем-то ей не угодил рыжиковский нос картошкой.
Тут уж прокурор разошелся. Он говорил о защите дома и очага, о гуманном долге государства и правосудия ограждать таких слабых женщин, как гражданка Чикина, а заодно и всю окружающую среду, от таких деспотов, как обвиняемый Чикин. Он так живо расписал зверства Чикина с кухонным ножом, будто видел их лично. И потребовал врезать виновнику пять полных лет за злостное хулиганство с нанесением телесных повреждений и покушением на убийство.
Пять лет!
Доктор Рыжиков ерзал, но сдерживался. Его уже грозили вывести из зала. Он видел, что тут медицина бессильна. Акульи зубы чикинской жены сдирали мясо с его живого пациента до самых костей на глазах у всего честного народа. Что же делать? И судья была готова согласиться со всей этой нелепостью – ничего хорошего и ободряющего в ее судейском лице не читалось. И никто не возопил и не воспрял: да что же это, люди!
Видно, больной Чикин и им казался подозрительным.
Общая потеря сознания.
Их бы подключить тогда к искусственному, как подключают на операциях к искусственному дыханию или кровообращению. Но искусственного сознания еще нет. Оно, может быть, будет, когда накопит силы та загадочная оболочка, о которой они часто говорили с Мишкой Франком и на которую так надеялся доктор Петрович под добродушным прищуром прижимистого оппонента. Но сейчас она слишком слаба. Слишком слаба, это он и сам сознавал. Слишком ей досталось по большому и мелкому счету. Слишком, слишком. И напусти на нее эту рыбу-пилу – дорежет до конца, догрызет…
Нет, надо обходиться своими силами. Рано просить подкрепления.
Слово было за адвокатшей. Но она и тут помогла Чикину. Забыла где-то его положительную характеристику с места работы, справки о его плодотворной изобретательской деятельности. Она рылась в потертом портфеле, чихала от пыли, извлекаемой оттуда, но нужных документов никак не находила. Судья с неудовольствием объявила перерыв для их доставки.
Этот перерыв оказался самым длинным в истории мирового судейства.
Потому что когда все встали и суд вошел, в зале не оказалось ни Чикина, ни доктора Петровича. А адвокатша, держа очки на расстоянии от глаз, объявила по клочку бумажки, который развернула опять-таки вместо искомых документов, что с обвиняемым Чикиным за время перерыва случился приступ гипер… чего-то вследствие перенесенной черепно-мозговой травмы. И он срочно-срочно госпитализирован. Возможности продолжать принимать участие в процессе не имеет. И все. Можно расходиться.
Так что Сильве Сидоровне пришлось чуть не впервые в жизни возроптать на боготворимого доктора Рыжикова.
– Сами вы больные! Еще ни одной койки, ни одной тумбочки, а больного ведут! Куда прикажете ложить – на пол?!
27
– На полу легче от тайных измерений прятаться, – серьезно пояснил, поднимаясь, больной Туркутюков. – Вчера опять этот армянин приходил с циркулем. Зачем меня все время меряют?
– Он совсем не армянин, – добродушно сказал доктор Рыжиков. – Он настоящий древний перс, а может, даже ассириец. Я бы такой породой гордился. И он вас измеряет не тайно, а явно, совсем не надо от него прятаться. Он стоматолог, который будет участвовать в операции. Очень толковый товарищ. Руки!
Доктор Рыжиков прикрикнул, так как Туркутюков снова потянулся руками к мякоти головы.
– А что вы сейчас рисуете? – тревожно спросил он. – Снова меня?
– Вас, – сказал доктор Рыжиков. – Но только будущего. После операции. Хотите посмотреть? В городе Смоленске, между прочим, живет железнодорожник Удодов. Лет десять назад при сцепке он попал между вагонами, и ему размозжило лицо буферами. Да еще глаз выдавило. Вы по сравнению с ним счастливчик. Я на его операции был в институте Бурденко, а потом в центральном стоматологическом. Сейчас он красавец и даже жену бросил, хочет в кино сниматься. Говорит, что с таким лицом не хочет жить по-старому…
Заговаривая зубы, он что-то набросал и протянул Туркутюкову.
– Это… кто? – робко спросила туркутюковская маска, повернув к свету лист со слишком, может быть правильным лицом мужественного фоторобота.
– Допустим, вы, – сказал доктор Петрович как о деле простейшем и даже не заслуживающем внимания.
Маска долго молчала, высматривая. Потом выдавила из себя:
– Но так сделать нельзя…
– Почему можно сделать, чтобы прошли припадки, а это нельзя? – привел доктор Петрович неотразимый аргумент. – Это будет одна довольно серьезная операция и три попроще. Они не так больны, как… необычны. Ничего странного в этом нет, их сто лет делают, но многие о них ничего не слыхали… Вы про филатовский стебель что-нибудь слышали?
Туркутюков не слышал не только про филатовский стебель, он вообще ничего не услышал, оглушенный бурей нахлынувших чувств. Она разыгралась гулким стуком собственного сердца в обожженных ушах. Это была буря надежды, самая лечебная буря, которую никогда не боялся вызвать доктор Рыжиков. И даже всячески вызывал, пренебрегая угрозами приступа. Импульсы надежды могли вызвать в загадочных глубинах коры такие же землетрясения, как импульсы тревоги. И если Туркутюков выдержит их сейчас, на него уже постепенно, постепенно можно будет положиться.
Под пристальным взглядом доктора Петровича больной Туркутюков долго не отрывал взгляда от правильно симметричного лица на бумаге. Потом оглянулся по сторонам, наверное ища зеркало, в которое не заглядывал уже лет десять. Даже во время бритья – да, в общем, и брить было нечего…
Пронесло. Только лишь чуть засуетился, неуверенно двигая пальцами, руками, покачивая головой, не зная, как поступить с ошеломляющей бумажкой. Отдать обратно или навек прижать к груди. Но, кажется, впервые проклюнулась вера…
– А когда операция?
– Теперь уже скоро. – Доктор Рыжиков на всякий случай мягко отобрал рисунок, вспомнив про вероятность иска на несоответствие проекта с результатом. – Но для этого мы все должны поработать. И мы, и вы.
– Я? – Рука Туркутюкова потянулась к мякоти головы.
– Руки! – прикрикнул доктор Рыжиков. – Придется вам каску надеть и зафиксировать.
– А как мне поработать? – почти нетерпеливо спросил мягкоголовый летчик на своем немного странном наречии.
– Часть работы вы уже сделали, самую героическую, – воздал доктор Рыжиков должное, чтобы еще больше взбодрить пациента.
– Я?! – прижал к груди руки человек, спасший целый транспортный самолет десантников.
– Вот так и держите! – приказал ему бывший десантник. – А то привяжем. Тогда уже Девятого мая сможете выйти на встречу ветеранов. Хотите?
По лицу больного Туркутюкова трудно было понять, хочет он или нет.
Не только потому, что непонятно было, чего хотеть – чтобы привязали руки или чтобы выйти Девятого мая… Главное – потому, что лица у больного Туркутюкова все еще не было.
…Зато по лицу самого доктора Рыжикова сразу все стало видно.
Сразу все прояснилось, как только он переступил порог родной новостройки.
И многие захотели посмотреть на выражение его лица. Прежде всего больной Самсонов, трогающий усы крючком. За ним – больной Чикин, оторвавшийся от кручения трубных стыков. За ним – вполне здоровый Сулейман, временно оставивший сверление зубов и прячущий золотистую искру в темных глазах. И даже Сильва Сидоровна, вызванная по такому случаю из главной хирургии, вернее – уже давно переселившаяся сюда.
Все хотели участвовать во вручении доктору Петровичу сюрприза.
Сюрприз был разноцветный, красивый. Это были свеженавешенные внутренние двери, застекленные мозаичным стеклом. Обычно их заделывают мутным больничным стеклом, от одного вида которого на душе тоже поднимается муть.
– А то как в больнице, – довольно крякнул стекольщик Самсонов, подмигнув всем остальным, глядящим с видом удачливых заговорщиков.
Доктор Рыжиков видел, что это была неторопливая, аккуратная и высококлассная работа многих недель. Где добыто это великое множество разноцветных осколочков, как удалось их подогнать – секрет великого мастера.
Великий мастер со смущением, но не без удовольствия воспринял снимание доктором Рыжиковым берета и типично рыжиковский вздох благодарности. Все были ужасно рады, что так обошлось. Зазвучали выражения восторга и подбадривания в адрес стекольщика. Он раскланивался налево и направо. Подразумевались бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Было сделано все, чтобы показать доктору Рыжикову, что все здесь тоже приятнейшим образом ошеломлены. Хотя заговор плелся не первую неделю и оброс множеством прямых и сопереживающих участников.
– Как в калейдоскопе! – молитвенно изумлялся Сулейман, видно когда-то не на шутку потрясенный явлением этой игрушки в далеком и пустынном Кизыл-Арвате.
– Теперь надо веселые стены и радостный пол, – вслух размечтался доктор Рыжиков. – А то слишком контрастно для психики больных.
– Достанем! – вскричал больной Самсонов, воздев разнодлинные руки из опасения, что его самозабвенный труд по такой ерундовой причине будет отвергнут. – Я уже с Жировым договорился!
Какое отношение мог иметь больной Жиров к линолеуму и краске, доктор Рыжиков знать затруднялся. К трубам и барабанам – скорее. Это был мирный администратор филармонии, бывший виолончелист, потерявший беглость пальцев. На районных гастролях, на полевом стане, ему захотелось лихо проехаться в кузове грузовика с зерном. До первой колдобины. С тех пор доктор Рыжиков со всей многочисленной семьей мог иметь бесплатные пригласительные билеты хоть на Гелену Великанову, хоть на Иосифа Кобзона, если бы они к нам заехали. Так что девушки иногда по вечерам побегивали на кого бог пошлет. Валере же Малышеву приходилось заменять доктора Рыжикова, который всю ночь слушал вместо Нины Дорды хрипы прооперированных.
Доктор Рыжиков как-то не подумал, что у них в филармонии бывают ремонты, причем импортно-коричневый, с золотыми жилками, под дорогой паркет, линолеум датского происхождения (кажется) дается им гораздо легче, чем медицинским учреждениям. В больницы сбывают все серое.
Сообразив это, он почесал затылок в раздумье, что бы еще сказать в благодарность больному Самсонову.
– А все-таки, – не нашел он ничего более проникновенного, – как вы меня здесь нашли?
Больному Самсонову этот вопрос уже целое лето доставлял искреннейшее удовольствие, и по тому, как он расплылся, было видно, что лучших слов благодарности не сыскать.
…Через день на пороге родного заведения доктор Рыжиков услышал незнакомый строгий голос. Голос что-то внушал трем сантехникам, забредшим сюда после длительного перерыва. Похоже, они хотели повторить удачный свой забег, но кто-то не пускал их дальше порога. Спины сантехников выражали насквозь оскорбленное профессиональное самолюбие.
– Я нештатный инспектор котлонадзора и разбираюсь как надо! – В голосе прозвенело железо. – Это списанный кран, и нечего его совать!
Урчание сантехников свидетельствовало, что они уличены справедливо. Сегодня вымогательство не удалось. И только остатки достоинства удерживали экспедицию от унизительного бегства. Мешок с огрызками труб, изношенными кранами, потертыми прокладками и прочим сантехническим сокровищем, которым они хотели примазаться к великим свершениям, был с негодованием брошен им под ноги. Кто-то, не щадя живота, стоял на страже интересов родного рыжиковского очага. Кто?
Сквозь стенку сантехниковских спин доктор Рыжиков с изумлением разглядел Чикина.
В синем рабочем халате, с засученными рукавами, оторванный от чего-то важного, Чикин открыл себя с неожиданной стороны. Он командовал. В голосе у него прорубилось железо. Такого не ожидал даже все ожидающий доктор Петрович. Человек, который до сих пор только спрашивал или просил, сурово требовал. У него появилась ответственность. Притом за дело, которое было дорого доктору Рыжикову. Это согревало. Но согревало не всех.
– Подумаешь, знаток… – удалялось бурчание старшего в группе сантехников. – Надзиратель хренов…
Доктор Рыжиков посмотрел на больного Чикина с искренним уважением. Больной Чикин, увидев доктора Рыжикова, втянул голову в плечи и снова стал маленьким.
– Я там стол… – начал он почему-то оправдываться. – Так его или так?
Судьбу стола пришел решать и Сулейман.
– А где же машинка? – спросил его доктор Петрович.
– Извините… – мягко улыбнулся Сулейман.
– Пора монтировать, – обеспокоенно добавил Рыжиков.
– Лев Христофорович тоже говорит… – на что-то намекнули искры в глазах Сулеймана. – Целый день сидит, в окно смотрит. Грустный такой.
Доктор Рыжиков погладил щеку и улыбнулся:
– Не болит… Честное слово, не болит. Даже забыл, что такое зубы… Железо могу грызть.
– У вас в дуплах тройная доза мышьяка, – посочувствовал Сулейман. – Там все нервы поотмирали, вы не бойтесь…
– В зубах-то поотмирали, – согласился доктор Рыжиков. – А в пятках живы.
– Почему в пятках? – попался на секунду Сулейман. – А-а… А я думал, храбрый русский солдат…
– А может, мы с вами ее потихоньку принесем? – предложил доктор Рыжиков. – Рано или поздно… Все мы немножко лошади. А я прооперирую завтра у железнодорожников и послезавтра…
– Извините… – мягко отрезал Сулейман. – Вы можете с самим аллахом ссориться, вам уже можно все. А мне без научного руководителя нельзя. Иначе придется в Баку возвращаться…
Страх возвращения в Баку прыгнул в глубоких и темных глазах Сулеймана насмешливыми золотыми искрами.
– Ну что ж… – чисто по-рыжиковски вздохнул доктор Рыжиков. – Я вам зла не желаю. После операции сразу пойду. Честное слово. Раз попал в окружение…
Вырвать настенную бормашину предстояло суровой ценой долечивания зубов. Доктор Рыжиков, храбрый десантник, все еще надеялся проскочить зайцем.
Между тем место для пироговского стола было выбрано, и Чикин вооружился дрелью, чтобы начать его торжественное прикрепление к указанным точкам пола. Узенькое, как гладильная доска, ложе будущих кровавых упражнений пристраивалось относительно окна и лампы, двери и шкафчиков с имуществом, громоздкой дыхательной аппаратуры, словом – всего обязательного, после чего не оставалось места самому столу или, на крайний случай, хирургу.
В самый момент подсчетов и перемеров на пороге выросла иссушенная фигура Сильвы Сидоровны:
– Больной Чикин! К вам тут жена!
– Атас! – крикнул доктор Рыжиков шепотом.
Не то что у больного Чикина не было места в палатах, тут вообще ничего не было для того, чтобы штатно лежать. Чикин ночевал когда на раскладушке, когда дома у доктора Рыжикова, где дядя Кузя уже освободил место, перейдя на домашний режим, когда в разных безопасных уголках, указанных Сильвой Сидоровной.
– Впускать? – крикнула Сильва Сидоровна, считая, что дала достаточно секунд на принятие решения.
Чикин в рабочем халате, лоб в смазке, с засученными рукавами и вооруженный дрелью отнюдь не походил на того бессменно лежачего больного, образ которого доктор Рыжиков старательно создал в официальной справке – ответе на запросы суда. Там почему-то считали, что перерыв в заседании несколько затянулся.
– Минутку! – строго крикнул в дверь доктор Рыжиков, начиная заодно с Сулейманом судорожно сдирать с Чикина халат и в пижаме укладывать беднягу на узкое операционное ложе. В торопливой возне прорывался панический шепот: «Простыню!», «Руки на грудь!», «Подобрать ноги!», «Глаза закройте!», «Полотенце под голову», «Да не сталкивайте его!», «Держите, падает!» – и так далее.
Жена больного Чикина возникла в полном блеске. Даже Сулейман, видавший бакинские виды, цокнул языком.
На ней были редкие и непостижимые уму в суровые шестидесятые бархатисто-красные сапоги-чулки, роскошный по тем меркам плащ из зеленой болоньи, потрясающая польская перламутровая помада, взбитый, как зефир со сливками, перекисно-белый начес. Это был фрегат красоты и любви, прижимавший к взволнованной груди букет каллов. Глаза фрегата, обведенные голубой тушью, лучились нежностью и состраданием.
– Я полагаю, – обратился к Сулейману доктор Рыжиков, – определение задней трифуркации на основании присутствия гомонимной гемианопсии при жизни больного невозможно. Окклюзия внутренней сонной артерии нередко приводит к расстройству полей зрения. Как вы считаете, коллега?
Говоря это, он двигался, чтобы незаметно закрыть собой туфли Чикина, торчащие из-под простыни.
– Извините, профессор, – с почтительной серьезностью развел руками Сулейман, – я с вами совершенно согласен. Более точный результат покажет только вскрытие покойника.
Фрегат возле двери выронил за борт цветы.
28
– «В эту ненастную летнюю ночь в далеком поселке Салтычиха случилось неожиданное несчастье…»
– Как будто бывают ожиданные несчастья! – фыркнула Танька.
Валерия строго посмотрела на нее. Анька продолжала:
– «…В результате которого в районную больницу был доставлен гражданин К. с серьезно разбитой головой и рядом серьезных переломов костей и черепа. «Состояние граничит с несовместимым с жизнью!» – серьезно заключил дежурный врач, ставя диагноз».
– Как будто можно весело заключить! – прервалась теперь Анька, заработав якобы осуждающий взгляд Валерии.
– «Лучшим специалистом в области по такого рода травмам является нейрохирург Ю.П.Рыжиков. Он и поспешил на помощь пострадавшему. Сборы были недолги. Несмотря на позднее время, дорога заняла минимум времени благодаря опытности и мастерству водителя. Можно в полном смысле сказать, что «скорая помощь» мчалась на крыльях врачебного долга и подлинного гуманизма…»
– Доктор с крылышками!
Каждое слово заметки в районной газете, добытой Валерией у какого-то клиента нотариальной конторы, смаковалось и обсасывалось с последующим фырканьем и комментарием. Доктор Рыжиков терпеливо слушал все это, понимая, что каждой хочется вывернуться поумнее перед Валерой Малышевым.
– «Одна главная мысль не покидала нейрохирурга Ю.П. Рыжикова: только бы успеть! И он успел. «Скальпель!» – раздался властный голос хирурга. Люди в белых халатах склонились над неподвижным телом пострадавшего, вкладывая в него все свое мастерство и любовь к людям…»
– Тело дрогнуло и зашевелилось…
– И чавкнуло…
– «Движения нейрохирурга Ю.Н. (то «пэ», то «эн» – не поймешь их!) Рыжикова точны и предельно собранны. Да иначе и быть не может. Он имеет дело с самым сокровенным, что есть у человека: с мозгом и черепом…»
– Я тебе как дам по самому сокровенному!
– «…которые не зря зовутся центральной нервной системой. Наложен последний шов, и пострадавший будет жить, и не раз с благодарностью вспомнит про людей в белых халатах, и среди них Ю.П. Рыжикова, которые вернули его к семье и полезному труду…»
– Бодрое радостное тело вернулось к полезному делу!
– «И вот бессонная ночь позади. Хирург устал, но радостное чувство нужности людям, полезности им поддерживало его силы. Нет, не забудут многие люди скромного врача в белом халате, несущего своим трудом и талантом здоровье и бодрость многим своим современникам. Спасибо, доктор! – скажем и мы ему вместе со многими спасенными им пациентами».
– Пожалуйста, – вежливо ответил доктор Рыжиков, подавая пример понимания юмора. И дал газету Рексу, который решил унести ее в сад и там закопать под сиренью, как он привык поступать с предметами, доверенными ему на хранение: береженого, мол, и бог бережет. Но в последнюю минуту Танька передумала и выхватила газету, решив сберечь какое-никакое стилистически, а все же свидетельство фамильной чести.
– Ну будет теперь лет двенадцать грызть мерзлоту в Якутии, да всю жизнь за жену мучиться. А потом найдет вас и за горло возьмет: так меня уже и не было, кто вас просил? Что вы ему скажете?
Валера Малышев говорил доктору Рыжикову то же, что говорил он сам себе в ту «ненастную летнюю ночь». Только с той разницей, что доктор Рыжиков на этих справедливых словах сшивал порванные сосуды и склеивал череп, а Валера Малышев ковырял спичкой в зубах.
У него заметно возрастала потребность учить доктора Рыжикова. Особенно под веселыми глазками Анькистанькой, которые, как и любое молодое поколение, обожали ниспровержение авторитетов, тем более досаждающих им овсянкой на воде.
– Не будете же вы отрицать…
Еще бы у доктора Рыжикова хватило нахальства отрицать новейшие умозаключения!
– Не будете же вы отрицать, что есть патологические типы, просто изуверы, с которыми мы возимся себе в убыток. Какой-нибудь чирей ему вырезают, так и трясутся, чтобы этот уголовник с семью сроками не поморщился от боли. А то еще жалобу напишет. Ну вот почему бы ему вместо обезболивающего не сделать таким же укольчиком небольшой такой аккуратненький паралич дыхания? Без всяких там судебных издержек, чтобы не волновать зря. И общество легче вздохнет. Чисто функционально.
Доктор Рыжиков должен был сказать, что восстанавливать человеческое дыхание и прерывать его – две разные и несовместимые функции. И если кто приговорен не отбирать, а возвращать дыхание, сердцебиение, пищеварение и прочее, то это уж пожизненно. И путать тут очень и очень запрещено.
Но он сказал другое:
– А кто будет решать? Вы сами?
– Ну зачем я… – Валера Малышев как бы отодвинулся от этой черновой работы. – Решат кому надо…
– Кто надо – это и есть суд, – коротко заключил доктор Рыжиков. – С судебными издержками…
– Ну что ж… – Валера Малышев немного поразмыслил. – Может, это и функционально…
Функциональность просто не давала ему покоя. Вернее, нефункциональность, которая царила повсюду и так и действовала на молодые нервы.
– Вы, говорят, стали и каменщиком, и маляром… – Он решил подцепить все достоинства доктора Рыжикова, проявившиеся в последние недели.
– И мореплаватель, и плотник, – охотно подтвердил доктор Петрович. – Смена рода работ – лучший отдых, по нашему отцу Павлову. Правда, квалификация у отдыхающего низковата.
– С вашими руками хирурга – таскать кирпичи и мусор! – вострожествовал Валера Малышев над этим верхом нефункциональности, демонстрируя мускулы своих рук, гораздо более пригодных для этого отдыха. – Это, конечно, по-нашему. Что врачей, что итээров гоняют как разнорабочих. То стройку подметать, то картошку полоть… Сначала за тысячи рублей учат специалистов, потом используют с метлой или лопатой… В крайнем случае документы на подпись подносить… А вот шеф книжку читал – «Деловая Америка», слышали? Нет? Ну это дефицит вообще-то, не всякий увидит. Шефу достали на одну ночь. Это один наш инженер в Штатах в командировке пожил, поработал у них там. Нет, у них все четко. Каждый час работы инженера – столько-то долларов, столько-то центов отдачи. Карандаши у них инженер не затачивает. Чему-чему, а функциональности надо бы у них поучиться…
Валера с головой ушел в пересказ тогдашнего бестселлера. Доктор Рыжиков и не думал, что так далеко зайдет. От кучи мусора возле бывшей прачечной до сверхделовой Америки. И даже чуть не загордился. Соперник был достойный. По всем статьям. И когда Валера Малышев снова вернулся через Атлантику к своему неотвратимому «не станете же вы отрицать», он послушно вздохнул:
– Не стану. Это мы еще до войны пели.
– Что пели? – захотелось уточнить Валере Малышеву.
– Америка России подарила пароход, – любезно выдал справку доктор Петрович.
– Вот вы вечно иронизируете! – обиделся за ржавые колесики и очень тихий ход электронный Валера. – И это вместо того, чтобы действительно совершенствовать прогресс, который возможен только на базе специализации…
Когда он обижался, то превращался в несколько скучного лектора, чем слегка разочаровывал даже верных поклонниц – Аньку с Танькой. Но ему здесь многое прощалось только за то, что он никого не кормил овсянкой не воде.
– Кстати, приятная новость, – неожиданно закончил он суровую нотацию безнадежно отставшему доктору Рыжикову.
Неужели после всего этого в мире есть еще и приятные новости?
– Шеф приглашает нас в гости. Я хочу, чтобы ты ему понравилась.
– Что-что? – резко спросила Валерия, и глаза ее сузились почему-то на Валеру Малышева, как на неожиданную ламповую вспышку.
– Я говорю, шеф нас с тобой приглашает, и я хочу, чтобы ты ему понравилась…
– Зачем? – так же резко спросила Валерия.
– Мне небезразлично, как шеф отнесется к выбранному мной спутнику жизни! – значительно сказал Валера. – Да ты не бойся, шеф очень обаятельный парень, ты ему понравишься!
– А мы?! – радостно заныли Анька с Танькой. – Нас тоже возьмите?! Мы тоже хотим понравиться!
– У шефа колоритная квартира, – поиграл Валера мускулом под майкой, будто эта квартира была его. – Один бар чего стоит! Вращающийся, с поворотом, с подсветкой. Но сам он не пьет, только коктейли гостям делает. Мастер спорта по самбо, ему нельзя. И библиотека уникальная. Разносторонне развитый человек. Он тобой очень интересовался.
– Что-что? – снова резанула Валерия.
– Шеф любит, чтобы у него собирались единомышленники, слушали записи, пили кофе… Он говорит, что такое общение в непринужденной обстановке за дружеским коктейлем более функционально, чем казенное совещание…
– А мы ни у кого не собираемся! – заныли Анька с Танькой. – Все собираются, а мы дома сидим, как больные! Все лето только дома, даже без телевизора!
– Вы же в лагерь не захотели! – искренне возмутился такой наглостью доктор Петрович.
– То в лагерь! – дружно защитились они. – В лагерь дураков нет! А то к шефу на музыку! В лес не сводил, пусть теперь она к шефу возьмет!
Началось сведение долгов и счетов, означавшее только и только одно.
Что лето кончилось и завтра в школу.
Лето кончилось – вот в чем дело. Лето кончилось, праздник прошел, а как будто и не начинался. Так всегда кажется.
Анька с Танькой еще долго возмущались в своей келье, укладываясь спать и не находя то пера, то чернильницы. Ну куда это все могло подеваться?
Один Рекс сочувствовал доктору Рыжикову, старательно вытирая об него свою линючую шерсть. Ну, нефункциональные мы с тобой, хозяин, успокаивал он. Ну и что? Зато теплые и добрые, никого не обидим. Ни функционального, ни нефункционального. Пусть себе все живут как могут. Ведь так, ведь правда?
29
Так-то так, но через ночь доктор Рыжиков в группе сообщников, пятясь и пригибаясь, кощунственно и преднамеренно нарушал свою функцию, а также главную заповедь всех религий и моралей: не укради.
– Тише! – прошипели ему в темноте. Судя по голосу – Сильва Сидоровна, взявшая на себя функции руководства. – Приличные люди, а гремят как татары!
– Как персы… – прокряхтел Сулейман, разделявший с доктором Рыжиковым тяжесть.
Тяжестью был ныне старомодный дыхательный аппарат ДП-2, который они похищали из главного хирургического коридора. На время проноса Сильва Сидоровна выключила в коридоре свет и теперь переживала, как бы чего не сшибли.
Наводчиком был доктор Коля Козлов после того, как он подписал акт о списании этого первобытного аппарата ввиду поступления нового, более современного.
– Ей-ей, умру от смеха, – мрачно высказался он. – Прибор почти новый, дышать и дышать. И под пресс – хряк… Подумаешь, клапан заело в абсорбере! Ну и манометр отключается иногда. Ну так подключи!
…– Эй, на васаре! – просипел доктор Петрович. – Как там?
– Да тащите вы скорее, тоже! – ответно зашипела сверху, с лестничной площадки, судя по голосу, рыжая кошка Лариска. – Грабители банков!
– Раз-два, взяли! – поднатужился доктор Петрович. Главное было сейчас – не громыхнуть железкой об пол, о цветочный горшок и не выбить окно.
– Кажется, дверь… – прокряхтел Сулейман.
– Это туалет, осадил доктор Рыжиков. – Для комсостава. Возьмите вправо и назад. Только плавно а то я уроню лафет. Я еще их расположение.. помню…
– Ну что там?! – не терпелось Сильве Сидоровне. – Включать пора!
– Подождите… – промычал доктор Рыжиков. – Дайте следы замести…
– Убьется кто-нибудь! – предупредила Сильва.
И новый звук царапнул темноту. Вроде мышонок заскребся. Потом не очень громкое падение. И слабое «ах».
– Ну-ка свет! – крикнул доктор Рыжиков.
– Вытащим сперва! – взмолился Сулейман, которому никак не светило попадать на свет в компании похитителей.
– Скорее! – Доктор Рыжиков не без грохота опустил свою часть ноши.
– Ой! – приглушенно пожаловался Сулейман и тут же извинился. – Ничего. Очень хорошо. На большой палец.
Сильва Сидоровна, как опытный режиссер, дала свет. Сцена осветилась. То, что доктор Рыжиков увидел на ней, потрясло его больше, чем все трагедии Шекспира. Это было нечто бесформенно возящееся на полу, погибающее от молчаливой борьбы с собственной тяжестью. Бессильные коленки елозили взад-вперед, казенные костыли скользили по пластику, маленький рот сводило болью, но ни стона, ни звука.
– Вот это поздравляю! – вырвалось у доктора Петровича.
– С чем? – оскорбленно спросила Жанна и отвернулась от своего позора. – Я сама! – слабо отбивалась она, когда доктор Рыжиков начал ее поднимать. – Не трогайте меня!
– Потащили! – подоспел Сулейман.
– Не трогайте! – обвила она шею доктора Рыжикова тонкими руками.
– Ну, что я говорил? – забыл он про ДП-2, оставшийся уликой. – Прекрасная, воинственная и сумасшедшая Жанна.
– Почему сумасшедшая? – сердито спросила она.
– А куда же ты в темноте, не спросив броду?
– В уборную! – рассердилась она, брызнув слезами. – Сколько утку просить можно! Я целый день терпела, я уже сама могу!
В душе доктора Рыжикова грянул марш «Герой». Под его триумфальные громы он и отнес сопротивляющуюся поэтессу, художницу и танцовщицу обратно в ее женский кубрик, переполошив спящих тетушек-соседок. Там он поставил под нее утку и на несколько минут деликатно вышел, чтобы не мешать спокойно тужиться, а заодно оттащить краденый агрегат куда-нибудь в угол. Там на ДП-2 накинули простыню, как на покойника, и оставили ждать, пока доктор Петрович закончит осмотр Жанны. Посгибает ее слабые, но уже дергающиеся ноги, пощекочет иглой бледные пятки и икры, заставит кинозвезду самостоятельно посгибать коленки, пошевелить пальцами. Скажет, что это просто замечательно и великолепно, хотя сама Жанна ни грамма в этом замечательного не увидит.
– Все, хватит бездельничать, – заключил он насколько мог решительно. – Пора трудиться до седьмого пота. Переходим от слов к делу…
– Какому делу? – насторожилась воинственная и прекрасная.
– Конкретному, – сказал доктор Рыжиков хладнокровно. – Тяжелому и мучительному. Как и всякое спасение.
На лестнице переминался Сулейман.
– Может, нам завтра бормашину так же… – осторожно приподнял свою половину доктор Петрович.
– Извините… – прыгнули искры в глазах Сулеймана. – Там мой учитель Лев Христофорович такой грустный сидит…
– Так если все убито мышьяком… – пробормотал доктор Петрович на последнем пролете.
– Извините… – уперся задом Сулейман в запасную пожарную дверь.
– Ну я что там, пошла? – гулко, на всю больницу, крикнула им сверху, с «васара», рыжая кошка Лариска.
– Она стоит? – мягко удивился Сулейман, борясь с мощной дверной пружиной. – И еще не ушла?
– Не ушла, не ушла! – передразнила его сверху рыжая кошка. – С вами до утра не уйдешь, возитесь как черепахи…
Пожарная дверь, отпущенная ногой доктора Рыжикова гулко ударила по стене. Они оказались в сравнительной безопасности – в кустарнике больничного двора.
– Мистер Рыжиков в тылу врага, – оценил ситуацию доктор Петрович. – А ночь какая замечательная!
– Только караваны грабить, – посмотрел на звезды Сулейман.
– Или бормашины, – уточнил доктор Рыжиков.
– Извините! – отрезал сообщник.
В затаившийся флигель их впустил по условному стуку бдевший Чикин. Убедившись, что хвоста нет, они заперлись и перевели дух. Чикин принялся осматривать детали и трубки.
Лицо его из сонного становилось все более заинтересованным. Все внутренности отделения уже были украшены его руками. Со всех дверей качественные профессиональные таблички гласили: «Операционная», «Кладовая», «Палата N 1», «Палата-изолятор», «Ординаторская», «Не курить!», «Просьба соблюдать тишину». Венцом художнической деятельности Чикина был фонарь с загорающимися буквами: «Тише! Идет операция!» Оформление было почти исчерпано, и он малость загрустил, но при виде дыхательного аппарата оживился.
– Это для кого? – спросил он.
– Для непослушных, – охотно сообщил доктор Рыжиков.
Чикин ответил доверчивым взглядом, говорящим, что послушнее его здесь никого не найти. Доктор Рыжиков впервые отвел свой – его впервые посетила мысль, что он действительно не знал, что там происходило у них в квартире по вечерам и кто за кем гонялся. «Зачем это ей надо? – вернулся голос одного криминалистического чина. – Любая баба за последнего любого алкоголика двумя руками держится, не отпускает. А тут вроде вполне приличного сама гробит…» Но это длилось лишь мгновенье, после чего доктор Рыжиков сам устыдился. Чикин в великоватом халате с висящими рукавами, Чикин с двумя высшими образованиями, готовый к любой малярной и слесарной работе и готовый по первому свисту броситься в постель, накрывшись с головой, – Чикин излучал преданность и доверие.
Доктор Рыжиков тут же мысленно извинился перед ним, тут же мысленно залившись краской стыда.
– Извините… – мягко вмешался в их дела Сулейман. – Надо как-то сговориться…
– Зачем? – не понял доктор Рыжиков, почему надо сговариваться не до, а после преступления.
– Сразу видно, что не из Баку, – затуманился взгляд Сулеймана. – Нас же все видели. Будут спрашивать – что говорить?
– Что?.. – призадумался доктор Петрович.
– А вы что, – осторожно показал Чикин, – это… украли?
– Не украли, а спасли, – поправил доктор Рыжиков. – Есть ложь во спасение, значит, должно быть и хищение.
– Некоторые считают, что каждое хищение спасает для кого-нибудь что-то нужное, – охотно поддержал Сулейман. – На одной подпольной фабрике из болоньевых отходов шили плащи, а когда их забрали, стали доказывать, что без них эти отходы сгорели бы, а так тысячи хороших советских людей, честных тружеников, надели дефицитные плащи, которых бы они никогда не купили в магазине… А теперь вы хотите не только нас посадить, это пустяки, а честных советских людей раздеть и голыми пустить…
– Гм… – задумался доктор Петрович. – Я бы, например, тоже засомневался.
– А там не сомневались, – скорбно заключил Сулейман. – Дали по двенадцать лет за особо крупное… И думаете, кто-нибудь на этом поумнел? Отходы продолжают выбрасывать и сжигать. А сколько людей без плащей ходят… Как это можно назвать?
– А вот в Англии два парня банк взяли, – уклонился доктор Рыжиков от прямого ответа. – Самым эффективным и бескровным способом.
– Каким? – спросили Сулейман с Чикиным, как будто решили не останавливаться на ДП-2.
– Мышиным. Зашли и выпустили из мешка штук сорок мышей…
– Мышей? – вздрогнул больной Чикин.
– Половину белых, половину серых.
– Зачем? – проявил Чикин полную чистоту своих помыслов.
– А-а… – улыбнулся Сулейман с удовольствием.
– Ну да, – подтвердил доктор Рыжиков. – Когда визг кончился и дамочки стянули с голов юбки, поймали последнюю мышь… все сейфы уже пустые. Нравится?
– А нам это зачем? – опасливо спросил больной Чикин.
– Может, нам и больных своих так похищать придется, – пообещал веселую жизнь доктор Рыжиков. – Уже на этой неделе, я думаю. Распределим обязанности: Чикин отлавливает мышей…
– Ой! – сказал Чикин.
– Что? – спросил внимательный доктор.
– Мышей боюсь, – признался немеющий Чикин.
– Это ничего, – успокоил доктор Петрович. – Мы их методом усыпления. Нальем молока со снотворным, они и лапки вверх, Гитлер капут… И в мешок…
– Мыши мешок прогрызут… – предсказал Сулейман.
– Тогда в биксы, – нашелся доктор Рыжиков.
Судьба мышей была предрешена. Подробно обсудив все детали их массового выпускания в главном хирургическом коридоре, нарушители соцзаконности разошлись, не заметив, что по существу дела так и не сговорились. И если завтра предстоит допрос – их будущее выглядело плачевным.
Перед уходом доктор Петрович почему-то обошел все темные безлампочные комнатки и осмотрел их потолки. Что он искал там, задрав голову? Какой выход из какого положения? Оставшийся на своей раскладушке Чикин мог только гадать.
Но мыши-то по потолку не бегают, думал он в полусне.
И каждые шорох за окном заставлял вздрагивать – не идут ли с собаками за краденым аппаратом…
30
– Его что, в самом деле посадить могут? – спросил Сулейман с таким детским удивлением, что в душе доктора Рыжикова наступило какое-то невиданное потепление. – О мир! Наши восточные поэты так восклицали, может, слышали?
– Я думаю, кто только это не восклицал! – согласился доктор Рыжиков. – Знаете, Сулейман, мне в таких случаях хочется снять у человека болевой синдром, а потом приступать к разговору. Иначе он все воспринимает искаженно. Но как сказать судье, что тут надо лечить не Чикина, а ее? Она ведь смертельно обидится и еще добавит года три…
– Хуже нет, когда судья или профессор с зубной болью… – У Сулеймана тоже был опыт. – Живым не выпустит.
– А душевная боль? – обследовал вопрос со всех сторон доктор Петрович. – Если зуб болит в душе? Ваш-то хоть вырвать можно, а этот как найти?
Находясь в безопасности, в зубном отделении у Сулеймана, они занимались довольно странным делом. Как представители нечистой силы, крутили и вертели череп, прилаживая к нему проволочками недостающие части, сделанные из кусочков оргстекла.
– Вот тут надо еще прогнуть, – доктор Петрович поднес листок к синему огоньку спиртовки, чтобы заготовка помягчала. Сначала подержал в одной руке, потом в другой, дуя на освободившиеся пальцы. – Ему, наверно, было бы приятно знать, что этот плекс мне подарили в аэропорту, в мастерской. За летчика Стремилова. Тоже краниопластика. Поменьше, конечно. Он, правда, не в самолете разбился, а на мотоцикле. Ехал ночью на рыбалку и прыгнул с моста, не заметил объезда. Мост наполовину был разобран. Или наполовину собран после ремонта. Но ему от этого было не легче лететь. Вот так… Смотрите, как сама природа слепила. Как вы думаете, Сулейман, можем мы мастерскую открыть по производству человека? Начнем с черепа и костного скелета… Жутковатое занятие, серой попахивает… Стремилов полгода гулял с мягким лоскутком после трепанации. Материала не было. Потом я его навестил там, в мастерской, после санвылета. Гляжу, они из этого плекса чего только не режут – и окна на «ЯК-12», и приборные окошки… Вот, говорю, и ваш череп, завтра же ложитесь. Попросил пол квадратного метра, а они отвалили чуть не километр. У нас, мол, еще летчиков много… Туркутюкову должно быть приятно носить такой летный привет. Может быть, этот кусочек уже полетал… Тогда ему сны будут летные сниться…
Из этого понятно, что шла примерка к туркутюковскому черепу недостающих запчастей. Пока еще на макете. Доктор Рыжиков незаметно для себя разговорился, подбадриваемый искорками, то и дело вспыхивающими в глубине сулеймановских темно-коричневых глаз. Сулейман уважительно молчал, не перебивая старшего, а эти искры то простодушно удивлялись, то поддакивали, то позволяли себе мягко усомниться. Доктор Рыжиков говорил специально, чтобы полюбоваться и вызвать их на разговор.
Только когда дело коснулось Чикина, искры печально угасли. Слишком большой загадкой была женщина-судья, чтобы можно было доверить ей судьбу маленького человека с двумя высшими инженерными образованиями.
– А бывает, – попытался найти просвет Сулейман, – другой улыбается, улыбается, кивает, такой приятный с виду, душевный, а в конце тебя раз – и по горлу. Только ты ему и доверился…
– Бывает… – печально вздохнул доктор Рыжиков, потому что это было еще хуже, чем заведомая неприязненность судьи. – А с другой стороны, как ей кому-то поверить, если со всех сторон клянутся? Разве она виновата, что не умеет читать в мыслях?
– Да ему только на лицо посмотреть, и все видно! – вынес свой приговор Сулейман.
– Я знал одного человека, – сказал доктор Рыжиков, – по лицу – врожденный жулик, бери и сажай, даже фамилии не спрашивай. А на самом деле – честнейший парень, каждый его облапошит как хочет… Щепки лишней себе не возьмет. И даже нужной.
– А я одного знал, лицо такое благородное, как будто он сам наместник пророка. Прямо честнее уже некуда. А сам держал в сейфе голых девушек. Доставал и продавал знакомым за дорогую цену.
– Голых девушек в сейфе?! – ужаснулся доктор Рыжиков.
– Карточки! – успокоил его Сулейман. – Целые пачки!
Видно, доктор Рыжиков глянул на него с некоторой подозрительностью, потому что он спешно добавил:
– Не подумайте, я у него не брал. Я уже был женатый, семейный. Я у одного видел. Когда этот благородный от инфаркта умер, его сейф комиссия вскрыла, там все это нашла. Акт составила. Все прямо рты пооткрывали. Так он любил про порядочность говорить, про уважение к старшим… Прямо всем своими моралями надоел. Его как кто увидит, так сразу про свои проступки вспоминает, краснеет, прямо трясется, что виноват…
– Ах, Сулейман, – вздохнул доктор Петрович, – сколько вокруг нас таких судей…
– На одну вину штук, наверно, шесть, – подсчитал Сулейман. – Или семь…
Доктор Рыжиков хмыкнул. И почему-то захотел спросить:
– А как вы стали врачом, Сулейман?
– Думаете, уже стал? – прыгнули искры в глазах Сулеймана. – Спасибо! – Он помолчал, что-то вспомнил, подумал, можно ли доверить. Решил, что можно. – Мама моя умирала от рака. Пищевода… Говорила: Сулейманчик, кушай хорошо, это такое счастье – кушать. А сама худела и худела… И никто не мог вылечить. Никакие врачи. Я плакал и думал, что же это за врачи такие, сидят в больнице с важным видом, носят белый халат… Я тогда школу кончал. И думал, если я научусь, то сумею лечить. Даже хотел еще успеть маму вылечить. Но не успел.
Доктор Рыжиков несколько минут помолчал. Ему тоже захотелось доверить Сулейману что-нибудь важное из своей жизни. Может, даже то, что фактически он уже больше двадцати лет должен лежать в братской могиле, откуда его случайно извлекли. И что поэтому он живет сверхлимитную, даром даренную незаконную жизнь. И его всегда могут спросить: а как ты ее растрачиваешь, такой-сякой, недобитый? И в последнее время чаще, чем раньше, под сердце заползает ледяной холод: а если правда, что таких там много, оставленных живыми? И после этого всю ночь кричишь из свежей ямы небольшой перекуривающей бригаде с лопатами: «Прощайте товарищи!» А слова не долетают, шлепаются рядом в глиняную холодную кашу…
Но пока сказал другое:
– Но вы-то…
– Стоматологом стал… – Сулейман извинился улыбкой. – То есть стану. – И почему-то, помедлив, добавил: – Может быть.
– Почему «может быть»? – спросил доктор Петрович.
– Да… так. Посмотрим. Как-то незаметно, зубников всегда не хватает. А зубов больных много… – Он еще раз подумал, можно ли все доверить. Решил, что можно. – Знаете, жена моя человек хороший, наивный. Но у нее много родственников. И тоже разные люди. Одни работают с лопатой, все руки в мозолях. Другие все время считают. Считают, считают, считают… Вот они собрались вместе и обступили меня. Те, которые считают. И стали объяснять, объяснять… Что за зубы потом остается, кто заплатит, объясняли. А за рак потом кто заплатит, объясняли. Ты о жене, о детях подумай, объясняли. Наверное, я о маме тогда забыл немного, о жене много думал. Но она у меня хорошая, наивная. Только потом пришлось уехать, чтобы ничего уже не объясняли, чтобы самому все понять. Спасибо, Лев Христофорович сюда позвал. Он ничего не объясняет, говорит: сам думай. На людей смотри… На вас смотри, говорит. Только как он зубы не лечит – не смотри, говорит!
Доктор Рыжиков только было расслабился, чтобы тоже доверить Сулейману что-нибудь важное, как зубы спугнули его. И он сказал, прилаживая к черепу уже, наверное, сороковую плексовую заплатку:
– Мы с вами как в окопе перед боем, Сулейман. Сидим себе, патроны протираем, гранаты раскладываем… Разговариваем о чем попало, только не о бое. О нем только думаешь, но не говоришь…
И поднял на свет свежесобранный череп, чтобы осмотреть швы и стыки. Погладил ладонью заплатку, проверяя, гладко ли легла в свое фигурное окно. Заплатка была не заплатка, а даже полчерепа с изрядным куском лба и основанием носа.
– Прямо скульптура, – с уважением оценил Сулейман.
– Скульптура-то скульптура… – Доктора Петровича грызли творческие сомнения. – Нет, за нос я боюсь. Что-то с носом не то. Будем пробовать не цельноштампованный, а прицепной, из бутакрила. Замешивайте, Сулейман. Попробуем и так, и так. Что лучше.
Сулейман замешивал розовый порошок, мял в пальцах самогреющуюся пасту, смотрел на доктора Петровича, как велел учитель Лев Христофорович. И от этого почему-то вспоминать маму было не так виновато, как раньше.
31
– Да, нет мы ее помним, прекрасно помним. Что же мы, такие бессердечные? От нас девочки каждую неделю ходят с гостинцами…
Учитель танцев принял доктора Петровича в углу балетного класса. В классе была такая чистота, что посетителя заставили разуться, и он смущенно отразился в гигантском зеркале-стене, опасаясь, нет ли на носках неучтенной дырки.
В другом углу сбилась на перерыв кучка недоразвитых утят-девочек. В третьем – преждевременно надменных балерунов мальчиков. Все покручивались и поглядывали на себя в зеркало. Доктор Рыжиков мучительно боролся с этим соблазном, изнывая от несуразицы своего отражения в такой обстановке. На крайний случай надеть бы халат.
– Очень похвально, что вы заботитесь о своих больных. – Учитель танцев отбросил назад волнистые артистические волосы и оценил себя в зеркале. – Только поймите и нас.
– Постараюсь, – сказал доктор Рыжиков, чувствуя себя в этом грациозном мире как заблудившийся носорог.
– У меня ежедневно по восемь часов занятий. Вы только представьте, какая это педагогическая нагрузка. По выходным – репетиции концертов. На общественных началах, конечно. А педсоветы, методические советы, худсоветы, комиссии? Сколько приходится выступать по эстетическому воспитанию! И думаете, кто-нибудь это ценит? Нет, не такой у нас город. Здесь никогда не понимали бескорыстного человека. Вы понимаете меня?
Доктор Рыжиков понимал всех, у кого ныли обиды.
– Но ведь мы не лечебное учреждение, как ваша больница, правда?
Доктор Рыжиков и сам понял, что здесь не лечебное учреждение.
– А правду говорят, что Жанночка теперь сможет ходить только на костылях? Как нам всем жалко Жанночку! Нет, вы мне не говорите, все-таки наша медицина ужасно отстает. Жанночка на костылях – просто не верится! – Взгляд в зеркало, небольшое выправление осанки. – Придется искать ей замену. А это очень нелегкое дело. Она была очень талантливая девочка, скажу вам откровенно. Такой нам теперь не найти. Нет, если бы у меня была хоть минута свободного времени, я обязательно бы пришел позаниматься. Вы верите?
Доктор Рыжиков верил. Такой уж он был человек. Учитель танцев взял его за локоток, показывая, что время перерыва истекает.
– Нет, это такое несчастье для нас всех. Мы верили, что она станет всемирно известной, умножит славу советского балета, – взгляд в зеркало, осанка, – и авторитет нашей студии. Ведь вопрос о студии фактически почти решен, мне сам товарищ Франк сказал. И потом, я вам откровенно, как тонкому человеку, врачу. Это просто ужасно. Бинты, кровь, костыли, уколы… У меня потом неделю тошнота. Я человек искусства, эстет, мне это невыносимо… Вы все-таки привыкли к этому, потому что у вас свои обязанности, а у меня свои… Вы меня понимаете?
Мысленно доктор Рыжиков сказал: куда мне. И захотелось в подтверждение своего неэстетизма пройти по этому белому выскобленному полу не в носках, а в кирзухах, оставляя сочные ошметки грязи на ихней балетной чистоте. А заодно, может, и провести автоматной очередью вдоль зеркальной стены, перед которой этот эстет непрерывно поправляет то галстук-бабочку, то прическу. Добавить сюда грохота, звона и гари.
И мысленно же сказал себе: вот так это и начинается. А эти мальчики и девочки чем виноваты? А старушка, которая пол скоблит? И вообще весь мир, которому чуть что – суют под нос грязные сапоги и автоматы? Тут только начни. Он щелкнул своим выключателем, и клетки, у которых чесались кулаки на учителя танцев, притихли. Включились клетки, которым было жаль и старушку уборщицу, и этих мальчиков в трико, высокомерно озирающих простые носки посетителя. И даже самого учителя танцев, способного умереть при виде капли крови. Ибо все мы немножко лошади.
– А мы вас на премьеру приглашаем. Хореографическая сюита «Гимн молодости». Хотели еще к Первому мая, но Жанночкина болезнь помешала. Теперь нашли другую солистку. Риточка, конечно, справляется, но данные, по секрету, не те… Ах, вы поверьте, нам так Жанночки не хватает! Только учтите, на нашу премьеру всегда трудно попасть. Как говорится, бежит толпа гостей почетных… Все родители, все их друзья, ну и руководители – кто из горсовета, кто из строительного треста, кто из профсоюзов. Нам ведь и о ремонте надо позаботиться, и об обстановке. У нас ведь красиво все здесь оформлено, правда? Все с помощью общественности. Самого товарища Франка приглашаем всегда и товарища Еремина, конечно. Товарищ Еремин, правда не всегда бывает, зато его жена с сыном – обязательно. А товарищ Франк обладает чувством развитого эстетического вкуса… Так что пригласительный билет пораньше получите. Будете у нас почетным гостем. Можно вдвоем. Дети, попрощаемся с нашим гостем, ну-ка дружненько!
Девочки вразнобой сделали свой цыплячий реверанс. Мальчики по-гусарски коснулись ключиц подбородками.
– Спасибо, – начал доктор Рыжиков обуваться у входа. – Я, конечно, вдвоем.
– Пожалуйста, пожалуйста! – засуетился учитель танцев, как будто что-то зная про доктора Рыжикова. – С кем, если не секрет?
– С Жанной Исаковой, – сказал доктор Петрович, разгибаясь.
32
– Он сегодня придет? – спросила Жанна, невыносимо сияя глазами. – После обеда?
– Сегодня он не сможет, – спрятал свои глаза доктор Рыжиков. – У них там репетиции перед премьерой.
– Как жалко… – прошептала Жанна. – Я так люблю репетиции… Больше, чем концерты. На репетициях можно как угодно прыгать, а на концерте только как он приказывает. Одно и то же.
– Скоро переедем ко мне, – сказал доктор Рыжиков. – И начнем репетировать непрерывно. Согласна?
– А когда? – Жанна сразу спустила ноги с кровати и потянула костыли.
– Скоро. Ну, несколько дней. Еще один штрих в ремонте. Для полной красоты. И у тебя будет отдельная палата со всеми удобствами. А сейчас ну-ка вытяни ноги…
Он достал из-за спины «Школу классического танца».
– А самое лучшее – генеральная репетиция, – жалобно вздохнула Жанна, и ее черные глаза наполнились слезами.
Тем временем больной Самсонов удрученно разглядывал, снявши кепку, потолок в готовой, выбеленной и выкрашенной палате.
– Самое лучшее, конечно, через крышу, – сказал стекольщик в глубокой задумчивости. – Перед тем, как бы крышу класть. А теперь снова гадить придется. Экое неудобство.
– Это я лошадь, – виновато сказал доктор Рыжиков. – Надо было знать до… Не лошадь даже, а бегемот. Знаете что? Вы этим, пожалуйста, не затрудняйтесь. Я как-нибудь сам выкручусь.
– А что, нельзя без нее? – поскреб Самсонов в затылке крючком левой культи.
– Нет, – грустно сказал доктор Рыжиков. – Это единственный выход. Да вы не затрудняйтесь, вы меня и так… Но как вы все-таки сюда попали?
– Да дело ерундовое, – стал успокаивать стекольщик. – Работы на день-два. Мусорить жалко, чистоту такую гадить. Линолеум красивенький опять же… Плевое дело, это мы мигом…
– А чтобы ваши стекла горели ярче, – перевел разговор на приятную тему доктор Петрович, – у меня есть прекрасная люстра. Мы ее в коридоре. А в палатах торшеры…
– Тут без электрика не обойтись, – заключил больной Самсонов. – Дерматина помните? Который со столба упал. Ну, лямка на кошке порвалась…
– Больной Дарвадинов, вспомнил доктор Рыжиков историю болезни. Вывих плеча, перелом ключицы, трещина левой височной кости, гематома, прогрессирующий отек головного мозга… Все как у людей. Опоздай прорубить в черепе окно для декомпрессии, и… некому сейчас было бы вешать люстру, которую задумал доктор Рыжиков вместо казенных плафонов. Очень уж он их ненавидел.
Через день в новеньком, чистеньком, аккуратненьком флигельке снова начали долбить стены.
– Я думал, у нас будет отдельное государство, – мягко улыбнулся Сулейман. – А у нас все как у всех. Сперва строим, потом стены бьем… Я думал, это строители виноваты, а это, оказывается, воля аллаха.
– Закон сообщающихся сосудов, – ответил сверху запыленный доктор Рыжиков, который искупал вину, лично пробивая зубилом и молотком дырку в стене. – Все мы… немножко… лошади…
– Древние лошади, – еще мягче улыбнулся Сулейман.
Доктор Рыжиков с поднятым молотком чуть внимательнее посмотрел на него с табуретки.
– Мне кажется, вы что-то задумали, – мелькнула в его голосе тревога.
– Пока не беспокойтесь, – мягко сказал Сулейман. – Можете добивать дырку.
– Вы бы с той стороны последили, – попросил доктор Рыжиков. – Чтобы стена не треснула.
– Она уже треснула, – успокоил его Сулейман. – Но я отсюда не уйду. Я уйду только с вами. Вы сколько уже месяцев носите временную пломбу?
Доктор Рыжиков стал похож на каторжника.
– Лев Христофорович будет ждать хоть до утра, – сказал конвоир подконвойному. – Он сказал, что, если вы почувствуете хоть малейшую боль, он даст вам вырвать свой золотой зуб.
Доктор Рыжиков бил все беспросветней, к тому же заметно замедленней. Будто решил остаться на этом табуретном постаменте действующим памятником самому себе. Лишь бы подальше от мягких, сильных, приятно пахнущих зубоврачебных рук Льва Христофоровича.
Но и сторож у подножия этого памятника тоже, видно, устроился на века.
33
– Ну… Брось костыль, не бойся! Будет держать! Да будет, будет! Ну, я тебя подержу, только отпусти костыль!
Но Жанна впилась в ручку костыля до белых пальцев.
– Отдохнем, – сказал доктор Петрович. – Подогни ноги и повиси. Как на качелях. Покачайся. Вот так, попружинь. Нравится?
Жанна разулыбалась, елозя по полу вялыми ногами.
– Вот так и мы на парашютах… Висишь и песню поешь: «Нам разум дал стальные руки-крылья…»
– Кто вам дал стальные руки-крылья? – мягко осведомился Сулейман.
– Разум! – твердо ответил доктор Рыжиков.
– Извините! – мягко, но непреклонно сказал Сулейман.
– Нет, это вы извините, – мягко, но непреклонно сказал доктор Рыжиков. – Именно разум.
– Когда вы висели на парашютах, вы пели, что не разум.
– А кто же тогда? – в лоб спросил доктор Рыжиков.
– Кто-то другой, но не разум.
– Так вот! – вложил все ехидство, на какое только был способен, доктор Рыжиков. – Сначала, в первом варианте, стальные руки-крылья дал именно разум. Вы, Сулейман, еще молоды, чтобы это помнить. Вы помните второй вариант, в котором руки-крылья дал кто-то другой. А вместо сердца – пламенный мотор, не так ли? А потом снова разум.
– Тогда извините, – мягко улыбнулся Сулейман. – Больше не буду никогда. – И глубокая искра в темных глазах.
– Почему же никогда? Врачи не говорят: всегда и никогда, – великодушно разрешил победитель. – Ну что? Смотри, как хорошо пошла без костылей! Костыли-то забыла! Ага, ага! Перебьешься!
Он подальше убрал костыли, к которым потянулась Жанна. Она балансировала на страховочном поясе. От пояса уходили к потолку мощные резиновые жгуты. Там надежные рельсы, уложенные в стены, служили кран-балкой. Из-за них и разгорелась запоздалая перестройка. Страховочное устройство ездило по ним на колесиках. Таким был первый выход Жанны в свет.
– Дайте! – потянулась она к костылям, чувствуя себя без них позорно беспомощной, как без одежды.
– Держи! – протянул он их. – Молодец, хорошо постояла. Теперь домашнее задание – пять раз туда и обратно.
– Без костылей?! – ужаснулась она.
– Сначала с костылями, – смилостивился он.
Сам себя, с новыми зубами во рту, он ощущал не меньшим героем, чем после самой ярой рукопашной на границе Австрии. Только старался не замечать ехидных искорок в дружелюбных глазах Сулеймана: да, мол, знаем мы таких героев, немало видели. Сулейман висел на шведской стенке, вделанной в стену, и добродушно побалтывал ногами.
– А я пойду, – вздохнул доктор Рыжиков как-то особенно неопределенно. – Опять не в свою функцию нос совать…
– А если я упаду?! – воскликнула Жанна, боясь остаться одинокой.
Тут же в двери молча выросла непоколебимая Сильва Сидоровна, уже совсем сюда переселившаяся на крохотную зарплату. Никого другого пустить на это единственное место при докторе Рыжикове она не могла.
– Может, я с вами? – разделил его решимость Сулейман. – Люди бывают разные, Юрий Петрович…
– Нет! – сказал доктор Рыжиков твердо, еще раз почерпнув мужество в своих новых зубах. Выдержав такое, человек становится способен на многое. – В такую разведку идут одиночки. И гибнут, никого не выдавая.
Все благоговейно притихли, провожая его на неизвестный подвиг.
– Иду в универмаг выбирать люстру, – решил он замести напоследок следы. – Разве не гиблое дело?
…Буквально через час в него стреляли. Подло, неожиданно, из-за угла.
Сверкнуло во тьме красноватое пламя, хлопнул по ушам знакомый звук, ударила волна паленого.
– Ой! – крикнул кто-то.
– Бежим! – отозвался другой.
– Стой! – грозно предупредил доктор Рыжиков, которого на сей раз пуля убоялась.
Один злоумышленник все-таки проскочил у него между ног на свободу. Но второго он ухитрился зажать между кирпичным забором и углом дома, пользуясь для этого картонной коробкой, в которой звякнуло что-то хрупкое. Это и была люстра, купленная только что в универмаге. Не из дорогих, давно присмотренная и выношенная в мечтах об уюте в отделенском коридорчике, благодаря чему он сразу заиграл бы как лишнее обжитое помещение, а не как пресловутые больничные коридоры. Денежки он потихоньку утаивал из внеочередных выездных, чувствуя себя грабителем родной семьи, в свою очередь мечтавшей о телевизоре или о магнитофоне. Словом, кругом преступник. Но уж больно заманчиво представлял он вечера под этой люстрой в тесном кругу родимых больных. Или на старость потянуло к уюту?
Но в борьбе размышлять было некогда. Каждый звереныш в капкане первым делом начинает отчаянно биться. Поэтому в коробку, служившую сейчас прессом, молотили и кулаками, и головой, и чем попало. Каждый такой удар болезненно отзывался в сердце доктора Рыжикова, но он не ослаблял давления. Что там осталось, в коробке, после этого – лучше не думать. Противник был не из тихонь. Уже зажатый намертво клешней доктора Рыжикова, он был готов, как ящерица хвост, оторвать и оставить врагу свою руку. И извивался до последнего. Лишь колоссальный перевес сил помог доктору Рыжикову постепенно, давлением и терпением, утихомирить пленника. Когда сопротивление утихло, доктор Рыжиков пропыхтел:
– Где пугач?
– Какой пугач! – снова задергался «язык». – Пусти! Че пристали! Мне домой надо!
Голосишко был сварливый, безотцовский.
– Ну нет! – хватка у доктора Петровича была еще та, десантная. А хирургические пальцы – чуткие, как миноискатель. – Пока не отдашь, не пущу!
– Нет у меня, Сережка утащил! – Пленник стал хныкать. – Пустите, силы больше, да? Силы больше? Мне домой пора!
– Тебя, брат, из дому и выпускать нельзя! – заверил доктор Петрович, чуть ослабляя нажим. – Придется отвести тебя к родителям, пока целый. А то получат потом без пальцев или без глаза… Ну-ка пошли, показывай, где живешь!
– Не пойду! – снова забился пленник. – К мамке не пойду! Не надо к мамке, дяденька! Это не я!
Но доктор Рыжиков был неумолим. Слишком много пробитых голов, выжженных глаз, оторванных пальцев прошло перед ним. Если хоть что-то из этого неминуемого потока можно было предотвратить, он должен был превращаться в непробиваемый камень. Поэтому он каменно сказал:
– Пугач на бочку… или идем к матери!
Видно, это было слабым местом в оборонительных рейдутах.
– Сережка утащил, дяденька! Правду говорю! Не надо к мамке!
– Тогда шагом марш за Сережкой. Где он засел? Пока не разоружимся, не выпущу!
Крепко схваченный воротник мальчишкиной курточки подтверждал, что это так.
– Подождите, дяденька, отпустите! Может, тут уронилось?
Чуть-чуть приотпущенный он нагнулся и быстро-быстро зашарил по земле, меж битого кирпича и бутылочного боя. Нашел то, что надо, и выпрямился: вот!
В ладонь доктора Рыжикова легла латунная трубка, оснащенная толстой резинкой и гнутым гвоздем, – простейший самопал, десятилетиями стоящий на вооружении уличных и дворовых команд. Незаменимый в воспитании отваги, как мосинская трехлинейная винтовка. Только винтовка давно уступила место в строю автоматическому оружию, а самопал оказался редкостно живучим. Видимо, в силу еще более удачной конструкции.
– Так я и думал, – рассмотрел он под фонарем свой трофей. – Для тройного заряда. Ну куда вы лезете, куда вам надо? Ну почему наши вам не подходят – надежные, опробованные, безотказные, еще до войны испытанные и поставленные на конвейер? Обязательно надо увеличивать заряд? Прямо как в мировой гонке вооружений!
Во время этого увещевания стрелок, как и следовало, бесследно исчез. И проникновенные слова доктора Петровича всуе тонули во тьме.
Ладно, вздохнул он, все же исполнив свой воспитательный долг. И пошел к дому, сверившись с адресом по бумажке. Однако за несколько шагов до подъезда откуда ни возьмись вынырнула фигурка стрелка.
– Дяденька, не ходите к мамке! Я больше не буду! Честное слово даю! Не ходите, дяденька!
Доктор Рыжиков и думать не думал идти к его мамке. Он встал и объяснил со всей толковостью, что договор есть договор и он его намерен соблюдать по всем пунктам.
Но в подъезде мальчишка не отставал он него. А когда доктор Рыжиков постучал в совершенно постороннюю, на его взгляд дверь, вообще зашелся и вцепился в докторский рукав:
– Обманули! Не ходите, дяденька! Мамке кричать будет, что опять из-за меня заболела! И что помрет из-за меня! Я, честное слово, не буду! Обещали же не ходить! А сами обманули! Мамка драться будет, а пугач и не мой!
Доктора Рыжикова наконец осенило. Стрелок оказался сыном соседки-свидетельницы, к которой он набрался мужества пойти. Мужество требовалось не для того, чтобы от кого-то отбиваться, а для того, чтобы подступиться к издерганной, видно было в суде, и лжесвидетействующей женщины. До чего мучительное дело. Кроме того, он не имел права быть частным сыщиком. Но право быть гражданином, который может задать любому гражданину страны любой справедливый вопрос, он имел. Как задать – еще не знал, но знал, что имел. Просто прийти и спросить: «Почему вы с женой Чикина обманываете суд?» Проще простого, но это ведь надо, чтобы язык повернулся… Назвать незнакомого человека обманщиком – тоже надо храбрости набраться. Да еще если человек подозревается в неврастении.
С такой кашей в голове доктор Петрович подступил к соседкиной двери. Не успел он объяснить мальчишке-самопальщику, что дело вовсе не в самопале, как дверь открылась и они оба предстали перед хозяйкой.
– Опять! – сразу потянулась она к сыновнему затылку, чтобы отвесить авансовый тумак. – Снова нахулиганничал, ирод недоношенный! Дня прожить не дает, чтобы не привели! Что сегодня наделал?
– Ничего не наделал! – заслонил доктор Рыжиков собой маленького и вечно виноватого спутника. – Никто его не привел, я к вам по делу… Он сам по себе, я – сам по себе…
Она отвесила бы тумак и доктору Петровичу по боевой инерции. Она заслуживала сильного снисхождения. Мальчишка, пользуясь защитой и горя любопытством, прошмыгнул в единственную комнату, в угол, где стоял простой квадратный стол с клеенкой, покрытой многочисленными кляксами. Чтобы не прогнали, стал с озабоченным видом извлекать из трепаного портфельчика чернильницу, книжки, тетрадки.
– Спасу нет на ирода! – оправдывалась мать, пока доктор Петрович оглядывался. – На школьном чердаке пожар зажег! Дохлую кошку учителю в портфель сунул!
– Это не я! – соригинальничал от из своего угла.
– Морда ты шкодная, морда шкодная! – метнулась к нему мать с чем-то кухонно-деревянным в руке, от чего сын юркнул под стол. – Пусть лучше в колонию заберут, пусть сам горя хлебнет, узнает, почем добро стоит! Ведь сыт, одет, обут! Чего еще дураку надо? Сколько прошу: Женька, Женечка!
Женька из-под стола метнул в доктора Рыжикова умоляющий взгляд: неужели продашь? Доктор Рыжиков подал ему чуть заметный знак рукой: не дрейфь!
В ответ не его уговоры, что ничего такого не случилось, она все же заплакала, ушла на кухню, высморкалась там под краном, умылась, вернулась с покрасневшими глазами, заглянула в буфетное зеркало, нервно засмеялась, взяла губную помаду. Тогда по какому вопросу?
Доктор Рыжиков уже понял, что она срывается без всякого предохранителя. Но даже не это остановило его от рокового вопроса. Обвинить при мальчишке его мать в лживости – это уже надо и самому быть конченым садистом. Вот именно, врачом-палачом. А что тогда придумать? Он неловко топтался у порога.
С довоенных времен доктор Рыжиков врал туго, если дело не касалось прямой врачебной тайны. Прийти-то сюда ему действительно нужна какая-то причина, а не откуда ни возьмись. Он даже испугался, что она вспомнит его по суду и уличит в сообщничестве с подсудимым, но ее память была, видно также ослаблена, как и нервы. Не имея на то никаких полномочий и прав, он пробормотал что-то насчет родительского комитета, который проверяет гигиенические домашние условия учеников (даже неизвестно, какой школы). Уши у него горели под серым беретом как фонари.
Услышав про родительский комитет, Женькина мать всячески засуетилась вокруг Женькиного стола и Женькиного рабочего места. Начала переставлять дешевые вазочки и статуэтки на буфете, придавая комнате больше уюта. «А что домашние условия? Домашние условия как у людей», – приговаривала она ревниво, отводя невысказанный упрек в недостаточном старании создать эти самые условия.
Женька уже вылез из-под стола и сел у окна, сурово выпрямившись и даже несколько закостенев. Похоже, он не ждал от этой темы ничего хорошего.
– А вы кем работаете? – осторожно спросил доктор Рыжиков.
– Посудомойкой в «Юности», – резко ответила она, понимая, что посудомойка – не кандидат искусствоведения. – Кем же еще? Вот руки, видите, до мяса разъедает. От химии с горчицей. Одно благо, что через день. Не знаю, сколько еще выдержу. Обещают в разделочную перевести… – Она значительно поджала губы, давая знать, что тоже кой-чего стоит. И показала руки, изъеденные горчицей и химией.
– А сколько зарабатываете? – Доктор Рыжиков решил, что родительский комитет так родительский комитет.
– Семьдесят пять новыми оклад, – села она, показав все, необходимое для домашних условий. – И ноги преют в резине. У нас у всех, девушек-мойщиц, даром потом ревматизмы? Кто в зале и в кухне, совесть совсем забыли. Работа чистая, на людях, крахмальные фартуки, чепчики… В день по тридцатке можно хапнуть. Без мяса настоящего, а не каких-то там костей, со смены не уходят. А нам, мойщицам, если раз в год курочку дохлую дадут или гнилых мандаринов, так потом год попрекают…
Женька Рязанцев сопел от стыда. Он стиснул зубы. Нет бы сидела молчала. Мало, что суется со своими руками, так еще и с ворованными курами. Только и разговоров, кто да что спер из ресторана. Болтайте при своих, а при человеке зачем?
– Ну хорошо, – пришел ему на помощь доктор Рыжиков. – Понятно. А на учебники хватает? На тетрадки?
– А нам бесплатно выдают, – похвасталась она. – И половинное питание. Как малообеспеченным. Если бы хоть алименты шли, а то как гавкнулся четыре года, так ни слуху ни духу… Может, бабу нашел, живет как у бога за пазухой… Лучше бы сразу под поезд, чтоб пополам переехало…
И снова перешла от слов к слезам.
Женька содрогнулся от алиментов, как от ожога. Он ненавидел это унизительное слово. Пора было кончать его мучения. Но доктор Рыжиков не знал, с какого бока. «Если бы кто-то отказался от своих показаний… – преследовал его голос одного криминалистического чина. – Это можно было бы рассматривать как вновь открывшееся обстоятельство…» Если так можно выразиться на их крючкотворской тарабарщине. «Если бы кто-то…» Женькина мать этот «кто-то» и есть. Та самая соседка Чикиных, которая все видела и слышала. Что в таких случаях говорят, доктор Рыжиков просто не знал. «Правду вы сказали или нет?» Да ему просто в рожу плюнут после таких слов. Потому что про себя каждый точно знает, что он-то говорит самую правду.
Он потоптался у порога. Может с Женькой нужно позаниматься, подтянуть предметы, посодействовать в чем?
– Уж вы посодействуйте! – обрадовалась мать. – Уж вы возьмитесь за него! Человек-то порядочный, сразу видно. Может, вам курочку импортную для семьи надо или помидор банку болгарских?
34
– Но самое поразительное, что нас с вами просто не существует, – сказал присутствующим доктор Рыжиков.
Присутствующие осмотрели друг друга. Сулейман, Сильва Сидоровна, рыжая кошка Лариска, доктор Коля Козлов, преданно глядящий Чикин. Каждый был вполне видимым.
– Ремонт-то здесь должен начаться только будущей весной. А наше скудное оборудование дадут в третьем квартале. Или в четвертом. Еще не решили. Мы с вами стоим в безглазой развалине без пола и без стен, где свистит холодный осенний ветер…
– Привидения в замке Лукича, – четко сформулировал Коля Козлов. – Вообще-то обмыть надо. А то с покойника начнете.
– Типун тебе на язык, тьфу! – вырвалось у Сильвы Сидоровны.
– Вот это и есть подпольное предприятие, – мягко сказал Сулейман. – А вы спрашивали, откуда они все берут. Теперь у вас будут спрашивать. То есть у нас…
– А мы свои фонды получим и вернем долги, – пообещал доктор Рыжиков. – Больному Самсонову сообща печку отремонтируем, забор восстановим…
– По мордам мы получим, если не обмоем, – убежденно сказал доктор Коля.
Сильва Сидоровна бросила на него один из самых своих свирепых взглядов.
– Вот свой и приноси! – огрызнулась она в дурном предчувствии траты сокровенного спирта.
– А у вас в Баку, как там, – с интересом посмотрела рыжая Лариска на Сулеймана, – насчет подпольных сумочек – водятся?
– Не смотрите на него так огненно, Лариса, – предупредил доктор Рыжиков. – Он скромный честный труженик и с мафией не связан. Примерный семьянин.
– Да не нужен он мне, – тряхнула она рыжими кудрями. – У меня муж пока дома… Мне сумочка нужна. Из крокодиловой кожи.
– Пожалейте крокодилов, Лариса, – заступнически вздохнул доктор Рыжиков. – Они и так льют крокодиловы слезы.
– А вот крокодилы, между прочим, вас не пожалеют, – ответила она дерзко, по отношению к своему прямому начальству. – Ядовитовна вчера на планерке сказала, что этот домик ей нужен для физкультурной терапии. У нее больные, мол, ведут неподвижный образ жизни, это им вредно, а упражняться негде. А тут такое помещение со шведской стенкой простаивает, неизвестно, когда понадобится.
– Надо начинать операции, – командирским голосом сказал доктор Рыжиков.
Собственно, это он вел свое первое оперативное совещание. И все, что он тут говорил, подразумевало то, что говорят в таких случаях начинающие и бывалые руководители. Что надо быть внимательным к состоянию больных, вежливо с ними обращаться, соблюдать производственную дисциплину, беречь казенное имущество и экономить лекарства и перевязочные материалы.
– Значит, жметесь? – спросил Коля Козлов по существу дела и нехотя полез в карман брюк под халат. Оттуда появилась бутылочка-четвертушка, очень удобная для переноса. – Мензурки хоть у вас есть?
Первой жертвой был намечен Чикин. Для облегчения головы ему надо было разорвать какие-то спайки методом продувания воздуха через позвоночник, если так можно выразиться. Может, и лицо станет не таким уж багровым. Чикин молчаливо согласился быть первым. Его благодарность могла пойти и дальше. Кроме того, от него требовалось находиться в эту ночь при Жанне, пока Сильва Сидоровна додежуривает на старом месте, и никому постороннему ни под каким видом не отпирать ночью двери. Пароль: «Нет ли свежих бараньих голов?» Отзыв: «Имеем только свежие позвонки».
– Вот теперь все тик-так, – вытер Коля Козлов рот своей белой докторской шапочкой. – Всего пятнадцать граммов, а спуск на воду по полной форме. Теперь не утонет. Можете начинать навигацию.
На прощанье доктор Рыжиков нечаянно спросил у первой жертвы:
– А эта соседка ваша… свидетельница…
– Рязанцева? – с какой-то вдруг надеждой спросил Чикин.
– Зачем ей врать-то надо было? Она с вами ссорилась?
Чикин развел руками. Лоб пересекла морщина недоумения. Он словно решал неразрешимую шахматную задачу, не умея играть в шахматы. Никогда он не ссорился с Женькиной матерью, никогда она не обижалась на него.
– Она вообще женщина неплохая… Сына воспитываеть старается…
Сердце доктора Петровича еще раз благодарно дрогнуло – как всегда, когда он встречался с самым достойным неумением этой жизни. Неумением держать зло.
…И весь их прекрасный план – кого оперировать первым, чтобы почин был удачным, кого следующим – рухнул той же ночью. Как рушатся многие и многие прекрасные планы.
Доктор Петрович бился в дверь своего детища, забыв про отзыв и пароль. Чикин, наоборот, про пароль хорошо помнил о ожидал указания насчет свежих бараньих голов. И даже начал благородно подсказывать, так как узнать-то он доктора Рыжикова узнал, но опасался пострадать за нарушение устава. Но доктор Рыжиков в сей раз был неузнаваем. Он только ломал дверь плечом и повторял: «Откройте, Чикин!»
Чикин, чуть не плача, открыл.
В операционную бегом пронесли носилки с неподвижным телом. Пробежала Сильва Сидоровна, оставившая основное дежурство. Подожгли протертый спиртом операционный стол. Он горел синим пламенем. Чикин лично включил ускоренное кипятильное устройство, сооруженное им в подарок отечественной хирургии.
То ли все другие операционные места в городе были тогда заняты, то ли кого-то в другом месте не добудились, то ли просто без доктора Петровича снова не обошлись, но студента железнодорожного техникума, который выпал с четвертого этажа общежития, он приказал нести сюда.
Студент ударился о цокольный выступ подвала, потом его швырнуло на асфальт. В больницу его везли испуганные девушки. По дороге он пришел в сознание. Девушки плакали и спрашивали, что ему сделать. Он говорил, что ничего, и успокаивал их, что не чувствует боли. Он и вправду не чувствовал боли, но вместе с ней не чувствовал и ног. Все приподнимал голову и старался на них посмотреть. Девушки плакали и успокаивали его, что ноги совсем целые.
Доктор Петрович, оторванный от пенопластовых небоскребов и фонтанов пригородной зоны, взял студента за руку и посчитал пульс. Пульс был слабый. Студент спросил его, почему он не чувствует ног и не может ими пошевелить. Доктор Рыжиков ответил, что это наверное от испуга. Потом пройдет. Сколько было случаев, добавил он, когда спасались парашютисты с нераскрытым парашютом. И умолчал, сколько было случаев, когда они не спасались.
На столе доктор Рыжиков увидел, что студент уже никогда не пошевелит ногами. Мягкий светлый жгутик спинного мозга, на котором держатся все наши движения, был порван вбитым позвонком. Кроме того, все, что можно было отбить при падении, было отбито. Поразительно, что студент был в сознании. Это не влезало ни в какие учебники. Видно, спинной мозг еще и разбухал от ушиба. Доктор Рыжиков работал как каменотес, раскусывая крепкие молодые кости и освобождая от тисков пухнущую кровоточащую нитку жизни. Пот выедал глаза, правая кисть онемела и уже не сжималась. Тут нужна была армейская траншееройная машина, которая прошла бы по позвонку сверху донизу. Самое страшное было в том, что любой живой, кому так разворотили спину, должен был умереть от болевого шока. Студент же ничего не чувствовал. Не требовался даже новокаин. Ему было даже не щекотно. «Больно?» – спрашивал доктор Петрович. «Нет», – терпеливо отвечал студент в простыню. Он был темноволосый, длиннолицый, наверное, умный очкарик. Несколько раз спросил, где остались очки – там, наверху, или упали с ним.
Доктор Рыжиков видел, что все уже умерло и не чувствовало боли. Жизнь цеплялась только за сознание. Развороченная жутким рвом спина, утыканная марлями и обвешанная зажимами, тазики, полные красных тампонов. Сильва Сидоровна, подававшая инструмент, не могла отлучиться и осквернить руки, поэтому тазики освобождал и менял Чикин.
– Как я теперь побегу? – глухо спросил студент, даже не представляющий, во что превратилась его спина, и думающий только о ногах.
– Побежишь как заяц, – сказал доктор Рыжиков. – Ноги у тебя вон какие здоровые…
Ноги у студента были абсолютно целые, по-юношески гладкие, сильные.
– А я на любую дистанцию бегаю, – хотелось говорить студенту. – Хотите – стометровку, хотите – на пять тысяч…
К концу фразы он уставал и говорил совсем бессильно. Но потом набирался сил и начинал снова.
– Только пусть им не пишут… Выпишусь – сам приеду… А то примчатся…
Родителям, значит.
– Ноги целые – значит, прыгать умеешь, – через силу сказал доктор Рыжиков. – Когда мы в десантных войсках прыгали с учебной вышки, сержант нас заставлял держать между сапогами спичечный коробок…
Доктор Рыжиков знал, что он повторяется, но слышать как говорит разбитый студент, был не в силах.
– Я не нарочно, – сказал, передохнув, студент, как будто споря с кем-то. – Я только бычок бросить. Я наступил, а там…
В комнатах четвертого этажа общежития железнодорожного техникума были двери на балкон, а самих балконов не было. Не хватило балконных плит. А общежитие сдали хоть и не к первому сентября, как отрапортовали, но к возвращению студентов с сельхозработ. Двери, конечно, позабивали досками и понаделали предупреждающих надписей. Но поскольку там и форточек нет, да и вообще интересно, студенты их пораскулачивали и пораскрывали, и все сидели на закате, свесив ноги, и курили, перебрасываясь между собой с этажа на этаж спичками и сигаретами. Все прекрасно знали, что балконов нет. Но бывает, что помнишь, а на секунду забудешь. Докуриваешь, открываешь дверь, делаешь шаг… Глухое «ой» и стук чего-то мягкого внизу, на дне двора…
– Бывало и хуже, – сказал доктор Рыжиков, прекрасно зная, что хуже бывало редко. – Однажды у нас батальон на прыжках воткнулся в снежный наст. Ветер тебя дернул, хруст – и готово. Человек двести с одинаковым переломом, как бритвой срезанные… И ничего потом, прыгали… Как миленькие… Это дело поправимое…
Он должен был говорить что-то бодрое. Не потому, что правила игры, а потому что…
– А кто этот балкон… – с последним вдруг усилием сказал студент. – Он и не знает…
Больше он ничего не сказал. Его голова стала безвольно перекатываться в стороны по мере последних рывков доктора Рыжикова.
Хорошо еще, что в коридоре никто не ждал. Девочки-студентки ушли, после того как он пообещал им сделать все, что возможно. Родители еще мирно спали где-то во Владимирской области. Утешать и обманывать было некого. Сильва Сидоровна громыхала тазами и инструментом, убираясь в операционной. Кто-то из «Скорой помощи» двигал там носилками. Хорошо, если унесут до того, как увидит Жанна. Чикину было приказано следить, чтобы она ничего не заподозрила, и успокаивать ее, если она услышит царапанье в коридоре.
35
– Я тебе, Курочкин, завтра рожу шпингалеты! И еще кое-что рожу!
Доктор Рыжиков сидел под дверью, за которой время от времени кто-то что-то собирался рожать. То шпингалеты, то дверную ручку, то замазку, то, не приведи бог, оконное стекло.
Доктора Рыжикова все время толкало туда предотвратить несчастье. Но каждый раз, пока он колебался, в дверь врывались другие, и за ней начинались очередные роды – унитазов или отопительных батарей.
Доктор Рыжиков ждал. Ему нужно было неразделенное внимание хозяина кабинета. Как начинать это при людях, он не знал. Это была дверь начальника строительного управления. Рядом с ней трещала машинка. Доктор Рыжиков сначала думал, что хоть тут к начальнику вызывают по очереди, но потом увидел, что машинка чихала на очередь, а очередь чихала на машинку. Прорывался тот, кто сильнее.
Когда за дверью было решено родить семь ящиков гвоздей и сто квадратных метров «фишера», он все же решил опередить кого-то и всунуть туда голову.
Начальник СМУ, как видно изрожавшись до внутренней пустоты, натягивал плащ.
– Ну сколько тебе повторять! – осадил он доктора Петровича. – Спецовок и рукавиц я не рожаю! Иди в отдел снабжения!
Рожать гвозди и стекло и не рожать невинных мягких рукавиц – это, конечно, способность. Талант.
– Да я не за спецовками… – робко начал оправдываться доктор Рыжиков, но тут ввалилось еще пятеро, и поднялся гвалт из-за подземного перехода, который уже три года строился на главной улице. Как понял доктор Рыжиков, требовалось немедленно родить облицовочную плитку.
– Все! – закричал на всех начальник. – В горсовет на планерку! – Опаздываю! Сейчас начнут давить, сам Франк заявится. Что я им, рожу подземный переход?!
Когда все вымелись и оставался только доктор Рыжиков, начальник с порога поторопил и его:
– Если не за спецовками, то чего еще ждешь?
Видно, доктор Рыжиков был в сей раз похож на провинившегося прораба.
– Понимаете, вы строили общежитие железнодорожного техникума… – пристроился он к выходящему начальству.
– Рожал… – неохотно признался начальник, становясь неприступным, как и подобает участнику планерки в горисполкоме. – Я много чего тут рожал. Пока еще не падает. А у тебя что, упало?
– У меня человек упал, – серьезно сказал доктор Рыжиков. – С четвертого этажа общежития.
– Пусть пьет на работе, – с веселой наглецой присоветовал строительный начальник. – А после работы больше закусывает. И никаких падений. Вот мои почему-то не падают. А знаешь, почему?
– Потому, что ваши общежития без балконов, – хотел открыть ему грустную истину доктор Рыжиков.
– Ну, милый мой, – перешел начальник на интим, – это как повезет. Пришел парень к девкам, напился до смерти и из окна вывалился. Я это знаю прекрасно. Ему бы и три балкона не помогло… Ну идем, идем с миром…
Он стал нахально-ласково, по-милицейски, подталкивать доктора Рыжикова вдоль коридора, освобождая себе выход.
– Я тоже когда-то неплохо толкался, – вдруг врос доктор Рыжиков в пол, так что начальник СМУ даже ударился об его плечо. Его это так удивило, что он впервые как бы заинтересовался доктором Петровичем.
– Что-то я не пойму, – начал он подозревать, что перед ним не прораб. – А кто ты ему будешь-то? Родственник?
– Нет, я врач, – сказал доктор Рыжиков. – Он у меня умирал. Доктор Рыжиков.
– Ну и что? – нетерпеливо посмотрел начальник на часы. Был он высокий, как бы полинявший блондин с мальчишечьими веснушками на носу. – А я вот рыжий, да не Рыжиков. Зато всегда крайний. Крайний – моя фамилия. Лечиться мне пока не надо, а что вы хотите?
– Ничего, – сказал доктор Рыжиков. – Просто он у меня умирал целую ночь. Перелом позвоночника, спинной мозг весь разорван, внутренности отбиты…
– Я понимаю, – сделал подобающую мину начальник и даже попытался придать грусть своим голубоватым, навыкате, но неисправимо нахальноватым глазам. – А мне вы зачем это? Может, с памятником помочь? Вообще-то можно, но потом. Я на планерку опаздываю…
– Нет, его увезли, – сказал доктор Рыжиков. – Спасибо. Да вы идите, я по пути только скажу. Ему ничего не надо. Просто он долго не терял сознание, до самого… И не чувствовал боли, все отмерло. И еще мог говорить. Он думал, что выйдет из больницы и пойдет хоть посмотреть, из-за кого вот так люди разбиваются… Просто посмотреть, чтоб хоть знать. Ну он-то теперь не сможет прийти, я и пришел за него. Посмотрел – и пойду. Видите, я вас совсем не задержал.
– Э-э-эй! – бросил ручку кабины и поймал его за рукав начальник СМУ. – Так это вы не по адресу! Я уже в прокуратуру объяснение писал! Что я, рожу эти балконные плиты? Прикажут – я и без крыши сдам, не то что без балконов. Вы к директору техникума сходите, как он у меня выпрашивал, чтоб я его впустил! К товарищу Франку, он разрешение дал! Да он сейчас на планерке будет. Хотите, отвезу? Ну, как хотите, только нечего из меня крайнего делать!
Доктор Рыжиков вежливо освободил рукав, чтобы уйти к велосипеду. Было самое время эффектно удалиться. Но пришлось эффектно раскрыть рот, потому что, увы, велосипеда на положенном месте не было. Ни на месте, ни рядом. Его опять угнали. Это уже наверняка означало конец велосипедного сезона. До снега рукой подать, зачем велосипед в сугробах?
36
«Юрочка, там у тебя один больной… Ну, пупсик такой. Хочешь, я его у себя полечу? Процедурки назначим, ванночки, массаж… Ну чего тебе с ним возиться? У меня все условия, правда?»
Доктор Рыжиков даже не понял сразу, что коллега Ядовитовна хочет забрать к себе в заповедный коридор больного Чикина. Для рядового и ничем не примечательного гражданина, обладающего лишь таким никчемным свойством, как два высших инженерных образования, это была непостижимая честь. Доктор Рыжиков даже предполагать не мог, что там о Чикине знают как о таковом. Оказалось, очень хорошо знают. Можно сказать, следят.
Да и как было не знать, если Чикин перечинил все табуретки и тумбочки, все электроприборы и все спецоборудование в окрестностях. По первому приглашению он безотказно следовал на консультацию в любое отделение в неизменном синем халате с отвертками и клещами в карманах. Он был главным участником монтажа и наладки новой гэдээровской рентгенустановки, а также перевода главной котельной с угля на мазут.
В то же время доктор Рыжиков аккуратно отправлял обратно повестки в суд, которые приходили на имя Чикина, прикалывая к ним справки о том, что гр. Чикин продолжает находиться на излечении после тяжелой черепно-мозговой травмы.
Кстати, окончательно определилось, что лицо у Чикина теперь навсегда останется багровым, как будто он вышел из бани. Хотя он из нее выйдет не скоро.
– Может, им что-то отремонтировать там надо? – спросил он осторожно.
Сулейман ответил вежливым молчанием и искрами в глазах: мол, извините.
Тем более чикинская акула просто исходила любовью и вниманием. На случай ее появления всегда стояла наготове кровать в палате. Чикин привычно юркал в нее и накрывался одеялом по нос. После этого Сильва Сидоровна разрешала войти. Как всегда – торт, апельсиновый сок, чмок в лобик: «Ты у меня совсем здоровячок, пупсик!» Странно, что после этих ласк пупсик упорно не выбирался не только из больницы, но и из-под одеяла. И только хлопал глазами.
– Чем слаще улыбка, тем горше отрава, – объяснил Сулейман с точки зрения нравов Востока.
Когда тревоге давался отбой, Чикин выползал из укрытия. Если не было срочных ремонтов, можно было потренировать Жанну. Все балетные команды доктор Рыжиков написал для него на белом ватмане. Чикин робким блеющим голосом подавал их Жанне, подвешенной к рельсам. Еще ей для надежности поставили что-то вроде брусьев, но взяли честное слово, что не будет на них зря висеть, болтая ногами. От команд Чикина Жанну разбирал смех, как будто ее щекотали, и это мешало выполнять батманы тандю.
Чикину было странно, что, когда доктор Рыжиков узнал про это, заглянув в палату на звонкий Жаннин смех, его не отстранили от занятий, а, наоборот, велели поменьше выходить наружу и брать заказы только с доставкой сюда. Якобы из-за наступающих холодов.
Если бы доктор Рыжиков не попал в эти дни домой, он, может, и всю зиму проходил бы в своем знаменитом зеленом плаще из клеенки. Четыре головы повернулись в его сторону с некоторым отчужденным удивлением: что, мол, за человек? Только Рекс достаточно безоговорочно признал его, но и то все еще искал во дворе хозяйский велосипед, без которого и хозяин полностью был не хозяин.
– И что она ответила? – спросили за столом Валеру Малышева.
– Ну, как вы думаете, что? Вагон соломы, вот что!
Валерия чуть улыбнулась краешком высокомерного рта. Анька с Танькой заученно прыснули. Видно, кибер в этот раз ответил от души. Доктор Рыжиков обвел их слегка потусторонним взглядом.
– Ну, кто мне скажет, откуда взялось слово «робот»?
Валерия гордо пожала плечами. Анька с Танькой с надеждой посмотрели на Валеру Малышева. Им очень не хотелось проигрывать. Валера сосредоточился. Когда он сосредоточивался, вдоль лба у него складывалась толстая морщина, как у боксера-тугодума. Или штангиста-многовеса.
– Ну, я предполагаю… – медленно начал Валера брать вес. – Отец кибернетики Норберт Винер мог вложить в это слово… Ну, по-английски, может быть… какое-нибудь «рэбью…». Что-то считающее…
– Так, – постарался доктор Рыжиков скрыть удовлетворение. – А что, собственно, за слово «кибернетика»?
– Ну, это любой знает, – снова легла складка на лоб Валеры. – Это нечто вроде… «управляющее»…
– Так… – нашел свое пальто доктор Рыжиков. – Сутки на размышление. А почему парашют плавно спускается?
– Ну, это легко определить аэродинамическими сопротивлением воздуха, прямо пропорциональным площади развернутого купола, – снисходительно-научно стал поучать Валера Малышев. – Надо взять…
– По-воздуху! – пискнули Анька с Танькой такой Валериной глупости.
– Последнее, – пообещал доктор Петрович. – Как будет по-русски сказать «субпродукты» и как звали унтера Пришибеева?
– Ну, унтер Пришибеев. – Валера крепко наморщился.
Доктор Рыжиков удовлетворенно прошагал к себе. Больше ему не казалось, что против него что-то тут злоумышляют.
Родное логово встретило его приятельским оскалом черепов, челюстей и отдельных деталей черепов, выставленных на полках. Он их дружески осмотрел и стал не торопясь отбирать необходимое. Включил яркую настольную лампу, разложил под ней ватман и перенес на него строго по одной разные фигурки и лоскутки из органического стекла. Кажется, просто лоскутки, а на самом деле доктор Петрович не один и не два вечера выпиливал их под этой лампой лобзиком и напильником.
Это и были кусочки туркутюковского лба и лица, семьдесят семь раз отмеренные сообща с Сулейманом.
Еще на полке стоял очень красивый плоский кожаный чемоданчик. Доктор Петрович достал и его. Блеснула хромированная сталь. Это был детский слесарный набор, невиданный в наших краях и блестевший как хирургический инструмент. Такое можно было раздобыть только где-нибудь в ГДР, что Мишка Франк и сделал, участвуя однажды в заграничном вояже. В чемоданчик еще успешно влезли туркутюковские запчасти и разные вспомогательные спецматериалы. Розовый порошок в мешочке, запасные кусочки плекса, ну и другие там секреты.
Щелкнув блестящим замочком, доктор Рыжиков полюбовался комнатой. Его гордостью был для нее великоватый, правда, но универсальный стол: с одной стороны письменный, с другой – верстачный. И на верстачной стороне стоял будущий архитектурный приз архитектора Бальчуриса – белый пенопластовый поселок какой-то далекой отсюда неведомо-прекрасной пригородной жилой и культурно-оздоровителной зоны. Макет можно было снова везти на показ жене архитектора Бальчуриса.
Доктору Рыжикову очень бы хотелось сделать это немедленно. Может, угостят чаем с вишневым вареньем. И никакого усилия над собой, чтобы сделать разрез человеческой кожи.
Но надо было объяснить Туркутюкову закономерности рассеивания десанта при высадке из двухмоторных транспортных самолетов типа «дуглас». Туркутюков с Чикиным уже жили в одной комнате, правда разгороженные простыней. И Чикин тоже, затаив дыхание, прислушивался к воздушным приключениям доктора Рыжикова. Они втроем пили чай на половине летчика.
– Вот нас в последней операции бросили в ветер, – сказал доктор Рыжиков.
Туркутюков при слове «операция» вздрогнул.
– А если не получится? – выдавил он из себя, как всегда.
– Две тысячи девятьсот шестьдесят с лишним лет получалось, а у нас не получится? – даже обиделся за честь своей марки доктор Рыжиков.
– Две тысячи? – пригнулся под этим грузом Туркутюков.
– За тысячу лет до нашей эры в древней Индии один справедливый и мудрый… – Доктор Петрович с удовольствием опустил в чай печенье и предложил этот способ друзьям. – Один справедливый и мудрый приговаривал виноватых к отрезанию носов и губ.
– И губ?! – содрогнулся Чикин.
– И губ, – хладнокровно подтвердил доктор Петрович. – Но не расстраивайтесь. Той же ночью палач за взятку приделывал эти носы обратно.
– А губы? – Чикина почему-то волновала именно грустная судьба губ.
– С губами сложнее, – откровенно признался доктор Рыжиков, косвенно оправдывая древнеиндийского коллегу-палача.
– А откуда вы знаете? – спросил приговоренный Туркутюков.
– «Ауир Веда» – «Познание жизни», – сослался доктор Рыжиков на первоисточник. – Написал некто Суструта, хоть и древний, но очень культурный индиец. И, кстати, к его наблюдениям нравов мало что с тех пор можно прибавить.
– А красное лицо они исправляли? – грустно осведомился Чикин и вздрогнул.
В дверь постучали.
Доктор Рыжиков взглядом показал ему на всякий случай придвинуться ближе к свой койке.
Но в дверь вошел Сулейман.
– Извините, – он не удержался от улыбки, заметив поднятую им тревогу, и тут же застеснялся этой своей бестактности.
В пакете у Сулеймана было несколько больших красных гранатов и свежих помидоров необыкновенной величины. «С родины завезли, – несколько почему-то смущенно объяснил он. – Родственники жены».
– О чем здесь говорят? – Он сделал вежливый глоток из стакана, который заботливый Чикин поставил на табуретку и ему.
– О ринопластике, – ответил доктор Рыжиков. – Кстати, в Лейпцигском университете хранятся египетские папирусы, где сказано, что ринопластику делали в Тибете за три тысячи лет до новой эры…
– Какую ринопластику? – насторожились двое больных.
– Восстановление носа, – приветливо пояснили двое докторов.
Потом почему-то чисто случайно разговор повернул к судам и свидетелям. Доктор Рыжиков прочитал публике небольшую лекцию.
– Интересно, что в средневековой Руси, при Иване Грозном, доносчика так же пытали на дыбе, как и подозреваемого, – поделился он наблюдениями, как будто недавно вернулся оттуда. – Государево слово и дело – если хочешь засадить ближнего, то и сам покряхти под каленым железом.
Никогда еще доктор Рыжиков не был столь кровожадным, как сейчас, под тихим взглядом Чикина.
– Неплохой обычай был в свое время у древних египтян, – продолжил он путешествие во времени. – За лжесвидетельство заливали в горло расплавленный свинец.
Чикин вздрогнул, представив в этой сцене что-то свое.
– Римляне держали на такой случай громадного медного быка, в котором поджаривали уличенного лжесвидетеля, а его крики изнутри специальной акустикой преобразовывались в бычье мычание.
Чикин зажмурился. Туркутюков с солидарностью положил ладонь ему на руку. Он был в курсе и поддерживал. Полностью и всецело.
– Ну и греки-спартанцы не отставали. Их способ отличался спартанской решительностью. Забили в бочку с гвоздями и пустили с горы катиться…
Чикин посягнулся заткнуть уши. Очень уж он живо представлял, как с кем-то из его знакомых все это проделывают. Ему стало их жалко.
– Вы не жалейте, – сказал ему Сулейман. – Это очень полезные процедуры. Жаль, что их отменили. Вот даже доктор Рыжиков жалеет.
– Лучше не надо… – прошептал Чикин, потрясенный мучениями древних лжесвидетелей.
– И он их еще жалеет! – посмотрел вверх видит ли это аллах, Сулейман.
В дверь постучали.
Чикин пододвинулся к своей половине.
Вошла забытая ими Лариска, смесь меда с уксусной эссенцией.
– Ничего себе публика… Я дежурю, ничего не знаю, а они тут обмывают… А я паштета решила принести, поделиться. Сулейман, доктор Петрович возле больных досиделся, что от него жена сбежала. Вы что, тоже хотите? Ну-ка, подвиньтесь. Все про консультантшу небось трепетесь, облизываетесь?
37
Всем хотелось не ударить лицом в грязь перед приезжим косметологом из института красоты. Всем казалось, что она обязана, как никто, соответствовать названию своей фирмы.
Коля Козлов, например, аккуратно подстриг бородку – впервые со времени, когда начал ее отпускать.
Сулейман надел новый искристый галстук с блестящей, под золото, заколкой. Жаль, что это великолепие придется скрыть стерильным одеянием.
– Ну как? – спросили они доктора Петровича, который вел телефонные переговоры.
– Приказано начинать, – передал он. – Идет большой прием. Очередь на квартал. По ходу подойдет.
– Ну а вообще как? – вытянули свои женатые шеи Коля Козлов с Сулейманом.
– Вообще-то голос мелодичный, – неопределенно набросал образ доктор Петрович. – С глубокими грудными модуляциями. Я думаю, что-то между тридцатью и сорока…
Коля с Сулейманом переглянулись, коротко оценив каждый шансы вероятного соперника.
– А Лариса Сергеевна будет? – осторожно спросил Сулейман.
– Идет с дежурства, – пообещал доктор Рыжиков. – Сегодня комплект будет полный. Десантный батальон по полному штатному расписанию.
Машина уже закрутилась. Сильва Сидоровна сурово поставила в предбаннике три эмалированных таза для мытья рук. Кран в рукомойнике так бы и оставался один, если бы не больной Чикин. Он ловко вывел от одной трубы три крана, и это было невиданное творение рук человеческих. Правда, мыться приходилось носом к носу над маленькой раковиной.
– Вы Ларисе Сергеевне повода не давайте, – на всякий случай предупредил доктор Рыжиков. – Она женщина ревнивая, резкая. А косметолог нам нужен…
Смесь меда с уксусной эссенцией явилась тут как тут и полезла им в нос и в глаза свой рыжей проволочной щеткой. Терпеть пришлось довольно долго, так как руки им положено мыть до тех пор, пока они не перестают оставлять следы пальцев.
– Вот теперь на любое преступление можно идти, – сказал доктор Рыжиков с одобрением. – Чистота – залог удачи. Что-то Сулейман сегодня грустный, а Лариса веселая…
– Муж на соревнования уехал, – коротко объяснила рыжая кошка свой духовный подъем.
– Хозяйка плату вдвое увеличила, – вздохнул печальный Сулейман. – С сегодняшнего дня.
– Вот же клещи, – огорчился и доктор Петрович. – Это за что?
– Сезон студентов, – заработал Сулейман щеточкой по ногтям. – У каждого ведь есть соседи, Юрий Петрович. Весь вечер сидела считала, какой курдючок у соседей, и высчитала, что если пустит шестерых студентов с раскладушками, то выйдет вдвое больше. И утром объявила: пусть перс или двойную плату платит, он богатый, или выметается…
– И таких мы на войне защищали, – расстроенно взялся за свою щетку доктор Петрович.
– Если бы Сулейман был одиночкой, я бы его к себе на квартиру взяла, – высказалась Лариска в пользу бессемейных мужчин.
– А что, Сулейман, в самом деле, переходите ко мне, – обрадовался доктор Рыжиков. – Встаньте на постой, я беру недорого. Допустим, каждый вечер – по рассказу о нравах вашей родины. Я вам предоставлю свой стол для диссертации, без амортизационных отчислений… Только научите моих девок уважать старших, как это принято на вашем прекрасном Востоке…
Молчание, шуршание щеточек. Вздох Сулеймана. Чисто сулеймановский.
– Ай нет, наверное… К вам невозможно…
– Да почему это? – разволновался доктор Петрович. – Огромный пустующий дом, множество залов и комнат… Батальон слуг, охотничьи собаки и угодья… Нет, правда, Сулейман, для вас есть комната, а во дворе сад и трусливая собака. Жена и дочка будут гулять…
– Ваш дом для меня святой, – сказал Сулейман с чувством. – Только нельзя. Я хочу с вами дружить.
Доктор Рыжиков чуть не уронил тазик.
– Но где же и дружить, как…
– Извините, – мягко улыбнулся Сулейман. – Чтобы была дружба, надо каждому жить в своем доме.
– Это что, мудрость Востока? – не без ехидства осведомилась рыжая кошка.
– Это мудрость всех, – кротко сказал Сулейман.
С поднятыми руками, как под дулами автоматов, они перешли из тесного предбанника в саму баню. Правда, особым простором она не отличалась, и Коля Козлов с усилием впихивал свое скромное усыпляющее оборудование – по кусочкам и по крохам. Теснота, зато своя. Нет ничего приятнее.
– А где же эта ваша… – как можно небрежнее спросила рыжая царица бала. – Из красоты…
– Не знаю ни одной красивой женщины, – ответил доктор Рыжиков, – которая никуда бы не опоздала, а потом не пришла бы из чистого любопытства: что это они там делают…
– Я никогда не опаздываю, – обиделась рыжая кошка.
– Значит, одну знаю, – поправился доктор Рыжиков. – Так… – Он еще раз оглядел свое небольшое скученное войско, скрывшее лица за масками, свирепо блестевший инструмент, коробку с туркутюковскими запчастями на электроплитке в углу. – Начнем, братцы кролики?
Братцы кролики подобрали животы.
– Коля, пожалуйста, разверните мне это и прикрепите к этой раме…
Нестерильный Коля Козлов развернул «это» и прикрепил к «этой раме». Это был большой ватманский лист с модным в те годы сетевым графиком операции. Научная организация труда. Пункт первый гласил: намазывание зеленкой – 9.30. Индейские боевые разводы на схеме головы показывали, где именно мазать.
– Лариса, у вас рука легкая. Выполните пункт первый, пожалуйста. С опозданием на двадцать минут, как всегда. Но не по нашей вине, естественно.
Лариса смело провела зеленой ваткой по бритому, наполовину мягкому темени спящего летчика.
Когда многострадальный скальп – намного, правда, легче, чем в тот раз, – вторично отслоился от бедной головы, обвешанный сосульками зажимов, в дверь осторожно просунулся Чикин и осторожно сказал:
– Там косметолог пришли… Говорят, чтобы впустили.
Чикин при занятости Сильвы Сидоровны (операционная, она же перевязочная, она же палатная сестра) исполнял пока на входе роль часового.
Мужчины встрепенулись. Не все смогли одернуть свой наряд, как подобает при появлении носительницы идеалов красоты, – стерильными руками костюм (то есть бурый жеваный халат, уже малость забрызганный кровью) не поправляют. Только Коля Козлов (под трагическим взглядом Аве Марии) разгладил робу на груди, чтобы была видна тельняшка.
Это представлялось как рекламно-прекрасная парикмахерша или маникюрщица, какими они видятся сквозь загадочные витражи недоступных нам с улицы экстра-классных салонов. Плюс, конечно, неотразимость подлинной столичной интеллектуальности.
Тут дверь и отворилась. Любопытные взгляды уперлись в пустоту – вроде вошел невидимка. Но косметолог был не невидимкой, он просто прошел ниже взглядов.
Это была не красавица.
И более того – не женщина.
Это был маленький мужчина-горбун.
– Ну как тут у вас? – свысока спросил он бархатным вальяжным баритоном. – Черти, от такой женщинки оторвали… У вас тут водятся провинциалочки, водятся…
Перешибая все остробольничные операционные запахи дорогим и, наверное, заграничным одеколоном, косметолог вместе с нехваткой роста продемонстрировал прекрасно сшитый дорогой костюм, сногсшибательное золотое граненое кольцо со специфическим мужским рубином, золотые же запонки на белоснежных манжетах жутко дефицитной нейлоновой рубахи, красного дерева трость с резной головкой белой кости.
Тут онемел даже видавший виды старый армянский лев, клюнувший на косметолога и заглянувший на минутку. Особенно при виде шерстяного галстука с неподдельной алмазной приколкой.
– У нас тут в основном в халатах, масках и бахилах, – пробурчал доктор Рыжиков после подобающей моменту паузы.
– Ха-ха-ха! – дружелюбно и бархатно отозвался великолепный пришелец. – Ценю ваш юмор!
– Прям Черчилль… – прошептал ему вслед восхищенный Сулейман, ибо именно так, а не иначе, у них в Кизыл-Арвате мальчишки и представляли капиталистическую акулу Черчилля.
– Черт! – вернулся по-хозяйски бархатный, уже спрятавший часть своего великолепия под медицинской униформой. – С детства ненавижу нейрохирургов. И ни черта не видно… – Он встал на цыпочки, чтоб дотянуться взглядом до стола через взрослые спины. – Кто там у вас, женщина?
– Никак нет, – разочаровал его доктор Рыжиков. – Мужчина, притом изуродованный. А почему вы ненавидите нейрохирургов?
– Вам непонятно, почему? – дотронулся Черчилль до своей вечной ноши, завернув назад руку. – Это вы меня так уделали. Неплохо поправили спину, не так ли, коллега? После вас теперь только могила исправит…
– А мы вот с Сулейманом не нейрохирурги. – поспешил на всякий случай отмежеваться почтенный Лев Христофорович. – Мы стоматологи.
– А-а… – промычал Черчилль. – Это другое дело. Вы мне еще челюсть не изгорбатили.
Рот у него был, естественно, полон первосортных золотых зубов.
– А вот если бы вы тогда попали к Юрию Петровичу Рыжикову, – решила заступиться рыжая кошка Лариска, – вы бы любили нейрохирургов так же, как стоматологов.
– Тут женщина! – восхитился счастливым подарком судьбы мистер Черчилль. – Златокудрая!
Рыжие кудри Лариски на его беду выбились сзади из-под шапочки. Теперь его было не отлепить.
– Я ничего не вижу! – придвинулся он совсем вплотную к спине чуть пригнувшейся над столом рыжей лисы. – А что мне вообще делать?
– Становитесь на эту табуретку и держите мне вот этот альбом, – распорядился доктор Рыжиков. – Будете по команде открывать и показывать.
– Вы знаете, сколько час моей работы стоит? – огрызнулся оскорбленный Черчилль. – Вам что, студентов не хватает? Для этого я из Москвы ехал?
– У студентов нет такого курса – нейрохирургия, – вежливо объяснил доктор Рыжиков. – Их учат на аппендицитах.
– Вот уж не думала, что мужчины бывают капризные… – Это лукавая рыжая.
– Златокудрая, я хоть в огонь! – полез мистер Черчилль на табуретку.
Оттуда ему открылся Туркутюков во всей своей развороченной красе. Под откинутым скальпом полчерепа нет, а в этой зияющей яме еще и слюдяное окошечко прямо в мозг, в глубину мыслей.
– Да тут и не пахнет косметикой! – констатировал Черчилль. – Тут просто мясокомбинат… Какие ужасы, я никогда не видел!
– Примерьте, Лариса, – попросил доктор Рыжиков. – Нет, так не пойдет. Поверните немного. Нет, будет выпирать надо лбом, как козырек. Я слишком торопливо мерил, он нервничал… Коля, включайте!
Торжественный момент включения трофейной бормашины. И – предательское молчание. Щелк-щелк – пустота.
– Это нечестно! – уличил доктор Рыжиков. – Я зубы честно подставлял, а вы схалтурили!
Армянский лев сам бросился включать.
– Лариса! – пропел с табуретки Черчилль, глядя в альбом, как в нотный лист. – О златокудрая Лариса!
– Что вам? – спросила рыжая лиса, не оборачиваясь.
– Хотите к нам без очереди? Я пропущу вас впереди киноактрис и поэтесс, которые ждут по три года!
– Вчера работала, – сухо сказала Сильва Сидоровна. Это были ее первые слова из-под операционной маски. – Чикин сам проверял.
– Да вы же моего лица не видели, – осадила Лариска. – Может, увидите и хуже смерти испугаетесь, не повезете, а в колодец столкнете…
– Это недоразумение, Юра, неквалифицированная эксплуатация, – засуетился Лев Христофорович. – Кто такой Чикин? Кого вы тут к машине подпускаете? Юра, сын сердца и ума, не позорь меня перед людьми!
Как и все население Востока, старый армянский лев пуще смерти боялся позора.
– Хорошо, что есть руки, а к рукам напильник, – полез доктор Рыжиков в блестящий ящик со стерильным содержимым. – Теперь вместо двух минут – два часа…
– В вашем лице я почему-то уверен, – заверил мистер Черчилль рыжую совратительницу. – Оно прекрасно.
– Зачем тогда мне ваша маникюрня? – Она совсем склонилась, продевая в дырочки черепа, просверленные доктором Петровичем суровые надежные шпагаты.
– Затем, что все мечтают! – изумился он. – Какая у меня здесь очередь, не видели? Провинциалочки…
– Ушко тоже сотрется, – наводил мастер на изделии последние мазки, по-слесарному действуя стерильным рашпилем из детского набора. – Новое надо колоть. И бровь подогнуть… Внимание, товарищи апачи…
– Почему апачи? – переключился на него Черчилль.
– Потому что гуроны, – прошаркал доктор Рыжиков напильником, – племя презренное и лживое. Коварные, трусливые, неблагодарные, низкие. С черной, как гудрон, душой. А мы, апачи, полны всех достоинств. Горды, умны и благородны.
– Почему? – еще больше заинтересовался Черчилль.
– Потому что апачи помогали англичанам, а гуроны – французам. А Купер – англичанин…
– Какой Купер? – всерьез задело Черчилля.
– Который Фенимор, – познакомил их доктор Петрович. – И только в одном благородные апачи и черные гуроны похожи друг на друга.
– В чем? – спросили уже несколько слушателей.
– Скальпы они снимали одинаково: со лба на затылок. И очень ловко. А почему одинаково, хоть у них и татуировки, и перья были разные, и даже пляски у костра?
– Почему? – Теперь уже равнодушных не осталось.
– Потому что этому их научили европейцы, то есть мы. Это свинство у них завезенное, а не местное. И нечего клеветать на бедных детей природы. Они гораздо воспитанней нас.
Черчилль на своей трибуне хохотнул. Сильва Сидоровна, зачарованная его фигурой на табурете, приоткрыла рот под марлей. Ее протянутая рука с ниточкой повисла в воздухе. А уж ее-то мало чем на свете можно удивить. Почти что и нечем.
– Так, братцы кролики, – сказал доктор Петрович, когда лобно-теменной плекс был пристроен и дело подошло к основанию носа. – И все же приятнее быть творцом, чем живодером. Мы с вами можем представить, что ощущал господь бог, когда замешивал нас с вами из подручной глины. Как он сегодня хорошо себя ведет – и почти не кровит! Вот что значит правильная обработка…
– Кто не кровит, бог? – снова удивился Черчилль, которому надоело стоять на табурете.
– Откройте на страничке пять, – попросил доктор Рыжиков. – И держите повыше. Когда закончим верх, можно начать обедать. По очереди, в коридоре. Сулейман, подставляйте правую скулу…
И правая скула, заранее прокипяченная, пропаренная, проспиртованная, прислонилась к такому же искусственному виску. Примерилась. Вроде подошла. И переносица встала как в гнездышко.
– Обед – это прекрасно! – воскликнул Черчилль. – Я так проголодался!
– Тише! – метнула трагический взгляд Аве Мария Козлова.
От ее первого слова, произнесенного в эти часы, Черчилль тоже остолбенел.
– Маска с прекрасными глазами! Хотите, дам вам без очереди консультацию по красоте?!
– А как же я? – обиделась рыжая кошка Лариска. – Вы что же, меня бросили?
– Тут ходит такой здоровый парень в тельняшке, – предупредил доктор Рыжиков. – Он покурить вышел, видели? Это ее муж.
– Ну и что? – высокомерно отозвался Черчилль, как видно не любивший упоминания в своем присутствии о здоровых высоких парнях с прямой спиной. – Не в высоте счастье. И надо сразу предупреждать! А что вообще такого в консультации?.. – Его голос сорвался, как у обиженного мальчишки.
– Коля, посмотрите у него зрачки, – попросил вошедшего доктор Петрович. – Пообедали? Как там они? Как сегодня обед?
– В самый раз, – сказал Коля о зрачках и обеде.
Зрачки у Туркутюкова были в самый раз. Как будто он вдыхал не кислород с эфиром, а спал на природе, в тени цветущих лип, на траве.
– Будем зашивать верх, а потом резать низ или потом зашьем все вместе? – спросил совета доктор Рыжиков.
– Надо зашить, а то там пересохнет, – предложила рыжая ассистентша.
– Вы что, с ума сошли?! – сердито прозвучало с табуретки. – Зашьете врозь, а потом рожа перекосится! Низ и верх не сойдутся! Прикройте тампончиками аккуратно и работайте внизу! А я пошел обедать. Где это там обед?
– Если бы мы были хлорофилловые благодаря эволюции, – пустился доктор Рыжиков в свои любимые предположения, – то питались бы углекислым газом. А выдыхали бы кислород. Не надо хлеба и мяса, не надо молока и масла, хватит одного солнечного света. И у каждого на голове распускается достойная его корона. У кого розовый куст, у кого лопух, у кого лавровый венок… Тогда желудок будет как сейчас аппендикс…
Под это хлорофилловое дело он уже начал вскрывать застарелые рубцы на месте отсутствующего туркутюковского подбородка. Кряхтение возобновилось.
– Ну, у меня еще желудок не аппендикс! – похвастался Черчилль и широко зевнул. – Так где там обед?
– Сразу в коридоре увидите, – ответил пообедавший Коля Козлов. – Пароль: меняю портативный череп бегемота на бутерброд с селедкой и два кофе. Не забудьте.
– Сущий хорек, – вторично не могла не открыть рот ему вслед Сильва Сидоровна. – Глазки красные, будто кровь пьет.
– А как кровь пьют? – сменил инструмент доктор Рыжиков. – Чисто технически…
– Как будто как… – буркнула Сильва. – Все знают. Прокусит жилу и сосет.
– Какую? – дотошно спросил доктор Рыжиков.
– Кто сонную артерию, кто плечевую… Кому что нравится… – Сильва Сидоровна сочла объяснение достаточным.
– Да ну, хороший парень, – возразил Коля Козлов. – Свой в доску.
– Роскошный самец, – оценила Лариска. – Какие запонки!
– Сын затухающего вулкана и медных тарелок, – высказался за своего удалившегося шефа почтительный Сулейман.
– Сохраните-ка такой оптимизм не то что с горбом, а с прыщом на носу, – посоветовал своему окружению доктор Рыжиков, любуясь устрашающими огрызками туркутюковских челюстей.
– У кого прыщ на носу? – появился в двери Черчилль, дожевывая бутерброд с селедкой. – Насчет прыщей в носу есть гениальное средство. Одеколон «Гвоздика», концентрированный. Только вовремя, пока намечается. А если разовьется, то всё, разнесет как картошку. Так у кого это прыщ?
Никто не захотел сознаться.
– Приятного аппетита, – сказал доктор Рыжиков. – Как там обед?
– А ничего! – облизнулся косметик. – Там такая очаровательная кусачая штучка. Глаза зеленые, грудь маленькая, просто прелесть! Смотрит – будто сейчас коготками царапнет. Я это дело обожаю!
– Кстати, – посмотрел Коля Козлов на деликатно промолчавшего доктора Рыжикова, – она может и по роже.
– Что? – не разобрал Черчилль.
– У нее парень, – почти с гордостью будущего тестя сообщил доктор Рыжиков, – второе место в городе по культуризму.
– А папаша – воздушный десантник, – добавила рыжая кошка.
– Ненавижу культуристов! – отрубил Черчилль, взбираясь на табуретку.
– Скажите-ка! – явно удивилась рыжая. – За что?
– Я умных культуристов не встречал. По-моему, тут развивается обратная пропорция: чем рельефнее мускулы, тем глаже извилины.
Доктор Рыжиков не без злорадства представил при этом Валеру Малышева.
И приказал:
– Лариса, Сулейман! Давайте в очередь обедать! Скоро будет нужна грубая физическая сила.
Рыжая моментально исчезла глянуть на коридорную соперницу. Сулейман застенчиво помедлил – как оказалось, в пользу другого едока.
– А там еще остался бутербродик? – поинтересовался притихший было Черчилль. – А то заснуть можно, пока дождемся зашивания. А если я засну стоя, упаду с табуретки.
В коридоре Валерия одной рукой оттянула со рта рыжей Лариски марлю, а другой ловко заправила его кусочком хлеба с ветчиной и завершила глотком кефира. Лариска благодарно замычала и скрылась. Это был годами отработанный ритуал.
Черчилль, увидев это, тоже разинул свой огромный, как у нахального птенца кукушки, рот. Валерия чуть отшатнулась: «Нестерильные сами!» Черчилль выбрал самый большой кусок ветчины и одним глотком ополовинил бутылку кефира.
– Сколько можно?! – возмутилась Валерия. – Там еще люди!
– У них нет аппетита, – нагло заявил Черчилль. – Между прочим, мне писали благодарственные письма Любовь Орлова, Людмила Шагалова, Аллочка Ларионова. Могу прислать фотокарточки с личным автографом. А мой процедурный кабинет – уникальный по оборудованию. Неужели не хотите посмотреть?
…– Только бы не перепутать лицевые нервы, – наставлял доктор Рыжиков свой народ. – А то выйдет мимика наоборот, как у болгар «да» и «нет». Будет смеяться – как плакать, а плакать – как смеяться…
– «Человек, который смеялся»? – высказал догадку Сулейман.
– Так точно, – похвалил его за классику доктор Рыжиков.
– Вот он, наверное, настоящий компрачикос, – сказал Сулейман еще об одном представлении кизыл-арватского детства, которое, увы, совпало с обликом консультанта. – Такой шикарный… Вот это справедливо, Юрий Петрович?
– Что? – грызанул доктор Петрович щипцами особо твердую челюстную косточку. – Уф…
– Давайте я, – подменил Сулейман. – Это уже моя область. Что вы на своей работе таким потом обливаетесь, еще от страха волосы седеют… Не там… резанете… А он красивых женщин по лицу гладит… И в золоте как падишах ходит… – Последние слова он прокряхтел с трудом.
– Не жмите так отчаянно, – предупредил доктор Рыжиков. – Потом неделю кистью не пошевельнете. И вы всему верите?
– Чему? – Сулейман перевел дыхание над кровоточащим огрызком, даже отдаленно не похожим на красивую цветную иллюстрацию, сделанную рыжиковской рукой. Эту реальность не передал бы и Гойя.
Лариса услужливо запшикала промывательной клизмой.
– Что он тут хорохорится? – сделал доктор Петрович первую примерку пластмассового вкладыша. – Дайте теперь я догрызу. Это фигурная работа, резьба по кости… Уф… Вот поедете к нему сдавать больного… На отделку… Увидите обожженных… облитых кислотой… порезанных… от рождения несчастных… Их гораздо больше, чем знаменитых актрис… Просто ему так…
– Он же меня приглашал приехать! – оскорбилась за свою попранную честь первая красавица операционной. – А вы меня под замок? Разлучить хотите человека с сердечным влечением?
– Просто спасаю вас от Черномора, похитителя Людмил… и Ларис…
– Это вы свою Валерку спасайте, а то он там в коридоре заторчал, – не полезла в халатик за словом избранница номер один. – А я себя сама спасу. Когда надо будет.
– Конечно, пусть Лариса Сергеевна едет, – мягко сказал Сулейман. – Ей там интереснее. Мне как-нибудь в зубной, потом, когда-нибудь. И все равно почему у людей за одну зарплату такие работы разные? За вашу же, например, где-то сидит сейчас в машине шофер и целый день ждет начальство с совещания. Даже книжку читать ленится.
– Так уж и ждет, – засомневался доктор Рыжиков. Наверное, пока начальник совещается, он возит левых пассажиров. А значит, уже не ленится, как вы утверждаете, Сулейман, слишком пессимистично… Где у нас конский волос Сильва Сидоровна?
Сильва Сидоровна оскорбленно приоткрыла влажную салфетку, под которой на блюдечке лежал тонкий моточек.
– О! Конский волос! – уважительно заметил вернувшийся мистер Черчилль, он же Черномор. – А я думал, вы тут шелковым канатом лицо зашьете. Так вся периферия делает, а мы за ними потом перекраиваем… А что тут у вас слишком пессимистично? Кожи, что ли, не хватает натянуть?
– До кожи еще не дошли. – Доктор Рыжиков буравчиком просверливал в кости отверстие для замка и одновременно корил Сулеймана: – Видите, Сулейман, что такое без бормашины… Я вам честно зубы подставил, а вы… Отбросили нас в шестнадцатый век…
– Лев Христофорович может от огорчения заболеть! – умоляюще запросил Сулейман снисхождения. – Он уже к концу операции с новой придет!
– Тогда тем более мы тут не пессимисты, – успокоил доктор Рыжиков консультанта. – Просто мыслим в рассуждении того, что… Что жили были просто клетки. Одноклеточные, не в зверинце. Которые ядро, цитоплазма, мембрана. Клеткам надо было питаться и делиться, питаться и делиться, питаться и делиться. Ни о чем не думая. И вот что из этого получилось.
– А что? – заинтересовался мистер Черчилль.
– Ну хотя бы Минздрав для начала… Или горсовет. Заводы разные, химические и металлургические, атомная бомба, гениальные книги, «я помню чудное мгновенье», все пароходы и самолеты…
– А-а… – разочаровался Черчилль-Черномор. – Я думал, что-нибудь существенное.
– Ну как же не существенное? – попытался просветить его доктор Петрович. – Клетка – и ракетный крейсер, на котором Коля служил. Вот Сулейман до сих пор удивляется, что дальнейшее пошло такими разными путями.
– Извините, – мягко не согласился Сулейман. – Я не этому удивляюсь.
– А чему? – Консультант по красоте, оказывается, очень любил задавать вопросы.
– Тому, что одна клетка ничего не делая получает очень хорошее питание, а другая гнет спину так, как Юрий Петрович… Вот один, я видел, в Красном Кресте городском, здоровый, толстый, сидит марки наклеивает за членские взносы…
– Ну, Сулейман, на это у вас никакого удивления не хватит, – образумил его доктор Рыжиков и начал медленно распрямляться. – Ох, спина моя, спина… Неужели никогда не разогнется?
Доктор Коля Козлов, видно, отработанным приемом уперся ему сзади коленом в спину, помогая разгибу.
– Ну, это от способностей зависит, – снисходительно объяснил с табуретки мистер Черчилль. – Я вот всего сам достиг. Волосатой руки не имел. Кому нужна сирота, да еще и горбатая? Только самому себе. Я чужую ложку супа и чужую корку хлеба навек запомнил. Особенно чужие перешитые штаны… И специальность сам себе выбрал, и вкалывал как карла по двадцать часов в сутки… Писал статьи и за себя, и за прохвостов с титулами. Пока до докторской не долез, раньше трех ночи не ложился. В сорок лет коммунальную комнату получил, а то угол в Мытищах снимал… В семь утра на электричку, как пуля. Горбатая, бу-га-га… По морозу ночью в дощатый нужник, в огород. Зато понял, что лучше быть горбатым и умным, чем прямым и глупым. Зато теперь, могу и на дачу пригласить, в два этажа, утепленную, с горячей водой… Вас персонально, златокудрая. Вот уж правда, горбом нажил, бу-га-га…
– Слышали? – торжественно заявила златокудрая в спину доктору Рыжикову, выходящему съесть пирожок. – Приглашают меня! Не делайте вид, что не слышали! И нечего других примазывать!
– Кстати, у златокудрой муж – член сборной области по вольной борьбе, – оторвал задумчивый взгляд от снотворных приборов доктор Коля Козлов и многозначительно потеребил бородку. – И даже раз входил в сборную РСФСР.
– Тебя не спрашивают! – огрызнулась почему-то златокудрая швея, дернув гениальными пальцами нитку, уже привязанную к пластмассовой скуле и уходящую куда-то в угол ощеренного рта, отчего развороченное лицо, где скрепились огрызки кости и оргстекло, насколько могло подмигнуло. – Что толку, что член, если со сборов не вылазит!
– Что у вас тут за люди! – расстроился Черчилль. – То культурист, то борец, то десантник! Ни одного нормального. На консультацию не пригласишь.
– Да хоть в любовницы! – Он еще не знал, на какую нарвался. – От него все равно толку нет. Возится со своей бабой!
– Да что вы! – чуть не лишился дара речи от столь прямого поворота отступивший было обольститель. – Как можно пренебрегать такой женщиной!
– А так! – подтвердила она оскорбленно, так как тоже ненавидела всех борцов и боксеров за явную бесполезность их силы. – Набьет себе куклу песком и бросается на нее… как на… С утра начинает и ночью кончает. И то еле-еле…
– Зачем песком? – озадачился Черчилль.
– Борцовская любовь, – подсказал Коля Козлов.
– А настоящая запрещена? – растерялся далекий от спортивных хитростей жрец красоты. – А! Тренировки! Я так и понял! Бу-га-га!
– Не «бу-га-га», а лучше скажите: если я здесь натяну, ничего или перекосится? – Лариска потеряла конец нерва и рассердилась.
– Где? – оторвал Черчилль взгляд от ее вздрагивающей спины. – Не бойтесь, абсолютно симметричных лиц вообще нет в природе. Это только у роботов. Чем человек талантливей, тем лицо кривее. Слышали? Вон у вашего хирурга какой блин мятый, видели?
– Видели, слышали… – Златокудрая, согнувшись, скользила красными пальцами в лицевых мышцах Туркутюкова. – Вы по делу скажите!
– По делу ничего, можно чуть натянуть, – Черчилль с табуретки напряженно вытянул шею, – только потом не зашивайте по граням, швы чуть смещайте, чтоб углы не выпирали…
Вернулся доктор Рыжиков с полным ртом бутерброда и снова трижды вымытыми, поднятыми, как под дулом, руками.
– Смотрите, а сегодня быстро, – обозрел он поле боя. – Хоть и без бормашины, врукопашную… Ай да мы!
Шесть часов от первого разреза. Пальцы и шеи свело, пот течет под халатами из-под мышек. И все конца не видно.
38
– То, что вы видели, Сулейман, это не счастье, – грустно вздохнул доктор Рыжиков.
– Это? – покачал головой Сулейман. – Если это не счастье, то что тогда счастье? Одна заколка на галстуке знаете у него сколько стоит?
– Не знаю, – сказал доктор Рыжиков. – Я в этом не разбираюсь. Знаю только, что это не счастье, а борьба с несчастьем. Каждый, на кого оно свалилось, борется с ним по-своему. И хорошо, если борется. Разве нам лучше было бы, если бы он пришел в заплатах и слезах, смотрел на нас с упреком: вы и высокие, и стройные… И мы бы чувствовали себя виноватыми. Хоть и «я знаю, никакой моей вины…». Пусть лучше сверкает как елка и смотрит на нас свысока. Не думайте, это не просто. Это надо быть солдатом жизни, несчастьеборцем.
Сулейман посмотрел на доктора Петровича внимательней, чем всегда.
– Вы как от нас с Востока пришли, Юрий Петрович. Как у Омара Хайяма учились. Он ведь тоже сказал: «Жизни стыдно за тех, кто сидит и скорбит…» Я смотрю, вы даже счастливых жалеете…
– Да нет, я не жалею, Сулейман, – тем не менее довольно жалостливо вздохнул доктор Петрович. – «Нас не надо жалеть, ведь и мы б никого не жалели». Слышали? Должны слышать. Просто я за то, чтобы счастливых было больше. Кто счастлив, кто жизнью доволен, тот и другим добра желает. А другие – это и мы с вами…
– Извините, – Сулейман позволил себе большую, чем когда-либо, твердость. – Извините, сколько я видел, у кого все есть, тот хочет еще больше. А другим никому ничего не желает. Особенно добра.
– Это разные вещи, – терпеливо сказал доктор Рыжиков. – Я не говорю: кто все имеет. Можно иметь все, что хотите, и ненавидеть жизнь. Чаще всего так и бывает: слишком это все дорогой ценой достается. Либо унижениями, которых потом от других требуешь, либо болезнями, которых потом всем тоже желаешь. Еще Сенека говорил: необходимое так легко найдешь повсюду; лишнее нужно всегда искать, тратя душу. Или еще: природа требует только хлеба и воды, а для этого никто не беден.
– Кто? – спросил Сулейман.
– Сенека, – сказал доктор Рыжиков. – Философ древнеримский.
– Как хорошо сказал, – оценил Сулейман. – Если бы я знал, я бы так жены родственникам и ответил. А то еще думал, но слов найти не мог.
На что доктор Рыжиков окончательно заключил:
– А теперь все же идите домой.
– Извините, – мягко улыбнулся Сулейман.
– Я серьезно говорю, Сулейман.
– И я серьезно. – Теплые золотые искры прыгнули и спрятались в темных глазах. – Вы идите домой, отдохните.
– Я не имею права, – сказал доктор Рыжиков. – Идите, Сулейман, я, к сожалению, не могу вам даже полдежурантских платить за ночной караул. А вам завтра работать.
– И вам завтра работать, – мягко, но твердо не соглашался Сулейман. – Не надо меня обижать, Юрий Петрович.
– Как обижать? – удивился доктор Рыжиков.
– Вы думаете, что перс только за деньги может ночью возле больного сидеть?
– Извините, Сулейман! – попросил теперь доктор Петрович. И очень огорченно, так что у Сулеймана мелькнули в глазах его теплые искры, и от торопливо сказал:
– Это вы извините! Я учиться хожу, а знания дороже любых денег. Это я за них должен платить, а получаю бесплатно.
Посмотрели друг на друга и тихо прыснули. От такой разведенной собою торговли. Все рвутся платить, когда нечем. Посмотрим, когда будет чем…
Доктору Рыжикову было легче: он совсем переселился во флигель, принеся из дому мыло и зубную щетку. Собранного по мелким частям Туркутюкова нельзя было оставлять ни на минуту. Каждый час протирать тампончиками скованный рот, следить за дыхательными путями и за тем, чтобы он в минуту нетерпеливого любопытства не сорвал повязку и не полез к зеркалу. Клизма на ночь, дыхательная гимнастика, жидкое кормление, туалет, уколы – набиралось неотрывно на круглые сутки. Ни спящего, ни глядящего доктор Рыжиков не мог его оставить одного. А ставок всего – у него да половина у Сильвы Сидоровны. Больше не положено. Сильву Сидоровну он берег для дневных полноценных дел, ночью перебивался, отгоняя от себя то Сулеймана, то бывшую рыжую, а ныне златовласую портниху сосудов, нервов, лоскутков. Но чаще Сулеймана.
– Да что там получать, Сулейман! – вполне искренне образумливал он. – Это же скифство… Изучать надо микрохирургию, микроскоп, лазер…
– Я таких операций, как у вас, никогда не видел, – покачал головой Сулейман.
– Не насмехайтесь, – сказал доктор Рыжиков. – Я в Бурденко был на операции у Арутюнова. Знаете, что такое талант? То, что у меня выходит за пять часов с ведром крови, он сделал за сорок минут и без капли… И это после трех инфарктов, в шестьдесят лет… Нет, мы так никогда не научимся.
В редкую минуту можно было из доктора Рыжикова вырвать такой расстроенный звук.
Но чтобы подбодрить Сулеймана, он тут же поправился:
– Вы научитесь, Сулейман. У вас еще разгон впереди, а мы как пули на излете.
В глазах у Сулеймана было большое сомнение.
Проходила ночь. Тяжко стонал больной Туркутюков, в котором живая кость мучительно срасталась с искусственной.
Аккуратно, чтобы не выдать себя, посапывал больной Чикин.
Танцевала «Воскресающего лебедя» больная Жанна Исакова. Конечно, в радостном сне.
В тесном коридорчике, который служил и ординаторской, и столовой, и приемной, за маленьким столом, при настольной лампе, Сулейман писал в конспект лекцию об открытых и закрытых черепно-мозговых травмах как мирного, так и военного времени.
И диктующий, и пишущий часто останавливались, чтобы прислушаться к звукам, возникающим за одной или за другой дверью.
Под самое утро диктующий вдруг задумался и совсем не по программе сказал:
– Только не дай бог вам, конечно, увидеть все это, Сулейман… Нет, возвращайтесь в чистую стоматологию, пока не поздно… Ноль процентов смертности, от пациентов одни благодарности… Самое сложное – зуб вырвать… Впутаетесь не в свою функцию, потом всю жизнь на меня зуб точить будете.
В глазах у Сулеймана было большое терпение, дающее доктору Рыжикову высказать все. Высказать – и все равно покориться.
– А самое трудное, Сулейман, к чему нельзя привыкнуть никогда, это рисковать чужой головой, когда своя в безопасности. – Он сообщил это как самую большую тайну бытия.
– Извините… – улыбнулся Сулейман усталой бессонной улыбкой. – Для некоторых это самое большое удовольствие.
– Это только при больной психике, – совсем без осуждения сказал доктор Петрович. – Это ненормальные люди, их надо лечить…
– Ай, никакие они не больные, – у Сулеймана проскользнула даже нотка раздражения таким всепрощением. – Они как раз очень нормальные, вас еще лечить хотят… Вернее, им выгодно, чтобы таких больных, как вы, побольше было для их здоровья. Извините… Я вот не видел, чтобы кто-нибудь, как вы, так часто свою голову подставлял.
– Я, Сулейман… – Доктор Рыжиков еще раз пристально посмотрел на зеленоватое лицо Сулеймана и наконец решил доверить ему тайну своей жизни. – Я вообще живу не по праву. Раз в братскую могилу попал, но это-то со многими бывало. А другой раз просто моя смерть досталась другому. И я теперь живу за него.
Кажется, Сулейман отнесся к этому серьезно. И доктор Рыжиков выложил все до конца:
– Он был у нас самый красивый парень и на аккордеоне играл. А родом из Новороссийска. У них на Черном море все музыкальные. Мы так и думали, что после войны будет играть в джаз-оркестре Леонида Утесова. Собирались коллективное письмо писать, чтоб приняли. «Дорогой и многоуважаемый Леонид Осипович! Пишут вам бойцы четвертой роты второго воздушно-десантного батальона такого-то гвардейского воздушно-десантного полка, такой-то гвардейской воздушно-десантной дивизии. Мы все очень любим слушать зажигательные песни в исполнении Вашего джаз-оркестра. И у нас есть для Вас приятная новость. В нашей роте в первом взводе…» А нас он будет по контрамаркам пропускать. Все уже обговорили. И если в брошенном блиндаже или в разбитом магазинчике где аккордеон находили, сразу ему, на пробу. А аккордеонов там, в Европе, было тьма. Аккордеоны и велосипеды. Мы идем, остатки роты, и, бывало, все на велосипедах, до следующего КПП. Ну, там ссаживают, велики – трофейной команде, бывало, и аккордеон заберут, мы до следующего склада топаем, там снова седлаем… Но это так. Ему уже награда шла, Слава второй степени. Это за Балатон, когда немцы нам всыпать хотели. Танковая армия СС прорывалась, а у нас артиллерия с тягачами отстала, снег с дождем, все раскисло, лежим в ячейках и богу молимся. Под рукой только пэтээры да гранаты. А «королевского тигра» ничем подручным не возьмешь, не такой орешек… Вот один, здоровенный такой, вылез нам на окопы и начал утюжить. Помесил как следует, потом встал, фыркает. Может, водитель ориентировку потерял, ему по щелям весь батальон из чего только возможно садит… Потом люк в башне открылся, офицер в черном высунулся, заозирался. Ну, этого тут же и подстрелили. А люк открытый. И тут Юрка из окопчика выскочил. Недаром у него фамилия такая – Скородумов. Так быстро, мы моргнуть не успели. В одной руке граната, другой хвать за буксирный крюк, за поручень, и сзади ему на спину – прыг! В люк гранату, а сам кубарем вниз, в свой окоп. В танке ка-ак грохнет! Целая серия взрывов, да каких! Боезапас, видно, рванул. Башню оторвало, бросило набок, «тигра» горит так красиво, с черным столбом… На остальных это даже подействовало, начали пятиться, будто здесь ух какая оборона. А тут один Юрка с гранатой. Мы после боя к нему побежали, будто никогда не видели. Посмотреть, что за человек. Смотрим – ничего, такой же, как и все. Грязь с аккордеона соскребает, смеется: «Чуть-чуть бы – и аккордеон раздавил бы, собака…» Вот был какой парень. А потом шли на Вену, это в Австрийских Альпах. Слоеным пирогом. Знаете, как это? По одной дороге мы наступаем, по другой, соседней, немцы отступают, по третьей мадьяры навстречу – сдаваться целыми полками… Очень неспокойно, за каждым поворотом неожиданность, часто и мы немцев опережали, только оглядывайся… Идем, вокруг дозоры выставляем: и впереди, и сзади, и по сторонам… Вот заночевали в одной горной деревушке, утром построились, ротный дозоры назначает. А нас всего кот наплакал… Вот… Меня – в головной. Рыжикову – продвигаться впереди колонны, метров за двести – триста, ушами не хлопать, чуть что – прыгать в кусты, открывать огонь, чтобы рота услышала… Потом: «Тьфу, ты же у нас глухой, контуженый! Сам влипнешь и роту загубишь. Скородумов, пойдешь вместо Рыжикова! То же самое, уши не развешивай!» Ну, он пошел. Утро в горах туманное, противное. Каждый куст шевелится, каждый камень что-то прячет. Роту со скалы, со стенки, не то что гранатами, камнями закидать можно. Он пошел, только мне сказал: «Тогда бери, тезка, мой аккордеон, понеси, а мне свою гранату дай, у меня нет». Я ему дал гранату. Мы все по последней гранате на пузе носили, чтобы в плен не попасть. Десантников, если излавливали, страшно пытали. Бедные ребята могли конечной задачи и не знать, а из них ее выламывали. Вместе с костями… Юрий Смирнов, например, тоже был в десанте, только в танковом. Поэтому так над ним зверствовали, к кресту гвоздями прибивали… Плена мы очень боялись. Дал я ему гранату, он говорит: «Вернусь – отдам, не бойся». И… километра три мы за ним прошли, тихо было. Потом впереди – бах! Граната… Мы пригнулись и от камня к камню, перебежками, вперед, за поворот. А там, Сулейман, уже все. Юркины остатки под откосом и три немца дымятся. И еще следы – раненые уползали. Видно, прыгнули сзади из-за камня, с ног сбили. Хотели утащить или засаду нам устроить. А он успел кольцо дернуть… у моей гранаты, которое я должен был… Вместо меня. Понимаете, Сулейман?
Сулейман только опустил глаза, не вправе что-нибудь сказать.
– Аккордеон к нему в могилу положили. И больше нам аккордеоны были не нужны. Так он и погиб за меня, а я живу за него. Не по праву. И у него ни родных, ни близких, сирота из детдома. Как Матросов. Да и как многие. Так что и доложиться некому, что я, мол, за него. Как жаль, что я могу представить его лицо, а вы уже не можете. Это значит, что со мной он умрет еще раз, навсегда.
– А вы нарисуйте, – посочувствовал Сулейман.
– Пробовал, – виновато сказал доктор Рыжиков. – Не такой уж я художник. Это надо настоящий талант иметь, лицо человека – самое неуловимое… Вот дошли бы до Вены – сфотографировались, а то все в обход да в обход… Я не заболтал вас, Сулейман?
За стеной осень с глухими завываниями переходила в зиму. Ночь – в утро. Чья-то жизнь – в смерть. Но и чье-то небытие – в жизнь. Приходила и уходила боль. И надо было нести службу на этом рубеже.
– А мы разве все не такие? – подумав, спросил Сулейман, едва знакомый доктору Петровичу персидский мальчик с красиво удлиненной черной, без сединки, головой и грустными тысячелетними глазами, наверно, от бессонной ночи. – За кого столько людей погибло, чтобы кто-то жил? Извините…
Это он сказал, чтобы облегчить ношу доктору Петровичу. И доктор Рыжиков это вполне понял. Он совсем проникся и достал из стола потертую ученическую тетрадку, отнятую у Аньки с Танькой. Вид у него был такой, будто сейчас он прочитает Сулейману стихи, которые давно пишет втайне от всех. Но это были не стихи. Это был длинный список каких-то людей. Фамилия, имя, отчество, возраст, адрес, подробные примечания против каждого. Часть списка уже поблекла от давности написания, часть чернела свежей рыжиковской каллиграфией.
– Вот… – чисто по-рыжиковски вздохнул он, как перед поднятием только что скатившегося сизифова камня. – Если хотите, Сулейман, влезть в это дело по уши, то должны знать и это. Сколько людей терпит боль… Только вокруг, в нашем городе… Вы скажете: все равно они старые, давно с ней свыклись. А им многим только за сорок, самый разгар жизни. И еще сколько терпеть… А даже если старые? Их жизнь уже не повторится, вот в чем штука. Никогда, понимаете? И надо ее поддержать изо всех наших сил. К сожалению, слабых. Боль – это большая несправедливость. Огромная. У одних ее нет, а на других свалилась и неси. Она и человека искажает, и весь мир для него. Ну, мы уже об этом говорили…
– Не всех только, Юрий Петрович, – тихо сказал Сулейман. – Моя мама при самой большой боли улыбалась, когда видела нас… И говорила: «Как хорошо мне здесь с вами! Хорошо, что вы здоровые и веселые, дети, мне больше ничего не надо».
Теперь их посетила маленькая, иссушенная страшной болезнью азербайджанская женщина, давшая миру, который мог и не подозревать об этом, высочайший урок терпения боли. Ее лицо и тихий голос еще жили в представлении Сулеймана, а значит, витали сейчас здесь, как и разорванный Юрка Скородумов.
Доктор Рыжиков помолчал сколько надо, признав этим молчанием, что может и человек быть сильнее боли. И осторожно, не спугивая чувств Сулеймана, сказал:
– С кого же начинать, как вы думаете? С тех, кому больнее или кто пройдет быстрее?
Например, в одной аптеке служил старичок фармацевт. В бытность фельдшером на Воронежском фронте ему на редкость аккуратно срезало осколком авиабомбы макушку черепа. Боли особой он давно не испытывал, он ходил с незащищенным мозговым веществом, потому что все искусственные маковки и колпачки не приживались. Голова отторгала их, как капризная невеста женихов. Старичок прикрывал мягкое место тюбетейкой и всегда очень приветливо и вежливо раскланивался на улице с велосипедом доктора Петровича. Очень умненький, бодрый, аккуратненький старичок, каким и должен быть настоящий аптекарь. Доктор Рыжиков давно хотел ему помочь, потому что его просил об этом другой фельдшер, довоенный знакомый аптекаря. То есть Петр Христофорович Рыжиков. Каждый раз, отвечая на деликатный поклон, доктор Петрович вспоминал об этом, а вместе с тем о своем обещании помочь старой гвардии. И каждый раз новый экстренник занимал освободившийся клочок места в палате или коридоре.
А как же с теми, кому еще тяжелее? С часовщиком, который четверть века не может разогнуться со своим раненым позвоночником? Со школьным военруком, который, наоборот, не может согнуться и повернуться, считаясь поэтому очень грозным? Пенсионеры, бухгалтера, одна медсестра с хлебокомбината, одна телефонистка с городской станции…
– Эх, Сулейман, мне бы для них коечек тридцать… Как делить наличные полторы койки.
Он в первый раз почти согласился с Валерой Малышевым – что спасет ЭВМ. Бросил себе, как в почтовый ящик, штук пятьдесят карточек – и сиди жди ответа. Пусть она мучается, кого взять вперед: у кого дырка в черепе, кого кошмары ночью мучают или кто передвигается сантиметровыми шажками. Забить и вспомогательные данные: этот на девять лет старше этого, но зато тот – полный кавалер ордена Славы, за этого писал прошение совет ветеранов, а тот одинокий и беспомощный… Щелк да щелк, писк да писк – выплевываются пять карточек: первая очередь. Остальным снова ждать. Может, год, может, пять, может, десять. И ты тут ни при чем. Объективность электронная, пусть машина и мучается от слез и стонов.
– А что обойдется дешевле? – спросил доктор Рыжиков. – ЭВМ за пятьдесят тысяч рублей или тридцать коек по тридцать рублей каждая?
– Смотря где, – сказал Сулейман. – У нас в Кизыл-Арвате на ЭВМ стали бы резать морковку для плова. Чик-чик-чик…
Они долго, склонившись над листом, выбирали кандидатов на первые койки. Притом Сулейман позволял себе мягко не соглашаться и выдвигать тех, кто больше других нуждался в защите.
Потом, как-то незаметно, они снова возвращались к отличию перелома черепа, произведенного ударом бутылки, от перелома топором. Или перелома мотоциклиста без защитного шлема – от перелома мотоциклиста в шлеме. Если раньше, воодушевленно толковал доктор Рыжиков, мозги ихнего брата размазывались по асфальту ровным слоем, то теперь они аккуратно собираются в каске и могут служить учебным пособием. Так что никаких особых оснований у мотоциклистов шиковать перед велосипедистами от этого не появилось. Вид вполне героический, но все же шлем носи, а скорость вовремя гаси.
И сразу начал проектировать увещевательный агитплакат для городской ГАИ, водя своим карандашным огрызком по обертке тетради.
За этим их застала Сильва Сидоровна, начавшая с утра обход своих владений. Ее обход был посуровее любого профессорского, поэтому доктор Петрович машинально, как школьник, спрятал за спину изрисованную тетрадку. Сам он ничего не обходил, потому что и не уходил. А Сильва Сидоровна, нахмурившись, спрашивала о температуре и разных клинических данных, включая стул и стол. Она лишь скрепя сердце доверяла доктору Петровичу выполнение ночного ухода и разных назначений, его же собственных, потому что вообще и всегда не доверяла этого никому. И первым делом – к капельнице, потому что, «пока вы тут в собеседах, больной начнет ворочаться». Навстречу ей боком-боком из палатки – Чикин. С уткой в руках. Уже научился ставить и вынимать под соседом-Туркутюковым. С добрым утром, значит.
Да еще с каким!
– Ага! Опять сидят как сурки в норке! А там снегу навалило, все нечистоты спрятало! Красота!
Это уже золотоволосая.
По Сильве Сидоровне разве узнаешь, что там, снаружи. Снег ли, дождь ли, розы ли сыпятся с неба. А там просто жизнь идет, не стоит. И что-нибудь да ожидается. И что-нибудь происходит.
39
И не что-нибудь – близость зимних каникул будоражила город. На витринах серебрились вырезанные снежинки, у игрушечных полок толпился народ. Доктор Рыжиков тоже стал чаще попадать домой и даже пытался провести анализ Анькистаникиных дневников в предчувствии бесславного конца второй четверти. Сопротивление было отчаянным, дневники засовывались в самую глубину под кровати, забывались в школе на проверке, вытянуть, что задано на дом по истории можно было только испанскими пытками. В момент такой обреченной борьбы к Аньке с Танькой подоспело неожиданное спасение. Больше всего – неожиданное для самого доктора Рыжикова. К нему в гости пришел сивоватый и хрипловатый начальник СМУ. Застеснявшись снять прорабский полушубок и пройти в глубь комнаты, он затоптался на пороге.
– Вас на работе трудно застать. Все нет да нет… Или заняты… А дом у вас старенький, я смотрю. Ремонт давно делали? Может, помочь? Летом, по теплоте. Только заявочку в ремуправление напишите, а я там навстречу пробью. Только знать дайте… И полы перестелем. Вон совсем доски протерлись…
Анька с Танькой с восторгом воззрились на всемогущего гостя. Он почему-то решил подлизаться и к ним.
– Мы там завтра детское кафе открываем… Видели, на Урожайной? Заботимся о детях, зверушки там разные на окнах и стенах… Концерт будет, клоуны выступят… Обязательство взяли к каникулам сдать. Может, ваши девочки хотят? Вот, у меня пригласительные… Я, собственно, зачем зашел? Завтра к директору техникума давайте съездим. А то я, получается, виноват, а остальные все паиньки. А в протоколе ясно все сказано: техникум просит сдать помещение без балконных плит, временно, берется обеспечить безопасность. Товарищ Франк как председатель подписал. Я вас прошу съездить, а то все на меня.
Насколько Анька с Танькой пришли в дикий восторг от своей части, настолько доктор Рыжиков был озадачен своей. Но тут и его спас сигнал «скорой помощи». В дверь ввалилась Лариска.
– Уф, когда надо, вечно вас искать надо. Едемте девулечке ручку отхватывать! Поассиструйте, а то одна боюсь грех на душу брать…
Чтоб рыжая Лариска да испугалась какого-нибудь греха на этом свете?
…Промелькнули родители, как всегда в таких случаях поддерживающие друг друга в ночном больничном коридоре. При виде доктора Петровича с мокрым и красным от снега лицом они встали и поклонились.
– Где же это так? – с уважением посмотрел доктор Рыжиков на девочкину кисть, висевшую только на лоскутке детской кожи. – Это уметь надо…
Пока мылись, Лариска рассказала, что, кажется, как-то упал с боку на бок лист стекла, заготовленный впрок для оранжереи.
– Опять стекло, – пробурчал доктор Рыжиков. – Оранжерея… Дорого им эти цветочки обойдутся.
– Не цветочки, – разъяснила Лариска. – Нужны им ваши цветочки! Они круглый год огурцы продают и помидоры. Это самые богатые люди в городе. Миллионеры. Зимой килограмм помидоров знаете почем?
– А зимой-то зачем помидоры? – удивился доктор Петрович, не разглядевший как следует в коридоре самых богатых людей города. – Зимой соленых огурцов полно и квашеной капусты…
Снявши окровавленные тампоны, он еще раз полюбовался раной, трогая пальцем отростки перебитой косточки.
– Аккуратно-то как… И свежее довольно… Сколько прошло?
Рыжая сказала, что часа полтора.
– Что ж они ночью там стекло ворочали? Хорошее стекло попалось, острое. Как гильотиной – чик… Посмотрите, Лариса Сергеевна, где у нас там сухожилие предплечья… Мне кажется, оно где-то недалеко…
– А зачем оно вам? – сварливо спросила Лариска, поскольку заподозрила в поиске сухожилия недобрый знак. – Это у них что-то в уборной в огороде стояло, она в уборную пошла… Ну, в общем, не знаю…
– Подергаем, посмотрим… – уклончиво сказал доктор Петрович. – А вот лучевая и локтевая! Я их хорошо вижу! Хватайте-ка их!
– Что вы там видите! – струсила даже бесстрашная рыжая, всегда сторонница всякого риска. – Тут надо резать до локтя, пока найдешь – все давно омертвеет…
Тем не менее она все же вытянула из обрубка кончик туго перетянутой артерии и передала его держать доктору Рыжикову, пока сама слазила в скрюченную пожелтевшую ладонь за другим концом. «Пришивать, что ли?» – спросила она взглядом. – «Да»! – взглядом ответил доктор Рыжиков.
– Ну и впутали вы меня! – жаловалась она, выпутывая из обрывков розовых девочкиных волокон волоски сухожилий и нервочки разных сгибателей. – Авантюра! Завтра начнет гнить, тогда по локоть отхватите… Вас и заставлю…
– Как это я вас впутал? – отперся доктор Рыжиков. – Кто это прибежал ко мне среди ночи, заставил вылезать из теплой норки… Эту шкурку и медведь мог перерезать. Чик ножницами – и готово… Это вы меня впутали!
Авантюра длилась шесть часов. Уже рассвело, когда они со страхом разглядели, насколько восковые пальчики торчат из ватного кокона в конце девочкиной руки. Одинаковый страх заставил их прекратить спор, кто кого втянул, и как-то сплотиться.
– Ну, если гнить начнет, – сказала Лариска, ставшая к утру землистой, – или сепсис… Ну, мне конец! На первом обходе.
– Везите ко мне, – сказал доктор Петрович. – Давайте будить и везти. Только быстро, пока не замели!
– Уже не говоря про кость! – Куда только девалась Ларискина смелость! – Что мы с костью наделали, я просто не пойму! Кошмар, что будет! А как же ваши инвалидные места? Она же не на пару дней поселится…
Доктор Петрович оценил, что при всем желании поскорее сбагрить сотворенное с плеч долой, Лариска все же помнила истинное предназначение рыжиковских койко-мест.
– Ничего, – сказал он настолько бодро, насколько позволяли оставшиеся к утру силы. – Рука – не спина, полгода не будет место занимать… А у Жанны хоть подруга поживет, развлекут друг дружку…
В коридоре снова встали и поклонились от стены родители-миллионеры. И снова побоялись подойти. Может, потому, что не хотели вопросов о пакете листового стекла, упавшем на руку наследнице. Так доктору Петровичу и не удалось пока разглядеть самых богатых горожан.
Сам он с дежурной медсестрой и Лариской нес и носилки, на которых лежала прикрытая одеялами и пальтецом девочка. Быстро, короткими перебежками, как санитары под огнем на поле боя. Пока ей готовили кровать и простынки, подхватку для руки, он сначала не заметил, а только потом обнаружил в своем коридорчике постороннюю фигуру. Фигура пристроилась в стареньком, у кого-то списанном и принесенном сюда кресле. И, видно, даже переночевала в нем, укрывшись тем же прорабским полушубком. Это был начальник СМУ, последовавший вечером за доктором Петровичем объяснить свое дело.
– Ничего себе работенка у вас, – протер он глаза, чтобы как следует разобраться в часах. – А я думал, одни строители дома не бывают… Я вас чего жду… К директору техникума все же поедем мы с вами? А то, я смотрю, вы с меня за это ЧП спросили и как-то успокоились. Так не пойдет. Зачем этому вашему парню на моем балансе виснуть? Не пожалейте часа, моя машина. А то я, по-вашему, самый рыжий…
Доктор Рыжиков вспомнил, что фамилия самого рыжего была Крайний. И что в первом разговоре его тон был совсем не таким. И эти ночные просящие нотки совсем не подходили к его юридической невиновности…
40
– «Следующий, кричит заведующий!» – сказал Валера Малышев. – Болконский Андрей. Мужчина?
– Да! – крикнули Анька с Танькой.
– Молод? – спросил Валера.
– Да! – воскликнули младшие сестры под снисходительным взглядом рассеянной старшей.
– Холост?
Анька крикнула «да!», Танька – «нет!», после чего они заспорили и чуть не подрались.
– Эрих Мария Ремарк! – подлил масла в огонь ведущий. – Мужчина?
«Нет!» – крикнула Танька. Анька крикнула: «Да!»
– Молод?
«Да» и «нет». И снова чуть не драка.
– Мария разве может быть мужчина?! – чуть не плакала уличенная в неправоте Танька.
– Че это они? – озадачился Женька с порога.
– Не бойся, – подтолкнул его доктор Петрович.
– А я и не боюсь! – по-цыплячьи выпятил грудь Женька. – Кого тут бояться, подумаешь…
– Примите в вашу шайку нас, мы с ним ребята первый класс, – попросил доктор Рыжиков.
Женька тревожно оглянулся на Рекса, который тревожно озирал Женьку с веранды из-под доски с обувью.
– А что вы умеете делать? – надменно подняли брови на хилое Женькино пальто Анька с Танькой.
– Ежей давить, петухов потрошить, посуду бить, котят топить, – честно признался доктор Рыжиков.
– Тогда идите в сад и войте на луну, – жестоко приказала Танька.
– В саду холодно, – остановил доктор Рыжиков за шиворот попятившегося Женьку. – И наши слезы будут превращаться в льдинки.
В углу комнаты стояла еще сырая елка, пахнущая скорым Новым годом. Повсюду валялись игрушки. Очень хотелось здесь остаться.
– А крокодильи слезы не замерзают, – сказала жестокая Анька.
– А как звали унтера Пришибеева? – спросила глумливая Танька. – И как по-русски будет субпродукты?
– Подумаешь! Агафон Никифорыч, – неожиданно пробурчал Женька.
Все повскакали с мест и обступили его.
– Че я, елка, что ли? – насупился он.
– А субпродукты – требуха! – торжествовал доктор Рыжиков. – Знай наших, Женька!
Их приняли. С Женьки сняли его старенькое пальто, которое он отдавал с большим сомнением, внимательно проследив, куда его дели. Всем хотелось поскорее узнать, откуда он знает, как зовут унтера.
– Подумаешь, я в драмкружке его играл… – открыл он еще одну свою тайную слабость. – А вы че, елку украшаете?
– Украшаем! – сморщила нос Танька. – Хочешь, и тебя украсим?
– Я тебе так украшу… – начал Женька потихоньку осваиваться.
Черепа ему понравились. Он их ничуть не испугался, а даже ласково погладил, сказав: «Ух ты, черепушечки…» Пощелкал черным ногтем в костяные лбы, поцокал языком.
– Это бывшие люди? – спросил он доктора Петровича.
– Один бывший, – показал доктор Рыжиков настоящую кость. – Остальные, может быть, будущие…
– Какие будущие? – насторожился Женька.
– Которым эти запчасти поставят, – объяснил доктор Рыжиков.
– Ой, и мне можно? – восхитился Женька.
– Если череп самопалом разнесет – можешь рассчитывать, – пообещал доктор Рыжиков.
Женька пощупал свою голову, чтобы убедиться в ее прочности.
– Не разнесет… А он кто был?
Реальный череп не давал ему покоя.
– Не знаю, – вздохнул доктор Рыжиков чисто по-рыжиковски. – В анатомичку попадают сложным путем. Может, из каких-нибудь раскопок… Может, неизвестный, неопознанный…
– Может, мой папка… – чисто по-рыжиковски вздохнул Женька Рязанцев, поглаживая отполированную многими ладонями лобную кость. – Тоже где-то потерялся. Сам из дому тю-тю, а паспорт бросил… Тюкнули где-нибудь, а документов-то нет… Правда же?
– Нет, – сказал доктор Рыжиков. – Это не твой отец. Твой отец живой-здоровый. Может быть, это твой прапрадедушка какой-нибудь… Но, может быть, и мой…
– Вот бы красный фонарь в него всунуть и постучаться в окно! – переключился Женька с философского лада на практический.
– Неплохо… – одобрил доктор Рыжиков, не посчитав нужным добавить, сколько лет назад, еще до войны, этот метод опробывался под обывательскими окнами. Кем – не стоит уточнять. Все мы немножко лошади.
За чаем, когда елка уже блестела и сверкала как царица. Женька вдруг надсадно закашлялся. «Куришь?» – спросили его. Он помотал головой, вытер слезы. Анька с Танькой быстро вскочили и побежали к его пальто. Женька не успел даже дернуться, как они весьма ловко (опыт борьбы с курением мальчишек в классе) вытряхнули из карманов горсть табака, две мятые «памирины» и два обугленных чинарика – НЗ.
– Вот это ну! – удивился Валера Малышев. – «Памир» теперь даже солдаты не курят.
Женька насупился и пробурчал что-то вроде того, что если не воровать, то где наберешь на «Приму». Ему назначили штраф – заучить на выбор один стишок Бернса, если он так любит самодеятельность. Прочитано было следующее:
И:
Женька долго хихикал, потом с удовольствием повторил их по пять раз каждое. Но тут ему испортили весь компот, начав запоздало стричь ногти и мыть уши, не допуская без этого унижения к зефиру в шоколаде, принесенному Валерой Малышевым от товарищей-кибернетиков, ездивших в командировку в Москву, где тогда его еще было навалом. Конечно, не для Женьки Рязанцева и даже не для Аньки с Танькой, хотя и их симпатии немаловажны, Валера нагружал товарищей. Но за улыбку, озарившую высокомерное лицо Валерии, он был готов пожертвовать добычей и скормить ее даже Рексу.
Это было, конечно, полное оскорбление личности. Но зефир в шоколаде велел терпеть. «Сойдет в темноте…» – сказал Женька, ощутив во рту таяние первого зефирного кусочка.
– Ну, поняли, что такое алгоритм? – спросил Валера Малышев.
– Поняли! – закричали Анька с Танькой. А папа – мужчина?
И ответили сами себе: «Да!»
– Молод?
Анька крикнула «да!», Танька – «нет!», после чего они поспорили и чуть не подрались, но потом помирились и хором спросили:
– Холост?
– Да! – Анька.
– Нет! – Танька.
– Ты что, дурочка, что ли? – дернула ее Анька. – Если нет, то где тогда мама?
Танька расплакалась.
…Отяжелевший и обмякший, отогревшийся Женька тоже спросил из раскладушки:
– А где ваша мамка? Че она плачет?
– Далеко, – спокойно сказал доктор Рыжиков. – Уехала.
– А, – зевнул Женька. – В отпуск… А это что за город?
Макет загородного жилого и культурно-оздоровительного комплекса золотился под настольной лампой.
– Это такой наш город будет, – сообщил доктор Петрович. Давно пора было отнести макет жене архитектора Бальчуриса. Сроки конкурса истекали. Если бы она позвонила, он давно бы сходил. Но, может быть, она про это и забыла…
Пока он сел и начал мастерить наушники для всех больных. Для каждой койки – для Туркутюкова и Чикина, для старичка аптекаря, которого вчера все-таки положили, для Жанны Исаковой и для девочки – дочки самых богатых родителей города, у которой приживалась рука. Общее радио на всех только бы вызвало ссоры, как часто бывает в больницах, санаториях и поездах. Перед ним на столе лежала кучка наушников, подаренная знакомым военным из списанного радиоЗИПа.
– Че это вы делаете? – не поленился привстать уже растекшийся Женька. – А зачем вы меня сюда взяли?
Этого вопроса доктор Рыжиков давно боялся, и от него по груди прокатилась волна теплых помоев. То, что он должен был сделать с Женькой, начинается в жизни раз. Уже никогда нельзя будет сказать, что Женька невинен. Что его никогда не толкали на путь измены и предательства за корку хлеба и глоток похлебки. Нет предела человеческой подлости.
«Нет, мы не немножко лошади, – мысленно сказал доктор Рыжиков. – Мы очень крупные шакалы». Но вслух сказал совсем другое:
– Чтобы на каникулах заняться алгеброй, историей и географией…
– А литературой? – спросил Женька.
– Если ты Агафона Никифоровича знаешь, то с литературой у тебя все в порядке, – успокоил доктор Петрович.
– А алгоритм – это что, алгебра?
Если бы можно было сделать эту мерзопакостную операцию, не затронув Женькину душу… Но если Женька догадается, ради чего это вчерашнее детское кафе, и эта елка, и билет на завтра в цирк, ради чего микроскоп с таинственным мерцанием зазубрин на лезвии бритвы… Тогда конец. Только в одном случае еще не все потеряно – если Женька взбунтуется и перебьет это все на кусочки. И кафе, и цирк, и пригородную зону, и микроскоп. Если в нем проснется возмущенная подкупом за предательство семейной тайны душа. Тогда он уже человек. Даже раньше, чем положено.
Доктор Рыжиков подозревал, что душа в человеке просыпается что-то годам к тридцати. И то не в каждом. Это дело весьма трудоемкое – приобретение души.
Вернее, сначала она есть у маленьких детей – они получают ее даром. Потом, ближе к жестокосердной юности, душа куда-то испаряется, и ее надо накапливать снова. И она возвращается только в награду за труды и мысли. Не за всякие труды и не за всякие мысли, если так можно выразиться. Как видно, где-то во вселенной есть район сосредоточения душ. Они прибывают туда полковыми и батальонными колоннами, отдыхают, приводят себя в порядок, заправляются, чистятся-нежатся до поры, потом возвращаются по новому назначению.
А есть так и не вызванные обратно души, напрасно ждущие востребования от своего телесного прибежища. Ну и конечно же место души – в лобных долях, иногда ее еще зовут сознанием.
И получается, что бродят по земле бессознательные – они же и бездушные – тела с безупречным пищеварением и сердечно-сосудистой лет на тысячу. Бывает, даже с неплохим характером.
А над ним – бесприютные сироты-души.
Только это еще надо обсудить с Сулейманом.
Вслух он сказал:
– Не бойся, это высшая математика. Это не для тебя, а для роботов, чтоб их учить…
– А роботов тоже учат?.. Да я и не боюсь… – Женькины слова становились все бессвязнее. – А вы что, мастрячите? У нас сосед тоже мастрячил-мастрячил… потом его мамка с соседкой посадили. Наврали, будто он с ножом бросался… А он даже ругаться не может… Только она на него кричит…
Доктору Рыжикову кровь стукнула в виски. Снова как огнеметом – теперь уже за Чикина. Он что-то прошевелил губами, на что Женька ответил:
– Говорят, чтоб не умничал… А я знаю, она его утюгом тюкнула и боится… Мамку за это обещали в разделочную, у нее соседка там начальница, а места все нет… Она соседку счас ругает… А почему мы все лошади?
– Потому что с конскими хвостами, – сказал доктор Рыжиков, не зная, что еще сказать.
– Хи-хи! – зашевелился Женька, чтобы проверить себя. – Какой хвост, где вы видели? Нет у меня хвоста, и у вас нет… Может, у ваших дочек?
Когда его ехидное хихиканье затихло, доктор Рыжиков понял, что никаких доказательств больше не требуется. Женьку как отрезало от всего – он уже засопел во сне, почесывая конский хвост.
Ибо поясничные и крестцовые корешки проходят у нас в позвоночном канале отвесно и ниже уровня спинного мозга вокруг его концевой нити образуют скопление корешков, называемое «конским хвостом».
41
– Ну и что?
Сухо, неприязненно, устало.
Как «ну и что»?!
Ведь это же признание! Самое искреннее, самое праведное! То, что у мальчишки вырвалось без всякой хитрости! Чьими устами…
– Ну и что?
Холодные зрачки судьи оттолкнули эту очевидную истину. И доктора Рыжикова вместе с ней. Он-то думал, что прольются слезы умиления Истиной, что перед ней все встанут, а ему благодарно пожмут натруженную руку.
Не тут-то было.
– Ну и что? Мало ли что он там наплетет. Вы ему конфетку дали или в кино сводили – он вам одно сказал. Я дам конфетку – мне другое скажет. Соседке – третье. Это дети. И вообще вы при чем? Дознание, что ли, ведете? А по какому праву? Вы что, несовершеннолетнего Рязанцева допрашивали в присутствии его родителей? И адвоката? Уголовно-процессуальный кодекс знаком вам? Ну, а что же вы тут голову морочите?
Непримиримо-напряженные точки зрачков убивали всякую надежду убедить. Словно все на свете приговоры уже вынесены, а может, даже приведены в исполнение до всяких судов. Доктор Рыжиков считал, что он доставил ценнейшие сведения, но его тут же обрывали на полуслове:
– Какая-то судомойка, какая-то разделочная! Бред какой-то! Несете неизвестно что, а еще бог знает кем себя считаете, образованным человеком, врачом…
Можно ли спорить с болью? Можно ли убедить боль? Что судить боль нельзя, он знал твердо. Она неподсудна. Но что делать, когда боль сама судит? Этого ему не дано было знать. А что тут была боль, он понял через минуту разговора. Боль сидела внутри у судьи, мешая пошевелить головой. И этот трудно движущийся взгляд, и этот заледенелый, будто взятый за горло голос. Может, щитовидка, окольцевавшая шею внизу чуть заметной припухлостью. Может, остеохондроз, стреляющий в суставы или в ухо. У такой боли все вокруг будут виноваты. Без надежды на снисхождение. По совести, тут перед судебным разбирательством нужен настоящий курс лечения, потом еще месяц санатория, только потом с предельной осторожностью подпускать как к обвиняемым, так и к потерпевшим. Ну и конечно – к свидетелям.
Чуть было не сказал со всем свойственным ему доброжеланием: давайте пройдем курс обследования. Но язык прикусил – с нервными людьми это взрывоопасно. Таких оскорблений они не прощают. И сказал:
– Но если выяснилось, что человека оклеветали! Почему вы человеку не верите, а им верите?
– Что вы заладили «выяснилось», «выяснилось»! – Судья показывала безграничное терпение. – Что выяснилось, то и затуманится. Он и не свидетель, несовершеннолетние по закону не могут быть свидетелями: Свидетель – его мать, Рязанцева. Она предоставила следствию вновь открывшиеся обстоятельства? Не предоставила. И весь разговор. И потом давала подписку об ответственности за дачу ложных показаний? Давала. Что ж, она сама себя уличать будет? Никто на это не пойдет…
Доктор Рыжиков с беспомощностью видел, как главное тонет во второстепенном и третьестепенном. А это значит, тонет Чикин, который ничего этого не делал и делать не мог. И все зависит, к ужасу, не от этого главного, а от третьестепенного. Когда прихватит очередной приступ боли – при виде Чикина или при виде его жены. А вместе с ним – и приступ отвращения к субъекту. А может, от солнечной вспышки, происшедшей неделю назад. Или от атмосферного давления. Или мало ли от чего. Может, тут снова и спасет машина Валеры Малышева и его шефа, которой от так сторонится. Голова от давления у нее не заболит. И фиктивную справку от настоящей отличит моментально. Только как машину выбирать в нарсудьи, как за нее агитировать – вот вопрос. Какой завод надежнее?
– А то, что вы мешаете суду отправить правосудие…
– Куда отправить? – машинально спросил доктор Рыжиков.
Взгляд судьи медленно и верно стал набирать ярость, чтобы ответить полностью и окончательно, ясно и бесповоротно, куда и кого. Главным образом, кого. И, в частности, за что. Морочить тут голову разными домыслами, а самому помогать ответчику симулировать и прятаться от правосудия. Надо еще проверить, сколько там у него дезертиров от армии прячется, и вывести это на чистую воду…
Отступая и пятясь, будто его и правда сейчас могут схватить и привлечь к ответственности за укрывательство дезертиров, доктор Рыжиков чувствовал полный провал. И полное тупое бессилие. Что-то неодолимо бездушное вставало на пути простой и очевидной истины, какая-то неумолимая воронка втягивала в себя бедного кролика – Чикина.
И уже вслед, у самой двери, как очередь в спину, чтоб добить до конца.
– А почему это вы вдруг решили, что мы им поверим, а ему не поверим? Вы что, уже решили за суд? Почему вы решили?
42
– Юрий Петрович! – кричали ему через двор. – Доктор Рыжиков!
Это проталкивался сквозь толщу снега молодой врач их районной больницы.
– Здравствуйте! – рвался он к доктору Петровичу, как к родному. – Я вас давно хочу порадовать!
Доктор Рыжиков так весь и потянулся к нему. Давно его никто не хотел радовать.
– С Колесником-то все отлично!
– С кем? – напряг память доктор Рыжиков.
– Ну который жену, а потом сам… Ну из милиции из окна, помните?
Доктор Рыжиков вспомнил узелок старушки матери, собранный сыну в дальнюю дорогу. В тюрьму ли, на войну, в больницу ли.
– Судили в ноябре, – раскрыл суть радости районный врач. – И никаких отклонений! Как новенький!
– И что? – осторожно спросил доктор Рыжиков. – Дали что?
– А-а… Семь, что ли, или девять… я и не помню, строгого режима… Нет, молодец вы все-таки!
– Да, это большая удача, – сдержанно похвалил себя доктор Петрович.
– Я бы ни за что не додумался, – преклонился перед доктором Петровичем районный.
– До чего? – спросил Петрович, думая, что до семи лет строгого режима.
– До трубки в трахее! – восторженно воскликнул районный коллега. – Если бы не она – кранты!
– Что? – спросил доктор Петрович.
– Кранты. Ну, летальный исход. Мы ее раза три подключали. А с трубой бы все, кранты. Пока минут десять провозишься… А так три секунды. И как вы только догадались? Кажется, просто, а я бы не додумался. И главное – даже и ногу не подволакивает, и не заикается. А вы теперь отделением заведуете? Вот у вас, наверное, уровень! Можно, я к вам на стажировку попрошусь?
– Можно… – оглушенно сказал доктор Рыжиков, вспомнив вдруг всех, кто мог бы выжить, если бы он раньше догадался вставить трубку в горло.
– Только осторожно, да? – пошутил радостный коллега. – А я флюорографию тут выбил! Год выбивал! Тут у вас подвалы каким только добром не набиты! Как у Кощея Бессмертного!
– Это не у нас… – поправил доктор Рыжиков.
– Ну да, – понял коллега. Все знали партизанскую привычку деда припасать оборудование и инструмент про черный день. Как будто этот черный день завтра застанет его окруженным со своей клиникой в глухом Брянском лесу… – Я это и имею в виду. А можно пригласить вас поужинать? Автобус только завтра, пока лично не погружу, не успокоюсь. Давайте, а? Посидим в «Юности», поговорим… Я приглашаю, вы не беспокойтесь, у меня на командировку запас отложен… Не часто в город вырываешься…
Восстать бы им всем из могил на городском кладбище и востребовать с доктора Рыжикова… И главное, операции случались бескровные, быстрые, качественные. Даже в себя успевали прийти. «Вы меня слышите? Слышите?» Они слышали, что больше теперь бояться нечего, смотрели ему в глаза. Засыпали, успокоенные. Или думали, что засыпали. И главное, никак не угадать, начнет потревоженный мозг взбухать или обойдется. И когда… То сидишь сутками – ничего, отойдешь на час – все. Все удушено, что можно удушить.
Почему когда что-то найдешь, чувствуешь не радость, а вину?
И неужели так все?
И доктор Мортон ждал суда всех, умерших от боли, когда придумал эфирный наркоз? И Пастер – умерших от бешенства? Может, тогда и Флеминг – тех, кто не дождался пенициллина? Доктор Рыжиков почувствовал, что зашел далеко, не по чину, и вернулся на свой больничный двор. Он перестал слышать районного коллегу и даже не заметил, куда тот свернул, не успев, как ему показалось, поблагодарить за какое-то приглашение и отказаться ввиду постоянной занятости. Потому что вечера он не мог проводить даже дома.
В родимом закутке все еще светилось новогодними следами. Еще не сняли елку, которую он установил в коридоре, еще серебрились на стенах мультяшки и звездочки, нарезанные из фольги. Над этим трудились все, у кого двигались руки, во главе с доктором Рыжиковым.
Сильва Сидоровна держала для входящих метлу-снегочистку, заставляла посетителей переобуваться в войлочные бахилы и вообще свирепствовала. Доктор Рыжиков должен был подчиняться на общих основаниях. Сейчас он решал, взять в палату еще одну девочку или принести ее в жертву ветеранской очереди, поэтому излишне резко дернул за шнурок и затянул его насмерть. Твердый маленький мокрый узелок отвлек его от дум насущных. Доктор Петрович несколько раздергался и порвал его, чтобы скорее влезть в казенную обувь. Сильва Сидоровна от своего коридорного столика следила за ним требовательным взглядом, даже не думая проявить хоть малую уступчивость.
В мужской палате старичок аптекарь читал Туркутюкову и Чикину вслух «Кавказского пленника» Льва Толстого. Сначала доктор Рыжиков хотел принести «Двенадцать стульев», но подумал, что от смеха могут повредиться свежие швы на бедном лице летчика. «Кавказского пленника» он любил за то, что там человек упорно и без истерики выходил из безвыходного и был хорошим мастером. Он знал его наизусть. «Служил на Кавказе офицером один барин. Звали его Жилин.» От этих первых слов до последних своих собственных: «Видите, надо царапаться». Больше всего его молчаливо удивляло то, что один и тот же человек написал «Кавказского пленника» и «Хаджи-Мурата».
Старичок в больничном халате и неизменной тюбетейке, прикрывавшей снесенную маковку, был похож на восточного мудреца. «Жилин поднял голову, – добрался он до любимого места доктора Рыжикова. – Перед ним стояла на краю ямы…»
– Видите, надо царапаться, – закончил доктор Рыжиков, после того как старичок дочитал. – Я тут еще «Василия Теркина» принес на завтра. Это здорово подбадривает.
– Правда? – Глянув на него поверх очков, старичок как бы удивился, что кого-то здесь надо подбадривать.
– Так точно. «В глубине родной России, против ветра, грудь вперед, по снегам идет Василий – Теркин немца бить идет…»
– Правда, – согласился старичок.
Странно, что тут не было Сулеймана.
Час был уже поздний. Чуть скрипнула дверь в коридор. В свете дежурной лампы лицо неподкупной Сильвы стало еще неподкупнее. Чуть более неподкупным, чем обычно. Словно она что-то совершила.
– Что? – спросил доктор Рыжиков.
– Ничего… – пожала она прямыми плечами.
Доктор Рыжиков шагнул к палате девочек, и Сильвин взгляд что-то выдал. Он открыл дверь – там раздался воробьиный писк, и две старожилки – Жанна Исакова и девочка с пришитой кистью – нырнули с головой под одеяло. Только одна нарушительница режима не успела мобилизоваться и замести следы, так и застыв посреди комнаты в своей полосатой пижамке. Будучи застигнута врасплох, несчастная зарыдала, стоя босыми ножками на импортном разноцветном веселом линолеуме.
Он понял, что девочки играли в коридоре и Сильва Сидоровна дала им немой знак спасаться от строгого доктора.
Пораженный, он положил ладони на стриженую головку – маленькую и твердую как орешек.
– Ну-ка, – сказал он, – кто это тут разревелся? Ну-ка, мы тебе кое-что покажем… Ну-ка, посмотрим…
Разревелась новенькая, которой раньше тут не было. Доктор Рыжиков легко посадил ее на кровать, укутал одеяльцем и достал из кармана калейдоскоп. Навел его на свет, стал поворачивать. Девочка заинтересовалась, затихла.
Через всю палату под потолком крест-накрест были протянуты шнурки с новогодними картинками, яркими как морской семафор. На них приветливо висели полосатые зебры и черти, крокодилы и обезьяны, японские красавицы и поросята, притом каждый при деле. Волк, например, в белом халате облизывался под марлевой маской, оперируя зайца. Медведь ехал по вызову на черепахе – «скорой помощи».
Потом он быстро набросал на запасном листе своим огрызком полосатую фигуру со стриженой головой, которая пустила из глаз три ручья и уже образовала вокруг себя небольшое море, в котором барахтались разные другие люди.
Натуральная стриженая девочка совсем просохла, узнав себя в произведении искусства. Она хихикнула, а доктор Рыжиков утер ее глазенки кусочком чистой марли, которую всегда носил в халате, подобрав заодно и сопельки под носом. То, что эта девочка оказалась в палате, его нисколько не удивило. Он ведь сам ее принимал, продолжая потом по привычке думать, кому отдать свободное место – новой девочке или фронтовику. Его сердце разрывалось между детьми и фронтовиками.
Эта неестественно маленькая и крепкая девочкина головка, которой, кажется, гвозди можно забивать, очень сильно болела. Глаза уже от этой непрерывной боли были как оглушенные. Уже стала глохнуть и слепнуть.
Как всегда, горе жрет деньги. Мать с отцом истратили сотни на санатории и поездки к врачам. Как всегда, доехали до Москвы и вернулись обратно в свою детскую больницу. Здесь ее и нашел доктор Рыжиков, который два раза в неделю обязательно приходил проверять все детские головные боли. Он долго пробовал и щупал этот крепенький орешек, водил перед глазами молоточком, проверял пальцами глазное яблоко, всматривался в маленький череп на рентгеновском снимке. Этот отец тоже со страхом ожидал, что его снова пошлют на какие-нибудь южноуральские грязи или северокавказские воды. Все по тому же кругу. Путевки, билеты, долги. Но доктор Рыжиков сказал, что надо оперировать. Отец испугался еще больше.
– Понимаете, – мученически вздохнул доктор Рыжиков всегда страдавший от этих объяснений, – наш череп состоит из долек. У детей они соединяются хрящиком…
Он нарисовал, что бывает, когда хрящик слишком рано костенеет и череп не может раздвинуться вместе с растущим головным мозгом. Все там, оказывается, сдавливается, как в паровом котле. Так и глаза на лоб вылезут. А надо-то всего исправить ошибку природы – взломать эти закостеневшие швы.
– Как так?! – пересохло у отца в горле. – Голову ломать?
Поэтому-то доктор Рыжиков и вздыхал от объяснений. Люди странны в своем желании знать правду о себе и своих близких и одновременно в страхе этой правды. Почему бы не перевалить тогда эту правду на тех, кому положено, а самим спокойно ждать? Доктор Рыжиков стал терпеливо объяснять, что эта операция всем давно известна и отработана и дальше черепной кости никуда лезть не надо, поэтому бояться нечего…
– Голову ломать не дам! – сказал отец, прямой как палка. – Так лечите…
Переговоры пока еще шли, и доктор Рыжиков, с отвращением слушая себя, пугал непокорного папу усилением головных болей, слепотой, глухотой и идиотизмом. Папе же казалось, что все как раз и бывает от операций, когда голову разбивают, как глиняный горшок.
Пожалуй, тут не обойтись без Сулеймана, подумал доктор Рыжиков, усыпив девочек и тихо отступая из темной палатки.
А учителя в школе думали, что девочка просто глупая и ленивая и только притворяется с головной болью. Кричали на нее, ставили в угол, выгоняли с уроков, слали за родителями. Она плакала, положив на парту болевшую голову, когда не решалась задачка про велосипедистов, едущих из двух точек навстречу друг другу.
– Идите, Сильва Сидоровна, – сказал он привычно. – Я тут покумекаю…
– Куда ж идти? – огрызнулась она. – Скоро утро… Сами идите, если хотите.
– Я уже ходил, – грустно сказал доктор Рыжиков. – И вернулся. Ничего там хорошего нет.
– Где? – подозрительно посмотрела на дверь Сильва Сидоровна, отнеся это к внешнему миру.
Но доктор Рыжиков имел в виду весь мир вообще.
43
Окна чикинско-рязанцевского дома смотрели на него по-разному. За чикинскими занавесками угадывались музыка и праздник, сытный ужин и веселая компания. Из форточки Рязанцевых стрельнул окурок и шипя ткнулся в снег. Доктор Рыжиков удивился такой смелости Женьки: не иначе – матери не было.
Но мать была, и был еще кто-то.
Дверь открыл Женька. Он был рассеянно-взволнован и даже как-то высокомерен. В тесном коридоре доктор Рыжиков скинул пальто и, ничего не подозревая, шагнул в комнату. И обнаружил там пир. Пир был семейный.
Женькина мать принарядилась. Темно-вишневое плюшевое платье было извлечено на свет от долгого висения в шкафу. Кокетливая тряпочно-алая розочка украшала левое плечо. Белый кружевной воротничок, подведенные глаза, кричащее пятно помады, белая маска пудры, блестящие глаза, распущенные волосы – все было полно веры в женские чары. Она с гордостью поставила доктору Рыжикову стул и вытерла его ладонью. Потом принесла с кухни чистую тарелку, вытирая на ходу той же ладонью. Поставила свежую рюмку, наложила холодца.
– Ну… – И посмотрела сияющим взглядом.
Доктор Рыжиков должен был оценить стол и все окружающее. Он оценил. Стол ломился от бутылок водки и розового портвейна. Запотевший графин с пивом, два блюдца с холодцом, два с пельменями, колбасы, копченая рыба, икра… Богатые соседи могли лопнуть от зависти. Этого хватило бы едоков на пятнадцать.
Но герой был один.
Его и демонстрировали доктору Петровичу.
Он возлежал на хозяйском диване, около стола, в окружении посуды с объедками, бокалов и рюмок. Под локтем и спиной – высокие подушки. Но от ног, задранных на спинку дивана, волнами расходился неистребимый запах нейлоновых безразмерных носков, не снимаемых ни днем, ни ночью по крайней мере полгода. Узкие потертые брючишки задрались, открыв полоску белой и тощей ноги. Тем более белой, что на ней жирно синели татуированные линии. На худом остроносом потасканном личике слезились глаза – то ли от тепла, в которое сегодняшний падишах редко попадал, то ли от надорванных слезопроводов.
И над всем этим вились и копнились поразительно черные кудри пришельца. Черные, как разбойничья ночь. И бакенбарды.
Не четыреста наложниц хлопотало вокруг падишаха, а одна поношенная посудомойка из городского ресторана. Но радости и гордости, с которыми она взирала на него, хватило бы на десять космонавтов.
Женька с краешка терся о тощие ноги пришельца и тоже млел. Его затылок томно поглаживала тощая белая ручка с жирно-зеленым фантастическим рисунком – двуглавый адмиральский якорь, обвитый вместо цепи толстой змеей, мощный хвост которой уходил вверх, сжимая тощую белую руку где-то выше локтя.
Доктор Рыжиков понял, что это библейский сюжет. Возвращение блудного отца. Доктор Рыжиков был прав – Женькин отец отнюдь не оказался бедным черепом, над которым вздыхал Женька.
Падишах надменно оглядел доктора Рыжикова. Слезящиеся черные глаза он вытирал подушечкой большого пальца. В общем, у него был вид сильно поношенного и выброшенного из табора за паршивость цыгана. Но на доктора Рыжикова он показал – как цезарь на раба.
– Хахаль приперся? Не может вечер обождать?
Это была самая лестная из всех оценок женских прелестей Женькиной матери. Она так это и поняла и радостно зарделась:
– Да что ты, Паша! Скажешь тоже! Они приличные люди, из родительского комитета! С Женькой занимаются, учат, пальто купили…
– Пальто… – отмахнулся шах тощей татуированной лапкой. – Знаю я этих культурных… Не видел, что ли? Комитет… Да ладно, пусть присаживается, не объест… Присаживайся, комитет… Я не сердитый. Бабам тоже жить хочется, я понимаю…
Нотка попранного достоинства заиграла в его томном голосе. Еще бы, если всюду таились обида и предательство.
– Шефы… – пошевелил он носком. – Только хозяин из дому, как шефы тут как тут… Знают, коты, над каким салом шефствовать…
Видит бог, тут салом и не пахло.
– Паша… – сказала Женькина мать.
– Что – Паша? Может, Паша не наша? Может, Паша тут лишний? Так так и скажите! Выметайся, мол, Паша, эта хата не ваша… Я все по-человечески пойму – и до свидания… На холод, на мороз… По сугробам.. Не впервой…
Женька напрягся под якорем, гладившим его затылок.
Бездна слабости духа и тела лежала на старом семейном диване. Собственный вес – едва за пятьдесят кило. Нечто без дна, без малейшей опоры, на которую можно бы было надеяться хоть секунду. Но в то же время бездна самомнения и обидчивости. Кипение чувств, мгновенно меняющих направление. Сладострастное актерство, которому все равно, полный или пустой зал, молчание или аплодисменты, ибо оно видит и слышит только себя. Падишах, космонавт, колумб, викинг. Он победил и вернулся. Он устал. Его оскорбили в лицо. Он обиделся.
Он казался себе всем на свете, кроме того, чем был. И это была единственная сцена в мире, с которой его не гнали.
Доктор Рыжиков как к стулу прилип – не мог прийти в себя. Он доверил свои честь и достоинство Женькиной матери.
– Скажи ему, пусть выпьет, – сжалился падишах. – Если пришел… Чего сидит как недоделанный? Да, Женька? Женька один меня любит. У-у, молодец! Мужик мужика чует издалека. Женька не скурвится, не продаст… Женьке верить можно… Свой парень…
Каждая новая иллюзия наполняла глаза импровизатора потоком слез, и он их тер большими пальцами, которые вытирал тут же о скатерть. Бедный Женька, сколько он еще такого наслушается, принимая юным сердцем за чистую монету…
– Женя молодец, – не нашел лучшего начала доктор Петрович. – Учиться лучше стал…
– А?! – гордо осмотрелся вокруг Паша. – Я знаю, кто тут кто! Женька… – Он притянул его к себе с легким рыданием. – Отцовский корень… Женька, друг… Приезжаешь вот так в родной дом, а тебя… После стольких… Головой в снег… Хоть три копейки дадут на трамвай, Женька? Женька, друг…
Повесив голову, он ослабел в мрачной свой философии.
Потом вдруг очнулся, обвел всех глазами, остановился на докторе Рыжикове. Приподнялся, протянул лапку с якорем.
– Паша…
Доктор Рыжиков поймал в свою широкую ладонь что-то хилое и влажноватое, вроде тощего лягушонка.
– Юра… – от неожиданности сказал он.
– Ну, Юра так Юра, – меланхолично согласился Паша. – Пусть будет Юра. Выпьешь, Юра, на бутерброд? Где-то я тебя видел… Ты в Кустанае в медвытрезвителе не работал?
– Нет… – сказал доктор Рыжиков.
– А в Караганде? – всмотрелся в него Паша.
– Тоже нет…
– Может, в Чарджоу? – метнулся Паша в другой регион. Помучившись загадкой типичности рыжиковского лица, он неожиданно переключился: – Анекдоты хоть знаешь?
– Знаю один, – несмело сказал доктор Рыжиков.
– Ну-ка давай, – разрешил падишах.
– Да он простой, – позволил себе доктор Рыжиков. – Идет обходчик, а на рельсах человек лежит. Ну, он подходит и спрашивает: зачем лег? Тот говорит: да вот жизнь надоела, пусть меня переедет поезд из Новосибирска. А обходчик ему вежливо говорит: у вас ничего не получится. Почему? Потому что здесь пройдет поезд в Новосибирск, а из Новосибирска рельсы рядом.
Он закончил доклад. Падишах с подозрением промолчал. Женькина мать осторожно хихикнула. Женька залился как колокольчик.
– А чего тут смешного? – спросил его Паша.
– Да поезд-то какой задавит, все равно! – воскликнул догадливый консультант, желавший, чтобы все здесь понимали друг друга. – А он: из Новосибирска!
– Все равно! – тяжело задумался Паша. – Ох нет, товарищи, не все равно…
Он резко вылил в себя рюмку водки и сделал несколько больших глотков пива. И быстро вышел весь. То есть перестал быть демоном, философом, падишахом, колумбом. А стал самим собой. То есть прилагал много сил, чтобы не уронить голову в тарелку с холодцом, и долго целился вилкой в маринованный болгарский огурец из блатных ресторанных запасов. И все-таки промахнулся.
Скоро он совсем лежал на диване бесчувственным, пуская из рта пузыри и сивушные волны. А Женькина мать сморкалась и размазывала слезы по напудренному лицу. И говорила, что всегда так: она придет домой, руки разъело, все суставы скрипят. А он себе расспался на диване, ботинки на подушке. Вокруг наплевано, накурено, насорено… Не дом, а свинюшник. А с похмелья еще драться лезет, деньги забирает. Нигде двух недель не работал. Зарплату раз в год принесет, тридцатку вшивую, потом год тычет, вилки из дому тащит, одежду продает… Родного сына портфель пропил… Сколько лет дома не был, думала, или сгинул уже, или ума набрался. Я, говорит, на золоте самородками ворочал… Хоть бы зернышко семье привез! Только диван заблевал…
Диван был Женькин. Женька уже начал позевывать и потирать глаза. Класть его можно было куда-нибудь под стол или окно.
– И ведь невиноватого посадят, – вернулась Женькина мать в тряпкой и стала зло подтирать с диванной обшивки, а заодно и с Пашкиной щеки. – Вот сосед – ангел по сравнению с ним, а под статью подвели, как теленка! А этому ироду хоть бы пятнадцать суток раз врезали… Все как с гуся вода.
Мысленно доктор Рыжиков сказал: тогда напишите в прокуратуру и суд, что сосед – ангел, спасите человека от пожизненной больницы… И даже очень задушевно попросил. Но вслух вышло совсем другое:
– Может, пусть Женя ко мне пойдет, а? Повторим алгебру…
Но Женька, вцепившись в брючину отца, сонно покрутил головой… Его уже было не отодрать.
44
Другой человек, даже самый упорядоченный, шаг в шаг отмеряющий путь от дома до работы и обратно, и то вдруг, пораженный, обнаружит себя совсем в неожиданном месте и в неожиданной роли. Например, пострадавшим в больнице или свидетелем в милиции. С кем-то реже, с кем-то чаще, но от заносов никому не уйти.
Тут можно отчаянно сопротивляться, стараясь всеми силами вернуться в свой законопаченный мир и свой несгибаемый желоб. Можно махнуть рукой и плыть по течению, предав на волю бытия все, предписанное планами жизни. Все ведут себя по-разному.
Доктор Петрович то и дело обнаруживал себя вместо родной палаты или операционной то в кабинете судьи, то за одним столом с бродяжкой, то где-нибудь в горстрое, где начальник СМУ тыкал пальцем в очередной акт или протокол за семнадцатью подписями и совсем уже просяще заглядывал ему в глаза. Иногда он пристраивался на улице и, бросая окурки в чернеющие сугробы, говорил, что доктор Рыжиков навесил ему этот грех, доктор Рыжиков должен его и снять. Доктор Рыжиков говорил, что, пожалуйста, он согласен. Крайний жал ему руку и проникновенно прощался. Однако через пару дней возникал снова с новым доказательством. И снова вел куда-то, и снова его просящим глазам нельзя было отказать…
…Теперь доктор Петрович долго и упорно куда-то стучался. Дом был крепкий, выносливый, ворота дубовые, как из прошлого века. Сначала за ними только лаяли разными голосами собаки. Потом заскрипела дверь, зашаркали шаги, звякнул замок.
– Кто еще там? Чего надо? – Голос сердитый, сонный.
– Расплатиться! – крикнул гость сквозь дерево ворот.
– Я вот тебе расплачусь, собак спущу! – В такой полночный час незваных иначе и не встречают в таких домах.
– Откройте, я деньги принес! – крикнул доктор Петрович.
На деньги что-то среагировало, но только через цепочку.
– Какие еще деньги? Кто сейчас деньги носит?
– За помидоры, – терпеливо сказал доктор Рыжиков. – Вы помидоры принесли нам. И огурцы.
– А-а… Утром нельзя, что ли?
– Утром нельзя.
– А-а… Ну давай. Сколько?
– А сколько вы принесли? Цена какая?
– Он еще спрашивает! Мало ли мы кому носили, всех помнить, что ли? Семь рублей за килограмм, мы заранее говорим…
– Вот ваши двадцать рублей! И остатки!
– Давай… А кто это ты такой? Чтой-то в темноте не разберу. А остатки – что за остатки такие? Не понравились, что ли?
– Врач Рыжиков. – Доктор Рыжиков повесил на ручку авоську.
– Доктор, что ли?
– Доктор.
– Из больницы?
– Из больницы. До свидания.
– Доктор из больницы? Да куда вы, постойте! Мы вам не за деньги! Постойте!
Калитка загремела по-настоящему, за доктором Рыжиковым устремились шаги.
– Постойте, куда вы? Недоразумение! Мы вам в подарок, в благодарность! Своим трудом выращенное! И еще собрались принести! Деньги-то заберите!
Настойчивая рука стала совать деньги в карман доктора Рыжикова. Доктор Рыжиков стал отдирать и отталкивать ее от себя. Некоторая борьба на ночной улице, прерывистое дыхание, невидимые бумажки шурша упали в подмерзшую грязь. Доктор поддал ходу, пока погоня отвлеклась щупаньем колеи. Это позволило ему сделать решающий отрыв вдоль по Питерской.
Но утром первым, кто стоял у порога, была эта погоня. С разобиженным лицом и видом попранного благородства.
– Настоящие куркули, – тихонько сказал Сулейман. – Пока с рукой было неясно, жались, а как стала прирастать, забегали. Чтобы следили лучше.
Отец девочки с приделанной кистью держал две базарные сумки.
– Обидели вы нас, – с глубоким чувством сказал он. – За благодарность…
Видит бог, доктору Рыжикову было до боли жалко заветной магнитофонной двадцатки. Всегда она вылетала некстати – то кому-то ботинки, то комбинашку, то спортивный костюм. И тут, когда он совсем изготовился сделать подсечку, свалились эти помидоры. Еще хорошо, что семейка не сожрала все подношение, а честно оставила ему его долю, которую он увидел в кухне на холодном окне. Помидоры и огурцы в самом конце зимы! Вполне понятно, почему никому ничего в голову не пришло, сразу стали радостно жрать. Сердце ныло и скрипело, а что делать? Получил удовольствие – плати.
– Ну если вы не хотите, то деткам вашим, – уговаривал отец, предусмотрительно выведенный для этого позорящего разговора во двор, подальше от честных человеческих ушей. – Да что это вы смешной какой, что это, взятка, что ли? Своими руками все выращено, за ваш же честный труд благодарность…
– Нет, – сказал доктор Рыжиков грустно. – Покупать мне не по карману, а так – нет…
– Да что вы боитесь, взятка это, что ли? Такое все берут, не думайте! Чистая благодарность родительская! – Он искренне совал доктору Рыжикову сумку в руки, приговаривая, что это не деньги и не хрустали. – Ну по гос-то цене можно, товарищ доктор? Пятнадцать рублей за кило, пожалуйста, платите, если хотите… То есть копеек…
– Понимаете, – сказал доктор Петрович как можно задушевней, – есть вещи, которые вообще делать нельзя. Не запрещается, а просто нельзя.
– Да что тут нельзя! – прижал его к стенке отец. – Это дело ничье, только мое и ваше, я свой труд кому хочу, тому дарю…
«Нельзя брать ни иголки с чужой беды, – должен был сказать доктор Рыжиков, – тем более если за нее платят зарплату. А без зарплаты тем более. Иначе мир, с таким трудом и болью налаживающийся, рухнет. Неужели это требует объяснений? С удовольствия можно, черт с ним. Если хотите. Это тоже для желающих. Но с беды надо отрубать руки. Хотя кому-то не такая мебель тоже кажется бедой. Ну, в общем, если все сидят без помидор, то почему у меня они должны быть, если я их не выращиваю или не могу купить за мои среднеинтеллигентские заработки? Это и есть вымогательство. Вымогать благодарность».
Вслух он сказал:
– Нет…
– Ну больным-то возьмите, больным хоть раздайте! У вас вон люди перевязанные, без овощей чахнут!
Доктор Рыжиков представил, как Туркутюков и старенький аптекарь, Жанна и маленькая девочка с раздвинутым черепом сочно едят помидоры. Это было заманчиво. Они-то ни в чем не повинны, подумал он.
– Вот вы и отнесите своей дочке, – нашел он соломоново решение, – и сами с ней раздайте больным…
После этого пришел еще родитель. Еще один отец девочки. Доктор Рыжиков скрепя сердце приготовился отпихиваться от благодарностей, но этот родитель ему строго сказал:
– А какое вы имели право делать эту операцию?
У девочки дело шло к снятию швов, она давно гуляла в коридоре, и доктора Рыжикова вопрос озадачил.
– Как какое? – всмотрелся он в недобрые глаза счастливого родителя.
– Вы на собаке ее делали?
– Как – на собаке? – спросил доктор Петрович.
– Это новая операция, – упорно сказал отец. – Положено сначала на собаке.
Он был инспектор ГАИ и хорошо разбирался, где что положено.
– Это не новая, – полез за листком доктор Рыжиков. – Это модификация способа Арендта-Козырева, который давно всем известен.
Пятью четкими линиями он нарисовал одноэтапную двустороннюю декомпрессивную краниотомию костно-пластическим способом при краниостенозе.
Инспектор посмотрел на рисунок еще подозрительней.
– А почему не делали по способу этого Козырева? Все люди делают, а вы не делаете? Не умеете, что ли?
– Понимаете, – терпение доктора Рыжикова только начиналось, – во-первых, поперечный разрез косметичнее. Женская прическа его совсем закроет, рубца не видно… – Карандаш доктора Рыжикова наложил на рубец довольно элегантную прическу. – Во-вторых, когда череп растет, лоскуты вот так пружинят и могут шов потом раздвинуть. А если вместо этого сделать крест-накрест, кожу поперек, а череп вдоль, давление будет вразрез, и шву ничего не грозит. Голова себе спокойно развивается…
Инспектор хрипловато вздохнул. На рисунке все было красиво. Гораздо красивее, чем на забинтованной голове девочки. Но все-таки его грызла какая-то мышь. Где эта мышь сидела, доктор Рыжиков мог только отдаленно догадываться.
– Но ведь положено сначала на собаках? – с инспекторским упорством спросил отец.
– А кто вам сказал? – спросил и его доктор Рыжиков. Не очень, правда, решительно…
– Все говорят… – мрачновато отрезал отец пути к первоисточнику.
– Ну как все? – чисто по-рыжиковски вздохнул доктор Рыжиков. – Все так сказать не могут… Вот спросите у товарищей.
Инспектор с сомнением посмотрел на Чикина и Сулеймана.
– Это ваши… Они не скажут…
– Понимаете, если бы мы начали сначала упражняться на собаках, девочка бы уже ослепла. Невозвратимо. Смотрите, разве она хуже себя чувствует?
Инспектор устремил задумчивый взгляд на девочку, играющую в коридоре с куклой. У куклы была забинтована голова.
– Это серьезный авар, – сказал Сулейман вслед ушедшему инспектору. – Еще может прийти.
…Не считая того, что в тот самый миг, когда пальцы доктора Рыжикова осторожно подбирались под надпиленный кусочек девочкиного черепа, чтобы, поднапрягшись, отломить его и дать первую свободу замурованному узнику – мозгу, в этот момент в дверь всунулась Валерия и не своим голосом сказала: «Папа, Танька под автобус попала!» Давно она не называла его папой.
Прибора, который определил бы, насколько дрогнули пальцы доктора Рыжикова, в природе нет. Но кроме первого ему предстояло со всей аккуратностью надломить еще шесть кусочков – так, чтобы не отломить от основания, но и сделать свободно раздвигающимися. Шесть маленьких калиток из царства дикой головной боли, выдавливающей изнутри глаза, если так можно выразиться.
Ошибка умненькой и высокомерной Валерии заключалась в том, что, вместо того чтобы сразу сказать главное, что Танька жива, она остановилась выждать, как отзовется на первую часть информации доктор Рыжиков.
Все камни, брошенные жизнью в его сердце, попадали туда как раз во время операций. Это уж как автомат завелся у Валеры Малышева.
На операции гнойного воспаления, или, выражаясь по ученому, абсцесса мозга, ему срывающимся голосом сказали, что его отец, старый местный фельдшер Петр Терентьевич Рыжиков, сын, в свою очередь, фельдшера еще земской больницы Терентия Рыжикова, умер в своем кресле с книгой «Тиль Уленшпигель» на опухших коленях. Окно было открыто, и Елизавета Фроловна сразу поняла это по тому, как насыпало на Петра Терентьевича мелких желтых яблоневых листьев. Да еще, бывает, делаешь вид, что не слышишь, особенно если только нащупаешь зондом жировой кокон абсцесса, и думаешь, как бы его не проткнуть и не залить гноем мозговые извилины, а тебя прямо за халат тянут: «Юрий Петрович, ваш отец умер!» Будто ты должен побросать инструмент в развернутую черепную коробку, воздеть к потолку руки и броситься вон. Вот часа три и притворяешься глухим.
Он поправлял голову одному Леньке Завидову, который выпал со второго этажа общежития в азарте подглядывания в душевую женского общежития, когда усердный гонец, задыхаясь от чувств, донес, что его мать Елизавета Фроловна Рыжикова скончалась, отболев мышечной дистрофией, болезнью, странной для садовода и объяснимой только с точки зрения неизлечимой тоски по ушедшему другу всей жизни. «Юрий Петрович! Лизавета Фроловна умерла!» «Ой, дяденька, только не уходите!» – промычал Ленька Завидов, маявшийся под местным наркозом и ловивший чутким ухом все вокруг.
Как по заказу, на операцию доктору Рыжикову принесли и даже прочитали вслух телеграмму, что его жена – бывшая, правда, на данный момент, – утонула в Черном море от столкновения двух моторных лодок с отдыхающими. Этот случай с пятью жертвами, трое в одной лодке и двое в другой, до сих пор пересказывают на том курортном берегу как прошлогоднее ужасное происшествие. Телеграмма гласила: «Сашей случилось несчастье выезжайте телом ялтинский морг». Как будто он должен был бросить вскрытые шейные позвонки с почти что каменным кольцом между ними вместо упругого хрящика и броситься за телом в ялтинский морг. Так человек, который увез его живую жену от него в Ялту, возвращал украденное. Синего ялтинского неба и лазурного моря он так и не заметил, потому что бегал по хилым предприятиям города-курорта в поисках листового цинка. Потом еще нужен был газосварщик высокого разряда, но курортников было много, а газосварщиков мало. Ялта есть Ялта. Потом билет на самолет, да не один, а его и одного-то не было на десять дней вперед. Вернее, целых три – доктор Рыжиков сначала думал, что гроб с телом провозят в багаже как груз, но оказалось, что как пассажира с двумя билетами. Одно мертвое тело шло за двух живых пассажиров. А срок хранения в морге истекал, хотя ялтинский морг по оснащению не чета нашему старому, хладокомбинат, а не морг. Все равно или сегодня вывози, или здесь хорони. Ни дня отсрочки.
После одного такого случая, когда другой, правда, хирург от вести, что его дочь на вступительных завалила математику, пришил конским волосом желудок к диафрагме, появился приказ по больнице, запрещавший сообщать хирургу во время операции посторонние новости. Приказ был зачитан в ротах, батальонах, в эскадрильях и на кораблях. Доктор Петрович облегченно вздохнул, полагая, что теперь-то ничего не случится, и вот на тебе: Танька – под автобус!
Доктор Рыжиков попросил добавить мочевины, чтобы мозг не ошарашило внезапным резким освобождением, осторожно поднатужился и надломил пластинку. Туда-сюда покачал ее, убеждаясь, что она с одной стороны достаточно пружинит, с другой – не отломилась совсем. И, убедившись, сказал:
– Какое же колесо у автобуса больше пострадало?
Это значило: не тяни, дура, кота за нервы, жива или нет?
– Тебе бы шуточки шутить, – обиделась Валерия, – а она в «Скорой» с поломанной ногой!
Сразу стало ясно, что Танька не в анатомичке с оторванной головой.
– Наконец-то! – как о долгожданном вздохнул доктор Рыжиков, укладывая первую пластинку и с характерным костным хрустом принимаясь за вторую. – Хоть ноги выпрямят, а то произрастает кривоножка…
Серьезный авар еще два раза пришел и ушел. Доктор Петрович еще два раза объяснил. Все, что смог. Кроме того, что не смог. Какой, например, такой нежной страстью могла воспылать мать троих дочерей, и одной почти взрослой, к артисту из приезжего театра, неправдоподобно сладкому герою-любовнику, после первой насквозь фальшивой пьесы, от которой любого стошнит… «Куда ты, дурочка, – говорил он печально, поливая цветы на могилке или подкрашивая железный заборчик. – С опущенным животом, венами на ногах… Все думаешь, что жизнь испорчена, нужно снова начать… Строишь из себя девочку…»
– Но ведь положено сначала на собаках, – говорил ему напоследок серьезный инспектор, перед тем как уйти.
– Серьезный авар, – с уважением говорил Сулейман. – Еще придет.
Но в следующий раз вместо авара пришел робкий мальчик. Мальчику было холодно, но он терпеливо стоял у двери, пока доктор Рыжиков его не заметил и не спросил, что ему надо. Мальчик сказал, что Жанну Исакову. Он был из балетной студии.
– Учитель прислал? – обрадовался доктор Рыжиков и начал лично одевать мальчика в длиннорукий и длиннополый халат.
– Нет… – сказал мальчик растерянно. – Я сам…
До сих пор Жанну навещали только писклявые щебечущие девочки с шоколадками и пирожными, чрезмерно калорийными для малой подвижности Жанны.
– Ты все равно скажи, что прислал, – чисто по-рыжиковски вздохнул доктор Рыжиков.
– Зачем? – с некоторым балетным высокомерием спросил мальчик.
Доктор Рыжиков должен был сказать, как Жанна его спрашивала каждое утро, придет ли сегодня учитель. Он уже смог сделать вывод, что Жанна была влюблена в учителя танцев. Он уже изоврался под ее взглядом, полным надежды и веры. После генеральных репетиций были поездки с гастролями, приглашения на областные смотры и фестивали, даже поездка в далекий и прекрасный город Горький. Мало того, что сам – пришлось учить врать девочек. Теперь и новенького мальчика. Но вслух он сказал:
– Просто мы тебя просим. Скажи, что ему некогда и он попросил тебя.
– Он меня не просил, – тихо, но твердо сказал балетный мальчик. – А без этого нельзя?
– Можно, – сказал доктор Рыжиков.
Когда они вошли в палату. Жанна в пижаме, подвешенная за пояс к рельсам, балансировала на передвижных брусьях, теперь уже усовершенствованных. Что-то вроде детской кроватки – но только перильца и на колесиках.
Они с мальчиком онемели друг перед другом, потом мальчик развернулся и бросился к выходу. Доктор Рыжиков думал, что он не выдержал. Но мальчик добежал только до своего пальто, вытащил оттуда бумажный пакет и прибежал обратно. В пакете оказались пять красных тепличных гвоздик. Забыв про свой смешной вид, обмотанный халатом, мальчик бросился в палату. «Ой! – засмеялась Жанна в своей детской коляске. – Цветы!»
45
– Но если положено сначала на собаке? – В глазах инспектора стояло искреннее служебное недоумение.
Тем более что из детской палаты к ним вышла, ведя куклу за руку, девочка с раскованной головой. Повязка с куклы уже была снята, с девочки – тоже. К ней уже приходила учительница заниматься чтением и арифметикой. В перерывах между их занятиями девочка учила выздоровевшую куклу. Здоровую, рыжую, голубоглазую импортную Гретхен. Увидев доктора Рыжикова, она засмеялась. Она уже научилась смеяться, особенно картинкам, которые рисовал доктор Рыжиков. На них прыгали с парашютом зайцы, волки, медведи, суслики, жеребята, ежи, верблюды, собаки, кошки. У них были очень забавные напуганные мордочки. Девочка смеялась до слез. И при виде доктора Рыжикова всегда начинала смеяться заранее. Отец смотрел на нее неверящим напряженным взглядом, в котором читался все тот же чисто инспекторский вопрос: но ведь положено сначала на собаке?
Доктор Рыжиков провел ладонью по ежику волос, уже почти скрывшему шрамик. Дело шло к выписке. Но машина прошла на красный свет, и с этим надо было что-то делать. Так этого оставлять было нельзя. Серьезный инспектор размышлял. Нарушений безнаказанных не должно быть – это был его краеугольный камень. Доктор его сдвинул на глазах. После этого просто взять девочку и увести инспектор был не вправе.
– Да зачем же на собаке? – терпеливо, как в самый первый раз, сказал доктор Рыжиков. – Кто вам это сказал?
Серьезный авар только открыл рот, – может, в этот раз он и сказал бы, кто каждый раз лишал его спокойствия, с которым он отсюда уходил, и снова посылал сюда за собакой.
Но еще быстрее открылась входная дверь, впустив сюда тревогу, а вместе с ней – человек десять испуганных и дрожащих взрослых вокруг одного застывшего и немигающего маленького.
Неизвестно, что больше поразило доктора Петровича: что этот маленький двигался сам, правда, поддерживаемый под локти, или что из обоих висков, правого и левого, у него торчало по железяке…
Или, наконец, что это был лично Женька Рязанцев собственной персоной.
Капли пота, крови, слез пробороздили его закопченную рожу. Женьку осторожно посадили на приемную кушетку.
– Здоров, братец кролик, – сел перед ним доктор Рыжиков, боясь даже дотронуться. – Попался?
Женька что-то проворчал языком.
– Молчи, – сказал доктор Рыжиков. – Сам вижу. Посиди на шампуре, если попался. А то убегать…
Женька в последний раз сбежал от него без предупреждения. Не вынесла душа поэта позора Анькистанькиных придирок. Каждое слово с ошибкой она заставляла переписывать по двадцать раз. Когда доктор Рыжиков пошел за ним, Женькина мать отвела глаза и фальшиво завздыхала, что Женька отбился от рук и носится по подвалам, где его не найти и в помине. Следов падишаха уже не было. Женькина мать смотрела и выражалась странно, как будто доктор Рыжиков пришел за долгом. Она суетилась, то сажала его, то пересаживала, то что-то подставляла, то убирала. Доктор Рыжиков попытался подождать Женьку, но Женькина мать сделала вид, что куда-то собирается. Вроде Женьку от него прятали.
Теперь и она была здесь, за спиной школьного врача, директора школы, завуча и бригады «скорой помощи». И ревела, затыкая рот мокрым рукавом пальто, пока под спину Женьки повыше подкладывали подушки.
– Переложил, значит, спичек? – заключил внешний осмотр доктор Рыжиков. – Молчи… Конечно, переложил. А если бы в глаз? Вот так торчало бы из глаза…
Сзади раздался громкий всхлип Женькиной матери.
– Молчи… – остановил Женькину попытку оправдаться доктор Рыжиков. – И молодец, что отвернулся. И правильно зажмурился. Да еще пороха добавил, правда? Из малокалиберных патрончиков. Молчи… Противостолбнячку ввели?
Женька все-таки произвел испытания своей царь-пушки. Шомпол-боек блестяще выполнил свою функцию, произведя мощный взрыв пугача и вырвавшись от удара наружу, где воткнулся в Женькин подставленный висок. Притом тупым загнутым концом, который проткнул голову, как гвоздь яблоко, и торчал себе теперь снаружи. Сквозное проволочное ранение.
– Сделали… – робко сказала бригада.
– А рентген?
– Нет… – испугалась она.
– Вот тебе и на… – нахмурился доктор Петрович. – Зачем же сюда потащили? Рентгена у нас нет… А без рентгена порвешь что-нибудь… Сослепу…
– Ой, помрет Женька! – взвыла Женькина мать.
– Тише… – сжал ей кто-то локоть очень мягкой рукой. – Вы не волнуйтесь, доктор Рыжиков замечательный врач, он спасет.
Женькина мать обернулась и ойкнула, как от привидения. С ней рядом стоял сосед Чикин в больничном халате и протягивал стакан кипяченой больничной воды.
– Ну, ВВС – страна чудес… – пробормотал доктор Рыжиков. – Все равно делать нечего… кроме запасных цепей. На фронте был похожий случай. В одного рядового целая мина попала немецкого ротного миномета. У немецких мин взрыватель на двух шариках, первый выскакивает при выстреле, а второй – при ударе. О землю или стену. Тогда и мина взрывается… Ну что, я ее трону… Больно?
Из Женькиного глаза скатилась слеза страдания.
– Солдатское плечо, конечно, твердое… Чтобы Родину поддержать. Но для взрывателя все-таки недостаточно. Мина воткнулась в солдата, а шарик не выскочил. И торчит, не взрывается. Здесь, из плеча, под ключицей. Сверху такое симпатичное оперение… А снизу такой симпатичненький носик… Хорошо бы нам твою голову отвинтить, зажать в большие тиски и…
Женька скорчил слабую гримасу, выражая отношение к тискам. Может, хотел презрительно улыбнуться.
– И вот несут солдата на носилках… – негромко и задумчиво пропел доктор Петрович. – А плоскогубцы есть у нас? Надо найти и сварить…
Сильва Сидоровна, выдавив, как поршень, всех лишних из кабинета, исчезла.
– Бывают же такие чудеса! – не переставал удивляться доктор Рыжиков. – Неужели нервные волокна не зацепило? Тогда капитан медицинской службы Лившиц велел занести его в землянку, а всем отойти на сто пятьдесят метров. Все отошли и ждут, когда она шарахнет. А бывают два чуда подряд, интересно? Чтобы на обратном пути тоже не порвало?
Он призадумался. Вернулась Сильва Сидоровна и сердитым шепотом сказала, что клещей в инструменталке нет.
– Не клещей, а плоскогубцев, – поправил доктор Рыжиков. – А спросите у Чикина. Или у каких-нибудь электриков… А капитан медслужбы Лившиц один, без ассистентов, стал разрезать воину плечо…
– У Чикина свои! – с торжеством вернулась Сильва Сидоровна. – Клещи!
– В кипятильник! – скомандовал доктор Петрович, не думая, какой это имеет смысл, если внутри Женькиной головы сидит кусок ржавой проволоки. – Только не клещи, а плоскогубцы. А может, у него наждачная бумага еще есть?
Когда Женьку перекатили в операционную, он сказал:
– Перед этим он вылил на рану пол-литра спирта и предупредил: «Дернешься или крикнешь – взорвемся, понял?»
Осторожно втиснувшийся Чикин с наждачным листком испуганно вздрогнул. Но в коридоре, оправившись, шепнул Женькиной матери: «Все очень благополучно…» Что может быть благополучнее опухшей рожицы, измазанной йодом, с торчащими возле ушей рожками шампура…
– Как хорошо сидит, жалко вытаскивать. – Доктор Рыжиков стал воздушными движениями оттирать стержень ваткой от ржавчины. Ватка брала мало, и он пустил в ход наждачный листок. Женька задрожал всем телом. – Спокойно… Еще новокаин… Вот взял бы и перед стрельбой сам бы очистил. Облегчил наш труд и свою участь… В следующий раз не забудь предварительно прокипятить пугач, понял? Чтобы сразу стерильным… вбить в щеку… Ну вот, солдат стиснул зубы и молчит…
В этот момент Женькина мать обезумела и стала из коридора рваться в операционную. Ей показалось, что Женька уже умер, а ей ничего не говорят. Ее держали Чикин, директор школы, завуч, участковый милиционер и подоспевший из своей зубодерни Сулейман. Да и то еле справились, оттеснив ее к стенке на стул. Там она ослабела.
Рядом из двери слышался какой-то странный счет: раз-два-три-четыре… Раз-два-три-четыре… Там мальчик из балетной студии тренировал Жанну Исакову. Он приходил каждый день. Никакой шум не мог заставить его отвлечься и хотя бы выглянуть в коридор. Для этого не хватило бы даже землетрясения.
…Женька уже совсем утонул в вате, марле, простынях, йоде, зеленке. Из этого уютного гнездышка смотрели расширенные Женькины глаза, которые он упорно боялся закрыть.
– Еще новокаинчика, – сказал доктор Петрович.
Женьке воткнули иглу в скулу.
– Не напрягайся, – сказал доктор Петрович. – Это легче, чем рвать зуб.
– Извините… – услышал он тут же возле себя. – Это смотря кто рвет. Если, например, Лев Христофорович…
Доктор Рыжиков ощутил в пропитанном медпрепаратами воздухе мягкую улыбку Сулеймана.
– Капитан Лившиц сделал скальпелем разрез, чтобы мина шла легче. Солдат молчит… Капитан Лившиц заткнул разрез марлевым тампоном, так как даже кровь останавливать было некогда. – Он протянул руку и несколько раз сжал пальцы.
Сильва Сидоровна вложила в них еще горячеватые плоскогубцы. Тут доктор Рыжиков допустил мысль, что на кой черт их надо было прокаливать, если в ране сидит ржавый гвоздь. Но железяка-то может сколько угодно нарушать инструкцию о стерильности, а бедный хирург пусть только попробует.
Дальнейшая пауза означала, что доктор Петрович задумался: тянуть штырь непрерывно, небольшими рывками, или же с поворотом, винтом? Что там еще могло натянуться и лопнуть?
– Немножко туда-сюда и тянуть потихоньку, – подсказал Сулейман. – Давайте я. Это как молочный зуб…
– Рука в крови, мина скользит, не цепляется, – сказал доктор Рыжиков. – А дернуть сильно он боится. А надо не бояться. Надо как следует сжать клешней… – Он уперся одной ладонью в потный и холодный Женькин лоб, другой покрепче стиснул ручки плоскогубцев. Ладонь вспотела, ручки стали скользкими. – Упереться… И уже до победы. До полной и окончательной… Вот он ее зацепил ногтями и…
…Окровавленный стержень у доктора Рыжикова в руке. У Женьки – две дырки, на правом и левом виске, и изумленно разинутый рот.
– Это я в кино видел, – ничуть не удивился Сулейман. – «Дорогой мой человек», Баталов играл. Это Баталов мину вытащил. Я из-за него тоже в медицинский пошел. Из Кизыл-Арвата уехал.
– Йод, перекись, пластырь! – Доктор Рыжиков почувствовал, как бежит по спине холодный пот. Женька даже не ойкнул. Он только стиснул зубы. Но главное, из ранки не ударил фонтан крови или еще какая-нибудь неприятность. – А там народ уже забылся, кто перекусывает, кто дремлет на солнышке… И тут он из землянки выносит… Как младенца. Ну, все носом в землю. Думают, каюк. Но капитан медслужбы Лившиц донес младенца до оврага и бросил туда. Сам залег на краю. Мина ка-ак жахнет… Солдат в палатке ка-ак… Капитан медслужбы Лившиц на фельдшеров ка-ак… Что бойца не бегут перевязывать. Этот случай и использовал Юрий Герман в фильме «Дорогой мой человек». А может, другой, похожий.
Это в каждой армии хоть раз да случилось. На Волховском фронте, например, была женщина, тоже капитан медслужбы, Казанцева. Она мину вытащила из бедра у сапера. Потом погибла под бомбежкой. Уже после прорыва на Свири… Гвоздь выбросить или на память оставить?
Жалко было даже выбрасывать в таз. Но надо было ковыряться в ранках, извлекая из них кусочки грязи и ржавчины. Да что толку, если внутрь не пролезешь. Стать бы на минутку маленьким, с булавочную головку, влезть Женьке в правый висок и вылезти в левый…
Вроде, на первый взгляд, обошлось. На краях ранок вскипает перекись. Но могло порваться что-нибудь невидимое глазу. Не онемел он, не оглох, не ослеп?
– Ты меня видишь? – спросил доктор Рыжиков.
Женька что-то моргнул.
– А слышишь?
Женька прибавил моргания.
– Ну тогда скажи что-нибудь, – снял доктор Рыжиков запрет. – Теперь можно. Только осторожно.
– А я уфал ваф фоф, – осторожно проворочал языком Женька.
46
– А какой нож? – спросил Сулейман. – Почему украл?
– Нож?.. – задумался доктор Петрович. – Нож… А я еще думаю, вот склероз – забыл, куда засунул, найти не могу. Эсэсовский кортик с костяной такой ручкой. Ножны такие граненые, надпись готическая…
Как всегда, на обрывке бумаги возникло то, о чем говорил доктор Рыжиков. Эффектный, холодом разящий образ вражеского оружия.
– Извините… – покачал головой Сулейман. – Если бы я был мальчишкой в Кизыл-Арвате, то ни за что бы не удержался. Тоже бы украл, наверное. А что это написано?
– Так ведь и я не удержался, – отдал дань справедливости доктор Петрович. – Когда на границе был приказ всем нетабельное оружие сдать. Под страхом особого отдела. У меня еще был «вальтер» офицерский, красивый такой. С комплектом патрончиков, замечательная машинка. Пришлось в Чопе выйти за станцию и в самый толстый бук всадить все двести штук, чтобы душу отвести, адреналин вывести. Вот что такое мальчишки, Сулейман. После такой войны еще не настрелялся. Ну и все там такую же стрельбу подняли. Жаль было обидно, так хотелось дома перед девушками покрасоваться! А теперь думаешь, не отобрали бы, представляете, какая тьма оружия ходила бы по стране после демобилизации? Да и так его было тьма в разных углах после боев… Ну вот, «вальтер» сдал, а кортик все-таки упрятал. В сапоге под штаниной. Написан на нем их эсэсовский девиз: «Моя честь – верность».
Сулейман даже языком цокнул.
– Какие люди бывают, Юрий Петрович!
– Какие? – спросил доктор Рыжиков.
– Сами грабят, убивают, жгут, весь мир разоряют, а говорят: честь, верность!
До того детское удивление, будто кизыл-арватскому мальчику в сорок шестом году показали цветной телевизор.
– Что делать, Сулейман… – вздохнул доктор Петрович, как перед лицом неизлечимой болезни. – Никто ведь не напишет на своем знамени: моя честь – подлость. А прикрываться словами принято с самых древних времен. Ведь они не кусаются. Если бы вы, то есть не вы, а они, сказали, например, «честь», а оно их за язык укусило… Вот тогда бы да. А так – полная безнаказанность. Да еще издеваются над словами. «Каждому свое», например. Ничего особенного, обидного. Сколько веков слышали. А повисело на воротах Бухенвальда – весь мир их проклял. Нас-то уже не обманешь, мы-то разобрались. Своей и другой кровью. А вот перемрем мы здесь, на Западе из старое поколение, битое, снова начнет салажат цеплять на эту честь и верность. Да уже начали, забывают про наши «катюши»… Бандитизм за доблесть принимают… Тяжелее всего, Сулейман, видеть, как детей дурачат, и они во все это верят и в зверят превращаются. Вот это страшно. Я это видел, Сулейман, и нож отобрал у такого.
– У пленного? – наивно спросил Сулейман.
– Какой там пленный, – отдал еще одну дань справедливости доктор Петрович. – В плен они не сдавались. Не положено было. Как-никак полк личной охраны Гитлера. И мы с ним столкнулись на Рабе. Речка есть такая, не слышали?
– Нет… – покачал головой Сулейман.
– На границе Венгрии с Австрией. А Австрия – родина Гитлера, это вы знаете. И он туда этот полк выставил с приказом нас в Австрию не пущать, гвардейцев-десантников. Вот и встретились. Мы еще не старые, а они, по-моему, и нас моложе, лет по семнадцать, может. Но здоровые, не ниже метра восемьдесят, белобрысые, ну чистокровные арийцы. Еще тепленькие, из «гитлерюгенда». Всю войну в спецчастях выдерживали, а там кормежка! Белый хлеб, масло, ветчина со всей Европы, наше украинское сало. Кормили как сторожевых овчарок, ну и внушали, что это за верность и преданность. За то, что они самые сильные, самые храбрые и чистокровные. Ну, а потом пожалте отрабатывать. За эту самую родину Гитлера.
– И у него еще родина есть! – сокрушился и тут Сулейман.
– Была, как ни странно, – пожалел это святое слово и доктор. – Дорого нам обошлось это сало. Их-то физически вон как готовили! А мы дистрофики, вечно голодные, штаны и гимнастерка болтаются как на костях. Ну и низшая раса, конечно, недочеловеки. Они нас презирают, а мы… Да еще башка гудит после контузии, замахнусь прикладом – самого откачивает… А драться надо. Ох, драка, драка, не игрушка… Первая моя рукопашная и одна за всю войну. Настоящая рукопашная, жуткая, Сулейман. Никогда не верьте, когда вам в кино красивую войну показывают. И вообще в кино все не так, никогда не так. И дерутся там слишком красиво, и падают, и умирают красиво. А на самом деле это безобразно, Сулейман. Обожженный человек, разодранный человек, искалеченный человек… И убивающий, и убитый… Кричащий человек. Много страха, много истерии… Особенно в такой драке, как у нас на Рабе. По пояс в воде, по колена в грязи. Пока одни других не перережут, не передушат или не перетопят – ни вперед, ни назад. Друг другу в горло повцеплялись и тянут в воду, пока не утопит кто-то кого-то или оба не захлебнутся… Вода в реке красная, красная грязь течет с берегов… Вспоминаешь – мальчишеская драка, только жестокая, насмерть. На чем мы держались – на ненависти. Их напоили, довели до истерики, в них пули всаживаешь, а они смеются. Викингами себя представляют, которые с мечами в руках переселяются прямо в рай, к своим валькириям. А нам что делать? Только звереть, иначе не побьешь. «Раз ты пес, так я – собака, раз ты черт, так я сам – черт!» По Твардовскому, это полная психология войны. Больше его читайте. И погибло там наших, таких же мальчишек, один к одному. Такая была драка. Ну и этот мой… Лучше не вспоминать. Я его луплю саперной лопаткой по голове, по морде, он уже весь в кровище, а все никак не падает, прет на меня с этим тесаком… Резекцию желудка делать. Бр-р… Потом… Ну, потом кортик стал мой.
Ночь. Тишина. Маленький местный мальчишка, укравший тот нож, сопит за стенкой в анальгическо-димедрольном сне. У него в голове сквозная дырка от виска до виска, а также много других, наверное, еще неизвестных подвигов и приключений. Наследник победителей, еще не знающий истинного ужаса и веса этого кортика и этих иностранных слов. Их истинного пути сюда, в его невинные руки. И хорошо, если бы только в его.
– Я совсем забыл, что от собак и от детей надо все прятать, когда у них растут зубы и руки… Сам виноват. Нет, правильно у нас тогда эти трофеи отбирали. Слишком у них долгоиграющий завод. Теперь допрашивай его, куда дел… Противное это дело, но придется. Холодное оружие все-таки.
– Да, у нас бы в Кизыл-Арвате всех мальчишек уже бы секли, всех допрашивали, кто нож прячет, – морально поддержал Сулейман. – Особенно у кого отец на войне был. Крик бы был во всех дворах, женщины бы на базаре про покупки забыли, только это обсуждали. Все бы за вас переживали, советы приходили давать.
Все это значило: хорошо было у нас в Кизыл-Арвате.
– А в Австрию мы все-таки вошли, – сказал доктор Петрович с тем же удовлетворением, что и от вырезанной опухоли. – Говорят, Гитлера это сильно взбесило. Расстроился за свою родину и велел с каждого позорно содрать знаки своей личной охраны. Только сдирать, Сулейман, было не с кого. Весь полк перебили, даже пленных не оказалось. Ну и у нас… В роте офицеров не осталось ни одного, до самого конца старшина нашими остатками командовал.
– Знали бы, что Гитлер так поступит после их смерти… – почему-то пожалел Сулейман эти отборные вражеские войска.
– А после мы узнали, – голос доктора Рыжикова был почти монотонен, как при зачитывании протокола вскрытия, – что все они были из сирот. И в основном – дети замученных антифашистов, даже коммунистов. Родителей добивали в концлагерях, детей откармливали в «гитлерюгенде». А оттуда – в эсэсовский полк. Как это назвать, Сулейман? – И поскольку у Сулеймана не нашлось подходящего слова, он назвал сам: – Изуверство. Самое циничное преступление против человечности. Дети ведь очень беззащитны, Сулейман. Их можно искривить навсегда как захочешь. Вот копрачикосов надо расстреливать на месте, без суда, беспощадно. И физических, и моральных.
Доктор Петрович, всегда осторожно судивший, впервые отступил от своих правил. И вынес беспощадный приговор.
– У нас в Кизыл-Арвате тоже так говорили, – поддержал Сулейман. – Все бы их своими руками казнили. У нас ее читали по частям. Разодрали на десять частей и передавали друг другу. Иногда что раньше – читаешь позже, а что позже – раньше. Мне так начало и конец и не достались. Там и сейчас эти части читают, наверное…
– Теперь как подумаешь, кого бил лопаткой по голове и лицу… – Доктор Рыжиков тяжко, совсем не по-рыжиковски вздохнул. – А что, Сулейман, было делать? Ждать, пока он мне всадит эту честь в живот? Или погонит нас обратно на Украину?
– Ай, и у нас были сироты, – тихо сказал Сулейман, понимая и леча эту тяжесть. – Еще больше…
– Да, – бесспорно согласился доктор Рыжиков. – И своих больше жалко, вы правы. Значит, сначала надо было победить, а потом разбираться. Потом жалеть…
И все же. Может, оно и пришло, это «потом». Когда ощущаешь это двойное сиротство несчастных, дрессированных, ослепленных бешеной верностью мальчишек, перебитых нами на границе с Австрией. Верность чему?
– Знали бы, кто их родители, знали бы, что Гитлер с ними сделал… – Сулейман словно еще надеялся пустить машину времени вспять.
– Да еще бы смотрели каждый день «Чапаева» и «Щорса»… – Доктор Рыжиков тоже будто думал пустить мать-историю вспять, в обход той окровавленной малой саперной лопатки.
Нигде никогда никакая украденная личная собственность не вызывала, наверное, такого ухода мысли в сторону от самого простого и естественного дела – наказать виновника. Да и лучше самой жизни не накажешь о чем говорит появление в дверях мужской палаты больного Чикина с двумя утками в осторожных руках: утка из-под больного Туркутюкова и утка из-под больного Женьки Рязанцева. Снова «с добрым утром». И чтобы доктор Рыжиков в итоге не подумал что-нибудь не так про маленький родной Кизыл-Арват, Сулейман напоследок сказал:
– Только у нас в Кизыл-Арвате тоже знали, какая война некрасивая. Ну, потом…
47
– У вас что там, подпольная клиника, что ли? – спросил потом критично дежурный лейтенант, особо косясь на восточного типа.
– Нет… – сказал доктор Рыжиков. – Самая обычная.
– Извините… – мягко улыбнулся Сулейман, восточный тип.
– А почему руку к животу пришили? – спросил лейтенант. – С какими целями?
– С чисто хирургическими, – покорно сказал доктор Рыжиков. – Понимаете, это так называемый филатовский стебель. Для косметической операции, формирования мякоти носа.
– Что-то вы несете… – пронзил его бдительным взглядом дежурный. – Я тоже про Филатова кое-что слышал, он глаза лечил. А нос как-никак на лице. А к животу-то зачем? И почему он от вас убежал? Живот-то тут при чем?
– Мы сами хотим спросить, почему убежал… – робко склонился к начальственному барьеру доктор Рыжиков.
Где-то по городу еще носилась Сильва Сидоровна. Как бы она, бедная, не обезумела, подумал доктор Рыжиков.
Туркутюкова хватились тут же. Только что полоскал рот в туалете над раковиной из своего особого приспособления – баллона с трубочкой, сделанного доктором Петровичем. Он думал, что когда Туркутюков пойдет, будет гораздо легче. И вот на тебе. Как провалился. Растворился. Никакого следа. Кроме пустой обеденной посуды на столике в коридоре. А уже пора жгут массировать, время идет. И никакого неудовольствия не высказывал. Наоборот, впервые на своем еще не оформленном птичьем языке попросил нечто совершенно немыслимое – «уотек нята т онунтиом». Доктор Рыжиков перевел это как «кусочек мяса с огурчиком» и спросил еще, жареного или вареного. Конечно, лучше жареного. То, что больной вспомнил запах жареного мяса и у него во рту, прошитом вдоль и поперек, стянутом проволокой и состоящем из пластмассовых запчастей, потекли слюнки, было неоспоримой победой медицины. Сильва Сидоровна никому не позволяла готовить для него еду, и особенно – больничной кухне. На плитке в дежурке она готовила жидкую манную кашу, толокно и рисовый отвар из детского питания, куда всегда добавляла собственную черносмородиновую пасту, принесенную из дому в трехлитровом баллоне. Долго это и была основная еда Туркутюкова, которую сначала вводили прямо в желудок через тоненькую трубку. Жалко, что вкус при этом способе был не нужен. Зато когда он снова понадобился, Туркутюков стал объедаться. Сильве Сидоровне пришлось принести второй баллон с пастой. Тем более взгляды трех девочек и присоединившегося к ним Женьки…
Когда эра манной каши приблизилась к закату, Сильва Сидоровна принялась там же жарить мясо – маленькими сочными кусочками, которые можно бы было не жевать, а сосать в крайнем случае. У нее был свой особый рецепт. До полного таяния во рту.
На вкусный запах потихоньку вылезли из палат все, кто мог ходить. Когда Сильва Сидоровна выглянула в коридор, это было для нее приятной неожиданностью. Столько слюнкоглотателей на крохотную сковородку! Сердито хлопнув дверью, она вернулась резать на крошечные кусочки аппетитный соленый огурец весьма качественного, не хуже болгарского, посола. Конечно, не магазинного, а домашнего. «Что выставились, ужин был, кур давали…» – сердито бурчала она. Выйдя же в коридор вторично, чтобы пройти к Туркутюкову с тарелочкой, столкнулась там с доктором Рыжиковым, который нес какую-то кастрюльку и какую-то баночку. Бросив, как всегда, настороженный взгляд, Сильва Сидоровна легко поняла, что в кастрюльке у доктора Рыжикова жаренное мелкими кусочками мясо (тоже мне, и жарить-то некому, а берутся), а в банке – мелко нарезанный соленый огурец (небось покупной, с плесенью). Так, чтоб можно было брать почти не раскрывая рта. Она сказала, чтобы доктор Рыжиков свою стряпню отдал другим желающим, а для челюстнобольного у нее есть что надо. Доктор Рыжиков стал препираться, но в это время отворилась дверь и вошел Сулейман с аккуратной пирамидкой судков…
…– Спросим, спросим… – постучал лейтенант пальцами по стеклу, под которым распластались инструкции. – Все спросим. Всех, кого надо. Что-то я никогда не видел, чтобы палец к животу пришивали…
– Извините… – мягко улыбнулся Сулейман. – А вот варолиев мост вы, например, когда-нибудь видели?
– Что?! – удивился лейтенант.
…В милицию они пришли уже на третьем часу поиска, после того как прочесали город по квадратам на всем городском транспорте, сунулись во все дворы и подворотни. Конечно, напрасно.
– Я мостов всяких видел, – почему-то с угрозой сказал лейтенант. – И, между прочим, этот ваш «Мост Ватерлоо» раза три только у нас в клубе. Только при чем этот мост – не пойму. Что-то вы мне мозги пудрите. Вот напишите на бумаге все подробно, тогда поговорим. И про ваши беспорядки, между прочим. Почему больные люди убегают, вместо того чтобы лечиться… Кто это так за ними смотрит…
– Понимаете, – как можно терпеливей сказал доктор Рыжиков, – пока мы писать будем, пусть его начинают искать. Человека кормить надо, он замерзнуть может…
– Ишь какие заботливые, – посочувствовал лейтенант. – А где вы раньше были? Садитесь и пишите про ваши эксперименты.
– Лучше мы тоже пойдем искать! – взмолился доктор Рыжиков.
– Как же, сыщики! Знаем мы вас! Вот документики ваши проверим, личность удостоверим, потом и думать будем, отпускать вас или нет.
Доктору Рыжикову показалось, что над городом пронесся тоскливый вой проклинающей себя Сильвы Сидоровны. Если Туркутюков провалился в какую-то яму… Попал под автобус… Потерял сознание… Нарвался на хулигана…
– Извините, товарищ лейтенант… – мягко сказал Сулейман. – Этот больной – не простой больной. Это герой военных лет, скоро его вызовут в Москву вручать награду, к этому времени мы его вылечим. А вот не дай бог что-нибудь…
– Да? – Лейтенант стал задумчивым. – А может быть, он к вам не хочет возвращаться?
– Но куда-то он должен вернуться, – мягко улыбнулся Сулейман. – С улицы…
Лейтенант еще полминуты подумал, потом неохотно взялся за телефонную трубку.
– Вы пишите, пишите. Подробно фамилию, адрес, место работы, обстоятельства происшествия… Цель пришивания пальца к животу… – И в трубку: – Евстифеев! Зайди-ка!
Появился сержант Евстифеев.
– Вот, Евстифеев, пусть товарищи послушают, правильно или нет. «Сего числа и года, в одиннадцать часов пятнадцать минут, наблюдая способом патрулирования за порученным отведенным участком от угла улиц Рылеева и Свердлова до угла Свердлова и Толстого, обнаружил неизвестного гражданина, по виду похожего на ориентировку сбежавшего четыре дня назад больного психбольницы, в больничном халате и туфлях, с перевязанной головой. При близком рассмотрении и попытке проверить документы было обнаружено прирастание у задержанного большого пальца правой руки к середине живота, в то время как документов не обнаружено…»
Доктор Рыжиков и Сулейман бросились на сержанта.
Впоследствии, когда бурная часть страстей улеглась, лейтенант сказал сержанту:
– Видишь, Евстифеев, я тебе сразу сказал, что это не из психиатрической больницы. Я туда позвонил, там сказали, что у ихнего с пальцами все в порядке. А ты не верил…
– А где он?! – закричали доктор Рыжиков и Сулейман.
– В изоляторе, где же? – спокойно сказал Евстифеев. – Где же еще быть? Не в вытрезвителе, потому как трезвый… Привести, что ли?
– Веди! – сказал дежурный.
Но самым потрясающим был довольный и миролюбивый вид Туркутюкова.
– Ну что, товарищ? – почти почтительно на всякий случай спросил его дежурный. – Вот товарищи прибыли за вами. Согласны к ним вернуться?
Туркутюков легко согласился и был как будто рад.
– Да вы не беспокойтесь, – с гордостью за фирму сказал лейтенант. – У нас тут не хуже больницы. Приводов пока нет, никто ему не мешал, в камере тепло, дезинфекцию два раза в неделю делают. Обедом накормили…
– Извините, каким обедом? – погасил искру в глазах Сулейман.
– Ну каким… Не бифштексом, конечно, но… Суп гороховый, тушеная картошка…
– И вы ели? – с ужасом спросили они у Туркутюкова.
– А почему нет? – пожал плечами Евстифеев. – Умял за милую душу…
Счастье советской милиции, что Сильва Сидоровна еще где-то блуждала по подворотням. Зубов-то у него почти не было.
Обратно их, конечно, подвезли. Туркутюков с живым интересом поглядывал в заднее окно патрульной машины, послушно дал себе массировать филатовский стебель и сразу ответил, куда и зачем он ушел:
– К Чикину…
Это у него прозвучало так просто и естественно, что доктор Сулейман мягко улыбнулся им обоим и сержанту Евстифееву:
– Извините…
В его глазах прыгнули и утонули золотистые искры.
– Один бедный пришел в милицию с золотыми зубами, – еще успел он рассказать до больничных ворот. – И заявление написал, что золото украли, он чувствует, что коронки меньше, чем он золота давал. Ему говорят: так ведь надо теперь обратно все вырывать – и мосты, и коронки – и взвешивать. Он говорит: мне правда дороже, пусть дам снова вырвать, но за свои граммы воров посажу. Ему коронки посрывали, взвесили, смотрят – все правильно, грамм в грамм. Показали ему акт экспертизы, говорят: снова вставлять будет? Он говорит: они успели подменить, у них руки ловкие. Ему говорят: ну, давай эти вставим, правильные. Он говорит: а потом снова подмените, когда вставлять будете. Я языком чувствую, что несколько граммов не хватает… Они говорят: ну давай прямо с весов тебе в рот… Он говорит: только пусть инспектор ОБХСС присутствует и контролирует лично. А в ОБХСС говорят: такого в инструкции нет, чтобы работник милиции раньше воровства приходил и следил за производственным процессом. Так мы работников не напасемся. Это дело производственного ОТК. И так полгода спорили…
Доктор Рыжиков в какой-то момент подумал о Чикине и так и не уловил, вставил бедный клиент себе к сегодняшнему дню золотые зубы или нет. Только увидел, как смеются сержант Евстифеев и Туркутюков и как удивленно-мягко улыбается Сулейман, как бы не зная, верить или не верить тому, что сам рассказал.
Собственно, до него еще не очень дошло, что после двадцатилетних пряток летчик Туркутюков спокойно вышел на улицу и отправился искать своего приятеля. Когда ему сшили филатовский стебель, не кто иной, как Чикин, сидел возле него по нескольку часов и массировал этот странный жгут, соединяющий палец с животом. Ему объяснили, что от Туркутюкова сейчас нельзя отходить ни на минуту. Чикин нес вахту, пока его не сняли с поста внешние обстоятельства. И без тихого разговора с ним на тему женского коварства и особенностей разных инженерных сооружений Туркутюков затосковал. Сейчас он улыбался и смотрел в окошечко, как в интересном кино. Иногда он вынимал из кармана карманное зеркальце и смотрел, уменьшились ли швы, как ему было обещано при снятии повязки с лица. Когда снимали повязку, доктор Рыжиков принес торт и бутылку шампанского. По глотку сделали все – Коля Козлов, Сильва Сидоровна, рыжая кошка Лариска, Сулейман, Чикин, Лев Христофорович, Аве Мария, посмотревшая на Колю Козлова, когда он глотал, трагическим взглядом. Кроме доктора Рыжикова и Туркутюкова, который последние лет двадцать не брал в рот спиртного. Ну, а доктор Рыжиков – известный контуженный. Торт в основном достался детям.
Вечером доктор Рыжиков сказал Сулейману:
– Вам придется съездить в Москву, Сулейман…
– Извините… – мягко улыбнулся Сулейман. – Лучше пусть едет Лариса Сергеевна. Это ее приглашали.
– Нет, это надо вам, – мягко улыбнулся доктор Рыжиков. – Покрутитесь там как следует. В косметике и у челюстников. А то мы самодеятельность развели… Вы когда-нибудь были в Москве?
– Никогда, – сказал Сулейман. – Хотели ехать после свадьбы в путешествие, у родственников денег заняли, но я был студент, бедный. Все деньги истратились…
– А хотите? – помолчав, спросил доктор Рыжиков.
– Хочу, – сказал Сулейман. – Только мне надо дома воду носить, печку топить…
– Натаскаем, – сказал доктор Рыжиков, – и натопим. Я вам еще в Бурденко записку напишу. Там есть один хороший парень. Он вам все покажет. Может, на операцию к Арутюнову проведет. Если еще повезет. Учитесь у гигантов, пока они живы. Потом будут цениться и те, кто видел великих. Хоть раз в жизни. А Ларису Сергеевну мы потом тоже направим.
– Мне сначала надо научиться как вы, – мягко сказал Сулейман.
– Учитесь сразу как он, – мягко приказал доктор Рыжиков.
– Извините… – мягко улыбнулся Сулейман.
48
– Так вот для чего Юрию Петровичу понадобился укромный уголок, – сказала коллега Ада Викторовна со всей присущей ей убедительностью и даже страстностью. – Маленькое отделение в тени деревьев… Подальше от лишних глаз… Цветные стеклышки, маленькие палатки, интимный уют… Теперь мы все понимаем! Именно все коллеги понимают!
У всех коллег раза в полтора удлинились шеи. Никогда еще больничный автоклав не вмещал их сразу столько одномоментно. Так звали зал планерок и совещаний, он же красный уголок, из-за высоких температур и давлений, иногда возникавших в нем. Но в этот раз – что-то необычное. Как будто никому не надо бежать за детьми, по магазинам, на совместительские заработки. Сюда набилась вся больница, и, кажется, не одна.
Шло персональное дело доктора Рыжикова.
– Это потребовалось товарищу Рыжикову не для гуманного долга врача, а для укрытия от справедливого наказания уголовного преступника, почти что убийцу, извините, товарищи, сексуального садиста. Не один месяц подряд многоуважаемый доктор Петро… извините… Юрий Петрович ставил уголовному преступнику мнимый диагноз заболевания сосудов головного мозга в результате якобы полученной травмы. Органы прокуратуры были вынуждены назначить комиссию из компетентных специалистов, которая обследовала этого Чикина и вынесла заключение, что он вполне здоров. Этот Чикин предстанет перед судом и понесет заслуженное наказание. Ну, а что же его покровитель? Зачитываю объяснение, которое написал по требованию руководства горздрава завотделением Рыжиков. «Объяснительная. После совершения семи убийств со зверским расчленением жертв и отправкой их по частям посылками в разные концы нашей необъятной страны мы с сообщником решили замаскироваться, или, на нашем преступном жаргоне, лечь на дно, до новых жестоких преступлений, для чего и укрылись в подходящей малине в ожидании новых беспомощных жертв…» Вы напрасно смеетесь, уважаемые коллеги. Многоуважаемый коллега любит отделываться шуточками, но всему есть именно предел! Никому не позволено оскорблять коллег по работе! Давать им клички и прозвища! – В только что снисходительном и победном голосе Ядовитовны появилась плаксивая нотка. Она взывала к общему сочувствию. И даже задышала чаще. – Но это еще далеко не все!
Сразу было видно, что материал собирался долго и тщательно, с толком и вкусом.
– Все мы знаем, что закон Гиппократа гласит: советский врач не имеет морального права использовать свое положение в корыстных целях. А товарищ Рыжиков неоднократно и постоянно использует своих больных для именно корыстных целей, берет с них взятки. Об этом очень неприятно говорить для чести нашего коллектива, но спросите в хозчасти, откуда взялись строительные материалы и разные там… украшения? Там скажут, что ни одного кирпича для ремонта отделения еще не выписывали, на это и фондов не отпускали. Откуда же все это взялось? Не из воздуха же! Конечно, достали больные, принужденные товарищем Рыжиковым. И достали, товарищи, именно из государственного кармана! Потому что своего-то у нас нету! Это, товарищи, прямое принуждение к воровству! В хозчасти говорят, что столько стройматериалов, которых он проглотил, сроду не выдавали всей больнице на год! А тут крохотное отделеньице, две палатки всего! Откуда эти цветные стеклышки, откуда роскошные люстры? Импортный линолеум? Я думаю, если следственные органы начнут все это искать там, где оно поисчезало, то на больницу ляжет крупное позорное пятно. И пострадают люди, которые именно честно и бескорыстно выполняют закон Гиппократа, не думая о…
– Как пострадают?! – спросил кто-то с места.
– А вот так! Теперь именно на всех будут думать, что здесь работают такие нечестные врачи. Ведь это позор, товарищи, за лечение, за возвращение человеческого здоровья брать с него плату натурой! Это капиталистический принцип! С ним мириться нельзя! И мы не должны мириться, что про нашу больницу будут так думать. Здесь работает множество честных и добросовестных людей – врачей, медсестер, санитарок. Мы должны передать все эти материалы в редакцию, чтобы люди узнали из статьи: мы сами решительно выступаем против всего нечестного, искореняем недостатки в своем коллективе. Именно! Это у нас единственный выход! И еще один пример, товарищи! В главной хирургии был списан неисправный аппарат искусственного дыхания. И вместо того чтобы отправить его по назначению, доктор Рыжиков ночью с сообщниками выкрал его и тайно установил в своем так называемом отделении. Вы знаете, как строго относятся вышестоящие органы к оформлению списания и к добросовестности актов. Так можно мало ли чего насписывать в свой личный карман! Органы ОБХСС еще разберутся с этим хищением и примут свои меры. Но мы не вправе ждать, пока нам укажут на это сверху или со стороны, и до этого мириться с должностным преступлением! Мы именно не вправе как советские врачи, выполняющие свой гуманный долг! А теперь спросим товарища Рыжикова, зачем ему понадобилось не обычное больничное отделение, как у нас всех, пусть скромное, но имеющее все необходимое для именно лечебной работы, а именно интимный уголок? Да, на первый взгляд это красиво, эти цветные стекла, светлые стены, люстры… Как будто это забота о больных. Но это, товарищи, забота о себе! Ведь им с уголовным, якобы больным, Чикиным надо было как-то проводить время! И они открыли у себя попросту танцевальный салон! Да, да, товарищи! У них там под музыку какие-то молодые люди растанцовывают себе, а их койки числятся занятыми! Кого они так услаждают? Что же, товарищи, и мы позволим превратить советскую больницу в сомнительное увеселительное заведение? Нет, не позволим! Я заявляю это со всей уверенностью от имени именно нас всех! Надо еще спросить, какие песни там звучат по вечерам на магнитофоне! Это, товарищи, не наши песни! Это блатные и пошлые песни какого-то там Окуджавы и какого-то Высоцкого! Их слушают в своих компаниях сомнительные стиляги, и им не место в советской больнице!
Знала бы гладкая Ада, воплощение оскорбленной невинности, что доктор Рыжиков пытался даже оперировать под музыку, заявляя окружающим, что под нее и корова доится активней. Последнее слово науки. Но, к счастью, не знала. Но знала, как выбрать момент для доклада. В автоклаве отсутствовали и рыжая царапучая кошка Лариска, и уволенный Коля Козлов, и прихворнувший Лев Христофорович, и дежурящий Сулейман. Впрочем, может, это вышло случайно. Всем же остальным, даже кто видел жалкие обрывки и крохи, украшавшие бывшую прачечную, кто хоть раз видел Жанну, танцующую на костылях, захотелось сбегать посмотреть, что там за дворец с Шехерезадами.
– И пусть отвечает серьезно!
Вот что он не мог – то не мог: серьезно отвечать.
А в этот раз – даже серьезно слушать.
Потому что должен был серьезно думать. «Что делать? – думал он. – Что делать?» И чего не делать… Что делать с тем немым вопросом, который час назад прочитан в глазах той добродушно-строгой женщины, пожилой и степенной. Вот что такое серьезно. Будто не ты консультируешь, а тебя. Такая женщина из породы добродушных, которые хотят казаться строгими. В отличие от сомнительной породы черствых, которые хотят казаться добродушными.
Чаще всего это бывают старые многоопытные учительницы.
Она всмотрелась в доктора Петровича по-учительски проницательно, определяя, выучил он урок или нет. Все люди для нее издавна делились на выучивших и не выучивших.
Он сел перед ней с улыбкой согласия, как будто был готов начать рассказывать заданный урок географии, климат и растительность какого-нибудь южноамериканского побережья между Панамой и Бразилией.
Она оценила его послушание и ослабила строгость, чуть выпустив на волю природное тщательно скрываемое добродушие.
– Так где же похоронили Колумба? – позволил себе первый вопрос доктор Рыжиков, не скрывая симпатии.
– Как будто не знаешь, – улыбнулась она, деля себя между природным добродушием и напускной строгостью. – На Кубе, конечно.
– А вот недавно стало известно, что на Гаити, – похвалился он так, как будто сам вырыл старые кости.
– С чего ты взял? – приподняла она очки, чтобы победила строгость. – Это явная нелепость!
– Сажусь, два, – поставил сам себе оценку доктор Рыжиков. – А вот на собрании Американского археологического института прочитали доклад. «Анализ костных останков Кристобаля Колона, Адмирала Великого Моря». Американцы, лихие ребята, вытащили скелет из собора Сан-Доминго…
– Да как они смели! – искренне возмутилась она.
– Ремонт был, – объяснил доктор Рыжиков. – Фундамент укрепляли. И некий Чарлз Офф заявил, что это и есть Колумб, а не тот, что на Кубе. «Мужчина атлетического телосложения, ростом около 68 дюймов, широкоплечий, с большой головой и сильно выраженными признаками подагрического остеоартрита».
– Но ведь Колумб был высокий мужчина с длинным вытянутым лицом! – воскликнула пожилая женщина, ставшая теперь не строгой и не добродушной, а взволнованной.
– У них и сто семьдесят был богатырский рост, – поспешил успокоить ее доктор Рыжиков. – Это мы с той поры подросли. А у него одних портретов до нас дошло полтысячи, и все разные…
– Вот сейчас я бы поставила тебе пять, – вынуждена была похвалить она. – Даже если не за точность, то за то, что интересуешься.
– Теперь уже диагнозом, – признался в своем интересе доктор Рыжиков. – Неужели я тогда был хуже?
– Особенно когда сказал, что Цезарь зарезал Брута и остальные сенаторы ему отомстили и тоже зарезали, – не удержалась она от безобидного ехидства.
– Неужели? – сильно удивился доктор Рыжиков. – Неужели вы помните?
– А я специальную тетрадочку вела, все ваши открытия записывала. Сейчас перечитываю – это такой роман… Что там твои «Двенадцать стульев»…
– Дадите почитать? – попросил он.
– Дам, приходи… А то вас ничем не заманишь… А я совсем отстала, – вздохнула она. – И читать некогда, внуки теребят… И голова заболела… Кружится… Да еще зрение. Так сижу, тебя вижу, а чуть повернусь, вот так, уже на твоем месте чернота. Может, так и положено в старости?
– Конечно, – уклончиво подтвердил доктор Рыжиков. – А как кружится?
– Да как? Обыкновенно. Представь себе, выхожу из автобуса, два шага делаю и… Главное, схватиться не за что! Хватаю воздух, как будто за поручень. Смешно, наверное…
– Да ничего, – как будто отмахнулся доктор Рыжиков. – Со всеми бывает. – А рука где немеет?
Она показала.
– Вроде как отсидишь или отлежишь… А на самом деле не отсижено… А то на эту ногу ступишь – и как в яму… Ой, думаешь, полетела… Да если бы не голова, все ерунда… И не глаза… Юра, ты что, глазник?
– Да как бы… А судороги больше по утрам или вечерам?
– По утрам, – ответила она. – Старость не радость, Юра. Я в молодости знаешь какой спортсменкой была! Парашютистка, ворошиловский стрелок!
– И я парашютист! – обрадовался доктор Рыжиков. – Гвардии ефрейтор ВДВ! Вы-то на каких системах прыгали?
Между обсуждением ранцевых и вытяжных парашютных систем они задели тошноту.
– Это так неприятно… – пожаловалась учительница кротко. – Я уже и на диету перешла, а не поешь – еще хуже…
Куда уж неприятнее. Сердце доктора Петровича стало стягивать обручем. Он встретился с ее спокойным взглядом. Она как бы подбадривала его на правильный ответ, но ничего не спрашивала вслух. Он постучал молоточком себе по ладони.
– Ну что ж, прекрасно…
И хотя в его натянутом голосе ничего прекрасного не было, она оживилась.
– Если прекрасно, то я, пожалуй, пойду, а то внучка из сада придет.
– Надо бы хорошенько обследоваться, – робко попросил он.
– Да уж обследуйся не обследуйся… – отмахнулась она. – Видно, уж если придет за тобой, то… Внучку бы в первый класс сдать, да и можно обследоваться. Жаль, нашу школу снесли…
– Жаль… – взгрустнул о милой старине и доктор Рыжиков. – А новая какая-то холодная…
– И тебе тоже кажется? – оживилась она. – Я-то старую больше любила. Особенно по утрам, когда печи затопят… Дрова потрескивают, в классах уютно… А паровое отопление какое-то бездушное. И ты был влюблен в Симочку Сахарову.
– Нет, – сказал он. – Я не был влюблен в Симочку.
– А в кого же ты был влюблен? – озадачилась она.
– В такую тощую и резкую, насмешливую. Помните, кучерявая, смуглая, но с голубыми глазами? Ее все боялись. Забыл, как звали, а на вид очень хорошо помню. Наверное, она была похожа на маленького Пушкина.
– На маленького Пушкина? – переспросила она.
– Ну да. А может, в какой-то родне с ним. Ведь жизнь чего только не накрутит! Занесло к нам маленькое семечко с того дерева, а оно ни о чем не подозревает само… И волосы курчавые, как у негритенка…
– Как у тебя интересно выходит, – похвалила она. – Ты бы учителем был прирожденным. А я курчавую не припоминаю… А вот в Симочку Сахарову влюблялись у нас все. Она была настоящая царевна-лебедь. Высокая, белая, золотая коса… Таких красавиц, может, на Руси раз-два и обчелся.
– Да, я помню… – пробормотал доктор Рыжиков, отвлекаясь к статоскопу, в который он уже смотрел сто раз.
– Симочке очень не повезло с браком, – вздохнула старая учительница. – К несчастью, красавицам вообще редко везет. Это примета русской истории и литературы. Она мечтала, что ее на руках носить будут, и была этого достойна. Мы пророчили ей в мужья известного артиста или ученого, генерала или лауреата. А тут подвернулся просто хулиган, он ее совратил почти девочкой. Какой-то раненый в госпитале, что ли. Ей еще в куклы играть, а она родила…
Все-таки она что-то путала. Или ей не так передали. Ведь это он и есть тот хулиган, который с помощью школьного друга совратил Симочку Сахарову. В отпуске, в сорок третьем. И она не так уж и противилась. А ребенок, родившийся из несытого живота вчерашней школьницы, был Валерией. Признаваться? Или оставить все как есть? Пусть кого-то другого (незаслуженно, конечно) считает ужасным мужем Симы Сахаровой, от которого она сбежала (с великим артистом) и утопилась, когда муж ее догнал, а она не хотела попасть ему в руки.
Так доктор Рыжиков узнал свою семейную историю.
Но если все это серьезно… Что делать? Что делать? Что…
– Но и этого мало, – зловеще пообещала коллегам Ада Викторовна. – Моральное лицо доктора Рыжикова еще больше открывается в той роли, которую он сыграл в истории с молодым талантливым врачом Козловым, как известно, снятым с должности заведующего отделением реанимации и анестезиологии. Всем известно, как Козлов из-за пьянки не проконтролировал деятельность медперсонала, что привело к смерти больного после операции из-за халатности палатной медсестры. В поведении Козлова и раньше проявлялись подобные симптомы, как сказано в заявлении в местком его жены. Из-за этого его уволили и с морской службы. Но, как теперь стало известно, вместо того чтобы предостеречь своего младшего коллегу, оказать на него моральное воздействие, в конце концов, позаботиться о лечении, доктор Рыжиков сам неоднократно выпивал с Козловым у него дома, поддерживал, так сказать, компанию. Может быть, его роль и оказалась провоцирующей в судьбе молодого талантливого врача и именно погубила его. Так почему же мы строго наказали, можно сказать жертву, а, можно сказать, главного виновника оставили без наказания? Вскрывшиеся факты пьянства доктора Рыжикова требуют должной оценки… И именно принципиальной!
Автоклав онемел, так как именно баптистская трезвенность доктора Рыжикова у всех в зубах навязла.
– Всё? – спросила докладчицу председательствующая баба Зина, массивная и рыхлая докторша из акушерства и гинекологии, кашлявшая от желания закурить.
– Как это все? – возмутилась Ада Викторовна. – Именно еще не всё! Главное я сейчас прочитаю! – Достала из папки давнишний сложенный листок. – Вот! Мы помним, как доктор Рыжиков выписал из больницы действительно больного человека с травмой головного мозга, предоставив его на произвол судьбы! Этот должностной проступок остался без последствий только благодаря счастливой случайности. Неоднократно в горздравотдел поступали и жалобы от больного Туркутюкова, инвалида и героя войны, который жаловался именно на эксперименты, проводимые над ним врачом Рыжиковым. Ему удавалось тогда ловко прикрываться тем, что больной эпилептик и у него неуравновешенный характер. И это ему сходило с рук, потому что у врача Рыжикова был авторитет якобы передового, прогрессивного хирурга, который загородился своей сложной областью. Мол, мы в ней ничего не понимаем. И не только мы, а даже такие именно ведущие хирурги, которые подвергались от врача Рыжикова даже зазнайству. И вот, товарищи, читаю, чем это кончилось. Это заявление родителя больной девочки, который доверился доктору Рыжикову и жестоко поплатился за это! – Голос Ады Викторовны достиг торжествующих высот. Она пела. – «Докладываю, что врач вашей больницы хирург Рыжиков, проводя операцию новым способом моей дочери, не проверил новый способ на собаке, а применил сразу на моей дочери. Прошу принять необходимые меры». Ну, знаете, товарищи… На беззащитном ребенке! Я просто не решаюсь сказать, какие эксперименты это напоминает!
– И правильно! – сказала с председательского места баба Зина, очень чувствительная ко всему детскому. – Все, Ада?
– Если бы всё! – сокрушенно покачала пышной укладкой докладчица. – Отсюда становятся ясными многие неэтичные высказывания товарища Рыжикова в адрес не только отдельных коллег, притом старших по должности и опыту, но и в адрес всего советского здравоохранения. Мы с вами гордимся нашей медициной, бесплатной и самой гуманной в мире, а товарищ Рыжиков неоднократно называл советскую хирургию диким зверством. Вы представляете только! – В ее голосе задрожали патриотические слезы. – Дикость и зверство! В чем, интересно, товарищ Рыжиков, вы изволите видеть эту дикость и зверство? Может быть, именно в гуманном подвиге советских врачей, которые спасли жизнь миллионам раненых воинов-героев на защите нашей любимой Родины? И кого конкретно он считает, как он выражается, дикими зверями и даже древними людоедами? Великого Вишневского? Гениального Бурденко? Талантливого Петровского? Нашего учителя, которому мы все должны быть бесконечно благодарны за заботу и внимание – Ивана Лукича Черныша? Да как же после этих слов… Вы знаете, сколько раз уважаемый Иван Лукич, заслуженный врач республики, ветеран войны, называл товарища Рыжикова своим любимым учеником! Талантливым последователем! И вот благодарность! Разве не тяжело, как в трагедии великого Шекспира, видеть, что мальчик оказался голым? Вернее, в… В сказке, извините, про голого мальчика…
– Все, Ада? – спросила баба Зина после небольшой паузы, которая говорила не то об избытке чувств у докладчицы, не то о закономерной усталости.
– Далеко не все! – продолжила докладчица заплыв. – Но и этого вполне хватит, чтобы коллектив разобрался. Закон Гиппократа, который мы все принимали, никому нарушать не позволено! Я предлагаю, чтобы товарищеский суд вынес справедливое решение о лишении диплома товарища Рыжикова! Я бы даже сказала – у гражданина!
– Все? – спросила баба Зина.
Дочь мягкой мебели и странгуляционной борозды гордо покинула кафедру. Гробовое молчание автоклава сопроводило ее. Это была тяжкая миссия.
– Если всё, скажи теперь ты, Юра, – сказала председательница. – Юра! Рыжиков Юрий Петрович, слышишь? Толкните там его!
– А? – поднялся доктор Рыжиков.
– Выйди, скажи что-нибудь! Тут на тебя такое дело…
– Я с места, – рассеянно сказал доктор Рыжиков. – Можно?
Ему позволили.
– «Я ль буду в роковое время позорить гражданина сан!» – сказал он, будто знать не знал, о чем тут шла долгая речь.
– Мы здесь не стихи читать собрались! – одернули его. – Ты возражай, возражай по существу дела!
– Хорошо, – покорно возразил доктор Рыжиков. – Не закон Гиппократа, а клятва Гиппократа. И ее не принимают, а дают. А закон – это Архимеда…
– Я и сказала «клятву»! – огрызнулась с места Ада Викторовна. – И вообще прошу меня оградить! Меня систематически подвергают на глазах у всех! Кличку нелепую дали…
– Ада, успокойся, – посочувствовала баба Зина. – Мы тебя понимаем. Мы тебя в обиду не дадим. Продолжай, Юра, только по существу.
– А что еще? – спросил доктор Рыжиков простодушно.
– Ну что-нибудь, – сказала баба Зина, теперь согласная, наоборот, терпеть.
– И голым оказался не мальчик, а король, – сказал по ее просьбе доктор Рыжиков. – Мальчик крикнул: «А король-то голый!»
– Я и сказала «король»! – крикнула Ада Викторовна. – Вот именно – голый король!
– Ада, ты же не мальчик! – напомнила ей баба Зина. Потом, после некоторого молчания, доктору Рыжикову: – Юра, ну что замолчал?
– Больше возражать нечего! – по-ефрейторски доложил доктор Петрович.
– Он издевается над вами! – выкрикнула Ада Викторовна, чтобы открыть глаза присутствующим.
– Вправду все, что ли? – спросила баба Зина после новой паузы. – Юра, тебе вправду нечего сказать?
– Сказать есть что, – дружелюбно ответил ей доктор Петрович. – Вот в штате Огайо, например, в Рио Гранде, были международные соревнования кур и петухов. На дальность полета. Первое место там занял японский петух Клыг Флук. Он без посадки пролетел 90 метров 76 сантиметров. А вот на второе место вышла курица, английская, правда, Лаки Леди, но с заметным отрывом. Всего 36 метров 27 сантиметров…
– Как понимать эти намеки? – раздался голос Ады Викторовны. – Мы требуем объяснить!
– Ада! – сказала баба Зина. – Юра! Ты что, согласен свой диплом отдать? Тут у тебя смотри сколько уголовщины!
– А в инструкции для дорожных полицейских в Англии есть интересное предупреждение, – охотно объяснил доктор Петрович. – «Если после столкновения двух автомобилей их водители отправляются в дальнейший путь пешком, то существует большая вероятность, что оба автомобиля будут украдены…»
– Это кто же тут полицейский? – заинтересовалась с места Ада Викторовна. – Вы прямо говорите!
– Ну, это в Юрином стиле, – без всякой надежды махнула рукой баба Зина и полезла за папиросой, что означало конец комедии. – Ну, в общем, нам там предложили заслушать на общественности, мы тут заслушали… Теперь надо разобраться. Комиссия подумает с месткомом, потом доложит…
Автоклав вытекал неохотно. От доктора Петровича всегда столько нового можно узнать! Жаль, не дали человеку договорить.
Когда они остались только с доктором Петровичем, баба Зина проворчала:
– Я еще Терентьича, покойника, в фельдшеры экзаменовала. И тебя, кутенка, между прочим, у Лизы принимала. А ты тут выламываешься… Ты вправду будешь отвечать серьезно?
– А вот для вас у меня есть серьезнейшая информация, – серьезно сказал доктор Рыжиков.
– Ну давай, – с интересом закурила она. – Ты особо-то не ерепенься. Вот посадят пациента, тогда попрыгаешь. Уж тогда-то в горздраве заверещат, заверещат…
– Вот вы скажите, – спросил доктор Рыжиков, – кто родил больше всех детей?
– То есть как? – озадачилась старая акушерка. – Из людей или из зверей?
– Из людей.
– Ну, я не знаю… Феноменов много разных… И по восемь близнецов рожали, только они перемирали все… Это разом или в общем? Китаянка какая-нибудь или негритянка… Мексиканка?
– В общем, – сказал доктор Рыжиков, – и не негритянка, а русская. Жена одного Федора Васильева в прошлом веке. Шестьдесят девять детей!
– Шестьдесят девять! – воскликнула баба Зина. – Да что он, султан, что ли?
– Зачем султан? – обиделся за земляка доктор Петрович. – Простой человек, не многоженец. Двадцать пять раз рожала. Шестнадцать раз по два, семь – по три, четыре – по четыре. И ни разу – по одному. Только очередями. Как родильный автомат.
– Ну, ты, Юра, скажешь… Женщина-мать… Сейчас бы тебе Ядовитовна всыпала. Смотри, а я не слышала… Думала, все у шахов надо искать да султанов…
– Султаны – те больше отцы-герои. Шаху Али, кстати, он с Пушкиным почти ровесник по времени, в гареме нарожали их семьсот четырнадцать. 154 сына и 560 дочерей…
– Все-то ты, Юра знаешь, – завистливо вздохнула баба Зина. – А вот знаешь, почему они на тебя взъелись?
– Ну а самое главное по вашей части, – это цыплята-двойняшки, – сообщал доктор Рыжиков. – В Рыдлове, в Польше, у некоего Яна Поровского курица есть, она ему через день по яйцу несет с двумя желтками. По сто двадцать граммов весом! А по виду от других не отличается!
– Ну, Юра! – захохотала баба Зина, заколыхавшись всей массой. – Цыплята-близнецы! Ну, учудил! Ну, от тебя толку нет, я пошла, а то тут до вечера просидишь… У тебя всего вон сколько… А меня кесарята ждут да недоносята… О-хо, – засобиралась она.
– Есть очень важный вопрос, – сказал доктор Рыжиков совсем другим тоном.
– Какой? – совсем по-другому посмотрела она на него поверх своих очков и бородавок: мол, наконец-то.
– Важный, – сказал доктор Рыжиков. – Как устроена русалка?
– Как? Что? – поперхнулась баба Зина затяжкой. – Кто?
– Русалка, – спокойно сказал доктор Рыжиков. – Я как со специалистом консультируюсь.
– Ну, Юра… – пробасила специалист. – С тобой не соскучишься. Тебе-то зачем?
– Жениться хочу, – серьезно сказал доктор Рыжиков.
– Жениться? – изумился консультант. – Да у нее же самого главного нет! Тоже, нашел невесту! Рыбий хвост!
– А вот и нет, – возразил он. – Первоисточник говорит иначе. Все у нее есть.
– Как это – иначе? – возмутилась ее профессиональная гордость. – Какой такой первоисточник?
– Первоисточник говорит, что русалка родила русалочку, – напомнил он классику. – Что это значит?
– Это значит, она посюда женщина, – машинально провела рукой поверх колен баба Зина. – А дальше рыбий хвост.
– Вот видите! А их во всей живописи рисуют по пояс. Или даже по грудь. А надо вот так. Откуда же тогда дети возьмутся?
– И то сказать, – вынуждена была поддакнуть баба Зина. – Неоткуда… Батюшки! – вдруг узрела она. – Это же вылитая Ада! Голая Ада с хвостом! Порви, а то засудит!
– Никак нет! – стал заступаться доктор Рыжиков за анатомически точный рисунок, отражавший, кстати, сегодняшнюю укладку Ады Викторовны по случаю собрания общественности. – У Ады есть еще коленочки. А эта – без… Наверное, это сестра. Двоюродная. Разрешите преподнести в качестве наглядного пособия?
– Уйди от греха! – расколыхалась баба Зина. – Уж да, коленочки у Адочки. Эти коленочки многих бросили… на коленочки. Может, и тебя когда-то?
Баба Зина тоже разбиралась в коленочках, но со своей стороны. Ибо к кому, как не к ней, шастают обеспокоенные молодые врачихи в случае чего.
– Ну, уморил, Юра… Ладно… Да… А что он поет, этот Куджава-то? Страхи какие-нибудь?
– Да нет, – чисто по-рыжиковски вздохнул доктор Рыжиков. – Все самое обычное. «Вот так и ведется у нас на веку, на каждый прилив по отливу, на каждого умного по дураку, все поровну, все справедливо…»
– Очень правильно, – поддакнула баба Зина. – Ты послушать-то дашь как-нибудь? Я эти запрещенные песни страсть как люблю! С молодых юных лет. Еще Есенина пела под гитару… Даже с Ванькой, пока он не рехнулся от великого почета… А уж Вертинского, Лещенко… С войны чемодан привезла…
– А на войне роды вы у кого принимали? – машинально спросил доктор Рыжиков.
– У русалок! – колыхнулась она напоследок. – Ты же русалкины секреты разгадал! А что думаешь, в санитарных поездах они не водились? Еще какие! Ну и рожали! И одноногие, и однорукие! И а4борты не делали? Жизнь, Юра, отовсюду лезет! Из самых кровавых бинтов. Рождение – это, брат, посерьезнее всех ваших смертей.
49
– Доктор! – крикнули ему с одной стороны улицы. – Але!
– Юрий Петрович! – с другой.
– Ваш проект прошел на второй тур! – слева.
– Из треста Крутиков приехал, начальник технадзора! – справа.
– Идемте, покажу письмо! – жена архитектора Бальчуриса.
– Идемте с ним поговорим! – выцветший и хрипловатый строитель. – Он сказал, что скажет!
Вежливость требовала сначала подойти к женщине. Но тогда надо было сразу переходить к строителю и обрывать беседу с ней быстрее, чем хотелось. А подойти сначала к строителю, чтобы отделаться от него, – обидеть женщину, которую не хотелось еще раз обижать.
Но начальник СМУ уже сам бежал к нему через перекресток. Доктор Рыжиков издалека виновато улыбнулся жене архитектора Бальчуриса.
– А я как раз из больницы, искал вас! – радостно запыхался начальник. – Едемте, пока не уехал! Он на объекты спешит!
Жена архитектора Бальчуриса удивленно пожала плечами.
– Машина за углом! Там стоянка!
– Да вот меня ждут… – робко сказал доктор Рыжиков.
– Ну давайте скажем. Я скажу! Ведь уедет, когда его снова рожу? Полчаса всего? Хотите, и гражданочку подвезем?
Во всех безропотных поездках со строителем доктор Петрович уже узнал, что такое акт приема государственной комиссии, что такое перечень устранимых недоделок, что такое плиты «М-21» в отличие от заказанных «М-23»… Что такое поквартальность фондовых поставок и нехватка малых механизмов на стройобъектах. Узнал много чего. Но, видимо, еще не всё.
Как раз сейчас можно было пойти с женой архитектора Бальчуриса. Редкий случай, редкие два часа без видимого дела. Редкая встреча на улице. И дни стали длиннее. И холод не загоняет в подъезд. Потеплело. Можно переходить на берет, да никак не попасть домой.
– Ну, я предупрежу… – робко попросил он. – Но я ведь все уже узнал…
– Не все! – умоляюще тихо сказал начальник СМУ. – Вот еще раз, и все. А то вы там думаете, что это я…
Каждый раз, прощаясь он заглядывал доктору Рыжикову в лицо и панибратски хлопал его по ладони: «Ну, теперь все?» – «Все!» – заверял доктор Рыжиков. «Правда все?» – ободренно повторял начальник. «Правда!» – как можно тверже говорил доктор Рыжиков. Начальник уходил успокоенный. И потом появлялся в больнице или возникал в городе. «Напустили вы на меня этого студента, теперь поедемте еще раз…» И снова: «Все?» – «Все!» – «Правда все?»
– В последний раз, – сказал он.
– Я предупрежу, – сказал доктор Рыжиков, увидев что-то в его глазах. Что-то, с чем нельзя было отпускать человека от себя. Даже такого с виду самоуверенного и самостоятельного.
Он повернулся, чтобы пойти к жене архитектора Бальчуриса и предупредить ее, но ее уже там не было.
– Доктор, – сказал начальник в машине, уже снова самоуверенно повеселевший, – а чего бы нам так не поговорить…
– Как так? – простился с женой архитектора Бальчуриса доктор Петрович. Теперь уже навек.
– Ну по-человечески… Не в кабинетах, а дома… У меня пиво бутылочное как раз есть, рыба сушеная… Завернем после? Все равно вечер… Ну завернем, а? Хоть про футбол поговорим, про Фишера, а не про… Вы в шахматишки как? А то сидишь по вечерам, думаешь… У вас хоть операции. Хоть помянем его по-людски…
Доктор Рыжиков обязан был сказать, что у него неврологическая аллергия к пиву. И это была истинная правда. Но, почему-то сейчас эта невинная правда показалась жестокой. Он ее отложил. Ибо на горизонте замаячила еще одна боль. Пускай на этот раз полезная и им же самим нарочно или нечаянно вызванная. Лечебная – но все же боль. И бежать от нее он не мог.
50
Но она ждала его у больничных ворот. Короткая стрижка, без шапки, кожаный плащ, поднятый воротник. Женщина из кинофильма. Но про кого-то другого. Только этого другого рядом не оказалось, и доктор Рыжиков взял у нее тяжелую базарную сумку. «Ваше величество женщина, да неужели ко мне?»
– К вам, – сказала она просто. – А то вы никогда не узнаете про свой успех.
Доктор Рыжиков послушно стоял в коридоре с сумкой в руке, пока жена архитектора Бальчуриса снимала и вешала плащ. Потом был проведен на кухню, где еще никогда не бывал, и присутствовал при выгрузке кефира, базарной курицы, десятка яиц, пачки молока, кульков вермишели и риса, батона. Расставляя все это, доктор Рыжиков несколько раз столкнулся руками с руками жены архитектора Бальчуриса, из-за чего и уронил вермишель. Кухня показалась ему крайне тесной, хотя в самом деле была просторной, как и положено в домах городского начальства.
Она поставила чай, насыпала в вазу конфет и печенья. Впервые она не повела доктора Рыжикова смотреть архитектора Бальчуриса. Впервые плотно закрыла дверь в его комнату. Доктор Рыжиков даже втайне подумал, что может быть, архитектора куда-то увезли. Такое ощущение, что там никого нет…
Это мелькнуло в таких подземных катакомбах подсознания такой слабой искрой, что он сам не заметил.
Он помог ей перенести в комнату печенье, чашки, блюдца, чайник, варенье. Как всегда, когда на большом столе размещался макет с чертежами, чай расставили на журнальном столике возле низкой тахты, на которую пришлось и сесть – вынужденно близко, касаясь друг друга коленями. Доктор Рыжиков близко увидел гладкую ткань юбки, крепкие круглые колени в модных тогда черных ажурных чулках. До того близко, что можно было положить на них теплую от чая ладонь и с фальшивой задушевностью сказать: «Ничего, все обойдется…» Не уточняя, что именно и как обойдется и должно обойтись.
Со вторым глотком чая и первой ложкой вишневого варенья доктор Рыжиков почувствовал страх, что его заподозрят в этом намерении. И если он как-нибудь не так пошевелится, то может получить и чашку чая в физиономию. И чем больше, естественно, он боялся, тем сильнее магнитили его эти теплые колени.
– Вот письмо, – доверчиво протянула листок из лощеного дорогого фирменного конверта жена архитектора Бальчуриса.
Пока доктор Рыжиков вчитывался в сообщение, она сказала, что на международный тур конкурса допущено семь работ из двадцати девяти.
В награду она пододвинула ближе к нему конфетницу с загадочными тогда трюфелями, розетку с клубникой и сердечно сказала:
– Я вам так благодарна… Если бы не вы…
– Да я-то что… – сказал доктор Петрович, вспомнив о деле своих рук. – Вот один англичанин акул изобретает. Из стекловолокна. И управляет по радио.
– Зачем? – встревожилась она. – Разве акул не хватает?
– Для охраны пляжей. Миллионеры расхватывают и стерегут свои пляжи. Чуть заплывет посторонний – и… Вот это мастерство, правда?
– Правда… – сказала она. – Только о чем вы все время думаете?
– Я? – испугался он, что она догадалась.
– Вы, – сказала она. У вас все время мысли заняты. Вы говорите про акул, а думаете совсем не про них.
– А про кого? – испугался он еще больше.
– Наверное, про больных… – сказала она, не то одобряя, не то осуждая.
Доктор Рыжиков даже затруднился сказать сам себе, о ком он сейчас думает. О старой учительнице с опухолью мозга или о юной Жанне Исаковой с костылями, которые она все еще боялась бросать. Может быть, теперь надо просто украсть костыли, и пусть выворачивается как сумеет. Но отпускать домой не костылях нельзя – привыкнет… А если положить к ней учительницу, то вместо изолятора теперь всегда будет женская половина. А где взять изолятор? Отдать дежурку, а самим в коридор? А учительнице будет становиться все хуже, она совсем перестанет быть добродушной, не сможет уже никого слушать, будет перебивать, что Жанна действует на нервы, упражняясь под рельсой, что племянница нарочно носит червивые яблоки… Станет обижаться на пустяки, которые никто не в силах предугадать, плакать, пачкать простыни повидлом и кефиром, сыпать крошками, толстеть… Сильва Сидоровна будет ворчать на нее, она – на Сильву Сидоровну… А главное, доктору Рыжикову не придется рассказать ей, а уж очень чесался язык, какой врушкой была ее любимая Симочка, что в один присест могла наврать сразу десятерым. На работу звонит, что заболела Анька и она ждет дома врача, мужу – что побежала с подружками стоять за клипсами, родителям шлет с Валеркой записку, что заболела сама и пошла в поликлинику, подружке – что какая-то невероятная приезжая портниха пригласила ее на примерку. Все сходятся и начинают до хрипа доказывать друг другу, где Симочка: в больнице, на примерке, или в очереди. А она болтает ногами, ест мороженое и в седьмой раз смотрит «Карнавальную ночь»… Дожидаться этого всего или, не дожидаясь, срочно взламывать голову? Как все-таки беспомощны мы перед каплей химии в каком-то скрытом тайнике организма! Да разве это справедливо? И никакой надежды на волю.
Вслух он ничего не сказал, потому что она сказала:
– Думаете, здоровым легче? У вас хоть три дочери, не так одиноко…
Крыть было нечем.
– Знаете, ничего уже этого не надо… Ни конкурса, ни успехов… Вы думаете: что она суетится с этими турами… А тут бы застыть как-нибудь и чтобы время не видеть… Превратиться скорее в старуху без всяких чувств и желаний… Если они никому не нужны… Я вам как доктору говорю, – на всякий случай предупредила она. – У вас нет сигареты?
– Я не курю, – сказал доктор Рыжиков жалобно.
– Ах, да… Вы настоящий доктор… – Ее голос допустил нервную хрипотцу. – Если б не вы…
Тут неожиданно для себя доктор Рыжиков сказал: «Ничего, все устроится», и потянулся к ней рукой. Но только почему-то не к колену, а к руке. «Ничего, все устроится», – храбро положил он широкую докторскую ладонь на ее запястье с синими жилками под белой кожей. Чисто по-докторски, к пульсу.
Тут и произошло неожиданное. Жена архитектора Бальчуриса упала щекой на эту отдезинфицированную докторскую руку и облила ее горячими слезами. Доктор Рыжиков чуть не отдернул руку – так его обожгло. Как доктора. И совершенно машинально его вторая рука погладила ее короткую мальчишескую стрижку, которую ему давно хотелось погладить.
Она постепенно успокаивалась, но от его руки не отрывалась, а как бы прислушивалась к тому, как он гладил ее волосы.
Это могло продолжаться очень долго. Может быть, бесконечно. Или пока не остановилось бы сердце от одиночества, нерешенности, грусти.
Но что-то вдруг изменилось. Ни шороха, ни скрипа, только движение воздуха. Доктор Петрович вздрогнул и оглянулся. Оглянулся, вздрогнул и отдернул руку от щеки жены архитектора Бальчуриса и ее мальчишеской прически. Как будто она ударила его током.
Жена архитектора Бальчуриса оглянулась и тоже выпрямилась, как от тока.
Доктор Рыжиков, прямой как аршин, чинно взял чашку с остатком холодного чая.
Жена архитектора Бальчуриса двумя осторожными пальцами взяла свою.
Они старательно смотрели мимо друг друга, словно озабоченные чем-то, происходящим в пространстве.
– Весной есть опасность авитаминоза, – сказала она с озабоченной строгостью. – Мне посоветовали накрутить алоэ с медом. Только одни говорят – настоять на кагоре, другие – не надо. Как вы считаете?
– Кагор в определенной пропорции способствует усилению кроветворной способности и кровообращения, – с присущей ему педантичностью отвечал доктор Рыжиков. – Можно порекомендовать так же глюкозу с витамином С, аскорбиновую кислоту, экстракт шиповника… Это восстанавливает силы…
Оттуда, куда они старались не попадать виноватым взглядом, сквозь приоткрывшуюся дверь на них смотрел, лежа на высоких подушках, как всегда, весь в белоснежном и крахмальном, но местами свежевыпачканном, архитектор Бальчурис. Он, видимо, соскучился и улыбался особенно радостно, одновременно пуская слюнями радужные весенние пузыри.
Он явно приветствовал эту идею насчет восстановления его сильно растраченных этим занятием сил.
51
После чего по клинике пронесся гром небесный.
Падали цветочные горшки, с корнями выворачивались двери, взрывались стекла и стреляли пылью ковры. Какой-то гневный паровоз пронесся по всем этажам и особенно по райскому саду заповедного гнезда, оглашая окрестности пронзительным гудком: «Вон!»
Это заставило рыжую лазутчицу в чужом многоэтажном лагере всерьез побледнеть: «Все! Юра попался…» Весь дрожащий корпус тоже так и подумал, притом мнения насчет развязки разделились. Одни считали ее роковой для доктора Петровича, другие – для его преследователя, побагровевшего от давления.
И действительно была погоня. По многим этажам, с сшибанием урн и плевательниц. Но погоня не за нелюбимым доктором Рыжиковым, а погоня за любимой Адой Викторовной. И как резво она убегала! Литые ажурные колени так и мелькали из-под халата, так и мелькали! Куда только делась ее величавая вкрадчивость! Она повизгивала и оглядывалась на этот камнепад, как бы он ее не настиг и не пришиб совсем. И правильно – так красен и горяч был партизанский врач. Неизвестно, на сколько клочков бы ее разорвало на глазах остолбеневшей больницы, если бы не природная находчивость. После слалома по всем больничным коридорам Ада Викторовна юркнула в туалет. Правда, на двери висела буква «М», но другая буква, увы, была в другом конце коридора, а силы иссякали. Иван Лукич по инерции прогромыхал мимо, а когда развернул свою жаропышущую массу, задвижка уже щелкнула. Торжествуя от ее безвыходности, он стал ждать, как кот у мышиной норы.
После нескольких мертвых минут больные показали носы. К букве «М» потянулись ходячие мужчины, которым не то чтобы очень приспичило, но было любопытно, что это так приспичило корифею хирургии, что он не может отойти от заветной дверцы и время от времени лупит по ней волосатым кулаком, хрипло рыча: «Вон!»
Под этот шум из административного коридора выскользнул скромного и приличного вида не знакомый здесь никому молодой человек с несколько удивленным лицом. Он поправил галстук и поспешил исчезнуть, как будто он тут ни при чем, а в этой больнице уж больно странные обычаи.
На выходе, правда, он столкнулся с доктором Рыжиковым, и они даже кивнули друг другу. Доктор Рыжиков был, в отличие от молодого человека, осунувшийся и небритый. Но впервые за почти целый год он шел по корпусу в полный рост, а не согнувшись, как в траншее под минометным огнем.
Поднявшись по лестнице, он еще с площадки услышал стук кулаком в дверь, мощное «вон!», а затем и воочию увидел бушующего Зевса. И тут не попятился, а как раскованный Прометей за новой цепью, пошел прямо к нему.
Все так и подумали, что это старика и доконает. Но только Зевс, наоборот, обмяк и мелкими, совсем не страшными, а даже жалкими стариковскими шажками засеменил навстречу с каким-то непонятным ожиданием.
– Что? – спросил он беззвучно после всего этого извержения.
– Пришел, – сказал о ком-то доктор Рыжиков.
От этой вести старика качнуло, и он совсем ослаб, вцепившись в подоконник. Доктор Рыжиков был вынужден поддержать его, даже если бы со стороны это кому-нибудь показалось бы и подхалимским движением. Но доктора Петровича это не испугало.
Он ни о чем не знал.
Он вообще мало что знал о событиях внешнего мира с той минуты, как бросил лопату и побежал на вызов.
Лопатой он копал оттаявшую землю, делая вокруг своего гнезда садовые лунки. Лунок надо было наделать очень много. Он надеялся, что еще вернется из Москвы Сулейман и поможет ему. Коля Козлов помочь не мог, так как находился на принудительном лечении. Иногда после работы приходил Чикин с двумя высшими инженерными образованиями. Потом он шел ночевать к доктору Рыжикову, потому что не мог идти ночевать к себе.
Но все равно конца-края было не видать. Серьезный авар, отец крепкоголовой девочки, въехал в больничный двор в полной милицейской форме в кабине грузовика, а из кузова вместе с шофером собственноручно выгрузил хорошо, если не двести саженцев, от вишни и яблонь до топольков и сирени. Он так серьезно и ревностно командовал и действовал, что доктору Петровичу и в голову не пришло спросить, когда он написал жалобу про собаку: до или после их задушевных бесед. Отряхнув с плаща комки земли и отдав честь, серьезный авар с большим достоинством погрузился в кабину и выехал со двора, невозмутимый, как караванщик, проведший верблюдов от Багдада до Бухары. Любая благодарность оскорбила бы его.
Но жизнь такова, что кто-то вылезает из ямы, кто-то попадает в нее.
После этого, бросив лопату и сад на произвол судьбы и Сильвы Сидоровны, доктор Рыжиков был срочно похищен завывающей санмашиной. Это случалось с ним часто, но сейчас почему-то – особенно экстренно. Халат и шапочку напяливали на бегу, в коридоре «Скорой», руки мыли сразу вчетвером (по двое на каждую); не дав спросить слова, закрыли рот марлей и втолкнули в лучшую в городе реаниматорскую.
Там на узком, знакомом по многим вызовам столе в окружении лучшего в городе медперсонала лежал без сознания, видно, лучший в городе мальчик с лучше всех разбитой головой.
– Мотоциклист? – с первого взгляда узнал доктор Рыжиков родные приметы.
– Внук… – промычал ему кто-то, и над марлевой маской доктор Рыжиков опознал более выцветшие от страдания глаза своего великого гонителя, которые тот быстро закрыл выщелоченными старческими пальцами.
Да, это был он, наводивший страх и ужас на кварталы и улицы звериным треском своего монстра. Кто не жался к обочине в страхе или не захлопывал форточки, когда он во главе своей стаи проносился по улице, расшвыривая в стороны старух, детей, собак…
Но без грозного мотоциклетного шлема, в котором была аккуратно доставлена эта буйная голова всмятку, без кожаной куртки и устрашающих марсианских очков, с цыплячьей шеей и дренажными дырочками, просверленными прямо сквозь наскоро бритую кожицу в череп, он бы даже понравился своим недавним жертвам.
…– Полундра, братцы кролики! – вошел в свою стихию доктор Рыжиков. – Сейчас задрыгает ногами. Кусачки мне!
Кисть уже немела, а амбразура на левой стороне затылка расширялась губительно медленно. Пульс редел. Волшебное серое вещество, дарованное нам природой неизвестно за что, набухало, как тесто на дрожжах, и душило само себя.
– Мочи! – приказал доктор Рыжиков. – Выдавите же из него хоть каплю мочи! Не жалейте мочевины!
Аве Мария бросала от своего пульта все более тревожные взгляды. Только вместо Коли Козлова снотворниками командовал совсем другой человек, седенький старичок, подполковник медслужбы в отставке.
– Мочи, мочи! – повторял заклинание доктор Рыжиков. – Пол-царства за мочу! Может, у него спазма там? Помогите, сердобольные женщины!
Сердобольные женщины принялись проталкивать тоненькую гибкую трубку в мочеточный канал юного громовержца. Знал бы, на что идет, садясь в седло… И девушки симпатичные, просто провалились от позора. К тому же трубка не лезла, как ни мучились девушки, тиская безжизненную, посиневшую колбаску бесчувственного витязя…
– Вы не порвите мочевой пузырь! – поостерег доктор Рыжиков. – А может, кто уговаривать может? Какая-нибудь бабушка-санитарка?
– Тетя Катя! – воскликнуло несколько голосов. – Она больным сказки рассказывает!
Тетю Катю срочно посадили на табуретке возле уха, столь любящего моторный треск. Она мгновенно поняла свою миссию.
– Пописай, маленький, пописай, – раздался ее тихий, тоненький деревенский плакальщицкий голосок. – Красивый, умненький, пописай…
Лицо у тети Кати было очень серьезное и проникновенное.
– Закапало! – чуть не заплакали от радости симпатичные девушки.
– Уф… – выдохнул доктор Петрович. – Гоните ее, гоните! Его спасение сейчас в мочеточнике! Эх, Сулеймана бы мне сейчас… Жаль, ни одного мужика среди вас… Мы бы в обе стороны тут повели и тут сошлись… Вдвое быстрее…
– А я? – прохрипел обиженно-жалобный голос, и доктор Рыжиков снова вспомнил про деда.
Они пыхтели и потели локоть к локтю, прокусывая два желобка в черепной кости внука. Старый партизан косился на руки доктора Петровича и быстро схватывал его движения. Было видно, что эти старые руки напилили и накусали за свою жизнь костей дай бог. Доктор Рыжиков не мог не отметить это с определенной похвалой. За все время пыхтения и сопения, пока не откинулся костный пласт и освобожденный мозг не полез на свободу, новый ученик доктора Рыжикова выразил свои чувства лишь одной фразой:
– Сам, старый дурак! Сам! Своими руками!
Это значило: что он теперь скажет родителям внука, которые так были против мотоцикла? Не пожалел своих дедовских сбережений, чтобы порадовать внука: знай наших, старых партизан…
– Ничего… – пропыхтел доктор Рыжиков. – Вот Сулейман вернется…
Это значило, что теперь будет с кем в четыре мужские руки разыгрывать экстренную декомпрессию у других таких же мотоковбоев, сокрушающих лбами бетонные углы, столбы, заборы, стальные паровозы и катки. И это повысит их шансы выйти их этого опыта живыми, а может, даже и поумневшими. Если, конечно, удастся уговорить Сулеймана не уезжать отсюда в Баку, о котором он мечтает с детства как о земле отцов, с тех пор как рос с одинокой матерью в пыльном и маленьком Кизыл-Арвате, по другую строну Каспия. Если, конечно, удастся выбить для Сулеймана квартиру, потому что он упрямо не хочет становиться на постой к доктору Рыжикову и отдает все до нитки домовладельцам-шкуродерам. И еще взять после лечения Колю Козлова, который хоть и провинился вдребезги, но еще не окончательно потерял стыд и совесть, а специалист-усыпитель великий. И Лариска, конечно, гениальная портниха по части нервов и сухожилий, хотя Иван Лукич не выносит одного ее имени…
Потом еще семи раз запускали бедное шестнадцатилетнее сердце, а потом всю ночь караулили дыхательный аппарат, пыхтящий возле бездыханного внука. И, не сводя с него глаз:
– Юра…
В хриплом голосе тоска и виноватость. Словом, давай, Юра, возвращайся. Хватит, подурили. Я старый партизан, ты – молодой. Возвращайся. Получишь все – палаты, оборудование, операционную, персонал. Веди любую тему, совершенствуйся, езди на специализацию хоть пять раз в год. Потом совсем возьмешь все. Кому-то все равно отдавать надо. А кому еще, сам рассуди. Если что – извини, как извиню тебя я. Ну и вот…
Тут бы доктору Петровичу и самый момент попросить за всех, о ком он думал, и всех вместе с собой пристроить. Может, лучшего и не будет. Не каждый же день по внуку будет разбиваться у всемогущего деда.
Только сказал доктор Рыжиков что-то совсем несуразное. «Нет, – сказал он. – Нет, не надо. Устал я зависеть. От ласки или от гнева. А это значит – опять. Я уже не мальчик, за сорок. И даже ефрейтор. Надо развиваться самостоятельно. Пусть от слабой почки, но сами. Как-нибудь пустим побеги, начнем подрастать. Взойдем, окрепнем, устоим, как сказал один поэт. Не хочу то в рот заглядывать, то ждать перехода наследства. Вольно или невольно будешь поторапливать время, подумывать: когда же черт возьмет тебя! А быть такой сволочью не хочу. Лучше дружно, но врозь».
И не сказал, а промолчал. Чтобы сказать потом, когда все будет не так больно. Когда уляжется. Когда залечится. Только старый партизан никакого ответа не требовал.
– Не хочешь, Юра, ничего не говори. Пока не надо. Просто не спеши. Не отвечай, потом ответишь. Только сразу «нет» не говори, ладно?
Утром звонок. Ада Викторовна. Очень срочно. Очень важно. «Я тут все понимаю, но это так важно, Иван Лукич, миленький! Ах, я не могу по телефону! Уголовное дело!»
Выпросился жалобным взглядом. Прибыл в апартаменты. А там прихорошившаяся Ядовитовна и аккуратный молодой гость. Следователь, как нежнейше промурлыкала дочь мягкой мебели.
– Зачем следователь? – несколько оторопел хозяин роскошного, величиной в четыре палаты, служебного кабинета, обставленного с помощью верной ученицы и ее всемогущих друзей.
– Как вы распорядились! – несколько удивленно разъяснила она, переходя на напоминающий шепот. – Вы же сказали. Я знакомого нашла, можно на него положиться.
Иван Лукич еще долю минуты думал, что какому-то следователю требуется качественное лечение в особых условиях, но не мог припомнить, о чем он распоряжался.
– Насчет дела Рыжикова, – многозначительно прошептала Ядовитовна. – О хищении дыхательного аппарата. Правильно вы говорите, хватит этому выскочке все спускать с рук…
В первую минуту она пропустила, что профессор, багровея, медленно разворачивается к ней фронтом, как артиллерия РГК для нанесения прорывающего удара. Или сначала что-то не поняла. А когда поняла, было уже поздно. Налившись зрелым гипертоническим соком, профессор рявкнул так, что содрогнулись стекла: «Вон!»
Чтобы Аде Викторовне не показалось, что она ослышалась, в коридорах, во время погони, он еще несколько раз показал мощь своего партизанского горла, которым в лесных окруженных землянках мог усмирять горячечную стихию буйного бреда или страха, несусветной святой брани перед ампутацией рук или ног.
Следователь в самом деле был знакомый – по незабываемому чикинскому делу. Поэтому доктор Рыжиков и обменялся с ним на входе несколько, правда, задумчивым кивком. Приход доктора Рыжикова и его короткое «пришел» позволили Аде Викторовне безболезненно выскользнуть из западни. Свое чудесное спасение она приписала своей же неописуемой ловкости. На самом же деле ее спасло то, что моторизованный внук Ивана Лукича пришел в себя.
То, что доктор Рыжиков какой-то не такой, обмякший Иван Лукич даже и не заметил. А если и заметил, то отнес это к их общим страданиям за внука-чернышонка. Да и вообще все вокруг должны и обязаны были выглядеть потрясенными. Его скорее удивил бы кто-нибудь обычный и нормальный. Это было бы оскорблением его чувств.
Но доктор Рыжиков был сильно не такой. Совсем не такой. Таким «не таким» его мало кто видел. А может, и не видел никто. И он изменился, пока шел оттуда сюда. Потому что по пути, во дворе, кто-то ему сказал, что из Москвы пришла телеграмма. Там сообщалось, что их практикант по «собственной неосторожности» попал под машину и погиб. Это был Сулейман.
52
– А когда провожали, вы еще хотели сказать что-то важное, – вспомнил Чикин. – А потом сказали, что скажете, когда он вернется…
В коридоре суда кучковались по интересам враждующие кучки свидетелей.
– За сколько запродались, гады? – кричал у соседнего зала свидетелям-врагам сухой и жилистый старик, едва удерживаемый свидетелями-друзьями от рукопашной. – Сколько заплатил вам сей Иуда?
Старик с надувшейся жилой на горле, как видно, от горя забыл, что платил не Иуда, а платили Иуде. Свидетели-враги являлись монолитной группой пожилых женщин с одинаково хмурыми взглядами из-под одинаково повязанных низко на лбы платков. Они в ответ молчали, но в этом молчании крылась самая худшая угроза. Свинцово-безвозвратная. Судились из-за дома. Семейный сын отсекал из-под отчего дома две кровные, горбом нажитые комнаты и пол-участка. Три одинаковые тетки были сестрами отца-ответчика, которые жили вообще в других местах, но из глупости и злости подзуживали дурака сына отделиться и обменяться отцовским полудомом на удобную городскую квартиру. Тетки пришли подтвердить, что семью сына в отцовском гнезде травили мышьяком, не подпускали к телевизору и холодильнику. Мужья злобных теток тоже стояли тут кучкой – отдельной и робкой. Еще недавно ходили к старику родниться, по воскресеньям выпивали, а тут на тебе. Они смотрели на папашу опасливо и виновато, как на покойника.
– Вы хоть им скажите! – рвался старик к оробевшим мужьям. – Языки проглотили, трусы! Бабьи юбки, глисты! Паразиты!
Паразиты прятали глаза и ничего не отвечали.
От суда исходила еще более разрушительная волна, чем от тюрьмы или онкологической больницы, по крайней мере в этот день. Слишком много здесь скопилось страха и ненависти. Доктор Петрович хотел взглянуть на сынка, подающего в суд на отца: худой он или толстый, высокий или низенький, спокойный или нервный. Может, в очках, а может, лысый… Любопытный человек. «Бедный…» – услышал он голос Сулеймана, полный сочувствия. Что может быть печальнее на свете…
Что он хотел сказать Сулейману такого важного? Они стояли у вагона. Поезд опоздал, они перед этим насиделись в зале ожидания. Но с Сулейманом можно было сидеть хоть всю ночь. Он долго не хотел ехать в Москву. «Бедный Черчилль, – прыгали у него в темных глазах, в самой глубине, те самые сулеймановские искры. – Бедняжка ждет совсем не меня…» Они знали, кого ждет бедняжка. Конечно, не его, а рыжую Лариску. Последний рассказ Сулеймана, уже на посадке, был про Кизыл-Арват: «Мы в Кизыл-Арвате всегда про Москву спорили. А одного раз побили. Он сказал, что в Москве в домах горячая вода течет. Такого вранья мы не вытерпели, да еще у него отец завмагом работал, раздулся от воровства… Они в войну лучше всех питались. А мы к сорок третьему году уже все изголодали. Ничего не осталось. Летом еще арбузы спасали и дыни. А зимой голод. Один раз на пастбищах эпидемия была, барашки стали дохнуть… И их собрали в одном месте и закопали. Да еще известкой присыпали от заразы. И кто-то в городе рассказал. И весь город утром туда пошел. Из калитки выходишь, смотришь – в переулке еще одна калитка скрипнула, еще одна… Из переулка выходим, а на улице уже двадцать попутчиков, смотрят друг на друга, спешат в одну сторону… А где улицы выходили, там уже толпа встречалась. И все идут молча. А на краю города уже масса. Дети есть, старики, женщины, а мужчин почти нет. Все на фронте воюют. Идти надо километров двадцать. И никто не отстает. Самые древние старухи семенят… Все взяли сумки и ножи. Чем дальше идут, тем быстрее. И вдруг так на пригорок поднимаемся, к горам, туда, и вдруг навстречу ветер… Шашлыком пахнет. Таким вкусным шашлыком, я больше такого запаха никогда не встречал. И люди побежали. Молчат и бегут. Только топот: бух-бух-бух… Запыхались, на горку поднялись, а запах совсем с ума сводит, сколько уже никто жареного мяса не нюхал… И видят, там яма, а в яме барашков дохлых бензином облили и подожгли. Они горят, а ветер оттуда… Только туда, а перед ямой стоят солдаты с автоматами в линию. Все встали и молчат. И хоть бы ветер повернул. А там сало шипит, мясо обугливается… И никто не уходит. Стоят и нюхают, нюхают. Назад уже тихо шли, многие отстали… А он горячая вода, горячая вода… Побили бедняжку».
Доктор Рыжиков понял, что это Сулейман сдержал слово. Рассказал, как у них в Кизыл-Арвате видели голодную и некрасивую войну.
– Ничего, Сулейман, – сказал он, подбадривая: мол, ничего, прорвемся. – На войне и много смешного бывало. Как в любой жизни. Вот вернетесь, я вам расскажу.
– И я вам, – мягко улыбнулся Сулейман.
Вот что они пообещали друг другу.
Но поезд прибыл, и в него уже грузили Туркутюкова, слишком укутанного от лишних удивленных взглядов. Доктор Рыжиков с Чикиным долго шли рядом с вагоном и по-провинциальному долго махали руками вслед поезду.
Так же вдвоем, пряча глаза, они провожали из города и жену Сулеймана, которую родственники забирали в Баку. Она уже отплакала и отпричитала, оставляя мужа здесь, на городском кладбище. И теперь только вздыхала, время от времени выходя из своего глубокого и горького забытья с неуловимыми сулеймановскими интонациями: «Ох, бедный, до Баку не доехал и в Кизыл-Арват не вернулся…» Или: «Ох, зачем из Кизыл-Арвата поехали, я говорила: останемся…» Она не отпускала от себя двух девочек, похожих на Сулеймана, и была уже с заметным животом. Может, теперь у Сулеймана будет мальчик. «Ох, как чувствовала я, не хотела в эту Москву пускать… Еще тебя повезу, говорит. Чтобы вдвоем под машину попали, да?»
Счастье доктора Рыжикова, что она не спросила: зачем вы послали его? Но не спросила – не значит, что не думала.
Теперь, на продолжении суда, Чикин напомнил про это обещание, потому что видел, кого так не хватает доктору Рыжикову. И, может, вызывался его заместить, чтобы облегчить потерю. Облегчить чем мог. Хотя облегчать участь надо было ему. Ибо на его добивание прибыла вся дружно нацеленная и сплоченно-болоньевая команда жениных свидетелей.
Для чего пришла Женькина мать – неизвестно, так как ее игра уже была сыграна. Разве что из любопытства или из какого-нибудь отдаленного угрызения совести. Она влетела в коридор как пчела, сделала два-три круга и, увидев своих, присела к ним на краешек скамьи. Места ей досталось и без того мало, едва на половинку тощего сидельного устройства. Но болоньевый сосед из своих, с торгово-административным лицом, усмотрел в этом какое-то оскорбление и еще чуть больше развалился, вытолкнув Женькину мать с края скамьи. Она озадаченно попыталась вернуть свой краешек, несмело тронув важного союзника острым плечом. Он уперся. Она поднажала. Он смерил ее высокомерно-удивленным взором. Она ответила дерзким прищуром. Чем дальше, тем острее становилось ее костлявое плечо и тем труднее давался ему каждый сантиметр удерживаемой позиции.
– Что это вы толкаетесь? – понял он, что молча ее не осадишь. – Позволяют тут себе, понимаешь…
– Я толкаюсь?! – Она только этого и ждала. – Я позволяю?! А он не толкается! Он не позволяет! Вы только посмотрите на него!
Ее пронзительный голос, как в посудомойке, где надо перекричать плеск жирной и тухлой воды, шипение кранов, грохот ножей и вилок, привлек внимание всего коридора. Многие думали, что начался обычный самосуд, как нередко в ожидании суда полномочного. Никто бы не подумал, что это не противники, а, наоборот, единомышленники.
И двинула его плечом как следует.
Он поприжал своих сообщников, они его подпружинили, и он дал такой залп, что она стрельнула с края, как камешек из Женькиной рогатки.
– Да вы с кем разговариваете?! – гавкнул начальственно он, хотя она отнюдь не разговаривала, а толкалась. – Ты кого пихаешь?!
– Известно, кого! – не полезла она в карман за словом. – Обманщика, чтоб тебе повылазило! Пьяницу и развратника!
От такой критики уже отвыкли. Это был директор гостиницы, при которой она в ресторане все еще мыла посуду. Доктор Рыжиков с радостным удивлением отметил, насколько обманчивым может оказаться еще недавно несокрушимо прочный монолит, если интересы его частиц столь различны.
– Это оскорбление! – воззвал тот к окружающим. – Хулиганство! Товарищи свидетели!
– Свидетелей зовет, нахал! Каких тебе свидетелей, если сам обоврался! Думаешь, за шторы спрятались, так не видать, как ты из двух бутылок сразу шампанское лакаешь и на одной ноге стоишь? Чемпион по гимнастике! И не пугай, не пугливая! Мне посуды везде хватит, а тебя попрут, с голоду сдохнешь, бездельник!
– А больше ты ничего не видела?! – потряс директор кулаками.
Вопрос был не риторический, а резонный, так как из-за неполноты обзора Женькина мать не могла видеть ту часть картины, где на носке второй вытянутой ноги директор жонглерски держал стоймя статуэтку танцующей Улановой из японского фарфора (цена 74 рубля новыми) и пил «Советское шампанское» на спор, что не уронит, пока не опорожнит обе бутылки. Те, кому он так старательно поддакивал и чьи вышестоящие указания так аккуратно записывал для исполнения, и подумать не могли, на что еще способен этот одаренный администратор.
– А ты не грози, грозило мученик! – подбоченилась в своей стихии судомойка. – Ну-ка ударь! Ударь, стукни! Я тебя как раз упеку!
– Да тебя первую за клевету упекут! – вырвалось у него, неизвестно по какому поводу. Уж не потому ли самому? Какая неосторожность!
– За клевету – так вместе! – восторжествовала она. – А то я грязная, а они чистенькие! Вот вам шиш! Думаешь, не знаю, как тебе в кабинет бутылки и жратву таскали со столов? Перед нами-то речи про культуру-то обслуживания, а сами клиентов обкрадывают!
– Хамка! – подбросило его.
Ну и пошло. Доктор Рыжиков с Чикиным только моргать успевали. Легкая винтовочно-пулеметная дуэль перерастала в минометно-артиллерийское побоище. Дрожали стены, рушились блиндажи. Случись это раньше, вечером, в квартире Чикиных, еще можно было замять. Рюмочка десертного, несколько апельсинов, ласковые речи… Но мир внести было некому. Жена Чикина роковым образом запаздывала, а когда явилась, крик уже перенесся в судебный зал.
– Вы их не слушайте, граждане судьи! – не дала Женькина мать суду присесть, а адвокатше – высморкаться наиболее основательно перед защитной речью.
– Это еще что такое?! – изумилась судья, не успевшая даже открыть заседание. – Допрос свидетелей закончен, вас ни о чем не спрашивают!
– Как это – закончен! – бунтовала Женькина мать. – Как врать с три короба – так ври, а как правду сказать – так закончен! Суд называется!
– Свидетельница! – крикнула судья. – Я прикажу вас вывести за оскорбление суда! Кто вам давал слово?
– Какое слово хотят, то дают, а какое за правду, то «выведу»! – Голыми руками судомойку было не взять. – Иди, говорят, и скажи, что она к тебе каждую ночь от мужа бегает, что он ее до синяков бьет! Да он тихий, мухи не обидит, сидит за своими рисунками! Это она ему утюгом вмазала, а потом засудить захотела!
– Выведите ее! – приказала судья секретарше, очевидно не желая слушать подобную противоречащую уже почти готовому приговору ересь.
Секретарша, девушка в близоруких очках, робко приблизилась к Женькикой матери.
– Я те выведу! – пригрозила ей Женькина мать. – Я те так выведу, что мать родная не узнает! Ты сиди пиши, а то чего надо – не пишет! Да он их в сто раз лучше, обжор и пьяниц, у него на работе одни благодарности! И сердечный, вежливый, в больнице от Женьки не отходил, лучше отца родного!
– Свидетельница! – стала сдаваться судья. – Если вы не успокоитесь, вам не дадут слово! Давайте по существу и по порядку!
– По существу! Человека ни за что им засадить – это по существу, а правду сказать – это по порядку!
Зал уже несколько раз взрывался, как на кинокомедии «Карнавальная ночь». Только судья становилась все суровее. Как-то надо было выпутываться. И уж лучше всего сделать вид, что стихия буйствует с твоего разрешения, а не унизительно вопреки.
– Свидетельница! – Все-таки держалась она. – Ставлю вопрос конкретно. Вы опровергаете ваше показание, данное во время предварительного следствия, уголовное дело, лист пятьдесят девятый, что ваш сын прибежал от Чикиных, куда ходил за солью, и сказал вам, что «дядя Чикин режет соседку ножом»? Или подтверждаете? И что…
– Ничего я не подтверждаю, ничего мой сын не говорил! – ляпнула Женькина мать. – Он вовсе по подвалам шастал, что у нас, соли своей нет?
– Подождите! Я еще не кончила вопрос. И что жена Чикина систематически пряталась у вас от издевательств мужа и от его побоев?
– Ха-ха-ха! – засмеялась Женькина мать. – Когда он ее бить мог, если на двух работах горбился, чтобы ее аборты оплачивать?
– Какая мерзость! – крикнула теперь подоспевшая жена Чикина. – Я требую привлечь за клевету!
Судья взялась за голову, пока они говорили обе вместе.
– Безобидного человека, сердешного, в тюрьму хотят укатать! – одна.
– Шантажистка, требует, чтобы ее в разделочную перевели, и из мести клевещет! – другая.
Судье стоило большого и отчаянного труда утихомирить их с спросить, не отказываются ли от своих слов другие свидетели. И тут болоневый директор совсем ее уконтропупил, заявив, что ничего не помнит: ни своих показаний, ни что там вообще случилось. У судьи полезли на лоб глаза, а он сослался на тяжелую личную травму, после которой изменила память.
– Крыса! – прошипела жена Чикина.
– Какая еще травма? – оторопела судья. – И вам, что ли, голову разбивали?
– Я не могу здесь сказать, – потупился он. – Это личная трагедия…
– Какая может быть трагедия! – переутомленно простонала судья, хотя не прозаседала и четверти часа. – О чем вы все говорите? У одной обострение памяти, у другого – провал! Нормальные есть среди вас? Вы по-человечески можете объяснить суду, что с вами произошло, документально подтвердить, почему отказываетесь от показаний?
– Я сутки находится в состоянии клинической смерти, – почему-то смущенно поведал директор.
– Ну и что? – Вот теперь было видно, что для судьи все равны, ибо обрезала она директора довольно резко. – Сколько людей бывает в этом состоянии, но все же не теряют памяти! Что бы тогда было! Медики это могут подтвердить?
– Могут! – поднялся с места добровольный консультант. – Длительная гипоксия в состоянии клинической смерти способна впоследствии повлиять на корковые процессы и привести к снижению умственных способностей реанимированного, в том числе и…
– Опять вы! – воскликнула ему судья как привидению.
– Я тут попрошу не оскорблять! – взвился директор. – Умственные способности у меня сохранились нормальные! Я выполняю руководящую работу!
– Это не играет роли! – оборвала судья. – На руководящей вы работе или рядовой. – Очевидно, она все же была верна идеалам беспристрастности. – Суду важны только ваши свидетельские показания и их достоверность. А вы тут нас совсем запутали. Перерыв объявляется! Ввиду вновь открывшихся обстоятельств!
…Еще долго в коридоре доругивалась с Женькиной матерью жена подсудимого Чикина. Директор гостиницы убеждал кого-то, что он умственно полноценный и подаст на доктора Рыжикова в суд. «Да пропади она, твоя разделка!» – несся из коридора на улицу голос свидетельницы Рязанцевой, доказывающей этим акулам, что у нее есть честь и совесть, не то что у некоторых. «Разделка!» – гулко отзывалось под высоким потолком и ударяло затем в спину уходящим обвиняемому с его единственным свидетелем. «Сделка!», «Сделка!», «Сделка!», «Сделка!»…
Еще невероятнее, что, пока заседали, на улице вывалил непредвиденный снег. Снег в конце апреля – по молодой траве и клейким народившимся листочкам. Из огромных, не зимних, опереточных хлопьев.
А они-то шли и не удивлялись. Может, даже и не замечали. А удивлялись тому, что оказалось этими загадочными «вновь открывшимися обстоятельствами». Наконец-то узнали, сподобились. Это просто старые, давно всем известные истины. То есть истина. Как она есть.
Криков в суде становилось все меньше. Все незанятые участники тяжб поприлипали к окнам и высыпали на крыльцо. Перед лицом этого белого знамения как-то забывались те нехорошие слова, которые были задуманы. Как-то застревали в горле.
Даже судья с заседателями и противостоящими участниками прений засмотрелась из канцелярского окна, так и не решив, трехчасовым или трехмесячным делать этот новый перерыв. Снег на глазах превращал в Дедов Морозов две уходящие фигуры, большую и маленькую. Велосипед между ними оставлял на слюдяном нежном насте тонкий рисованный след.
Что-то судье показалось не так. Мало радости, которую всегда здесь на ее глазах вызывает открытие истины. Какая-то подавленность и грусть, недостойные всех ее стараний и даже чем-то оскорбляющие правосудие. Никакого торжества, никакой благодарности. Хоть и не за нее она старается. Странная парочка. Могли бы тут размахивать руками, кричать «ага!», «ведь мы же говорили!».
А они будто чем-то придавлены. И мелкая фигура, и гвардейская. А то еще жалобу составляют… Кто их поймет…
Жалоба намечалась.
– Как вы думаете? – несмело спросила мелкая фигура у гвардейской. – Как она стала такая?
Многое знал доктор Рыжиков. Как иссечь очаг височной эпилепсии, как произвести задний спондилодез вместо металлической или проволочной стяжки кусочком своего любимого оргстекла, как сделать пункцию заднего рога бокового желудочка нашей многострадальной головы. И многое такое, что и не выговоришь. Но этот механизм был загадкой и для него. Как миловидная, веселая, отзывчивая девушка из заводской столовой превращается в накрашенную, жирную, неумолимую акулу. И за каких-то десять лет. Ну, за двенадцать. Как? Нет, неизвестно.
И ничего не оставалось, кроме как чисто по-рыжиковски вздохнуть и со своей гвардейской высоты положить солидарную руку на заснеженное плечо вопрошавшего: мол, держаться так держаться. Дело солдатское. Как бы там, что бы там, но окоп не бросать. Хоть и бойцов все меньше.
– Вот в сорок пятом весна была глупая, – стал он пристраиваться своими длинными шагами под семенящего спутника, стараясь идти в ногу. – Точно такая. Только разведчики напялят зеленое – вывалит снег. В белое влезли – кругом трава. И знаете, Сулейман…
– Я не Сулейман… – сказал Чикин испуганно.
– Да… – покорно согласился доктор Рыжиков.
И дальше пошел молча.
И среди разных мыслей – рассказать Мишке Франку каких он сукиных сынов развел. В своей коммунальной сфере. Питомничек кадров. Обслуга. Усы оборвать отцу города…
53
Хотя он всегда с удовольствием лицезрел Мишку Франка на всех руководящих трибунах, а также во всех президиумах во время городских и общенародных праздников, лично сам доктор Рыжиков, наоборот, любил не возвышаться над толпой ликующих сограждан, а полностью и всей душой сливаться с ней в пешем строю под оркестр. Поэтому перед всеми первомайскими и седьмоноябрьскими демонстрациями он всегда первым являлся на место сбора коллектива – в больничный двор. Даже если всю ночь провел на дежурстве с тремя операциями. Да еще исхитрялся доставлять своих девиц, которых по очереди, по мере подрастания, исправно перетаскал на плечах перед светлым лицом Мишки Франка. И их семейное «ура» было самым звонким на площади, за что доктора Рыжикова и обожали начальники больничных колонн.
Это раньше. А теперь любят за то, что безропотно носит самые многословные плакаты и самые длинные шесты с транспарантами, которые убедительно показывают рост и успехи городского здравоохранения за последние годы. Ибо на шее некого носить. Да и водить, честно говоря. Первой начала кривить губы очень взрослая Валерия. За ней последовала Анька. Потом стала ныть, зловредничать, цепляться ногами за постель Танька. И доктор Рыжиков упрямо шел один. И упрямо нес плакат с ростом койко-мест. И упрямо кричал «ура!». Что может быть приятнее и проще, чем вместе со своей шеренгой, и с передними и задними, подбирать левую ногу под «бум» пока еще далекого барабана, стараться разобрать издалека, за несколько кварталов, какой играют марш, волноваться за колонну при приближении трибуны, чтобы не оплошать, не сбиться, а оркестр все громче, а толпа все гуще, а флажки все ярче, смех все звонче! И вот оно, за поворотом, то ощущение праздника, неотвратимым приливом, которое захватит и закрутит, как бы и кто бы с утра ни противился, ни кривил губы. Ура!
Но до чего ж непотопляем род людской!
«У тебя, милочка, совесть так же обрезана, как и халатик! Это, милочка, демонстрация трудящихся, де-мон-стра-ция! А не стриптиз! Именно позорить нашу колонну мы не позволим!»
Чей это голос?
«Не может быть!» – воскликнул бы тот, кто расстался с Ядовитовной в момент ее краха. То есть когда ее клочки скорострельно вылетали из главного больничного корпуса, едва тоже не разнесенного дедом заодно с виновницей.
И тем не менее. Месяца не прошло – вот она, снова при деле. На высоком руководящем посту распорядителя больничной колонны. Расставляет сестер по шеренгам, распределяет наглядную агитацию, наводит общий порядок. И, как всегда, кого-то так же неутомимо обличает. В данном случае – в неуважении к флагу. Кто же обидчик и неуважитель? Конечно же мини-халатик юной практикантки из медучилища. Такое оскорбление! Эра «мини», победоносно шествующая по всему белу свету, еще только боролась за место под солнцем в нашем верном исконности городе. «Ты, милочка, под каким флагом идти собралась? Мода тебе наша не нравится? Может, тебе и флаг наш не нравится?»
– А я вам не обязана! – гордо и отчаянно вскинут нежный подбородок. Резкий поворот, марш из шеренги. Не хотите – не надо! Майский ветер, играя, так и стремится вовсе открыть прелестные молоденькие ножки. Одной рукой держа коротенькую полу, другой – начес на голове, изгнанная, но непобежденная, шасть снова к подружкам в середку колонны.
Доктор Рыжиков всегда становился в хвостовые шеренги. К шоферам, кочегарам, плотникам, прачкам, электрикам. Сейчас к нему уже примостился шофер «скорой» Гена Пузанов. Он щелкал семечки и поигрывал голубым шариком, привязанным ниткой за палец.
– А вот я, например, на бюллетене, – тут же раздался столь хорошо знакомый Генин скрип. – Имеют меня право вызывать или нет? А то если не явишься – праздничную премию не получишь. Это что? Ее вообще везде до праздника дают, если говорить про людей. А завгар: или на дежурство, или на демонстрацию. Ладно, пойду. Но если теперь обострение, вот вы как врач скажите, кто отвечает? Я не в том, что против демонстрации, мне самому, может, интересно с людями потолкаться, свежим воздухом подышать. Но ты же не присылай ко мне посыльного… как к врагу! Ты подожди, я сам, может, первый приду…
Доктор Рыжиков ждал, как Гена перейдет в сей раз к Пушкину, но тут его потянули с другой стороны:
– А можно мне на демонстрацию?
Он оглянулся на тихий голосок и чуть не подпрыгнул.
– И, конечно, во главе всей колонны! И на белом коне!
В ответ ему несмело улыбнулась больная Исакова. Прекрасная, воинственная и неузнаваемая Жанна. Не в синем больничном халатике, а в шелковом розовом платье, как видно, принесенном мальчиком. Он стоял рядом с бледным и особенно независимым лицом. Но в то же время чуть поддерживал Жанну под локоть. Но так, чтобы всем было видно, что она и ходит, и стоит абсолютно сама. Опираясь на палочку – но не на костыль же!
– Конечно, идем! – без тени сомнения согласился на это лекарство лечащий врач. – Ты слева, я справа, а она в середине. Если в нашей колонне не окажется такого замечательного платья, то ее на центральную площадь не пустят, как же посмеем не взять?
Жанна счастливо засмеялась. Мальчик с серьезным лицом зашел слева и взял ее под локоть, хотя до выхода было еще далеко.
– Мы тебя из комсомола исключим! – раздалось в середине колонны. – Еще смеет именно умничать! Мы буржуазную мораль с собой под флагом на демонстрацию не понесем!
Мини-халатик вторично вздернул гордый подбородочек, вторично круто повернулся, вторично прошел вдоль колонны, придерживая полу и прическу, и вторично нырнул в толпу. В ее далекий от начальства хвост. В шеренгу, состоящую из доктора Петровича, Гены, Жанны Исаковой и ее серьезного мальчика. Губы халатика дерзко шептали: «Подумаешь, я ей не обязана… Пусть сама ходит в своей смирительной…» Слесари и шофера одобрительно захмыкали, радуясь такому соседству и уважая упрямую самостоятельность халатика.
– А это кто оставил?! – раздался истошный вопль Ады Викторовны, как будто кто-то, зашив полость живота, оставил снаружи забытый желудок.
К фонтану был приставлен изрядный плакат, брошенный каким-то хитрецом. Ада Викторовна боролась с ним под ветром, как парусник, потерявший управление. Все от нее отодвигались, как от гриппозной. Свободные руки прятались за спину. В арьергарде колонны народ потверже и посамостоятельней. Иди ты… Это еще потом с площади переться обратно в больницу, сдавать агитацию в склад, а все хотят прямо оттуда разбежаться домой. Лица подсобного персонала становились суровей и непроницаемей, как будто он не узнавал или не признавал в Аде Викторовне начальство колонны. И вообще чего ей здесь надо? Вот Гена Пузанов отвернулся и сплюнул в сторону семечную шелуху, хотя Аду с умоляющим взором несло прямо на него. Он посторонился, давая ей дорогу. Уже падая, она почувствовала прочную опору и кем-то возвращенную уверенность. Чья-то крепкая рука взяла злополучный шест. Рука доктора Рыжикова.
– Ах, Юрочка… – отдышалась она. – Ты всегда выручаешь… Только это нужно нести впереди. Понесли в первую шеренгу, я там тебе место освобожу… Пошли, золотко.
Как с гусыни вода!
– Поближе к начальству… – флегматично пробурчал Гена, сплюнув шелуху. – Конечно…
Ему сразу стало намного скучнее в этой замыкающей шеренге.
Но золотко осмотрело свое погрустневшее войско и чисто по-рыжиковски вздохнуло:
– Да нет, не заслужил… Уж буду лучше с тыла прикрывать. Впереди победители…
Ада Викторовна была инициатором соревнования в больнице за право идти на демонстрациях в первых рядах.
– Да, Юрочка, ты же у нас самый трудолюбивый, все это знают… Это итоги, понимаешь? С них всегда начинают… Ну идем, Юра!
Фамилии заслуживших почетное право всегда вывешивались перед праздниками на доске объявлений. Рыжиковской там давно не бывало.
– Это подлог, – сказал он. – Люди достойные будут идти с недостойными, и это их обидит. Все соревнование потеряет смысл.
– Ну мы тебя внесем! – прельщала Ада Викторовна. – Внесем и объявим! Без этого нельзя.
– Без подлога? – простодушно спросил доктор Петрович.
– Без плаката! – укорила его Ада Викторовна. – Ну, Юра, ты всегда так… Тебе бы только шуточки… Тогда надо вперед взять, отдать кому-нибудь…
– Пожалуйста… – вытянул руку с шестом, как в приветствии, доктор Петрович.
– Пожалуйста! – повеселел Гена Пузанов, довольный, что заднее общество сохранило приличных людей.
Плакат, добросовестно сбитый плотником и художником, по весу и конструкции был под силу двоим, а по шесту предназначался одному. Ада Викторовна поняла, что другого охотника не найти, и сникла.
– Как же так: итоги – сзади… Ну, как знаешь… Это мне непонятно… А это что такое?! Ты здесь откуда взялась? Я кого переодеваться отправила?!
Она тут же сорвалась на крик, обнаружив наконец-то, что снова от нее пряталось, – мини-халатик.
– Нет, это невыносимо! А ну-ка убирайся! Товарищи, да как же вы терпите! Ведь она ваши ряды позорит! Ведь позорит же, правда?
– Да нет, не очень… – сказал от имени ухмыляющихся товарищей доктор Петрович. – Товарищи особенно не возражают… Пусть товарищ идет…
– Пусть халат сменит, тогда и идет! – даже в лице исказилась от нравственности Ада Викторовна. – Убирайся, пока я…
– Пока вы что? – осмелел под прикрытием доктора Рыжикова мини-халатик. – В наше стране на демонстрации ходить не запрещается! У нас свобода, к вашему сведению!
– Свобода, но не для голых! – вышла из себя от таковых конституционных дерзостей дочь мягкой мебели, как будто не подозревая, что уже этим летом она, как и большинство женщин планеты, поднимет все свои платья и юбки, а также медицинские халаты на два сантиметра выше соблазнительных колен. А к осени – еще на сантиметр. – А это что за посторонние? – Взгляд начальницы упал на Жаннино платье. Ее кружевные крахмальные воротничок и отвороты даже съежились. – Это больная! – уличила Ада. – Больная на параде! Ха-ха-ха! Вот это именно новость! Ну посмотрите, и приоделась! Ты, милочка, или на парады ходи, или в палате лежи, а симулировать нечего! И это посторонний! Немедленно покиньте! Ты, ты и ты! Мы еще разберемся!
«Даже в последнем ряду хочет порядок навести, – встала перед доктором Рыжиковым мягкая улыбка Сулеймана. – В последнем ряду разве порядок бывает?..» И искры в темных глубоких глазах.
До чего некоторые всё принимают всерьез. Поручи выровнять носки – начинают вершить судьбы.
– Ладно, – чисто по-рыжиковски вздохнул доктор Рыжиков. – Раз мы плохие лошади, то мы пойдем в другое стадо. Пошли, ребята! – И скрепя сердце двинулся из родной колонны.
– Юрочка, а ты куда?! – подхватила Ядовитовна шест с фанерным парусом, повлекший ее то сюда, то туда. – Юра! Ты не имеешь права! У нас каждый мужчина на вес золота! Ну хоть кто-нибудь помогите!
– А у меня справка, – дерзко сплюнул шелуху и Гена, выходя вслед за доктором Рыжиковым. – Че я тут один как пуп?
– А я контуженный, – сказал доктор Рыжиков. – И у меня справка. Пошли, ребята, где-нибудь пристроимся…
– Да господи, идите как хотите! – взмолилась Ядовитовна. – Только возьмите эту палку!
Это была не палка, а целая корабельная мачта, и только богатырское плечо доктора Рыжикова могло ее выдержать. Плюс ветер, парусивший фанеру с яркими цифрами и зигзагами диаграмм, которые, правда с небольшим отставанием, но все же подтверждали, что успехов в нашем городском здравоохранении больше, чем недостатков. Тем более что в строчке «открыто специализированных отделений – 1» речь шла ни много ни мало – о бывшей прачечной, где обосновался сам несущий плакат доктор Рыжиков.
Единственное что – из-за Жанны, которую приходилось беречь, последняя шеренга отставала все больше и больше и на площади перед трибуной стала вполне самостоятельной строевой единицей – между колоннами медиков и следом идущих строителей. Ей персонально перепали улыбки и приветственные взмахи с центральной и боковых трибун. И взмах товарища Еремина, который, может быть, даже не знал, с какой печальной миссией приходила к доктору Рыжикову его жена. И взмах товарища Франка, который выглядел таким жизнерадостным и здоровым, что доктору Петровичу и мысли не пришло, какой будет их следующая встреча. Доктор Петрович и ему помахал – как всегда, рукой, свободной от держания на плече то ненаглядной дочки, то наглядной агитации. Товарищ Франк помахал снова – теперь уже персонально доктору Петровичу. Как и было заведено у них уже целый век. Если только доктор Петрович не вел в это майской утро очередную экстренную трепанацию.
…Сивый начальник СМУ покрикивал своим строительным шеренгам: «Подравняйсь!» – и пытался разглядеть через спины и передние щиты, что это там за особый малочисленный коллектив удостоился чести промаршировать между двумя столь солидными городскими организациями. Картина маячила слишком неясная. Она состояла из голубого безмятежного шарика, висящего на пальце коренастого нахала (по спине видно, что нахал); из розового платья с инвалидной палочкой и истонченных болезнью, подволакивающихся девичьих ног, одетых в толстые, не по маю, чулки; из других ножек, совсем не похожих на первые своим полноценным здоровьем и весенней яркой белизной, открытой всему свету и манящей взгляды сзади идущих строителей; из мальчика, помогающего инвалидной девочке с одного локтя и из странно знакомого гренадера – с другого. На плече у гренадера высилась целая мачта, говорящая, видно, о потрясающих успехах. Время от времени гренадер ободряюще оглядывал вверенную ему шеренгу и чуть присеменял широкий шаг, стараясь подобрать ногу сразу под всех, в том числе под бухающий барабан оркестра. Сразу видно было старого солдата. Но слишком разные по устройству ноги справа и слева не слаживались между собой и шагали возмутительным разнобоем.
К их приходу усиленный баритон местного диктора уже отгремел над площадью: «Слава людям в белых халатах, бессменно стоящим на страже здоровья всех советских людей!» На долю опоздавших досталось только радиоэхо, превратившее «бессменно» в «бессмертно».
Но еще не начиналась «Слава нашим замечательным строителям!». В вынужденной паузе доктор Рыжиков по многолетней привычке набрал полную грудь воздуха и грянул молодецкое десантное «ура!». Остальные, как могли, поддержали, и, наверно, это прозвучало бы внушительно, особенно радостный писк измолчавшейся Жанны. Если бы не городской оркестр, который в этот миг с особым рвением заглушил их прекрасный порыв замечательным маршем «Герой».
54
Так он и не успел сказать Мишке Франку про сукиного сына директора гостиницы.
Но это теперь не имело значения.
Мишка Франк лежал, уставив глаза в потолок. На вид как будто бы цветущий и здоровый, но не способный пошевелить рукой, ногой и языком. Только что-то мычал.
Это был паралич.
– Товарищ Франк, вы ощущаете укол? – испуганно спрашивала лечащая докторица, окруженная городской медицинской знатью. – Моргните, если чувствуете…
Товарищ Франк смотрел в потолок не моргая. Столько раз становившийся в стойку при угрозах врачей, столько раз из своего паровозного облака наносивший боксерские удары, товарищ Франк лежал в нокауте. И счет давно перевалил за десять. Над ним порхали, будто полотенца секунданта, его рентгеновские снимки. С них смотрел в фас и в профиль череп товарища Франка с характерными затемнениями. Инсульт. На чем же ты перенапряг свои государственные мысли? Молчит…
– Я сразу говорю: позвоните Юре, – всхлипнула его жена Валя. – Сразу, когда только рука онемела. А он, дурак, еще зарядку сделал. Онемела, надо размять… На демонстрацию надо… Поперся…
Оказывается, Мишка Франк махал им с трибуны здоровой рукой. Больная висела с другой стороны. А доктор Рыжиков прошел и не заметил.
– Надо оперировать, – сказал доктор Петрович. – Там два пятна, может еще прорваться…
– Я не сумасшедшая! – нервно ответила лечащая. – Ему нужен полный покой! У нас теперь электронный диагноз! Уже понесли… Пока я лечащая – я не сумасшедшая!
Мишку Франка в машину?!
Машину пробовали, еще когда Танька прыгала по дому с гипсовой правой ногой, разрисованной Анькой. Она (не машина, а Танька), как показал допрос с пристрастием, вовсе не попала под автобус, а неловко соскочила с него. И домогалась у Валеры Малышева, надо ли в эту машину теперь совать ногу в гипсе, чтобы ее вылечить. Это было чуть ли не в последний раз, когда Валера посетил их. И доктор Рыжиков еще добавил:
– В Америке в одном брачном бюро одна клиентка сдала все данные о себе и о своем желаемом женихе. А картотека у них – как в полиции. Чик-чик – и выскочила карточка. Кандидат идеальный, ей очень понравился. Только сначала чек, а потом адрес. Она чек выписала и адрес получила – своего собственного брата. Вот что такое по-машинному полное совпадение.
– И над пароходом сначала смеялись! – высокомерно посмотрел Валера Малышев на хихикнувших Аньку и Таньку. – И кто же оказался прав? Вы или мы?
– Конечно, вы, – чисто по-рыжиковски признал доктор Рыжиков, потому что действительно лаборатория шефа Валеры Малышева получила втрое больше места, чем его «клиника».
– Просто шеф гениально сумел доказать товарищу Франку перспективность математической диагностики. Машина верит не слезам, а точному набору и комбинации данных…
На радостях Валеру было долго не остановить. И вот теперь данные главного машинного почитателя ей же и сунули в пасть, не спросив, правда, мнения его самого. И некуда было деваться, кроме как идти к шефу Валеры Малышева.
Доктор Рыжиков искал шефа среди гудящих железных ящиков и усердно мигающих лампочек. По долгим рассказам, шеф представлялся ему гибридом Валеры Малышева и такого гудящего шкафа. Шкаф со стрижкой бобриком.
Поэтому он и не обратил внимания на худенького белобрысенького маленького очкарика с застенчивыми светленькими усиками. Он думал, это просто грамотный и аккуратный электронный слесарь-наладчик в сером рабочем халате. И спросил, где здесь шеф. Белобрысенький засмущался сказал, что ежели он, доктор Рыжиков, не возражает, то по чистой случайности среди этих гудящих и считающих монстров шефом здесь почему-то называют его. И протянул дружелюбную руку. Из-за толстых очков глянули очень умные и очень грустные глаза. Доктор Рыжиков понял, что за словами шеф что-то прячет глубоко внутри себя.
При всем своем знании Валеры Малышева он никогда бы не подумал, что можно так грубо искажать образ знакомых людей. Тут действительно нужен талант деревянности. Или гений дезинформативности. Настолько был далек реальный шеф от рисунка.
– Я знаю, – сказал шеф Валеры. – Товарищ Франк. Он нам так здорово помог. А вы доктор Рыжиков? Я бы очень хотел с вами поработать. Может, попробуем? Сейчас покажут результат. Идемте почитаем…
Они пошли между шкафами и столами (доктор Рыжиков не знал, что машина – это несколько комнат машин) и столкнулись с Валерой Малышевым.
– О! Кого я вижу! – воскликнул Валера. – Наконец-то к нам в гости! Вы расскажите, шеф, какая у нас точность! Чик-чирик, и из трехсот ни одного промаха!
На лице Валеры сияла счастливая гордость.
Как будто не его еще с середины апреля перестали пускать или звать в рыжиковский дом. Доктор Рыжиков думал, что с ним что-то случилось и он не пришел. Но каменное лицо Валерии говорило, что с Валерой лично все в порядке и беспокоиться не о чем. «А Лерка его выгнала!» – сказали Анька с Танькой. Доктор Рыжиков малость остолбенел, так как заподозрил недавно, что недоступная, высокомерная, как вечноснежная вершина, Валерия нуждается в чисто женской консультации. В таком положении любая девушка в здравом уме как раз ведет себя иначе. Конечно, Валерия отказалась что-нибудь объяснять. Только повела непримиримым плечом: «Меньше народа – больше кислорода». И огрела посудным полотенцем Аньку с Танькой поперек шустрых спин: «Не ваше мышиное дело!» Больше доктор Рыжиков ничего не добился бы и пытками. Загадка века – современная девушка. Загадка любого века и любой современности.
Вторая загадка была сейчас перед ним.
– Тут у нас программисты! – продолжал радовать доктора Рыжикова неукротимый в своем оптимизме Валера. – Смотрите, какие условия созданы! Аквариум, кондишен, цветочная стенка! Между прочим, своими руками, по идее шефа…
– Ладно, Валера, – почему-то попросил шеф устало. – Вы потом покажете, а мы пока поговорим по делу…
Валера Малышев, возвышавшийся над шефом как гора мускулов с засученными рукавами, безропотно склонился и пошел за свой шкаф.
– Да! – обернулся он с полпути. – Вы Леру сегодня увидите?
– Я? – почему-то удивился доктор Рыжиков. – Может быть… Еще не знаю, как сегодня… А что?
Валера потоптался между ними и своим рабочим местом, думая над тем, что же именно. Живой, дышащий шкаф между гудящими железными. Что-то он знал, чего не знал доктор Рыжиков. Или, наоборот, не знал того, что знает отец странной девушки, вдруг захлопнувшей дверь перед его статной фигурой. Привычное ощущение превосходства словно с чем-то боролось в нем.
– Ладно, ничего, – махнул Валера скульптурной рукой с выдающимися бицепсом и трицепсом. И на лице все же мелькнуло что-то новое, совсем на него не похожее. Мелькнуло что-то пробиваемое, если так можно выразиться.
– А, он ведь вам почти… – сказал Валерин шеф. – Он у нас первый на комнату в малосемейном общежитии. Скоро получит и может…
– А правда вы мастер по самбо? – засомневался доктор Рыжиков во всем.
– Правда, – ответил маленький и грустный человечек. – Я веду секцию в Доме молодых ученых. А что, это плохо?
– Хорошо, – сказал доктор Петрович.
Девушка в синем халате откуда-то принесла шефу бумажку. Доктор Рыжиков через плечо шефа вместе с ним прочитал что-то очень малоутешительное, что-то глубокое двустороннее и субарахноидальное, с разрывом чего-то и нарушением чего-то, что обещает нарастающий паралич со смертельным исходом. Несовместимое с жизнью. И электронная рекомендация: полный покой, глюкоза, сосудосужающее, антикоагулянты, аппаратное дыхание… Якобы… Словом, не касаться.
Этот приговор девушка сейчас снесет консилиуму. Как золотое яичко.
– А она у вас может… – заикнулся доктор Рыжиков.
– Черт ее… – запнулся шеф Валеры. – Еще статистику брать и брать.
В отличие от своего верного ученика и последователя, шеф Валеры умел запинаться.
– Машинка-то, конечно, немудреная, – заизвинялся он за дело своих рук. – Вчерашний день… Все уже на байты переходят, а мы в битах застряли… Мы на ней проиграли почти сто моделей. По историям болезней. Ни разу не ошиблась, сукина дочь. Кому смерть, кому инвалидность, кому излечение…
Он извинялся за успехи.
Можно было, собственно, идти.
Но доктор Рыжиков еще немного потоптался.
– Примитивно, конечно, громоздко и медленно, – обвел взглядом хозяин свою ровно гудящую мебель, думая, что пришел бог весть какой критик. – Но ничего, перейдем на транзисторы, все это сложим вот в такой шкафчик… Накопим банк данных, в миллиончик раз повысим скорость обработки…
Доктор Рыжиков, собственно, ничего этого и не требовал.
– А давайте работать вместе, – смущенно предложил Валерин шеф. – Нам нужна сильная медицинская группа. Вы знаете, что Ноберт Винер занимался теорией нервного спайка? Он первый поразился сходству действия нервной системы и вычислительных устройств. У нас ведь нервная система – тоже логическое устройство… Или связь мозговых волн с лечением эпилепсии… Но это пока для нас египетские иероглифы. Возьмем общую тему и разгадаем, например, тайну дельфинов. Обсчитаем биотоки мозга у нас и у них, а вдруг они умнее нас?
– Да нет, наверное, – разбил эту мечту доктор Петрович. – Тут не надо обсчитывать, тут из анатомии видно. Чтобы ему нас догнать, надо через себя гнать в минуту литров тридцать воды на килограмм веса. А он на это не способен. И просто не хватает кислорода для питания клеток головного мозга… Вода ему кислорода недодает.
– Жаль… – Шеф Валеры Малышева снял очки и потер переносицу. Его обезоруженно моргнувшие глаза оказались совсем подслеповатыми. – Но все равно вам вслепую нельзя. Вот увидите скоро.
– И все же что-то в этом противоприродное, – извиняясь, сказал доктор Рыжиков. – Это как предсказание судьбы… Как приговор. А кто тогда будет бороться до конца?
– В общем-то… – Шеф Валеры потер переносицу, – мы стараемся, чтоб был не приговор, а варианты…
Это было уже легче. Но не доктору Рыжикову.
– Варианты… – не очень воодушевился он. – Вариант умереть в палате или вариант – на моем столе под моим ножом. Думаете, есть существенная разница?
– Есть, конечно, – сказал шеф Валеры. – Для вас…
– Ладно, – решился доктор Рыжиков. – Тогда пойду.
– Куда? – спросил шеф Валеры.
– Мишку красть…
Шеф Валеры Малышева сразу и сбоку внимательно посмотрел на него. Потом, уже в коридоре, еще раз снял очки, еще раз потер переносицу и вдруг сказал:
– А у меня вот дочь не ходит… Вот, понимаете…
Доктор Рыжиков остановился.
– Уже два с половиной годика, – сказал великий, могучий, четырехязыкий, электронно-каратистский, самбо-вычислительный шеф. – Ножки скрещивает и не идет… Говорят, паралич церебральный…
– Ну, не обязательно, – по привычке начал с лучшего доктор Рыжиков, на всякий случай сразу отводя худшее. – Она у вас… доношенная?
– А другие говорят, что никакой не церебральный, – несмело согласился шеф Валеры. – Что глубокая недоношенность. Шесть с половиной месяцев…
– Может и года в четыре пойти, – утешил его доктор Рыжиков. – И еще бегать или прыгать вовсю… Это у них бывает… А вы в машину не закладывали?
– Нет… – надел очки шеф Валеры. – И не буду. Мы пока по утрам час делаем зарядку, а по вечерам два часа массаж… Днем еще массажистка приезжает… Лучше просто верить. Лучше я вам покажу. Если захотите познакомиться, конечно. В целом мы веселые, разговорчивые, любим уже принарядиться… На горшок просимся…
– Но я-то могу ошибиться, – осторожно предостерег доктор Рыжиков. – Я посмотрю, конечно, но могу… Все мы немножко…
– Ошибиться вы можете, – утешил теперь доктора Рыжикова шеф Валеры. – А машина, допустим, не может. Но она не может то, что можете вы.
– Что? – спросил доктор Рыжиков.
– Бороться до конца, – совсем уже засмущался шеф Валеры.
55
– Чего на свете не бывает? – спросил доктор Петрович, чтобы кто-нибудь не испугался его молчания.
Мишка Франк почти не кровил. Белокожая бритая голова казалась неестественно маленькой при тучном теле, взгроможденном на операторский стол.
– Полноценных спортсменов, – сердито ответила рыжая кошка Лариска.
– Трезвых сантехников, – добавил Коля Козлов под тревожным прицелом красивых и зашторенных Машиных глаз. Коля вернулся с принудительного лечения и начал работать дежурным врачом «Скорой помощи». Но скоро его пришлось перевести снова в реанимацию, потому что вызовы угрожали ему угощением. Как будто он не врач, а профсоюзный Дед Мороз.
– Правильно, – сказал доктор Петрович. – Честных завмагов, трехцветных котов, острых скальпелей, худых начальников. – Если бы он был худым, этого бы не случилось. Вот вам обжорство, неподвижность, курение двух трубок сразу. Мышцы одряблели, сосуды раскрошились, мысли обленились…
Нервно кашлянул представитель горздрава. Его назначили вести наблюдение и составить отчет о правильности операции, производимой над товарищем Франком. Слишком многие ее пугались пуще самой смерти товарища Франка. Включая в эти многие лечащего врача и считающую машину. И исключая только жену товарища Франка Валю. Валя сидела за дверью, а представителя пустили внутрь. Он был из другой области, из логопедов, лечащих заик, и вандализм над товарищем Франком леденил его душу. На всякий случай он заодно запоминал неуважительные высказывания доктора Рыжикова в адрес городского здравоохранения вообще и самого товарища Франка в частности. Когда доктор Рыжиков прижег непослушное кровотечение и малость запахло жареным Мишкиным салом, ревизор из горздрава поморщился.
Но хуже всего то, что Валя верила. Если бы она согласилась, не веря в доктора Петровича и руки были б не такие ватные. Но не веря она бы не согласилась. Поэтому неизвестно, что лучше. Лучше всего, конечно, никогда не браться за друзей и родных. Пусть их режет кто-нибудь другой. Потому что жалеешь и бережешь, а надо быть жестоким и резать без жалости. Тогда спасешь. Так говоришь себе, когда режешь.
Голова Мишки Франка, крупного и добродушного боксера-бугая, постепенно превращалась в раскроенную кровоточащую массу. Голова доктора Рыжикова понимала, что взломать Мишкин череп и расковырять Мишкино серое вещество – лучший путь к полному параличу и полному идиотизму, если даже здоровое Мишкино сердце все это выдержит. Оставалась надежда на лобные доли. В этот раз все могло разлететься и лопнуть. Но лобные доли, замечательные, объемные, вместительные лобные доли товарища Франка, останутся целехоньки и продемонстрируют на вскрытии всю его административно-интеллектуальную мощь.
Ну, в крайнем случае у них появится виноватый. Им же лучше. И лечащей будет козел отпущения. Так что пусть еще спасибо говорят. Жизнь и смерть Мишки Франка он взял на себя.
– Спасибо… – недовольно сказала Лариска.
– Пожалуйста, – сказал ей доктор Рыжиков. – А за что?
– Опять из-за вас своего борца не проводила… Неглаженый и некормленый на свой чемпионат укатил…
Доктор Рыжиков вежливо покашлял.
– Замельтешит там рваными трусами… Опозорит перед какой-нибудь бабой…
Слабодушному горздраву от этих слов захотелось немного выйти подышать. То, что не удалось крови и дыму, удалось рыжей кошке.
– Муха! – крикнула свирепо Сильва Сидоровна, только лишь скрипнула дверь. Так кричат: стой, стрелять буду!
– Что? – оглянулся горздрав.
– Муху впустил! – выпучила бдительные глаза Сильва. – Лови!
Жирная зеленая муха, уже почти летняя, прорвалась в операционную и спикировала на свежевскрытую черепную коробку. Кто замахал руками, кто задергал локтями, кто зашипел, кто задул, надувая щеки. Главное было – сохранить от налетчицы мозг, но не дать ей и зацепить что-нибудь стерильное – руки и инструменты. Муха же проявляла всевозможную подлость и изобретательность, свойственные ее наглому племени. Она была настоящим асом противозенитного маневра. Бесшумно проходя на виражах, она возникала внезапно и с неожиданных сторон, пикируя со злым жужжанием на цель. И с каждым разом опасней и ближе скользила над пахучей липкой кровью, густеющей в складках Мишкиного мозгового вещества.
Зацепив ее стерильной салфеткой, Сильва Сидоровна привела ее (салфетку) в негодность и возмутилась еще больше.
– Чего стоишь?! – прошипела она остолбеневшему виновнику. – Бери полотенце, гоняй!
Горздраву дали полотенце, и он пошел с ним на муху. Мухе нравилось играть с ним с кошки-мышки. Иногда, утомившись, она садилась отдохнуть и погреться на ярко-белую лампу. Горздрав замахивался полотенцем, но на него шипели сразу все: куда здесь падать сбитой мухе, кроме как в благородные извилины Мишки Франка! И он застывал с полотенцем на взмахе, как фигура античного копьеметателя.
– Вот это и есть операция под вражеским налетом и прикрытием зенитной артиллерии, – популярно объяснил доктор Рыжиков всем присутствующим.
Поскольку инспектор горздрава был занят теперь до конца и не смел оторваться от мухи, доктор Рыжиков мог делать что хотел. Например, вычерпывать из этого священного сосуда бурые сгустки застывшей крови, бережно орудуя специальной блестящей ложечкой, чтобы вдруг замереть в тревожном наклоне.
– Лариса! Ну-ка стойте! А ведь прорывов было два. Кровь постарее и поновее… Надо оба отыскать. А если еще будут?
Что же тебя прохудило так, Мишка? В расцвете-то лет…
– Еще будут – вместе под суд пойдем, – ответила она достойно. – Да не бойтесь, я с таким, как вы, по любому этапу…
Можно было подумать, что ее так ничто и не тронуло. Даже смерть Сулеймана. Если бы не нахмуренная черточка у переносицы, которой год назад не было. И еще одна, у уголка рта, спрятанная сейчас марлевой маской. «Лучше б я к тому верблюду съездила, – отозвалась она в тот день. – Не захотели пустить, пожелдобились… Меня бы там пешком не отпускали…»
…В коридорчике их дожидалась Валя. Первое, что она сказала, когда вышел доктор Петрович, было то же, что говорили ему сотни несчастных жен и матерей, а также и отцов, и братьев, и сыновей, и мужей:
– Юра, пусть какой угодно будет! Пусть неподвижный, пусть глухой и слепой! Лишь бы живой, понимаешь? Живой, Юра!
Знала бы она, какими ватными руками он сегодня работал… Знали бы все, с кем он почти балагурил на этом краю, склонившись над операционным полем… Причем, как всегда, к голове Мишки Франка была пришита оскорбительная на посторонний вкус, но необходимая ограничительная простыня. И это он не забыл сделать, несмотря на ватные руки.
Знали бы – оттащили бы от стола. Но не должны были знать.
56
Мишка Франк был живой. И более того – живехонек.
– Ты, глупый, ничего не понимаешь, кроме своей оболочки. Почему я им дал все, а тебе ничего?
И доктор Рыжиков ничуть не удивился, что Мишка Франк с едва заштопанной после прорывов задней левой мозговой артерией рассуждает так здраво. И в зубах у него вместо спасительной дыхательной трубки – губительная курительная. Он пустил свое знаменитое облако дыма.
– Вот ты и балда. Их уже начинают от нас переманивать. Мода всюду проникает на эту кибернетику. Ставки, помещения, оборудование – все находят. Амосов этот киевский всех всколыхнул. Не дадим мы – ребята уйдут. И правильно сделают. И надо их держать, у них большое будущее. У тебя тоже будущее, но ты не сбежишь. Я знаю. И будешь в городе работать, даже в собачьей конуре. Я тебя знаю, Юра. А они все сбегают. И глазники, и кожники, и математики. Только ты не сбежишь. А город-то жалко. Надо людей закреплять, Юра. Умных людей, полезных. Ты пока продержись как-нибудь, ладно? А потом мы придумаем. Понял?
– Понял, – ответил доктор Рыжиков как можно добродушней, удивляясь только тому, что Мишка Франк непривычно расчувствовался. – Опять я последний…
– И привет оболочке, – сказал Мишка Франк. – Как там сегодня она?
– Сегодня плохо, – признал доктор Рыжиков, хотя и сам не понял, почему, если Мишка в сознании, оболочке должно быть плохо.
– Но жива хоть? – спросил серьезно Мишка Франк.
– Пока жива…
– Ну, тогда я пошел… Вперед, на ржавые мины!
И, непонятно как связав одно с другим, Мишка Франк встал с кровати. Резиновые шланги и стеклянные трубочки капельниц потянулись за ним к двери изолятора. Сзади на спине густо шерстели седые и черные волосы.
Доктор Петрович рванулся за ним, чтобы остановить и уложить, но оказался вдруг сам прикрученным к стулу бинтами и резиновыми шлангами. Стул дернулся за ним, раздался грохот.
– Юрий Петрович, вы что?!
– Ничего… – потер он колено и локоть. – А что?
– Вы со стула упали!
Слава богу, хоть не на Мишку Франка.
Заботливые лица, переполошенные глаза. Еще бы, такого не увидишь и в века. Часовой Рыжиков уснул на посту.
– Мастер, разве так можно? Вы здесь шесть суток! Идите отоспитесь, мы посидим! Отвезти вас? Не бойтесь, никуда он не денется!
То-то и видно, что не денется. Лежит как полагается. Как полагается в глубокой подкорковой коме. Под веселую песню гармошки дыхания. Мощный живот в такт ей вздымается под простыней. Цвет лица румяный и бодрый. Сердце пока тьфу-тьфу-тьфу. Что-что, а сердце держится боксерски. Товарищ Франк жив. И не просто жив – живет…
– Смотрите, слеза…
Она одиноко текла из закрытого глаза по небритой щеке. Что она значила, никто не мог сразу сказать. То ли след повреждения, то ли какая-то глубокая, проснувшаяся первой боль. То ли какое-то давнее сожаление или вина. Не доктор ли Рыжиков мечтал о такой слезе, когда в последний раз говорил с Мишкой Франком. О слезе раскаяния – на самый малый случай. Но Мишка Франк только хохотнул – довольно впрочем, осторожно. Что теперь, всем вешаться или стреляться из-за одного несчастного случая, по собственной вине к тому же? Он ведь десять раз повторил все сначала: что не оставлять же было тех же студентов на улице, на зиму глядя, из-за пяти несчастных плит; что были приняты под расписку все меры предосторожности; что студенты сами в теплый вечер поотрывали рейки и открыли забитую дверь – подышать… Что да, была неосмотрительность, но не было вины. Что люди сами взрослые и вообще прокуратуре виднее. «Ну хочешь, сам пойду под суд, сам на себя напишу обвинение. А строитель – ему как прикажут…» Доктор Рыжиков не хотел, чтобы Мишка Франк шел под суд. Его бы устроила просто такая слеза. И он сказал: «Если я ничего не могу объяснить, пусть он к тебе сам во сне придет и все скажет!» Тут Мишка Франк и хохотнул, старый материалист. А вот что придавило его прокуренные сосуды в ту майскую ночь, так и осталось секретом. А также – что значила эта слеза…
…Ибо «секреция ее резко усиливается при разных раздражениях роговицы (инородными частицами, попадающими в глаз, вредными примесями в воздухе и др.), а также при некоторых эмоциональных состояниях. В таких случаях часть слезной жидкости не успевает оттекать по слезовыводящим путям и скатывается через нижнее веко».
Как выражаются они сами.
Сам-то доктор Рыжиков не заметил, что впервые за годы, с самого воцарения мира, ему приснился иной сон кроме того единственного, с которым он был обручен. Кроме «прощайте, товарищи!».
57
– Плачешь, десантник! Спишь и плачешь, слеза вон течет! А тут уже до Берлина дотопали!
Не кто иной, как ветеран-артиллерист своей протянутой рукой в сей раз вытащил доктора Рыжикова из могильной воронки. «Прощайте, товарищи!» – кричал он беззвучно оттуда. А товарищи снова взялись перекуривать, опершись о свои лопаты. Вот-вот за них возьмутся, и тогда… Справа лежит, ждет своей участи Сулейман, слева – Мишка Франк. Молчат и ждут, что он предпримет, доктор Рыжиков. Он предпринимает, но бессильно. Слова падают рядом в грязную жижу, не долетая до товарищей с лопатами. Поэтому сейчас он погубит и Сулеймана, и Мишку. И этого ему никогда не простят. Хотя как не простят, когда его зароют вместе с ними…
– Да нет… – Хоть бы раз догадаться, что это прошлое, что это сон, что сейчас город, сквер, ордена и медали. Девятое мая. День Победы. И ноги сами занесли сюда, когда он послушался всех и попытался добраться до дома. Скамейка, солнышко, артиллерист, трибуна. Мокрая точка на щеке. – Да нет, это так… От жары…
– А… – сказал артиллерист. – А у меня с войны два сна застряло. Один со смехом, другой со слезами. Со смехом – это как баню разбомбило и мы все голые выскакиваем, даже без кальсон. А тут люди ходят, город, трамваи… Как сегодня. Смех-то смехом, а мы мечемся голые, друг другом закрываемся, во как в печенку въелись налеты эти… А другой – это к Клавке бегу с бугра, где она там простыни свои развешивает. Вот-вот уже победа, май, солнышко греет. Про маскировку все давно забыли. Уже совсем близко, ну, думаю, в этот раз добегу. Хоть раз дотронусь напоследок. И главное, знаю, что сон. Ну хоть в одном сне повезет или нет? Нет, снова «рама» пролетает, я бегу – там только воронка дымится. И ведь бомба одна-единственная была, глупая, и надо же… Еще чуть-чуть – и день победы. Там уж мы отсыпались, вот как ты сейчас. И в капонирах, и на политзанятиях, и над очком…
Был бы тут Сулейман, доктор Рыжиков тоже бы вспомнил, как по пути из Европы в теплушках гвардейцев-десантников за сон на политбеседе даже давали наряд – чистить вагон с лошадьми. А рельсы убаюкивали – никакого спасения. «Я тогда внес свое первое в жизни рацпредложение, – мысленно сказал он Сулейману. – Нарвать газетных клочков, нарисовать на них химическим карандашом кружочков, послюнявить и налепить на глаза. Под нарами, в углу, там темновато, не разглядишь. Глаза у камчатки закрыты, а взводный видит вот такие зрачки, расширенные, как после атропина. Ага, слушают, повышают сознание…»
В глазах Сулеймана прыгнула золотистая искра. Самые внимательные глаза из всех, какие знал доктор Рыжиков, стояли перед ним как живые. Почему-то вот так. Какой-то незнакомый мальчик из незнакомого Кизыл-Арвата поехал бы в свой Баку, в который мечтал вернуться, стал бы себе врачом районной стоматологической клиники; может, уступил бы настойчивости родственников жены; может, выстоял бы. Но жил бы, слушая окружающих со своей затаенной искрой в темных глазах. Если бы не встретил доктора Рыжикова и не был послан им в красавицу Москву.
Не в том, конечно, дело, что больше никогда доктор Петрович не встретит таких же внимательных, в то же время и мудро-лукавых или мудро-печальных глаз. Как будто через них сама вечность терпеливо и доброжелательно общалась с ним, разрешая говорить и слушая одного из своих многочисленных неразумных детей.
А в том, что он сам, своей волей вынес тот приговор. Когда подписывал рапорт на командировку и радовался, что осчастливит Сулеймана. Осчастливил. Чей-то московский голос в ушах: «Что это вы к нам сюда таких темных присылаете – подземными переходами не могут пользоваться!» Вот она, главная мудрость, чтобы нам выжить. И в глазах Сулеймана прыгнула бы знакомая искра. Пользоваться подземными переходами. Вот он, свет… Как когда-то – траншеями и блиндажами.
Вот и еще один груз, который никогда не снимешь с сердца.
Кто думал о таких потерях тогда, в эшелоне, где молодые нахальные призраки с химическими глазами пересекали Австрию и Венгрию, клюя носами в такт вагонной качке, обсыпая великую победу… Все потери были позади, и ни одной – впереди.
– А мне в то девятое мая палец замком прищемило, – поделился артиллерист еще одной болью. – Раззявил варежку, едрено шило! Я прыгаю, а батарея ржет: хорошо, что прищемил полпальца, а не… Во, видал? – И гордо показал последнее ранение войны на своей батарее.
Действительно сплющенный палец, широкий как ложка. Победная отметина.
Что ж… Мог бы и доктор Петрович сейчас рассказать, как они оконфузились в последний день войны всей своей ротой, а вернее – ее боевыми остатками, которых после тех арийцев-патриотов на Рабе не хватало даже на усохший взвод.
«И вот бери траншею, – мысленно сказал он глазам Сулеймана. – Без артподготовки, по белой ракете. Траншея на высотке такой лысой, оттуда нас хорошо видно. И пугали нас оттуда всю ночь – из пулеметов, трассирующими: мол, не суйтесь, такие-сякие! А отсюда старшина пинками поднимает: вперед, такие-сякие! Рыжиков, не отставать! Он с той контузии меня все в симулянтах числил. А день такой чудесный, первый день был весенний, по-настоящему солнечный, чистый… От земли пар идет, травой пахнет. Жить хочется, как никогда. Крадемся, пригибаемся, даже «ура» кричать боимся. Только в душе костеришь всех подряд: кому она нужна, траншея эта, кто ее придумал напоследок? Сотню снарядов пожалели или там залп «катюш», а тут торчи под пулеметом. Одна хорошая очередь – и на всех хватит… А они молчат, сволочи, ближе подпускают, под прицельный огонь. Чтобы прошить наверняка. Ох, неприятно на мушке крутиться! Где пригнешься, где приляжешь, где на пузе поизвиваешься. Шорох, или там камень под ногой, или своя лопатка об автомат брякнет – все сразу шмяк на землю, носом в нее тык, и до старшинского пинка никто не шелохнется… Метров каких-нибудь триста, а штурмовали больше часа. И чем ближе, тем страшнее. Ни под каким огнем так подниматься не хотелось, как под этим молчанием. Ну, точно, всем конец. Последние секунды на свете живем… А метров за двадцать вообще с жизнью простились. Все гранаты, которые были, в нее побросали, поднялись – и «ура!». От страха только очень уж пискляво. Ну, впереди себя вслепую поливаем из автоматов и прыгаем… Без единой потери. Потому что траншея пустая. Ни души, только пыль и дым столбом от нашей пальбы. Осмотрели, облазили – пулеметное гнездо, гильзы свежие от ночной стрельбы, где фляжка, где фуражка брошенная, и ни одного фрица. Где? Что? Какой приказ будет? И тут из одного завала, из укрытия осыпанного, кто-то вылезает. Мы хвать за автоматы, а он на чистом русском, да так загибает, заслушаешься: «Вы что, охмурели, такие-сякие?! Психи, так вас и растак! Война-то давно кончилась, а они все воюют, выслуживаются! Спать человеку не дают!» В общем, сидел там наш боец с рацией, один во всей траншее, отсыпался. Ему-то каково? А нам? Кто где стоял, там и сел, ослабели от смеха. Хоть плачь, хоть смейся. Какими идиотами только что выглядели, на подступах к пустой траншее, да еще после конца войны! Клоуны, и только… Цирк! Старшина от обиды плюется, от самой Волги дошел, чтобы так под конец оконфузиться… Попасть в мартышки…»
Он рассказал бы это и артиллеристу в ответ на расплющенный палец. Если бы не глаза Сулеймана, смотревшие издалека с всепонимающим сочувствием: «Правильно, теперь другим надо рассказывать. Правильно, ничего…»
Что он теперь сможет рассказать под этим взглядом?
А кто-то должен знать, чем тогда кончилось. И для всех, и для каждого. Просто знать, чтобы передать потом дальше. Как передал бы Сулейман, обещавший это без всяких слов. Просто той искрой в глазах. Принято, понял…
Как кончилось? Вот шли, ползли, сгибались, мечтали о конце. А он пришел – как же так? И это все? Обсыпанная дымная траншея, тупая боль в ушах, усталость и конфуз. И никого, с кем за все рассчитаться. Как же оставить все это? Как же тот голенький мальчик, младенец со сморщенным старческим личиком, приколотый к украинской сосне плоским немецким штыком? Как же мертвая девушка в кузове брошенного бронетранспортера со следами всех возможных и невозможных надругательств? Как же колонна наших пленных, расстрелянная прямо на дороге, полтысячи ребят в кальсонах и рубашках, пропитанных кровью? Как же? Как же? Как же? Только дошло до расчета – и кончилось? Ну нет, не за таким концом мы шли!
«Вот тут нам мало показалось, – был готов он сказать Сулейману после его возвращения. – Тут подавай еще. Правда, потом немного душу отвели, эсэсовцев отлавливали, которые к американцам за реку просачивались. Сортировать их научились по подмышке. Хенде хох – и туда. Есть татуировка с группой крови – ага, эсэсовец! Значит, в комендатуру, – может, важная птица. Простые сами шли на сборный пункт, даже без конвоиров. Записки им давали: взяты в плен ефрейтором такой-то роты такого-то батальона такого-то полка сто шестой грардейской воздушно-десантной… В общем, Рыжиковым. Мало ли что… Может, наградят за них. Хотя пока они бредут, раз пять можно новыми записками снабдить, что все подряд и делали. И тут случалось всякое. Не знаю, надо теперь об этом вспоминать или не надо, забыть напрочь. Один эсэсовец сначала часы золотые совал, вроде добровольное пожертвование, а когда не помогло, стал выворачиваться, нихт комендатура. Васька Ляшенко поддал ему сапогом в зад. Тот оскорбился, впал в истерику: мол, я вашу низшую расу презираю. Хохочет, сволочь, орет и показывает, как он под Москвой пятнадцать наших деревень сжег, а наших девушек вот так… Хохочет и показывает как. А у Васьки в Черниговской области двух сестер изнасиловали и на глазах у матери сожгли в сарае с заложниками. Матери глаза выкололи и язык отрезали – за партизан. Это где «Подпольный обком действует». Он в красноармейской книжке письмо из сельсовета носил, что, «дорогой наш земляк, мать твоя жива, но сошла с ума и писем писать не может, поэтому писать будем за нее мы, уцелевшие односельчане». Ну он и… В общем, не довел».
«А почему, Юрий Петрович? – спросил бы Сулейман после молчания. – Почему не вспоминать? Он не ребенка убил. Раз было – надо вспоминать. А то вспоминают то, чего не было, и не спрашивают, надо или не надо… Извините…»
Вслед за ним уплывало его последнее «извините» – не просьба, а какое-то затаенное мягкое, но настойчивое утверждение.
В общем, оно много раз кончалось. Как потом выяснилось. И в том числе когда некто добродушный и тощий лежал на майской травке, подставив солнцу лесенку юных ребер и блаженнейше щурясь. А рядом пленный немец, передвигаясь на корточках, аккуратно и бережно выкладывал кирпичными уголками, белеными известью, заветный секрет победителей: «Приказ начальника – закон для подчиненных!» Шло оформление полкового лагеря. И некто дремлющий был юный доктор Рыжиков, гвардии ефрейтор ВДВ, получивший задание от старшины. Линейки, лозунги, дорожки, уставные основы, наглядная агитация – было от чего возомнить себя архитектором. Тем более немец попался исполнительный и усердный, в работе – педант. Строго по линеечкам выложил «Приказ…» – взялся за следующее, сверяясь с руководящей бумажкой. «Живи по уставу – завоюешь честь и славу!»
Старшина занял первое место в дивизии и получил трофейные часы от генерала. И заметно потеплел к доктору Рыжикову за таковой художественный дар.
Тут он был вправе вполне добродушно добавить:
– Я-то что! Вот у школьного друга талант так талант! За него фрицы и картошку на кухне чистили, и автомат ему драили, и даже дневальными под грибком стояли. Издали со старшинского конца, видна фигура – ну и ладно. А он рядом спать завалился на травке да еще приказал свистнуть, если замаячит начальство. Фриц все исполняет: стоит, свистит… Все-таки у них эта аккуратность в крови…
Ну что ты нам скажешь, если едва в семнадцать пошли воевать, а в девятнадцать чудом уцелели да еще победили?
И думали тогда: все кончилось! А оно все кончается и кончается, никак не кончится и до сих пор. Пока живут эти люди, что толпятся вокруг, все еще не веря своей жизни. И еще неизвестно, сколько продлится и после них.
Митинг уже разбивался на кучки, потирающие руки перед неофициальной частью. От одной из них к их скамье почему-то направился представитель.
– Ладно! – сказал он с нескольких шагов артиллеристу. – Иди, тебя зовут. Решили по-твоему, все вместе, старшие с младшими… Не разделяться. Только ты тоже. Не размахивайся, просят, а то после второй так уже начинает выискивать блох… Пошли, еще доехать надо, сегодня и минометчики с нами… Гвардейские.
– То-то! – принял капитуляцию артиллерист, гордо глянув на доктора Рыжикова. – А то «порядок», «порядок»… Ну чего там поминать! Давайте и десантника возьмем? Один вот десантник остался, остальные отпрыгались. Не объест небось. Порции во какие! Идем, десантник, с нами, с артиллерией не соскучишься! Устроим артподготовку… Идем, че тосковать…
– Нет, Сулейман, – сказал ему, как через вату, доктор Рыжиков.
– Какой Сулейман? – удивился сосед. – Я что, азиат тебе, что ли? Свой, коренной, Петром мать назвала!
– Извините, – в самом деле встряхнулся доктор Рыжиков. – Это я что-то со сна. О другом… Я еще подожду. Мне бы летчика надо увидеть…
– Какого такого? – снова удивился артиллерист.
– Который, вы говорите, приехал… С лицом… Из газеты.
– Тю, проснулся! – Артиллерист надивиться не мог на такого соседа. – Проспал ты его! Давно выступил летчик, высказал благодарность подпольному доктору и заспешил в воинскую часть, на встречу его пригласили… Доктора, говорит, умру, но найду. Я тебя-то толкнул: мол, смотри! А ты только носом клюнул… Будто с войны не отоспался. Ну идем, что ли?
– Нет, – вздохнул доктор Рыжиков. – Спасибо, братцы, за поддержку. Тогда бежать надо. А он какой из себя, раз посмотреть не удалось?
– Да какой… – прикинули артиллерист и представитель. – Ну, обычный… Роста вот такого… Говорит в нос немного, как с насморком…
– А лицо? – спросил доктор Петрович.
– Что лицо… Обычное, красноватое только. Как у горелых… ну, танкистов, летчиков… А так нормальное. Только брови как будто прилепленные… А так все нормально… Ну, мы тогда пошли… добивать фрица… Вот народ ждет, извини, брат… Места забронированы, а то давай…
Доктор Рыжиков конфузливо остался. Вот и увидел больного. Все проверил – как срослись швы, не выпирают ли рубцы, как сидит черепная заплата, как образовался волосяной покров, прямо ли посажен нос… Полное обследование. Всего, что он так и не видел с тех пор. Со дня проводов живого Сулеймана и укутанного от посторонних взглядов больного Туркутюкова.
В этом печальном конфузе его и обтекала городская толпа, получившая доступ в центральный свой сквер. В ее волнах как всплески – знакомые лица, незнакомо глядящие на монолит фронтовиков. Словно это не те знакомые, соседи, сослуживцы, встречные-поперечные, которых видишь каждый день и нет-нет не очень почтительно толканешь. А сейчас попробуй задень! Ого! Ясно, кто до Берлина дошел.
Как культуристический утес над рядовыми волнами всплыл отец его будущей внучки. Или, может быть, внука. Руки сложены на могучей груди, мышцы играют под сетчатой майкой. Вроде бы ничего не берет человека-атлета с электронной начинкой. Но доктор Рыжиков видит: берет. Потому что впервые на непробиваемом лице отвергнутого Валеры Малышева появилась растерянность. И безответный пока еще вопрос: за что? Что может быть печальнее на свете, чем развалины вчерашней уверенности… И Валера, не подозревая того, стал ближе сердцу, полному потерь. Это еще что! Еще помучает она нас с вами. Еще помучает. Готовьтесь, Валера, ко многому.
Унесло Валеру – принесло Чикина. Наоборот, маленького, несмелого, кого-то ищущего в толпе фронтовиков виноватыми глазками. Не нашел. Не туда смотрит. Глаза разбегаются. Столько наград, старых ран, костылей… Не нашел – чья-то хозяйская рука дернула в сторону: хватит глазеть, опоздаем! Он уходит и оглядывается, уходит и оглядывается прежде чем совсем затеряться. Под руку с энергично тянущей женой, истицей Чикиной, как послушный вагончик за властным паровозом. Все дальше и дальше по запруженной улице, в гости или на прогулку, по общим семейным делам. С двумя высшими инженерными образованиями – но без обоняния, как бы уплаченного за столь счастливое восстановление семьи…
Еще прилив – больной дядя Кузя Тетерин. Среди своих, деповских, увлекаемый ими в заветную сторону. Только осторожно, послал ему вслед предостережение доктор Рыжиков. Осторожно, дядя Кузя, помни про голову. Хоть бы что, крутит ею туда и сюда, посмеивается, скажешь – не поверит, что в ней что-то сидит, уютно вросшее в ее внутренность. Пугаете, скажет, придумали…
…Синеглазая девочка с бантиком и флажком на плечах у бодро идущего шефа Валеры Малышева. Полное счастье – все дети одинаковы, все на плечах, все смеются и машут флажками.
…Жена архитектора Бальчуриса. Одиноко-растерянная в завихрениях давки пробирается через нее к какой-то своей цели, а ее относит, относит… Взять на буксир и помочь, провести сквозь течение, доставить в спокойную гавань. А что в спокойной гавани? Вернее, кто?
Так можно все проспать, сказал он себе. От летчика до Мишки Франка. Пора подниматься!
– Пра-ашу рассаживаться! Пра-ашу! В первый рад Героев Советского Союза, кавалеров орденов Ленина и Славы! Остальные – во второй и на корточки! Стоимость – два рубля!
Начинались групповые фотосъемки, и над сквером носились боевые команды фотографов.
Несколько баянов и аккордеонов, принесенных, возможно, с войны, грянули в разных концах «Катюшу», «Клен зеленый» и «Темную ночь». Им вторили радиолы в окнах соседних домов и уличные репродукторы. По асфальту зашаркали танцы.
Доктор Рыжиков взялся за свой велосипед.
Ехать через толпу было, конечно, невозможно. Можно было только пробиваться солдатским шагом, расслаивая себе путь велосипедным колесом.
Но пробиваться все быстрее, чтобы не опоздать к Мишке Франку. Он знал, что там уже ничего не мог сделать. Мог только ждать. Все равно, что ждать здесь. Но почувствовал себя вдруг таким отдохнувшим и свежим, что должен был быть только там. Чтобы вытащить Мишку откуда угодно. Из подкорковой комы, из братской могилы, с того света, от черта, от дьявола. Как вытащил Мишка его.
Мишка Франк – школьный друг. Тот, с которым в этом городе учились с первого по десятый. С которым их и взяли добровольцами в десантные войска. Тот, который его и женил, во исполнение приказа генерала, на лучшей красавице школы и города. И с которым они в сорок третьем гуляли по этому самому скверу под звуки госпитального оркестра. И который подрался потом с похоронной командой, чтобы отрыть доктора Рыжикова наружу из братской воронки. И подрался бы с самим чертом – доктор Рыжиков знал. Тот, который выписывал частному сектору те горстки кирпича и цемента, что шли на латание прачечной – заговор с группой больных против доктора Рыжикова и лимитно-фондовых дотов. Тот, с которым они каждый раз в этот день стояли здесь с самодельной фанеркой «Воздушно-десантные войска», но так и не нашли в своем городе третьего. Школьный друг, непробиваемый и толстокожий, из которого он выдавил слезу, а может, что похуже, самым жестоким, что только можно придумать. Виной за отнятую человеческую жизнь. Все мог переварить за эти годы, а это – нет. Порвался.
Вот что он с ними наделал. Так он считал.
Науке неизвестно как, но теперь его силы должны были перейти в Мишку Франка. И вытащить его.
Вот что происходило с доктором Рыжиковым. Сначала – когда ему не было и двадцати. Потом – когда было за сорок.
А впереди – за пятьдесят, за шестьдесят, за семьдесят… Как у всех, еще топать и топать. Еще штопать и штопать. Безропотно латать ту оболочку из наших разных чувств и мыслей, которую так легко рвет чья-то боль. Или злость. Или глупость. С которыми справляться бывает труднее, чем с болью. Но все равно – что поделаешь… Не бросать же, если такая работа.
На пятой скорости он позабыл про летчика. А зря. Лети он не в больницу, а домой, как заставляли друзья, он встретился бы с делом своих рук быстрее. Потому что летчик уже сидел у него дома. И не один.
Комната с круглым старинным столом была занята гостями. Их было несколько, пять или шесть. Прямо с чемоданами, с вокзала. Кто-то сам, кто-то с сопровождающими женщинами. Места за круглым столом не хватило – сидели на диване и вдоль стен.
Робели, как в зале ожидания или в гостинице. Ждали.
Еще больше робели никогда не робеющие Валерия и Анька с Танькой, забившись на кухню. В комнате им места не осталось. Там они наливали в чашки чай, клали в блюдца сухарики и препирались, кому очередь выносить. Выносили, возвращались с пустыми стаканами и шептали в ответ на замороженные взгляды: «Сидят…»
Храбрый Рекс вообще весь превратился в дрожащий кончик своего хвоста. Будь он отчаянней, махнул бы через забор – и только бы его и видели. Но там паслись свирепые дворняжки, а посему пришлось забиться под веранду и давить даже собственное поскуливание.
Все потому, что прибывшие в дом люди своими несчастными лицами затмили даже бывшего Туркутюкова. А нынешний – пусть с грубовато вырезанными губами, как будто бы наклеенными бровями и еще не полностью опавшими рубчиками швов – вообще был для них недосягаемым образцом. Портретом кисти Кипренского.
Ямы на пол-лица, скошенные головы, пустые глазницы, отрубленные подбородки, вдавленные лбы и носы, пульсирующие бескостные виски и затылки.
Кто уцелевшими на обожженной маске двумя глазами, кто одним взирали на летчика Туркутюкова. Один совсем слепой, в огромных черных очках, за которыми вроде и вообще ничего не было, дотянулся ощупывать пальцами волосы, лоб, глаза, скулы.
Туркутюков отнюдь не отшатнулся; наоборот, удобнее подставил обновленное лицо для этого обследования и продолжал говорить то, что начал:
– Пить не пьет. Учтите. Подарки – ни-ни! Сразу выгонит. У кого эпилепсия – начнет лечить с нее. Так положено. Если кто десантник – вообще повезло…
Сопровождающие женщины в плащах и косынках, постарше – жены или сестры, помладше – дочки, и одна совсем старенькая старушка, мать инвалида, прикладывали платочки к глазам, утирая слезы надежды.
– В гостиницу хоть поможет? – спросила одна. – Или так мыкаться?
– Поможет, – твердо сказал Туркутюков под пальцами слепого. – Он все поможет.
Что было большим чудом? Что где-то они прятались от наших глаз так, будто их совсем не было? Что в разных городах услышали про обновленного собрата? Что врозь узнали адрес доктора и отправились в путь? Что явились с вокзала в один день и час, распугав неповинную улицу?
Или что вообще во что-то верят?
Или что просто выжили?
Неизвестно. Известно только, что сидят и ждут. Передыхая от колес и дороги, робея перед медицинским светилом, кося друг на друга – кто красивее. Впитывая каждое слово инструктажа.
Ждут, как всегда ждет судьба, – без спроса и предупреждения. Ждут того, в кого верят и кто пока пребывает об этом в приятном неведении, спеша совсем в другую сторону. Ждут еще незнакомого им некоего доктора Рыжикова.