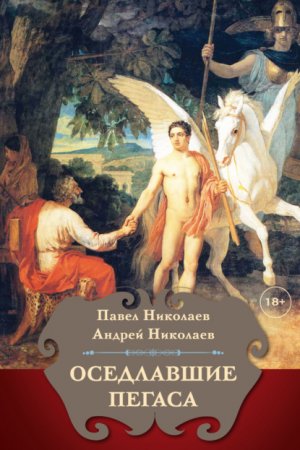
© Николаев П.Ф., 2024
ISBN 978-5-00246-029-8
© Николаев А.П., 2024
© Оформление. Издательство «У Никитских ворот», 2024
Часть 1
Раздался звук трубы военной
Русские писатели об Отечественной войне 1812 года
На начинающего Бог. Федор Глинка
Пепел родины. Весна была в самом разгаре. Тучные нивы обещали хороший урожай. Но это не радовало. В голове Фёдора Николаевича теснились тревожные мысли: «К чему такое притеснение войск к границам? К чему сам государь, оставляя удовольствия столицы, перешёл туда разделить труды воинской жизни? К чему, как не к войне!»
Россия и Франция формально ещё оставались не только друзьями, но и союзниками. В официальной переписке русский и французский императоры называли друг друга братьями, но в то же время в обеих странах уже вполне открыто велась пропаганда, отнюдь не союзнического направления. Так 24 (12) мая, за три недели до перехода противником русской границы, в Петербурге с успехом шёл исторический водевиль Шаховского «Казак-стихотворец».
Действие в водевиле происходило после победы Петра I над шведскими интервентами под Полтавой. Один из героев водевиля произносил патриотические стихи, в которых прославлял русского человека, ибо он: «Страшен, пагубен врагам».
Стихи эти имели неслыханный успех, так как были восприняты зрителями, как предупреждение новым врагам России.
Патриотические куплеты из «Казака-стихотворца» и затем, в ходе Отечественной войны, пользовались неизменным успехом у зрителей, были на устах у многих и перешли в народ.
Войну ждали, войну предчувствовали, но никто не хотел ее, а потому надеялись, что авось пронесёт на этот раз. Не пронесло.
И вторжение неприятеля оказалось для многих неожиданностью. О том, как тяжело оно было воспринято Глинкой, мы можем судить только по одному факту. Его дневник 1812 года начинается с записи от 22 (10) мая, а следующая появилась только через полтора месяца.
Фёдор Николаевич никак не откликнулся на такое решающее событие Отечественной войны, как её начало. По-видимому, потрясение, вызванное неприятельским вторжением, было настолько сильным, что прошло больше месяца, прежде чем Глинка смог осмыслить его и воспринять как факт не только ожидавшийся, но уже свершившийся.
18 (6) июля, проделав 45-километровый путь из своей деревни, Фёдор Николаевич прибыл в Смоленск. Армии ещё не подошли к городу, ещё не известна была судьба его, но население уже начало покидать старинный форпост русского государства, Глинка отметил это: «Народ у нас не привык слышать о приближении неприятеля. Умы и души в страшном волнении. Уже потянулись длинные обозы; всякой разведывает, где безопаснее». В уходе населения из города писатель видел грозное предзнаменование и предсказывал, что в России Наполеон, как и в Испании, будет покорять только землю, а не людей. В потоке беженцев, мерно текущих через Смоленск, Фёдор Николаевич угадывал ту грозную силу, которая даст войне определение «Отечественная». В этом потоке он видел не жалкие толпы горожан и крестьян окрестных деревень, а будущих ратников, которые встанут на защиту Родины. Эта будущая сила вызывала творческий порыв, и Фёдор Николаевич написал своё первое стихотворение периода Отечественной войны, в котором уверенно заявлял:
Ф.Н. Глинка
Стихотворение заканчивается фразой «На зачинающего Бог». Этими же словами завершается первый приказ по русским армиям от 25 (13) июня: «Не нужно напоминать вождям, полководцам и воинам нашим об их долге и храбрости. В них издревле течёт громкая победная кровь славян. Воины! Вы защищаете веру, Отечество, свободу. На начинающего Бог».
Посещение Смоленска вызвало резкий перелом в настроении Глинки. С этого момента его дневник заполняется записями мажорного плана. Он с восторгом отмечал, что наступает время Минина и Пожарского и после двухвекового сна пробуждается дух народный.
Смоленск принимал вид военного города. Через него беспрерывно сновали курьеры, перевозили пленных. К городу тянулись многочисленные подводы с хлебом, в него гнали скот. Шла интенсивная подготовка к приходу армий Багратиона и Барклая-де-Толли.
30 (18) июля Фёдор Николаевич опять был в Сутоках. Там он встретился с братом Григорием, который служил в Любавском пехотном полку. В нём оказалось много выпускников кадетского корпуса. Встреча с ними порадовала Глинку, напомнив годы отрочества и ранней юности: «Многие из товарищей наших уже полковники и в крестах; но обхождение их со мной точно то же, какое было за десять перед этим лет, несмотря на то, что я только бедный поручик! Как сладко напоминать то время, когда между богатыми и бедными, между детьми знатных отцов и простых дворян не было никакой разницы; когда пища, науки и резвости были общими; когда, не имея понятия о жизни и свете, мы так сладостно мечтали о том и другом. Повторяя бессмертные слова Екатерины, что корпус кадетский – рассадник великих людей, мы любили воображать себе, что все до одного будем полезны Отечеству».
В этой же записи Фёдор Николаевич упомянул другого брата – Ивана. Ему губернатор Смоленска поручил устройство переправ через Днепр у Соловьёва. И потекли через них толпы поселян, покинувших свои пенаты, но готовых встать в ряды защитников родных гнёзд: «Только и говорят о поголовном наборе, о всеобщем восстании. Дух пробуждается, души готовы. Народ просит воли, чтобы не потерять вольности. Но война народная слишком нова для нас. Кажется, ещё боятся развязать руки. До сих пор нет ни одной прокламации, дозволяющей собираться и действовать, где, как и кому можно».
Необычайный подъём духа народа воодушевил Глинку на создание «Военной песни»:
3 августа 1-я (Барклая-де-Толли) и 2-я (Багратиона) русские армии соединились под Смоленском. Солдаты, довольные этим, так объяснялись между собой, вытягивая руку и разгибая ладонь с разделёнными пальцами, говорили: «Прежде мы были так, – и, сжимая пальцы в кулак, – а теперь вот так!» После этого взмахивали кулаком: «Так пора же дать французу вот так!»
Попытка русского командования нанести удар противнику под Рудней не удалась. Обойдя армию Барклая-де-Толли, Наполеон устремился к Смоленску. 16 (4) августа в два часа ночи Глинка уведомил брата Сергея: «В сии минуты, как я пишу тебе дрожащей рукой, решается судьба Смоленска. Я сейчас иду помолиться в последний раз на гробах родителей и еду к старшему брату Василию, от него видно сражение. Прощай!»
Сражение за Смоленск продолжалось три дня. Фёдор Николаевич наблюдал за ним из села Чуриково:
«Я видел ужаснейшую картину – я был свидетелем гибели Смоленска. Погубление Лиссабона не могло быть ужаснее. Утомленный противоборством наших, Наполеон приказал жечь город. Злодеи тотчас исполнили приказ изверга. Тучи бомб, гранат и чиненных ядер полетели на дома, башни, магазины, церкви. Всё, что может гореть, – запылало!..
Опламененные окрестности, густой разноцветный дым, багровые зори, треск лопающихся бомб, гром пушек, кипящая ружейная пальба, стук барабанов, вопль старцев, стоны жен и детей, целый народ, падающий на колени с воздетыми к небу руками: вот что представлялось нашим глазам, что поражало слух и что раздирало сердце!.. Толпы жителей бежали из огня, полки русские шли в огонь; одни спасали жизнь, другие несли её на жертву. Длинный ряд подвод тянулся с ранеными…
В глубокие сумерки вынесли из города икону Смоленской Божьей Матери. Унылый звон колоколов, сливаясь с треском распадающихся зданий и громом сражений, сопровождал печальное шествие это. Блеск пожаров освещал его. Между тем черно-багровое облако дыма засело над городом, и ночь присоединила темноту к мраку и ужас к ужасу. Смятение людей было так велико, что многие выбегали полунагими и матери теряли детей своих. Казаки вывозили на седлах младенцев из мест, где свирепствовал ад.
Теперь Смоленск есть огромная груда пепла; окрестности его – суть окрестности Везувия после извержения».
В письме в Москву Глинка сообщал редактору «Русского вестника», что за Смоленск сражался их брат Григорий. Он был 12 часов в стрельных и «дрался так храбро, как только может драться смолянин за свой отеческий город». В этом Фёдора Николаевича уверяли все офицеры Либавского пехотного полка, к которому временно пристал Глинка. О себе Фёдор Николаевич писал:
«Кровопролитные битвы ещё продолжаются. Мы ложимся и встаём под блеском зарев и громом перестрелок. Мне уже нельзя заехать домой; путь отрезан! Итак, иду туда, куда двигает всех буря войны!.. Сколько раненых! Сколько бегущих! Бесконечные обозы тянутся по полям; толпы народа спешат, сами не зная куда!.. Мы теперь нищие, с благородным духом, бродим уныло по развалинам своего Отечества. Повсюду стон и разрушение!..
Но судьбы Вышнего неиспытанны. Пусть разрушаются грады, пылают села, истребляются дома, исчезает спокойствие мирных дней, но пусть эта жертва крови и слез, эти стоны народа, текущие в облако вместе с курением пожаров, умилостивят, наконец, разгневанные небеса! Пусть пострадают области, но спасется Отечество! Вот общий голос душ, вот искренняя молитва всех русских сердец!»
От Смоленска Фёдор Николаевич и его брат Василий шли с отступавшими русскими войсками. В окрестностях Дорогобужа ехали с конницей генерала Корфа. Старший брат знал там все тропинки и послужил кавалеристам хорошим проводником. Затем Глинки присоединились к корпусу генерала Дохтурова. Вид огромного военного лагеря вдохновил Фёдора Николаевича на создание солдатской песни:
С внутренним удовлетворением Глинка отмечал, что завоеватели шли по месту сёл и деревень, жители которых исчезали из них, как тени. С болью переживал он необходимость оставления этих пепелищ: «Всякий день вижу уменьшение Отечества нашего и расширение власти врагов». Прощаясь с родными местами, Фёдор Николаевич писал брату Сергею:
«Помнишь, как мы вместе читали Шиллерову трагедию “Разбойники”? Помнишь, как пугала нас страшная картина сновидения Франца Мора, картина, которую Шиллер с искусством Микель-Анжела начертал пламенным пером своим. Там, среди ужасного пожара Вселенной, леса, сёла и города тают, как воск, и бури огненные превращают землю в обнажённую пустыню!
Такие картины видели мы всякий раз, ложась спать. Каковы же должны быть сновидения? – спросишь ты. Их нет: усталость лишает способности мечтать. Уже и Дорогобуж, и Вязьма в руках неприятеля: Смоленская губерния исчезает! Прощай!»
Вторжение неприятеля в коренные русские области вызвало широкую волну народного сопротивления. Глинка отмечал, что сжигаемые деревни и сёла разжигают в жителях их огонь мщения. На борьбу с захватчиками поднимаются и стар и млад: «Тысячи поселян, укрываясь в леса и превратив серп и косу в оружия оборонительные, без искусства, одним мужеством отражают злодеев. Даже женщины сражаются!»
Во время ночных переходов Фёдор Николаевич часто заводил беседы с солдатами или слушал их разговоры. Его радовал дух патриотизма, царивший в войсках, желание всех сражаться, недовольство и даже ропот по поводу отступления. Высокий моральный дух армии и её бесконечное отступление заставляли Глинку пристальнее наблюдать за главнокомандующим Барклаем-де-Толли, дать личную оценку его действий.
Как известно, тактика отступления, заманивания противника в глубь страны вызывала резкую критику даже в ближайшем окружении Барклая-де-Толли. Характерным в этом смысле (своей откровенностью) были суждения командующим 2-й Западной армии князя П.И. Багратиона. Этого прославленного генерала, избалованного похвалами самого Суворова, любимца публики, сторонника наступательной тактики и любителя скоротечных сражений, выводила из равновесия стратегия затяжной войны. С возмущением, руководствуясь больше чувством, чем трезвыми расчётами, Багратион писал 15 (3) июля А.П. Ермолову: «Стыдно носить мундир, ей-богу, я болен… Что за дурак… Министр Барклай сам бежит, а мне приказывает всю Россию защищать. Признаюсь, мне все омерзело так, что с ума схожу… Прощай, Христос с Вами, а я зипун надену».
Ровно через месяц Багратион уверял графа Ф. Ростопчина: «…Барклай никак не соглашается на мои предложения и всё то делает, что полезно неприятелю. Я Вас уверяю, что приведёт Барклай к Вам неприятеля через шесть дней. Признаюсь, я думаю, что брошу Барклая и приеду к Вам, я лучше с ополчением Московским пойду».
Так выглядел главнокомандующий в глазах своего первого помощника, не сумевшего или не захотевшего понять его. Фёдор Николаевич, стоявший в тогдашней социальной лестнице неизмеримо ниже Багратиона, сумел более объективно взглянуть на главнокомандующего и правильно оценить его значение и роль в развернувшихся событиях. 28 (16) августа он сделал следующую запись в дневнике:
«Я часто хожу смотреть, когда он проезжает мимо полков, и смотрю всегда с новым вниманием, с новым любопытством на сего необыкновенного человека. Пылают ли окрестности, достаются ли сёлы, города и округи в руки неприятелю; вопиет ли народ, наполняющий леса или великим толпами идущий в далёкие края России: его ничто не возмущает, ничто не сильно поколебать твёрдости духа его».
Барклай-де-Толли
Глинка сравнивал Барклая-де-Толли с Колумбом. Один вёл к неведомой другим цели корабли, а другой ведёт армию вопреки недовольству многих. Но та решительность, последовательность и твердость, с которыми главнокомандующий идёт к непонятной пока другим цели, указывают на то, что ему эта цель ведома: «Он, конечно, уже сделал заранее смелое предначертание свое; и цель, для нас непостижимая, для него очень ясна! Он действует как провидение, не внемлющее пустым воплям смертных и тернистыми путями влекущее их к собственному их благу».
Пройдя тысячекилометровый путь на восток от Немана, русская армия не потеряла ни одного значительного отряда, ни одного знамени, почти ни одной пушки и ни одного обоза. Даже враги вынуждены были признать, что это не было беспорядочное бегство под давлением превосходящих сил неприятеля, что отступление было планомерным, всегда заранее предвиденным и ровно настолько, насколько считалось необходимым на данный момент.
Огромное значение имел и тот факт, что армия сохранила высокий моральный дух. Все от рядового солдата до высшего генералитета рвались в бой. Примечателен в этом отношении случай, происшедший около Гжатска. К французским частям был послан для каких-то переговоров русский парламентер. Выполнив свою задачу, он хотел откланяться, но в это время один из французских генералов, по-видимому, желая, чтобы окружавшие парламентера офицеры и солдаты услышали от него магическое слово «Москва», спросил:
– Что можно найти за Гжатском?
– Полтаву, – последовало в ответ.
В полной мере роль и значение Барклая-де-Толли была оценена значительно позже. Эта роль заключалась в том, что он сохранял армию для генерального сражения. Фёдор Николаевич Глинка оказался одним из немногих современников главнокомандующего, которым были понятны его действия. Он сумел увидеть в сухом, внешне абсолютно бесстрастном военачальнике и жар страстей, и тяжесть дум, и титанические муки моральной ответственности за взваленную на его плечи ношу. В этом смысле он предвосхитил гениальный психологический анализ, данный позднее Барклаю-де-Толли А.С. Пушкиным: «Барклай, не внушающий доверенности войску, ему подвластному, окруженный враждой, язвимый злоречием, но убеждённый в самом себе, молча идущий к сокровенной цели и уступающий власть, не успев оправдать себя перед глазами России, останется навсегда в истории высоко-поэтическим лицом».
17 (5) августа, в тот день, когда русская армия мужественно защищала Смоленск, отражая все попытки неприятеля взять город, в Петербурге в доме председателя Государственного совета графа Н.И. Салтыкова собрались члены Чрезвычайного комитета, принявшие решение о назначении главнокомандующим всеми действующими русскими армиями М.И. Кутузова.
29 (17) августа Михаил Илларионович прибыл в армию. Весть о приближении нового главнокомандующего опережала его. Фёдор Николаевич с радостью воспринял известие о назначении Кутузова и в день прибытия его в армию записал: «Бессмертие уже готовит место на скрижалях своих, чтобы передать имя его в бесконечность времён».
На следующий день Глинка увидел того, кому накануне пророчил бессмертие. Кутузов сидел на простой деревянной скамье перед одной из изб Царева-Займища. Вокруг него толпилось множество штабных офицеров.
С приездом Кутузова все оживились. Впервые у солдатских костров послышались шутки и песни. Когда Михаил Илларионович в первый раз объехал войска, солдаты засуетились, начали приводить в порядок свою обветшавшую за многие переходы форму. Кутузов, заметив это, сказал:
– Не надо! Ничего этакого не надо! Я приехал только посмотреть, здоровы ли вы, дети мои! Солдату в походе не о щегольстве думать, ему надобно отдыхать после трудов и готовиться к победе.
Всё, что говорил главнокомандующий, сразу становилось достоянием всей армии. Солдаты радостно обсуждали всё, сказанное Кутузовым, называли его отцом, батюшкой и клялись положить за него головы. Наблюдая этот взрыв энтузиазма, Фёдор Николаевич сделал вывод:
– Все обстоятельства предвещают сражение, долженствующее решить судьбу Отечества. Говорят, что в последний раз, когда светлейший осматривал полки, орёл явился в воздухе и парил над ним. Князь обнажил сединами украшенную голову; всё войско закричало «ура!» В сей же день главнокомандующий приказал служить во всех полках молебен Смоленской Божьей Матери. Всё это восхищает солдат и всякого. Быть великому сражению!
Застонала земля. 3 сентября утром русские полки расположились у Колоцкого монастыря. В нём ещё оставались два или три монаха. Глинка был у вечерни. Унылый стон колокола, тихое пение, синеватый сумрак, слегка просветляемый тёмной лампадою, теснили сердце и вызывали тяжёлые думы: «Я вышел и смотрел на заходящее солнце, которое усиливалось сохранить блеск свой в мутных облаках, гонимых холодным ветром. Уже ли, думал я, и древняя слава России угаснет в бурях, как оно!»
На следующий день армия была в Бородино. На высоте, которая вскоре получила имя генерала Н.Н. Раевского, уже строилась батарея. Поля были вытоптаны, исчезли окружающие деревни – все строения их разобрали на укрепления. Русская армия окапывалась, засеками городила прилегающие к полю леса. Солдаты осматривались, офицеры знакомились с неровным, сильно пересечённым полем, в центре которого расположилось село Бородино. Никто ещё не придавал ему особого значения. Название села произносилось без какого-либо выделения его из числа других населенных пунктов огромного поля. Во всей армии были считанные единицы людей, которым раньше было знакомо слово «Бородино»; к ним относились Д. Давыдов, его владелец, и А.А. Тучков 4-й.
По семейному преданию, Александр Алексеевич Тучков услышал название села от своей жены Маргариты Михайловны, когда русские армии подходили к Смоленску. Маргарита Михайловна сопровождала мужа, это был не первый поход в её жизни. Куда бы ни забрасывала судьба Александра Алексеевича, жена всегда была рядом с ним.
И вот однажды во время ночёвки в какой-то деревушке под Смоленском все были разбужены криком Маргариты Михайловны. Александр Алексеевич и служанка, мадам Бувье, встревоженные, прибежали на её зов. Маргарита Михайловна была бледна и дрожала как осиновый лист.
– Где Бородино? – спросила она мужа, едва переведя дух. – Тебя убьют в Бородине!
– Бородино? – повторил Александр Алексеевич. – Я в первый раз слышу это название.
Это не успокоило Маргариту Михайловну. Тогда Александр Алексеевич послал в штаб за картой. Когда её принесли, все стали искать роковое название и не нашли его.
– Если Бородино действительно существует, – заметил Александр Алексеевич, обращаясь к жене, – то, судя по звучному его имени, оно находится, вероятно, в Италии. Вряд ли военные действия будут туда перенесены, ты можешь успокоиться.
Да, до 7 сентября 1812 года Бородино было рядовое и почти никому неизвестное село. Но, предчувствуя его трагическую славу, Глинка подробно описал день прихода русской армии на Бородинское поле:
«“Тут остановимся мы и будем сражаться!” – думал каждый, завидя высоты Бородинские, на которых устроили батареи. Войска перешли Колочу, впадавшую здесь же, в селе Богородине, в Москву-реку, и установились на протяжении холмов, омываемых слиянием этих двух речек. Стало войско – и не стало ни жатв, ни деревень: первые притоптаны, другие снесены. “Война идёт и метёт!” Так говорится издавна в народе. Может ли быть бедствие, лютейшее войны?
Наступает вечер. Наши окапываются неутомимо. Засеками городят леса. Пальбы нигде не слыхать. Там, вдали, неприятель разводит огни; ветер раздувает пожары, и зарево выше и выше восходит на небеса!»
5 сентября шли бои под стенами Колоцкого монастыря и за Шевардинский редут:
«Гром пушек приветствовал восходящее солнце. Поля дрожат, кажется, гнутся под множеством конных; леса насыпаны стрелками, пушки вытягиваются из долин и кустарников… Неприятель, как туча, засипел, сгустившись, против левого нашего крыла и с быстротой молнии ударил на него, желая всё сбить и уничтожить. Пушки наши действовали чудесно. Кирасиры врубались с неимоверной отважностью. Раздраженный неприятель несколько раз повторял свои нападения и каждый раз был отражён.
Во всё время как мелкий огонь гремел неумолчно и небо дымилось на левом крыле. Князь Михайла Ларионович сидел на своей деревянной скамеечке, которую за ним всегда возили, у огня, на середине линий. Он казался очень спокоен. Все смотрели на него и, так сказать, черпали от него в сердца свои спокойствие. В руках его была нагайка, которою он то помахивал, то чертил что-то на песке. Казалось, что весь он превратился в слух и зрение, то вслушиваясь в гремящие переходы сражения, то внимательно обозревая положение мест. Часто пересылался с ним Багратион. Ночь прекратила бой и засветила новые пожары».
На завтра противники отдыхали и почти весь этот день Фёдор Николаевич просидел на колокольне церкви Рождества в селе Бородино. В зрительную трубу он осматривал позицию противника. Французы возводили на своём левом фланге большие редуты, на которых Глинка насчитал сто пушек. Из своих наблюдений и реплик других офицеров, бывших на колокольне, Фёдор Николаевич сделал правильный вывод о том, что противник укрепляет своё левое крыло для того, чтобы перевести максимальное количество войск на правое и создать ударный кулак против левого фланга русской армии.
И вот опустилась ночь на враждующие армии. На стороне русских было тихо. Только изредка перекликались часовые. В лагере французов ярко блестели огни, звучала музыка, раздавалось пение, звуки труб и крики. Но вот Фёдор Николаевич уловил дружные восклицания, ещё и ещё. Он понял: это приветствуют Наполеона, объезжающего войска. С болью подумал: так было и перед Аустерлицем. Что же будет завтра?
На рассвете 7 сентября Глинка был разбужен тучей ядер, пролетевших над шалашом, в котором он располагался со своими товарищами. Все разом выскочили наружу. Вокруг всё пылало. Рушились и горели шалаши, с треском рвались бомбы. На востоке только занималась заря. Между противниками лежал густой туман. Солдаты хватали ружья и шли в огонь.
В этот день Глинка находился в деревне Горки, на главной батарее, и на дороге, где перевязывали раненых. В один из моментов он направился было в ближайший лесок, но его остановил лекарь: «Не заглядывайте в этот лесок, там целые костры отпиленных рук и ног».
Бородинское сражение было, по-видимому, самым кровопролитным за всю предшествующую историю человечества. Артиллерия неистовствовала с обеих сторон. Ядра летали как пули. Небо над центром и левым флангом заволокло чёрным облаком дыма, и над полем здесь как бы опустилась ночь, в то время как на правом фланге сияло полное солнце. Вспышки выстрелов воспринимались как зарницы. Земля дрожала от тысяч залпов и разрывов бомб. День Бородинской битвы современники называли праздником артиллерии. Но, по-видимому, правильнее говорить о празднике всех родов войск, страшном, кровавом празднике. Глинка позднее приводил в «Очерках Бородинского сражения» свидетельство старого солдата о необычайной степени ожесточённости рукопашных схваток: «Под Бородином мы сошлись и стали колоться. Колемся час, колемся два – устали, руки опустились! И мы, и французы друг друга не трогаем, ходим, как бараны! Которая-нибудь сторона отдохнет и ну опять колоться, колемся, колемся, колемся! Часа, почитай, три на одном месте кололись!»
А разве менее упорными были кавалерийские схватки? Ведь именно на Бородинском поле Наполеон потерял большую часть своей кавалерии.
На рубеже XVIII–XIX веков Россия провела не одну войну. Часто в одно и то же время воевали сразу с несколькими государствами, на нескольких направлениях. Позади были Аустерлиц и Прейсиш-Эйлау, но то, с чем столкнулись суворовские чудо-богатыри на Бородинском поле, не походило ни на одно из предыдущих сражений. Люди впервые видели такие гекатомбы трупов, такой огненный смерч, такое невероятное упорство враждующих армий. Не случайно Багратион в один из труднейших моментов сражения с восторгом закричал: «Браво! Молодцы, французы!», но стремительность атак противника сломилась об упорство русских воинов. С чувством исполненного долга Глинка записал через три дня после сражения: «Вечер наступал, и неприятель начал уклоняться. Русские устояли!»
В сражении пулей в голову был ранен Григорий Глинка. Фёдор Николаевич и Василий Николаевич повезли его в Москву. Рана была тяжёлая, но не смертельная. Оберегая брата, ехали не спеша (почти неделю). В дороге Фёдор Николаевич сделал краткое описание только что увиденного и пережитого:
«Застонала земля и пробудила спавших на ней воинов. Дрогнули поля, но сердца спокойны были. Так началось беспримерное Бородинское сражение.
До 400 тысяч лучших воинов на самом тесном по их многочисленности пространстве почти, так сказать, толкаясь головами, дрались с неслыханным отчаянием: 2000 пушек[1] гремели беспрерывно. Тяжко вздыхали окрестности, и земля, казалось, шаталась под бременем сражающихся. Французы метались с диким остервенением – русские стояли с неподвижностью твердейших стен. Одни стремились дорваться до вожделенного конца всем трудам и дальним походам, загрести сокровища, им обещанные, и насладиться всеми утехами жизни в древней знаменитой столице России; другие помнили, что заслоняют собой эту самую столицу – сердце России и мать городов. Оскорбленная вера, разорённые области, поруганные алтари и прахи отцов, обиженные в могилах, громко вопияли о мщении и мужестве.
Русские сердца внимали священному этому воплю, и мужество наших войск было неописуемо. Они, казалось, дорожили каждым вершком земли и бились до смерти за каждый шаг. Многие батареи до десяти раз переходили из рук в руки. Сражение горело в глубокой долине и в разных местах, с огнём и громом, на высоты всходило. Густой дым заступил место тумана. Седые облака клубились над левым нашим крылом и заслоняли середину, между тем как на правом сияло полное солнце. И самое светило мало видало таких браней на земле с тех пор, как освещает ее. Сколько потоков крови! Сколько тысяч тел!
В самом деле, в редком из сражений прошлого века бывало вместе столько убитых, раненых и в плен взятых, сколько под Бородином оторванных ног и рук. На месте, где перевязывали раны, лужи крови не пересыхали. Нигде не видал я таких ужасных ран. Разбитые головы, оторванные ноги и размозженные руки до плеч были обыкновенны. Те, которые несли раненых, облиты были с головы до ног кровью и мозгом своих товарищей…
Сражение не умолкало ни на минуту, и целый день продолжался беглый огонь из пушек. Бомбы, ядра и картечи летали здесь так густо, как обыкновенно летают пули; а сколько здесь пролетало пуль!..
Какое ужасное сражение было под Бородином! Сами французы говорят, что они сделали 60 тысяч выстрелов из пушек и потеряли 40 генералов! Наша потеря также очень велика. Князь Багратион тяжело ранен. “Оценка людей, – говорит Екатерина, – не может сравняться ни с какими денежными убытками!” Но в отечественной войне и люди – ничто! Кровь льется, как вода, – никто не щадит и не жалеет ее! Нет, друг мой, ни берега Дуная и Рейна, ни поля Италии, ни пределы Германии давно, а может быть никогда ещё, не видали столь жаркого, столь кровопролитного и столь ужасным громом пушек сопровожденного сражения! Одни только русские могли устоять: они сражались под отечественным небом и стояли на родной земле.
Я видел это неимоверно жестокое сражение и ничего подобного в жизнь мою не видал, ни о чём подобном не слыхал и едва ли читывал. Я был под Аустерлицем, но то сражение в сравнении с этим – сшибка! Те, которые были под Прейсиш-Эйлау, делают почти такое же сравнение».
Одни только русские смогли устоять – они отдали врагу поле битвы, но не победу. Позднее эту же мысль Глинка выразил в следующих стихотворных строках:
В Москву братья прибыли 13 (1) сентября. Впечатления от Первопрестольного града было грустное: «Вот уже другой день, как я в столице, которую так часто видал в блестящем её великолепии, среди торжеств и пирований, и которую теперь едва-едва могу узнать в глубокой её печали. О, друг мой! Что значит блеск городов, очаровывающий наши чувства? Это самая тленная полуда на меди, позолота на пилюле! Отняли у Москвы многолюдство, движение народа, суету страстей, стук карет, богатство украшений – и Москва, осиротелая, пустая, ничем не отличается от простого уездного города! Все уехало или уезжает».
В опустевшем городе состоялась короткая встреча всех пяти братьев – Василия, Сергея, Григория, Ивана, Фёдора. События войны собрали их на один день в квартире Сергея Николаевича. Братья застали его за противоестественным, кощунственным делом – редактор журнала «Русский вестник», поклонник красоты и мысли, – уничтожал книги. С ожесточением и злостью он хватал наиболее роскошные издания. С сухим треском отрывались переплёты и летели на пол. Затем Сергей Николаевич рвал содержимое книг. На лице его были решимость и отчаяние.
Братья без объяснений поняли его. Библиотека была гордостью Сергея Николаевича, это было его единственное богатство, и он не хотел оставлять его врагу. Не хотел, чтобы захватчикам достались эти книги, и не столько как материальная ценность, а как интеллектуальное богатство, наследие всех древних и новых культур. В тех, кто скоро будет хозяйничать в Москве, Сергей Николаевич видел завоевателей, гуннов новейшего времени.
Москву братья оставили в день вступления в неё победных корпусов Великой армии. С высокого кургана у Боровской переправы на Москва-реке Фёдор Николаевич наблюдал за пожаром старой столицы: «Я видел сгорающую Москву! Она, казалось, погружена была в огненное море. Огромная чёрно-багровая туча дыма висела над ней. Картина ужасная!»
Вид гибнущего города вызвал у Глинки воспоминания о его историческом прошлом. В 1541 году Москва была захвачена крымскими татарами, разорившими и сжегшими город дотла. Летопись того времени отмечала: «Все улицы были наполнены кровью и трупами, и Москва-река мёртвых не пронесла!» Почти так же поступал город в 1612 году. Но каждый раз он вновь возрождался из пепла, как сказочная птица Феникс. Возродится Москва и на этот раз, полагал Фёдор Николаевич, вспоминая слова Кутузова, сказанные им на военном совете в Филях: «Потеря Москвы не есть ещё потеря Отечества».
Мысль главнокомандующего Глинка связал с рассуждениями немецкого философа Г. Лейбница о том, что настоящее всегда беременно будущим. А настоящим была для Фёдора Николаевича вера солдат и офицеров в своего вождя, решимость всех сражаться с захватчиками до их полного изгнания из пределов России, широкое народное движение против завоевателей. Это предчувствие будущего, по мнению Глинки, должно стать «некоторым образом повторением прошедшего: оно должно возвратить нам свободу, за которую теперь, как и прежде, все ополчается».
«Будем надеяться!» Спустя неделю после оставления Москвы Фёдор Николаевич был в Рязани. По пути туда он проехал через города Коломну и Зарайск.
Едва успел взглянуть на могучие башни первого из них, раскинувшегося при слиянии Москва-реки и Оки, как вихрь всеобщего смятения унёс дальше. Фёдор Николаевич не успел даже отыскать здесь своего двоюродного брата Владимира Глинку, с которым вместе учился в шляхетском корпусе.
В Зарайске Глинка задержался немного больше. Маленький городок на берегу светлого Осетра, притока Оки, привлёк его старинным кремлём, расположенным на возвышенном месте у переправы через реку. Когда-то он служил надежной опорой против татар, часто разорявших Рязанскую землю.
В самой Рязани Фёдор Николаевич был мало, но день или два провёл в виду города, ожидая на переправе через Оку своей очереди. Переправ было мало, паромы, удерживаемые ветхими канатами, едва могли поднять десяток лошадей и несколько человек, на берегу реки скопились сотни повозок; тысячи семей расположились здесь лагерем.
Глинку поразили обширность открытых пространств Рязанщины, её малонаселённость. Он отметил, что мужчины здесь рослые, крепкие, но несколько суровые. Женщины же, напротив, приветливы и ласковы. Они ходят в шушунах, а на голове носят остроконечные кички, что придаёт им необыкновенно рослый вид. С приезжими они обращаются со словами «добрый господин, касатик», друг к другу – «подружка-ластушка».
В Рязани Глинка рассчитывал остановиться, здесь он хотел оставить раненого брата, но им велели убираться (как он отметил в дневнике) в Касимов. Уезжая из города, Фёдор Николаевич отметил: «И здесь все волнуется. Бог знает от чего?»
На первый взгляд этот вопрос кажется риторическим, не требующим ответа. Но из последующих наблюдений писателя становится понятным, что это не так. Глинка с возмущением отмечал, что по той самой дороге, на которой раненые солдаты падают от усталости, везут на огромных телегах предметы роскоши и моды – вазы, зеркала, диваны, скульптуру и… французских учителей.
По поводу последних Фёдор Николаевич вспоминал анекдот, прочитанный им в одном из прошлогодних номеров «Вестника Европы».
Некоему господину снится сон о том, будто бы Россия подверглась новому нашествию татар. Москва окружена врагами. Повсеместно раздаются стоны и вопли осажденных. Тогда предводитель татар хам Узлу разрешает женщинам оставить город. Им можно взять с собой всё, что они в состоянии вынести.
И вот господин, видящий этот сон, с тревогой ищет среди огромных толп женщин, оставляющих город, свою жену. Вот она. её еле видно под огромным коробом, который она взвалила на себя. Благодарный муж облегченно вздыхает – разумеется, в этом коробе их дети. Но – о ужас! – короб раскрывается, и из него бодро выскакивает учитель-француз.
Приведя этот анекдот в своём дневнике, Глинка заключил: «Спасают купидонов, Венер, а презирают стоны бедных и не смотрят на раны храбрых! Гремит гром, но не всякий ещё крестится».
В своих записках Фёдор Николаевич много места отводил фактам социального неравенства, несправедливости. Но вместе с тем немалое место на страницах его дневника находят и глубоко патриотические поступки людей самых различных социальных групп. И это глубоко оправданно. Писатель фиксировал жизнь во всех её проявлениях, а Отечественная война была богата самыми противоречивыми событиями; она равно несла горе и в крестьянские, и в дворянские семьи. Потому она и стала Отечественной, что заставила подняться на борьбу с захватчиками представителей всех классов тогдашней России. Очень показательной в этом отношении является судьба семейства Тучковых.
Приблизительно в то время, когда братья Глинки скитались по дорогам Рязанщины, в тверское имение Тучковых приехал Алексей Алексеевич, единственный из четырёх братьев, оставшийся в живых.
Его сестры пытались подготовить мать, Елену Яковлевну, к горькой вести. Поэтому они не скрывали от нее своих раскрасневшихся от слёз глаз, говорили, что ходят дурные слухи, и, наконец, объявили:
– Матушка, брат приехал.
Он вошёл, и Елена Яковлевна, не дав ему времени с ней поздороваться, остановила на нём пристальный взгляд и сказала:
– Говори правду: что Николай?
Николай был самым любимым из её сыновей.
– Он ранен… – отвечал Алексей Алексеевич, – очень тяжело ранен…
– Говори правду: он жив?
Ответа не было.
– А Павел? – спросила она, помолчав немного.
– Он попал в плен под Смоленском… он ранен.
– А Александр?
– Убит, – промолвил едва внятно Алексей Алексеевич.
Наступило гробовое молчание, потом послышались сдержанные рыдания. Не плакала одна только старушка. Вдруг она поднялась медленно со своего кресла, но была не в силах сойти с места и опустилась на колени там, где стояла. Присутствующие слышали глухо произнесённые слова:
– Да будет твоя святая воля!
Потом она провела руками около себя, как будто отыскивая чего-то ощупью, и, наконец, сказала:
– Подымите меня, я не вижу.
Все бросились её подымать; она встала и молвила твёрдым голосом:
– Ослепла, и слава Богу. Не на кого больше смотреть.
В Касимове Глинки были два дня. Здесь Григорию полегчало, и он решил пробираться назад, к армии – оставаться в городе, переполненном ранеными, братья не хотели. Обратная дорога шла через село Льгово (около Рязани), Зарайск, Каширу, Серпухов и Тарусу.
Фёдор Николаевич был восхищен окрестностями Тарусы. Живописные берега Оки были усыпаны селениями, расположенными на холмах, почти на каждой версте виднелись красивые господские дома, каменные церкви, мельницы и сады. Усадьбы были брошены, и Глинка ядовито отметил: «Теперь здесь побережье Оки совершенно пусто; все господа уехали в степи от французов так, как прежде, заражаясь иноземною дурью, ездили в Москву и в Париж к французам».
Вечером 11 октября Фёдор Николаевич вышел с братом к селу Тарутино. Впереди себя они увидели обширное поле, защищенное высокими укреплениями, справа – крутые берега Нары. Всё видимое пространство было покрыто соломенными шалашами, ярко светились костры, в лагере повсеместно слышались музыка и пение.
Вступив в русский лагерь, Фёдор Николаевич сразу понял, что армия кипит мужеством и рвется в бой. На следующий день его уверенность в силе русских ещё более укрепилась. Он увидел, что в окрестностях Тарутино появился целый город с улицами, площадями и рынками. Здесь можно было купить всё, в том числе арбузы, виноград и даже ананасы.
«Около ста тысяч войск, чудесно укреплённое местоположение и большое число пушек, – писал Глинка, – составляют в сем месте последний оплот России. Здесь остановились для того, чтобы всем до одного умереть или нанести смертельный удар нашествию. Войско наше кипит мужеством. Любовь к Отечеству овладела сердцами всего народа. Бог и Кутузов с нами – будем надеяться».
Фёдор Николаевич не имел при себе никаких документов, поэтому ему надо было найти какого-либо военачальника, знающего его лично. Таковым оказался генерал М.А. Милорадович. Михаил Андреевич приветливо встретил бывшего сослуживца, представшего перед ним в синей куртке, сделанной из фрака, у которого обгорели полы. Глинка был зачислен поручиком и оказался в авангарде русской армии.
Милорадович был очень отзывчивым человеком. Увидев Фёдора Николаевича в весьма непрезентабельном виде, он озаботился его положением и помог ему. Более того, восстанавливая прежние отношения с умным собеседником и безукоризненным исполнителем, пригласил его на званый обед: «Сегодня генерал Милорадович взял меня с собой обедать к генералу Дмитрию Дмитриевичу Шепелеву, который имел свои биваки за правым крылом армии. Обед был самый великолепный и вкусный. Казалось, что какая-нибудь волшебница лила и сыпала из неистощимого рога изобилия лучшие вина, кушанья и самые редкие плоды. Хозяин был очень ласков со всеми и прекраснейший стол свой украшал ещё более искусством угощать. Гвардейская музыка гремела. В корень разорённый смоленский помещик, бедный поручик в синей куртке с пустыми карманами, имел честь обедать с тридцатью лучшими из русских генералов».
Буквально через день после званого обеда Глинка чуть не попал в пасть молоха:
«Ещё звенит в ушах от вчерашнего грома. После шести мирных лет я опять был в сражении, опять слышал шум ядер и свист пуль. Вчерашнее дело во всех отношениях удачно. Третьего дня к вечеру генерал Беннигсен заезжал к генералу Милорадовичу с планами. Они долго наедине советовались. Ночью знатная часть армии сделала, так сказать, вылазку из крепкой Тарутинской позиции. Славный генерал Беннигсен имел главное начальство в этом деле. Генерал Милорадович командовал частью пехоты, почти всей кавалериею и гвардиею.
Нападение на великий авангард французской армии, под начальством короля Неаполитанского, сделано удачно и неожиданно. Неприятель тотчас начал отступать и вскоре предался совершенному бегству. 20 пушек, немалое число пленных и великое множество разного обоза были трофеями и плодами этого весьма искусно обдуманного и счастливо исполненного предприятия. Движениями войск в сем сражении управлял известный полковник Толь, прославившийся личной храбростью и великими познаниями в военном деле».
Это было знаменитое сражение под Тарутино. Но проходило оно не так гладко, как виделось Глинке. Первыми исходный рубеж для атаки заняли казачьи полки В.В. Орлова-Денисова. Начинало светать, но других частей на предназначенных им местах не было. В лагере неприятеля между тем началось движение. Боясь быть обнаруженным, Орлов-Денисов предпринял атаку противника в одиночку.
Внезапность нападения не позволила противнику приготовиться к обороне. Донцы врубились в колонны кирасир дивизии Себастиани, опрокинули их и гнали до пехоты, которая прикрывала батареи, здесь кирасиры построились для ответной атаки, но, предупреждая ее, казаки отчаянно бросились на противника. Их не смогли остановить ни картечные, ни ружейные залпы.
В захваченном вражеском лагере русских поразил резкий контраст между богатством взятого обоза и разительным недостатком самых необходимых жизненных припасов. Вокруг тлевших костров валялись кошки и лошади, заколотые для пищи (нередко уже объеденные). Чайники и котлы стояли с конским отваром, кое-где попадались крупа и горох, но никаких следов хлеба или говядины. Около жареной конины и вареной ржи находили вино, головы сахара и лакомства.
Французы, не выдержав стремительного натиска казаков, бросили орудия и большой обоз с драгоценностями, награбленными в Москве.
Тут подоспели другие части русской армии. Успех был значительный, но Кутузов ожидал большего. Поэтому, когда вечером Беннигсен, Милорадович, Толь, Коновницын и Ермолов явились к нему с предложением преследовать части Мюрата, Михаил Илларионович отказался это делать:
– Коль скоро не успели мы его вчера живым схватить, а сегодня вовремя прийти на те места, где было назначено, преследование сие пользы не принесёт и потому не нужно, – это нас отдалит от определённой линии нашей.
Тем не менее Кутузов так писал об итогах сражения при Тарутино: «На рассвете в 6 часов соединенно с колоннами левого фланга атаковали неприятеля, который в течение четырёх часов времени был разбит и преследуем более 28 верст за село Вороново. При сём побито на месте более 2500 человек, между коими два генерала, в плен взято 2000 человек, 20 штаб- и обер-офицеров, генерал Меркье, почётный штандарт I кирасирского полка, 36 пушек, 40 зарядных ящиков, весь обоз, между коими находился и обоз короля неаполитанского. Наша же потеря едва ли превышает 200 человек убитыми и ранеными».
За всё время войны с Наполеоном русские никогда не отбивали у французов столько орудий в одном сражении.
Кроме чисто военного успеха сражение при Тарутине имело ещё и важное политическое последствие – оно явилось толчком к оставлению Наполеоном Москвы. В день сражения император делал в Кремле смотр войскам. Смотр проходил под отдалённый гром канонады, но никто не решался обратить на неё внимание Наполеона. Но вот от Мюрата прибыли первые сообщения, и Дюрок доложил императору о случившемся. В свите заметили, что Наполеон при этом совершенно изменился в лице, вечером он спросил Дюрока:
– Так что же делать?
– Остаться здесь: сделать из Москвы большой укрепленный лагерь и провести в нём зиму. Хлеба и соли хватит. Лошадей, которых нечем будет кормить, – посолят. Что касается помещений, то, если домов мало, так погребов достаточно. С этим можно будет переждать до весны, когда подкрепление и вся вооруженная Литва выручат и помогут довершить завоевание.
Перед этим предложением император сначала молчит, видимо, раздумывая, потом отвечает:
– Львиный совет! Но что скажет Париж! Что там будут делать?
Утром Наполеон объявил:
– Идем на Калугу! И горе тем, кто окажется на моей дороге!
Кутузов давно предвидел этот шаг. Ещё 5 октября он говорил посланнику Наполеона генералу Лористону:
– Бонапарт, не объявляя войны, вторгся в Россию и разорил большую полосу земли в нашем Отечестве; увидим теперь, как он выедет из Москвы, в которую пожаловал без приглашения, теперь долг повелевает нам наносить ему вред всевозможнейший. Он объявляет, будто вступлением в Москву поход окончился, а русские говорят, что война ещё только начинается. Ежели он этого не ведает, то скоро узнает на самом деле.
За два дня до Тарутинского сражения Михаил Илларионович писал царю: «Неприятель намерен ретироваться по Смоленской дороге».
И вот этот час настал. 19 (7) октября французская армия выступила из Москвы. Пребывание русской армии в Тарутино подошло к концу, Тарутино сыграло свою историческую роль. Кутузов высоко оценил его значение. Владелице этого села помещице А.Н. Нарышкиной Михаил Илларионович написал: «Отныне имя его должно сиять в наших летописях наряду с Полтавой, и река Нара будет для нас так же знаменита, как и Непрядва, на берегах которой погибли бесчисленные ополчения Мамая. Покорнейше прошу Вас, чтобы укрепления, которые устроили полки неприятельские, были твёрдою преградой, близ коей остановился быстрый поток разорителей, грозивших наводнить всю Россию, чтобы сии укрепления остались неприкосновенными. Пускай время, а не рука человеческая их уничтожит; пускай земледелец, обрабатывая вокруг них мирное своё поле, не трогает их своим плугом; пускай и в позднее время они будут для россиян священными памятниками мужества; пускай наши потомки, смотря на них, будут воспламеняться огнём соревнования и с восхищением говорить: “Вот место, на котором гордость хищников пала перед неустрашимостью сынов Отечества”».
М.И. Кутузов
Интересно сравнить это письмо Кутузова с записью Глинки, которую мы находим в его «Выписках, служащих объяснением прежних описаний 1812 года»:
«Итак, укрепленные высоты Тарутина остались необагренными кровью! Да пребудут до позднейших времен сии твердыни, заслонившие сердце России, знаменитым памятником её спасения и вместе священнейшим мавзолеем для всех, великий подвиг сей совершавших!.. Да не коснется их разрушение от руки человеков, доколе тяжелые стоны лет и столетий, медленно переходящих в вечность, не изгладят их. Когда мирный землепашец поздних времен, возделывая нивы на тихих берегах Нары, с благоговейным содроганием взирать будет на сии громады древних лет: пусть каждый просвещённый отец семейства с восторгом указывает их питомцам своим; пусть, раскрыв книгу бытописаний, напоминает им о днях мрака, бурь и треволнений, когда дым, пламень и кровь покрывали землю русскую, когда скорбь, рыдания и смерть были общим, круговым горем.
Пусть напоминает им о днях неслыханных битв, повсеместных ополчений и великих пожертвований. Пусть, с сердечным умилением, указывает опять эти же высоты, как места священные, где занялась первая заря свободы плененного отечества, где первый луч надежды, посланник небес, осветил сердца вернейших сынов России; где первое ура! известило бегство неприятелей и первая улыбка радости блеснула на лице полков. Пусть, наконец, представит им, сколь велик Бог, спаситель земли нашей, сколь твёрд был государь ее, сколь мужествен народ, сколь мудры полководцы и сколь храбры войска, истребившие неисчислимых врагов!..»
22 (10) октября в одиннадцать вечера главнокомандующий получил донесение генерала Дохтурова о движении Наполеона к Малоярославцу. Через день противники встретились у этого города. В сражении, происходившим на виду обеих армий, участвовала только часть корпусов: 6-й и 7-й со стороны русских, 4-й со стороны французов. Сражение было ожесточенным. Город восемь раз переходил из рук в руки. В конце концов он остался за французами, но русская армия по-прежнему преграждала неприятелю дорогу на Калугу.
На следующий день в обеих армиях ожидали генеральной битвы, считая, что она будет не меньше Бородинской. С восходом солнца 25 октября Наполеон сел на лошадь и поехал к Малоярославцу. Четыре эскадрона кавалерии, составлявшие его обычный конвой, не были вовремя предупреждены и запоздали. Наполеон ехал по дороге, загромождённой больничными фурами, зарядными ящиками, каретами, колясками и всевозможными повозками. Вдруг влево от него в отдалении показалось несколько групп, а затем целые массы кавалерии, от которой с криком, без оглядки бросились бежать одиночные солдаты и женщины, наводя панику на встречных. Это были казаки, налетевшие так быстро, что император, не понявший, в чём дело, остановился в нерешительности. Генерал Рапп, бывший в свите, быстро схватил лошадь Наполеона под уздцы и, повернув её назад, закричал: «Спасайтесь! Это они!»
Наполеон под Малоярославцем
Наполеон ускакал. Подоспевший в этот момент конвой выручил императора. Казаки скрылись так же неожиданно, как и появились, – увлекшись добычей, они проглядели императора.
Через полчаса после этого происшествия Наполеон продиктовал у бивуачного костра приказ об отступлении. «Мы шли, – говорилось в нем, – чтобы атаковать неприятеля, но Кутузов отступил перед нами, и император решил повернуть назад».
Странная логика: заставить противника отступить, чтобы затем бежать от него! К тому же в приказе опущена одна весьма существенная деталь. В нём «скромно» умалчивалось о том, что Кутузов не просто отступил, а отошел на дорогу, по которой Наполеон хотел прорваться в Калугу. Французский император лукавил, делал хорошую мину при плохой игре.
Аналогичной опасности подвергся в этот день и герой нашего повествования, всюду сопровождавший своего весьма рискованного начальника:
«Генерал Милорадович оставлен был с войсками своими на том самом месте, где ночь прекратила сражение. Весь следующий день проведён в небольшой только пушечной и ружейной перестрелке. В сей день жизнь генерала была в явной опасности, и провидение явно оказало ему покровительство своё. Отличаясь от всех шляпой с длинным султаном и сопровождаемый своими офицерами, заехал он очень далеко вперёд и тотчас обратил на себя внимание неприятеля. Множество стрелков, засев в кустах, начали метить в него. Едва успел выговорить адъютант его Паскевич:
– В вас целят, ваше превосходительство! – и пули засвистали у нас мимо ушей.
Подивись, что ни одна никого не зацепила. Генерал, хладнокровно простояв там ещё несколько времени, спокойно поворотил лошадь и тихо поехал к своим колоннам, сопровождаемый пулями. После этого генерал Ермолов, прославившийся и сам необычайной храбростью, очень справедливо сказал в письме Милорадовичу: “Надобно иметь запасную жизнь, чтоб быть везде с вашим превосходительством!”»
Сражение под Малоярославцем изменило ход войны. Впервые в своей жизни Наполеон отказался от генеральной битвы и предпочёл отступить на разоренную Смоленскую дорогу. Кутузов так писал позднее о значении этого сражения: «Сей день есть один из знаменитейших в сию кровопролитную войну, ибо потерянное сражение при Малоярославце повлекло бы за собою пагубнейшее следствие и открыло бы путь неприятелю через хлебороднейшие наши провинции».
С отступления Великой армии от Малоярославца началось контрнаступление русской армии. Адъютант французского императора граф Сегюр расценивал это сражение как поворотный пункт в захватнических войнах Наполеона: «Товарищи! Помните ли вы это злосчастное поле, на котором остановилось завоевание мира, где 20 лет побед рассыпались в прах, где началось великое крушение нашего счастья».
День сражения при Малоярославце имел важное значение и для Глинки. Отряды генерала Милорадовича, в рядах которых находился Фёдор Николаевич, в ночь после сражения были оставлены на тех местах, где сражение прекратилось. А когда противник на следующий день отступил, им было приказано преследовать его. И авангард Милорадовича неутомимо шёл за врагом, помня слова главнокомандующего: «Армии нужна скорость!».
«Враги бегут и гибнут». Двенадцать суток, с 23 октября по 4 ноября, Глинка находился в беспрерывных походах и сражениях. Он так писал об этих днях: «Ночи, проведённые без сна, а дни в сражениях, погружали ум мой в какое-то затмение и счастливейшие происшествия: освобождение Москвы, отражение неприятеля от Малого Ярославца, его бегство – мелькали в глазах моих, как светлые воздушные явления в темной ночи».
Французская армия в беспорядочном бегстве растянулась на девяносто верст по новой Смоленской дороге от Гриднева до Вязьмы. Кутузов с главными силами шёл наперерез противнику. Платов теснил неприятеля с тыла. Милорадович с авангардом шёл между русскими и французскими армиями, параллельно им.
От Егорьевска до Вязьмы войска Милорадовича продвинулись скрытно от противника, преодолевая дремучую темень осенних ночей, скользкие проселочные дороги, бессонье и голод. Вперёд их вела радость победы, вид отступающего противника. «Враги бегут и гибнут, – писал Глинка, – их трупами и трофеями устилают себе путь русские к бессмертию».
3 ноября авангард русской армии под командованием Милорадовича завязал сражение с неприятелем у села Спасского, в двенадцати верстах от Вязьмы. Французскими войсками командовали маршалы Даву и Рей, вице-король Италии Евгений Богарне. Впервые за всю кампанию в сражении не участвовал Наполеон, ожидая его исхода на дороге из Семлёва в Славково.
Соотношение сил было в пользу противника (пятьдесят тысяч против тридцати). Но, несмотря на это, французы были выбиты в течение дня со всех шести укреплённых позиций на пути к Вязьме. Они надеялись, что превосходство в силах даст ещё им возможность продержаться ночь и обеспечить беспрепятственный отход обозов. Но к вечеру, преодолев ожесточенное сопротивление противника, русские на штыках ворвались в город.
Вязьма горела. С треском рушились дома. Рвались бомбы и гранаты. Из садов и развалин построек летели пули. Но русские солдаты упорно шли вперёд, очищая город от противника. Не выдержав натиска, французы бежали. На следующий день Глинка писал в своём дневнике: «На дымящемся горизонте угасало солнце. Помедли оно ещё час, и поражение было бы совершеннее; но мрачная осенняя ночь приняла бегущие толпы неприятеля под свой покров».
Дорога от Спасского до Вязьмы была покрыта трупами неприятеля. Французы потеряли в этот день до четырех тысяч убитыми и ранеными и до трёх тысяч пленными, был пленен один генерал, взято два знамени и несколько пушек.
Одним из очевидцев сражения стал генерал Вильсон – английский представитель при штабе Кутузова, будущий автор теории золотого моста, который якобы создал русский главнокомандующий для скорейшего отступления французской армии. 4 ноября он сидел в одной избе с Глинкой, который отметил: «В это самое время, как я пишу, генерал Вильсон, бывший личным свидетелем вчерашнего сражения, описывает также оное соотечественникам своим. Из Петербурга нарочный отправился с известием о сей победе в Лондон».
Случайный контакт между английским генералом и русским поручиком возник на эпистолярной почве – оба любили писать. Но писал Вильсон отнюдь не для рядовых граждан Великобритании. 4 ноября его адресатами были Александр I, лорд Кэткарт и лорд Б. Царю Вильсон сообщил о ходе сражения за Родину, полагая что тому приятно будет иметь сведения о происшествиях.
Лорду Кэткарту, послу Великобритании в Петербурге, было отправлено аж два письма. Содержание их аналогично первому («царскому»), но есть и весьма примечательное обращение к послу: «Партикулярно. Если вы можете способствовать удалению фельдмаршала Кутузова, то тем окажете великую услугу России и Европе. До тех пор, пока он будет командовать, мы никогда не сойдёмся с неприятелем: Он желает только видеть неприятеля, оставляющего Россию, утомлённого, но не уничтоженного. То, что уже сделано, исполнено без его ведома или приказания – то, что остаётся сделать, так же предпринять надлежит без его повелений».
То есть если не формально, то практически отстранить Кутузова от командования. Та же песня и в послании лорду Б: «Мы могли бы окончить войну при Малоярославце; могли бы взять и уничтожить одного похитителя престола и одного вицепохитителя и 50 000 человек при Вязьме, но фельдмаршал лишил Россию такой славы, а Европу такой выгоды».
Но кто эти «мы»? В 1812 году ни одного английского солдата на территории России не было, иначе они, конечно же, пленили бы Наполеона и его пасынка Евгения Богарне. Вот она британская «метода» – загребать жар чужими руками.
…4 ноября, в день освобождения Вязьмы, выпал первый снег. На следующий день он пошел сильнее, а 6-го поднялась настоящая метель.
Фёдор Николаевич немного задержался в Вязьме и затем должен был скакать тридцать верст, чтобы догнать свою часть. Он ехал вместе с генералом Вильсоном по дороге, обозначенной толпами людей и лошадьми Великой армии. Среди трупов ползали какие-то призраки, в лохмотьях, окровавленные, перепачканные сажей печей, трубы которых торчали на местах сожженных деревень. Голод, стужа и страх помрачили рассудок многих из них. Мутными глазами смотрели эти призраки на проезжающих путников и апатично глодали конские кости.
Вязьму Глинка оставил с надеждой на то, что её жители не забудут героизма солдат и офицеров русской армии, освободивших город. «Со временем благородное дворянство и граждане Вязьмы, конечно, почувствуют цену этого великого подвига и воздадут должную благодарность освободителю их города. Пусть поставят они на том самом поле, где было сражение, хотя не многочисленный, но только могущий противиться времени памятник и украсят его, по примеру древних, простой, но все объясняющей надписью: “От признательности благородного дворян сословия и граждан Вязьмы начальствовавшему российским авангардом генералу от инфантерии за то, что он, с 30 000 россиян разбив 50-тысячное войско неприятельское, исторгнул из рук его горящий город их, потушил пожары и возвратил его обрадованному Отечеству и утешенным гражданам в достопамятный день 23 октября 1812 года”».
Отступая, французы взрывали пороховые ящики, и дорога то и дело освещалась пламенем. В сторону от неё отряжались большие отряды, которые жгли уцелевшие деревни и грабили жителей.
Крестьяне, отвечая на зверства неистовствовавших захватчиков, создавали свои отряды для защиты от мародёров, которых они, по замечанию Глинки, называли миродёрами. Однажды Фёдор Николаевич увидел сцену, чрезвычайно позабавившую и его, и его спутника: крестьяне (даже дети) секли розгами французов, ползавших у их ног.
Впрочем, им ещё повезло. Но случалось и такое: «Шестьдесят голых мужчин, лежащих шеями на спиленном дереве. Прыгающие вокруг них с песнями русские, и мужчины, и женщины, ударами толстых прутьев разрубают одну за другой головы» (Р. Вильсон).
И тем не менее этот «наблюдающий» от Лондона говорил Глинке: «Война продвинула Россию на целое столетие вперёд по пути отцов и славы народной».
Позднее Фёдор Николаевич так изобразил народную войну в стихотворении «1812 год»:
В полдень 7 ноября русские войска штурмовали Дорогобуж. Укрепленные высоты города брали лобовой атакой. В город ворвались, когда он уже начал гореть, но усилиями солдат пожар был потушен. Помог в этом и вдруг поваливший снег.
Глинка с восхищением писал о героизме солдат и офицеров, проявленном в этом сражении:
«Надо видеть наших солдат, без ропота сносящих голод и стужу, с пылким рвением идущих на бой и мгновенно взлетающих на высоты окопов, чтоб иметь понятие о том, как принято освобождать города своего Отечества!
4-го егерского полка майор Русинов, получив рану в руку при начале штурма, велел поддерживать себя солдатам и продолжал лезть на вал. Через несколько минут ему прострелили ногу, и солдаты вынуждены были снести его в ров. Но этот храбрый офицер до тех пор не приказывал уносить себя далее и не переставал ободрять солдат, пока не увидел их уже на высоте победителями».
Спустя два с небольшим месяца, Фёдор Николаевич оказался опять в родных местах. Обращаясь к брату Сергею, он писал из Дорогобужа: «Представь себе, друг мой, что я теперь только в 60 верстах от моей родины и не могу заглянуть в неё!.. Правда, там нечего и смотреть: все разорено и опустело! Я нашёл бы только пепел и развалины; но как сладко ещё раз в жизни помолиться на гробе отцов своих! Теперь сходен я с кометою, которая не успеет приблизиться к солнцу, как вдруг косвенным путём удаляется опять от него на неизмеримые пространства».
Целую неделю, с 8 по 14 ноября, отряды генерала Милорадовича продвигались к Смоленску боковыми, неизвестными путями, через леса и болота. На большую дорогу к нему они вышли в районе деревни Ржавки. Французы двигались спокойно и весело, согретые неожиданно наступившей оттепелью. Между колоннами тянулись обозы, наполненные награбленным добром.
Милорадович приказал атаковать. Несмотря на превосходство в силах, неприятель мгновенно был сбит с дороги и начал отступать, прикрываясь легкой артиллерией, поставленной на высотах. Ближайшие леса и наступившая вскоре темнота скрыли противника.
Следующие три дня, 16–18 ноября, прошли в беспрерывных сражениях, на дороге между Смоленском и Красным. Позднее Фёдор Николаевич писал об этих днях: «С каждою утреннею зарёю, коль скоро с передовых постов приходило известие, что колонны показались на большой дороге, мы садились на лошадей и выезжали на бой».
Особенно удачным для русского авангарда оказался последний день сражения под Красным. В этот день отряд Милорадовича совершенно разгромил тридцатитысячный корпус маршала Рея.
В результате четырехдневных боёв, по сведениям Глинки, французы потеряли около двадцати тысяч убитыми, двадцати двух тысяч пленными и шестьдесят пушек. «Поля города Красного в самом деле покраснели от крови», – записал после окончания боев Глинка. Русским достались многочисленные обозы, которые были набиты шубами, бархатами, парчой и деньгами. Тотчас среди разбитых фур, изломанных карет и мёртвых тел закипела торговля. За сто рублей бумажными деньгами продавали мешок серебра. Но охотников до него не находилось, так как не на чем было везти многопудовый груз. По поводу трофеев Фёдор Николаевич записал: «Лавров девать негде, а хлеба – ни куска! Там, где меряют мешками деньги, нет ни крохи хлеба! Хлеб почитается у нас единственною драгоценностью!»
Ночь на 19 ноября Глинка провёл в одной из уцелевших изб близ Красного. Общими усилиями кое-как законопатили стены, пробитые ядрами, и истопили печь. Но только расположились на ночлег, как изба начала наполняться… французами. Их втиснулось несколько десятков, и не было места, которого бы они не заняли: на полу, на лавках, под лавками, на печке, за печкой, под печкой – отовсюду слышались выкрики на всех европейских языках. И русские, несколько часов назад беспощадно разившие врага на поле битвы, сейчас не могли поднять руки, чтобы выбросить этих пришельцев за порог.
Эту ночь Фёдор Николаевич назвал самой ужасной в своей жизни:
«Перед светом страшный вой, и стоны разбудили меня. Под нами и над нами множество голосов, на всех почти европейских языках, вопили, жаловались или изрыгали проклятие на Наполеона! Тут были раненые, полузамерзшие и сумасшедшие. Иной кричал: “Помогите! Помогите! Кровь льется из всех моих ран! Меня стеснили!.. У меня оторвали руку!” “Постойте! Удержитесь! Я ещё не умер, а вы меня едите!” – кричал другой. В самом деле, они с голоду кусали друг друга. Третий дрожащим голосом жаловался, что он весь хладеет, мерзнет; что уже не чувствует ни рук, ни ног!
И вдруг среди стона, вздохов, визга и скрежета зубов раздавался ужасный хохот… Какой-нибудь безумный, воображая, что он выздоровел, смеялся, сзывая товарищей: бить русских! А вслед за этим слышен был в другом углу самый горестный, сердце раздирающий плач. Я слышал, как один молодой поляк, увидев, конечно, во сне, родину свою, говорил громко, всхлипывая: “Я опять здесь, о матерь моя!.. Но посмотри, посмотри, как я весь изранен! Ах! Для чего ты родила на свет несчастного?”»
Отступление Великой армии
Единственная свеча тускло освещала избу, и в её колеблющемся свете вдруг ясно обозначилась фигура француза, увиденного Фёдором Николаевичем накануне. На коленях у него было конское мясо; в руках он держал череп, видно, только что убитого человека и с жадностью глотал ещё горячий мозг. Поймав на себе взгляд постороннего, он спокойно посмотрел на Глинку и вдруг попросил: «Возьмите меня: я могу быть полезен России – могу воспитывать детей».
Утром Глинка обнаружил, что он буквально окружен трупами тех, кто ещё накануне оглашал избу раздирающими сердце криками. Не выдержав этой сцены, он перебрался в шалаш, предпочитая лучше замёрзнуть, чем оставаться в избе. На новом месте Фёдор Николаевич и подвёл итог прошедшей ночи: «В самых диких лесах Америки, в области лютейших каннибалов, едва ли можно видеть такие ужасы, какие представляются здесь ежедневно глазам нашим, до какой степени достигает остервенение человеков! Нет! Голод, как бы он ни был велик, не может оправдать такого зверства. Один из наших проповедников недавно назвал французов обесчеловечившимся народом; нет ничего справедливее сего изречение. Положим, что голод принуждает их искать пищи в навозных кучах, есть кошек, собак и лошадей; но может ли он принудить пожирать подобных себе. Они, нимало не содрогаясь, жарят товарищей своих и с великим хладнокровием рассуждают о вкусе конского и человеческого мяса!»
По свидетельству Глинки, в боях под Красным Милорадович применил тактику, заимствованную у противника. Он преподал полковнику П.И. Мерлину, командовавшему артиллерией авангарда, ставить вместе по 40 и более орудий. О том, как действовали такие батареи, вспоминал Пюибюск: «Лишь только половина первого корпуса прошла мимо неприятеля, как он открыл по нам сильный картечный огонь из 50 пушек, который был тем убийственнее, что неприятельские орудия находились от нас не далее, как на половину пушечного выстрела. Все вокруг нас пало. Затем, в самое короткое время, неприятель поставил несколько орудий на большой дороге впереди и позади той густой колонны, в которой находились и мы, и открыл по нас сильный картечный огонь. Мы были с трёх сторон окружены пушками; картечь сыпалась на нас градом, нам оставалось одно средство, искать спасения в ближайшем лесу. Не успели мы добраться до лесу, как вдруг наскакали на нас казаки и изрубили всех, которые остались на дороге».
«Погибель дерзким; пощады покорным – вот свойства великодушного победителя – свойства русского», – считал Глинка и приводил примеры из своих наблюдений. 600 солдат корпуса маршала Нея скрылись в лесу, окружив себя пушками. На предложение положить оружие заявили, что согласны, но при одном условии: сдадутся только генералу Милорадовичу. Французы называли Михаила Андреевича русским Боярдом и кричали ему: «Да здравствует храбрый генерал Милорадович!».
Во время одного из сражений русские солдаты увидели, как двое маленьких детей бежали по полю под сильным огнём. Михаил Андреевич приказал прекратить стрельбу и взять ребят. Это были брат и сестра – Пьер семи лет, Лизавета пяти. Они потеряли родителей. Милорадович взял их к себе и постоянно возил с собой.
В Красном по приказу Милорадовича один из уцелевших домов оборудовали под лазарет для раненых и больных противников. В лазарет явились все полковые лекари; страдальцев оделили последними сухарями и водою, а те, которые были поздоровее, выпросили себе несколько лошадей и тотчас их съели.
Подводя итоги марша на Красное, Фёдор Николаевич писал брату Сергею:
«Видишь ли, какой мы сделали шаг! От Дорогобужа прямо к Красному. Смоленск и Днепр остались у нас вправо. Тихо подкрались мы к большой дороге из Смоленска в Красное. Неприятель за тридевять земель; а мы как будто из-под земли очутились вдруг перед ним! Это прямо по-суворовски!
Неприятельский урок чрезвычайно велик. Много сражений покрыты грудами неприятельских тел. В эти четыре для нас победоносные дня потеря неприятеля, наверно, полагается убитыми до 20 000. В плен взято войсками генерала Милорадовича: генералов – 2, штаб- и обер-офицеров – 285, рядовых – 22 000, пушек – 60! Поля города Красного в самом деле покраснели от крови».
Оснеженные лавры. 22 (10) ноября части генерала Милорадовича перешли речку Мерейку и вступили на территорию Могилёвской губернии. Тем самым русские знамёна были перенесены за древние рубежи Отечества. В местечке Баево Глинка размышлял о стратегии войны, принятой Кутузовым:
«Итак, ныне уже ясно и никакому сомнению не подвержено, что одно постоянное продолжение сей войны увенчивает её столь блистательными успехами. Если б заключили мир при Тарутине, как бы ни был он выгоден, Россия не имела б ни лавров, ни трофей, ни драгоценнейшего для всякого уверения, что Наполеон уже никогда не возвратится разорять пределы ее. Теперь можем мы вздохнуть спокойно!.. Меч, висевший над головами нашими, исчез. Тучи, ходившие по русскому небу, быстро несутся назад. Мы видим над собой ясную лазурь безмятежного свода, отколе Всевышний благословляет оружие правых на славном поприще его побед.
Известно, однако ж, что Наполеон прежде, нежели решился оставить Москву, истощал все усилия для заключения мира. Мудрый Кутузов заводил в сети ослепленного страстями и гордостью этого нового Навуходоносора. Он старался выиграть время, доколе подоспеет к нам вернейшая союзница – зима!»
Русские войска спешили к Березине, а погода в эти дни, как нарочно, стояла ветреная и ненастная. Морозы достигали 20 градусов по Реомюру (25° по Цельсию). Как и в предшествующие дни, шли просёлочными дорогами по глубокому снегу. Но, несмотря на это, делали до сорока вёрст в день.
«Белоруссия представляла мрачную картину, – отмечал Глинка. – Те же пожары, те же грабежи и вопль жителей, как и везде, означали следы бегущих врагов порядка и человечества. Одни евреи принимали нас с непритворной радостью. Наверное, узнали, что они во время нашествия неприятеля полагали на себя посты и молили Бога о ниспослании победы русским».
4 декабря (22 ноября) авангард русской армии достиг Борисова. В этот день Фёдор Николаевич записал: «Ушла лисица, только хвост в западне остался!»
Да, последние боеспособные части Великой армии переправились через Березину 29 ноября. По поводу того, кто виноват в этом, историки спорят до сего дня. Но ещё А.И. Михайловский-Данилевский, один из первых исследователей грозы 12-го года, писал: «Армии князя Кутузова не было надобности находиться на Березине – направленных туда сил было совершенно достаточно, и скопление массы войск не принесло бы пользы. Кроме того, армия, выдержавшая генеральные сражения под Малоярославцем и Красным, нуждалась в некотором покое, вот почему князь Кутузов и отрядил лишь Милорадовича. И если он, “крылатый”, не поспел со всем отрядом к сражению, то тогда бы подошла армия, двигавшаяся в бури и метели по проселочным дорогам?»
На левом берегу Березины остались десятки тысяч солдат и офицеров противника, которые уже давно не представляли никакой угрозы русской армии, доведённые голодом и морозами до полного одичания. Русские воины смотрели на них или с сочувствием, или с презрением. Глинка, гуманист по своей натуре, и тот с пренебрежением говорил о тех, кто ещё полгода назад был грозой Европы и славой Франции:
«Мы остановились в разорённом и ещё дымящемся от пожара Борисове. Несчастные наполеонцы ползают по тлеющим развалинам и не чувствуют, что тело их горит!.. Те, которые поздоровее, втесняются в избы, живут под лавками, под печь-ми и заползают в камины. Они страшно воют, когда начнут их выгонять. Недавно вошли мы в одну избу и просили старую хозяйку протопить печь. “Нельзя топить, – отвечала она, – там сидят французы!” Мы закричали им по-французски, чтоб они выходили скорее есть хлеба. Это подействовало. Тотчас трое, чёрные как арапы, выпрыгнули из печи и явились перед нами.
Каждый предлагал свои услуги. Один просился в повара; другой – в лекаря; третий – в учителя! Мы дали им по куску хлеба, и они поползли под печь.
В самом деле, если вам уж очень надобны французы, то, вместо того чтоб выписывать их за дорогие деньги, присылайте сюда побольше подвод и забирайте даром. Их можно ловить легче раков. Покажи кусок хлеба – и целую колонну сманишь! Сколько годных в повара, в музыканты, в лекаря, особливо для госпож, которые наизусть перескажут им всего Монто; в друзья дома и – в учителя!!! За недостатком русских мужчин, сражающихся за Отечество, они могут блистать и на балах ваших богатых помещиков, которые знают о разорении России только по слуху! И как ручаться, что эти же запечные французы, доползя до России, приходясь и приосанясь, не вскружат голов прекрасным россиянкам, воспитанницам француженок! Некогда случилось в древней Скифии, что рабы отбили у господ своих, бывших на войне, жен и невест их. Чтоб не сыграли такой штуки и прелестные людоеды с героями русскими!»
8 декабря пределы Российской империи покинул Наполеон. Через неделю после него русскую границу (теперь уже с востока на запад) перешли первые толпы из бывших соединений Великой армии. В основном это были солдаты и офицеры корпусов Макдональда, Шварценберга и Ренье, которые не участвовали в походе на Москву. Они не были так истощены и сохраняли ещё способность удивляться, радоваться, негодовать. Вот как передаёт их эмоции граф Филипп де Сегюр:
«Бросая последний взгляд на эту страну печали, откуда они вырвались, видя себя на том месте, где пять месяцев тому назад победоносно вступили их бесчисленные орды, многие плакали и кричали от боли!
Вот тот берег, который был как щетиной покрыт их штыками! Вот та союзная земля, которая только пять месяцев тому назад исчезла под ногами их бесчисленной союзной армии и словно волшебством превратилась в долины и холмы, покрытые движущимися людьми и лошадьми! Вот те самые лощины, откуда выходили, сверкая под лучами жгучего солнца, три длинных колонны драгун и гусаров, похожие на реки, отливающие железом и сталью.
Все исчезло – люди, оружие, орлы, лошади, даже солнце и эта река-граница, которую они перешли, полные отваги и надежды!
Теперь Неман – только длинная масса льдин, спаянных друг с другом суровой зимой. Вместо бесчисленных воинов, с такой радостью и гордостью устремившихся в землю русских, из этой бледной и обледенелой пустыни выходит только тысяча вооруженных пехотинцев и кавалеристов, девять пушек и двадцать тысяч несчастных, покрытых рубищами, с опущенной головой, потухшими глазами, с землистым и багровым лицом, с длинной и взъерошенной от холода бородой. И это вся Великая армия!»
Это был день торжества и радости для каждого русского человека, не преминул отметить его и Фёдор Николаевич Глинка:
В середине декабря русские войска вошли в Вильно. 23-го в город прибыл Александр I. Чтобы не травмировать чувствительного государя бедствиями войны, для его проезда провели специальную дорогу вдали от пути, по которому бежали завоеватели.
По случаю приезда царя в Вильно, собралось всё местное дворянство. Город был иллюминован. Прозрачные картины представляли Россию торжествующей, Александра милующим, а Наполеона бегущим. По этому поводу Глинка едко заметил в дневнике: «Известно стало, что картины сии рисовал тот самый живописец, который за несколько пред сим месяцев изобразил те же лица, только в обратном смысле, для освещений в честь Наполеона. Тот же профессор, который протрубил теперь программную оду в честь русских, славил прежде французов».
Литовцы открыто сочувствовали французам, зато евреи изо всех сил угодничали перед победителями, что с удовольствием отметил Глинка[2].
30 (18) декабря Фёдор Николаевич записывал: «Я два раза навещал одного из любимейших поэтов наших, почтенного В.А. Жуковского. Он здесь, в Вильне, был болен жестокой горячкой; теперь немного обмогается. Отечественная война переродила людей. Благородный порыв сердца, любящего Отечество, вместе с другими увлек и его из круга тихомирных занятий, от прелестных бесед с музами в шумные поля брани. Как грустно видеть страдание того, кто был таким прелестным певцом во стане русских и кто дарил нас такими прекрасными балладами!»
В.А. Жуковский в чине поручика вступил в московское ополчение и в его рядах участвовал в Бородинском сражении. «Был он и под ядрами, потому что бородинские ядра всюду долетали», – писал П.А. Вяземский. После сражения Василия Андреевича представили Кутузову, а вскоре причислили к штабу главнокомандующего. В лагере под Тарутином Жуковский написал своё знаменитое стихотворение «Певец во стане русских воинов», которое вскоре разошлось по всей России.
Такие подлые преступления должны быть известны и настоящему и будущим векам! Сейчас, когда наши руки бессильны, может быть, наше негодование против этих чудовищ будет единственным наказанием им на земле; но когда-нибудь убийцы присоединяться к своим жертвам и, несомненно, в справедливости неба мы найдем себе отмщение!»
В.А. Жуковский
В армии стихотворение стало известно в ноябре, так как по приказу Кутузова его отпечатали в походной типографии и распространили как летучий листок. Фёдор Николаевич восхищался творением маститого поэта, а Жуковский с одобрением отозвался о стихотворении Глинки «Мечтания на берегах Волги», как раз в декабре появившемся в «Русском вестнике». Написанное два года назад, оно оказалось актуально и на конец 1812-го:
В разговоре с Жуковским Глинка обмолвился о своих военных записках, и Василий Андреевич горячо поддержал его работу, важную для воспитания российского юношества.
…2 января (21 декабря по ст. ст.) Фёдор Николаевич находился в пути. Какими-то ветрами его занесло в «рай»: «Не правда ли, что очень приятно найти прекрасный куст розы в дикой степи? Точно так же радует нас хороший дом в разорённой стороне».
Это был дом графини Тишкевичевой, сестры покойного польского короля. Владение графини поразило Глинку своим изяществом: в выборе места для дома, в расположении комнат и украшений их чувствовался тонкий вкус хозяйки. Особенно понравились гостю картины: «Захочешь насладиться приятным утром – взглянешь на стену – и видишь в картине все прелести его. Как синь и прозрачен этот воздух! Как легки эти дымчатые облака! Как хороши первые лучи солнца! Кажется, видишь, как эти лучи яснеют, как воздух становится светлее; туман редеет, цветки просыпаются, птички стрясают с крылышек жемчужную росу, и всё в улыбке!»
И это говорил человек, уже треть года находившийся в условиях, не только далёких от всяких идиллий, но и прямо противоположных им, да и просто элементарным отношениям, гарантирующим человеку жизнь! Какова сила воли, не допускавшая не только падение, но и просто ущемление нравственности!
На исходе декабря генерал Милорадович получил от графини Орловой-Чесменской меч её отца Алексея Григорьевича. Глинка донёс до нас текст сопроводительного письма к подарку:
«Меч сей дарован великою Екатериною герою Чесменскому за истребление оттоманского страшного морского ополчения на водах Азии, в виду берегов древния Эллады и Ионии. Там в первый раз возвеял флаг Российский: гром с севера ударил, флот исчез, и луна померкла.
Сей меч, украшенный драгоценнейшими камнями, щедротами бессмертныя монархини, есть бесценное знамение величия тогдашней славы России и неистлеваемый памятник в роде родов Орловых. Но дочь, благоговеющая к памяти родителя своего, к священному для неё праху его, подносит блистательный залог сей знаменитому воину, не допустившему нечестивого врага коснуться сей гробницы».
Получил награду и Фёдор Николаевич – орден Владимира IV степени, золотую шпагу с надписью «За храбрость» и орден Святой Анны II степени.
В первый день Рождества, 6 января (25 декабря), был издан манифест об окончании войны. Глинку это известие застигло в Гродно. 9 января он сделал запись, в которой пытался осмыслить происшедшее: «Итак, зачем приходил Наполеон в Россию? Вот вопрос вопросов, для разрешения которого будут писать целые книги. “Удача в мире сем священнее всех прав!” – думал вождь галлов; так думал и вождь татар! Батый и Наполеон по кровавому морю хотели приплыть к храму славы, но кровь пролита, а храм славы заперт для них. Их мавзолей – проклятие народов!»
13 и 14 (1 и 2) января Глинка оставался в Гродно; через день он был уже в Белостокской области, территории, приобретённой Россией незадолго до начала Отечественной войны. Таким образом, Новый год (по старому стилю, принятому тогда в России) Фёдор Николаевич встретил на родной земле. Предвидя скорую разлуку с ней, он думал о том, чем будет прошедший год для истории. Искал аналогий в древности и не находил. Мысленно он проследил события этого года день за днём. Почти физически ощутил, как людские массы огромной волной шли на восток от Немана до Оки, а затем с неожиданной упругостью выжимались назад, на запад. Подводя итог своим размышлениям, Глинка записал:
«Наконец минул сей 1812 год. Каким шумом, блеском и волнением ознаменовалось шествие его в мире! Сей год, обременённый славой и преступлениями, важно вступает в ворота вечности и гордо вопрошает неисчислимые сонмы протекших годов: кто более его обагрён кровью и покрыт лаврами; кто был свидетелем больших превратностей в судьбах народов, царств и вселенной? Встают века Древнего Рима, пробуждаются времена великих браней, славных полководцев, века всеобщего переселения народов… Напрасно! Древняя история, кажется, не найдёт в себе года, который во всех многоразличных отношениях мог бы сравняться с протёкшим.
Все силы, всё оружие Европы обратилось на Россию. Бог предал её на раны, но защитил от погибели. Россия отступила до Оки и с упругостью, свойственной силе и огромности, раздвинулась опять до Немана. Области её сделались пространным гробом неисчислимым врагам. Русский, спаситель земли своей, пожал лавры на снегах её и развернул знамёна свои на чужих пределах».
К этому эмоциональному заключению воина и поэта остаётся добавить следующее. Сегодня считается, что русскую границу перешли 608 тысяч человек. Потери Великой армии составили 550 тысяч, из них 110 тысяч пленными. Русские потеряли от 200 до 300 тысяч солдат и офицеров (точным подсчётом наших потерь царское правительство не озаботилось – вчерашние крепостные его не интересовали).
Поздравляя с победой тех, кто вышел к западной границе империи, Кутузов говорил: «Каждый из вас есть спаситель Отечества. Россия приветствует вас сим именем».
Царь охарактеризовал значение свершившегося в международном плане: «Вы спасли не только Россию Вы спасли Европу».
Слава стучится в дверь. На рубеже 1814–15 годов Глинка подготовил к печати объёмистый труд «Письма русского офицера о Польше, австрийских владениях, Пруссии и Франции, с подробным описанием похода россиян противу французов в 1805 и 1806, также Отечественной и заграничной войны с 1812 по 1815 год. С присовокуплением замечаний, мыслей и рассуждений во время поездки в некоторые отечественные губернии; части 1–8».
Весной 1815 года в Москве вышли первые семь частей, на следующий год – восьмая. Части первая и вторая, посвящённые событиям 1805–1806 годов, издавались уже в 1808-м. В предисловии к ним Глинка предупреждал читателей: «Служа в полку адъютантом, я старался воспользоваться некоторыми свободными минутами, которые мог похищать от моей должности, и в сие-то минуты, часто на голом поле или в чёрных мазурских избах писал».
С полным изданием «Писем русского офицера» история повторилась: «Не в уединении спокойном, но под небом, освещённом огнями обширных пожаров, посреди шума сражения, наконец, во время долговременного томления Отечества, сочинитель писал письма свои о войне Отечественной».
Однако признания автора в том, что ему было недосуг заниматься литературной отделкой записей, делавшихся урывками и в самых неподходящих для этого условиях, только подогревали интерес к ним. Книга вызвала повышенный спрос читающей публики и быстро исчезла с прилавков магазинов. Автор её получил широкую известность.
Показателен следующий случай. Как-то Глинку посетили В.А. Жуковский, К.Н. Батюшков, Н.И. Гнедич и И.А. Крылов. Разговор зашёл о книге Фёдора Николаевича.
– Ваших писем, – сетовал Жуковский, – нет возможности достать в лавках: все разошлись. При таком требовании публики необходимо новое издание. Тут, кстати, вы можете пересмотреть, дополнить, а иное (что схвачено второпях, на походе) и совсем, пожалуй, переписать.
Гнедич и Батюшков более или менее разделяли мнение Жуковского, и разговор продолжался. Крылов молчал, вслушивался и наконец заговорил:
– Нет! – сказал он. – Не изменяйте ничего: как что есть, так тому и быть. Не дозволяйте себе ни притягиваний нового к старому, ни подделок, ни вставок: всякая вставка, как бы хитро её ни спрятали, будет выглядывать новою заплатою на старом кафтане. Оставьте нетронутым всё, что написалось у вас, где случилось, как пришлось… Оставьте в покое ваши походные строки, вылившиеся у бивачных огней и засыпанные, может быть, пеплом тех незабвенных биваков. Представьте историку изыскивать, дополнять и распространяться о том, чего вы, как фронтовой офицер, не могли ни знать, ни ведать! И поверьте, что позднейшим читателям и любопытно, и приятно будет найти у вас не сухое официальное изложение, а именно более или менее удачный отпечаток того, что и как виделось, мыслилось и чувствовалось в тот приснопамятный двенадцатый год, когда вся Россия, вздрогнув, встала на ноги и с умилительным самоотвержением готова была на всякое пожертвование…
Великий баснописец правильно понял, что ценность «Писем русского офицера» заключается не в изысканности слога, а в правдивости и достоверности описанных событий, сделанных их участником; в тех именно выражениях и оборотах, которые вылились на бумагу почти одновременно с самими событиями без их искажения и извращения в угоду политическим требованиям. Записи, сделанные в моменты высокого душевного подъёма, конечно, не заменить трезвым расчётом и рассудочностью. Что писалось на бивуаках, не повторить в кабинетных условиях.
В письмах к брату Сергею Глинка раскрыл общее содержание книги: «Теперь предлагаю (читателям. – Н.) ведённый мною журнал[3]. Одна часть его в виде писем, другая в рассказах и замечаниях. Разнообразие это не вредит порядку. Здесь найдёшь ты, во-первых, изображение всех военных происшествий и многих геройских деяний россиян; потом описание о нравах, обычаях народов и прочих любопытных вещах, замеченных мною мимоходом».
Две первые части «Писем русского офицера» были посвящены (как уже упоминалось) военным событиям 1805–1806 годов, третья – описание увиденного во время путешествий по российским губерниям. Об этой части Фёдор Николаевич говорил:
«Во время краткой и обманчивой тишины, которою наслаждались мы с 1807 по 1812 год, предпринимал я, по разным обстоятельствам, поездки в разные места, не оставляя привычки бросать на бумагу мысли и замечания свои. Путешествуя в отечестве нашем, нельзя наполнить листов записной книжки описанием картин, мраморных изваяний и прочих произведений художеств; но можно списывать картины с нашей природы, которая богата ими, а всего, как мне кажется, важнее узнавать и описывать нравы своего народа. Путешествие есть единственное к этому средство.
Я старался рассматривать людей в их различных состояниях: гостил в палатах и жил в хижинах. Но там и тут главною целию моею было наблюдение нравов, обычаев, коренных добродетелей и пафосных пороков. Я видел мнимосчастливых в высоких домах и видел истинно благополучных в низких хижинах. В палатах нередко видел я слёзы, текущие по золоту; видел там страсти и предрассудки, от которых вянет радость и меркнет жизнь, как ясный весенний день от чёрных туч.
С сердечным удовольствием видел я, что благие нравы предков, вытесненные роскошью и нововведениями из пышных городов, не остаются вовсе бесприютными сиротами на Русской земле. Скромно и уединённо процветают они в простоте сельской. – Не раз повторял я, про себя, достопамятное изречение Монтескье: “Ещё не побеждён народ, хотя утративший войска, но сохранивший нравы свои”. Россия не утратила ни того, ни другого. И потому я всегда утешался душевным уверением, что вопреки всем умствованиям и расчётам наших врагов ещё очень трудно покорить отечество наше».
Это было сказано ровно 200 лет назад, а звучит весьма актуально сегодня, когда Россия оказалась в кольце американских военных баз и угрозы уничтожения западными доброхотами. Надо ли говорить, как воспринимались записки Глинки народом, только что изгнавшим двунадесять языцев из своей страны. Этим событиям посвящена четвёртая часть «Писем русского офицера», но мы ещё не договорили о первых двух. В них несомненно чувствуется влияние Н.М. Карамзина. Манерой и слогом Карамзина Глинка рассказывает о своём первом пребывании в Польше и Германии. Взоры путешественника блуждают по прелестным живописным окрестностям, путешественник гуляет по уединённым аллеям в саду княгини М., читает надписи на надгробных памятниках, вместе с генералом М. присутствует на балу у княгини Н., знакомится в замке с картинной галереей, состоящей из прекрасного собрания подлинников Рубенса и Корреджо, завтракает и обедает в гостях.
В «Письмах» сообщаются подробнейшие сведения о порядке дня, начиная с самого утра и кончая поздним вечером, но домашние эпизоды и прогулки по аллеям не составляют главного содержания «Писем». К тому же русский офицер не только присутствует на балу и пьёт кофе, но и знакомит читателя с вековыми плодами просвещения, с успехами цивилизации.
На влияние Карамзина указывает и название первых частей «Писем русского офицера», под которым они вышли в 1808 году – «Письма русского путешественника», но и тогда работа Глинки разительно отличалась от эпигонов основоположника сентиментализма. Вот характерные примеры.
В «Путешествии в полуденную Россию» (1802) Вл. Измайлова содержатся некоторые исторические сведения, но на первом плане всё же стоит «сам друг с собакой», потом «и небо, и травки, и поющие птички, и шумящие ручейки», и снова – «собственное бытие мое». Путешественник, глядя на красивую крестьянку, мечтает вместе с ней стеречь барашков и овечек, «петь русские песни». Всюду «гармония и порядок»: «овечки в стаде», «цветущие луга», «зелёные лесочки», «бело-румяные крестьянки».
Князь Шаликов в «Путешествии в Малороссию» (1803) довёл до крайности сентиментальную манеру Карамзина. Не успел он проститься с друзьями, как сердце его «стеснилось, затосковало» и «слёзы заструились из глаз». В пути, по его словам, он только тем и занимался, что пил кофе с «чувствительными друзьями», читал дамам сентиментальные элегии, любовался лугами, усыпанными «жёлтыми, лиловыми и голубыми цветочками», восклицая при этом: «О природа! О чувствительность!» За всё путешествие кн. Шаликов два раза встречался с крестьянами: первый раз в храме во время богослужения, второй – на сельском празднике. Вместе с помещиком он любуется «счастливыми поселянами». И «добрый помещик», конечно, радуется счастью своих крестьян. Полная идиллия.
В первых частях «Писем русского офицера» Глинка весь во власти исторических и национально-патриотических переживаний. В четвёртой части уже отчётливо ощутим резкий поворот, который предал размышлениям автора новый импульс. Это связано с событиями 1812 года, которые осознавались Фёдором Николаевичем как одна из важнейших исторических вех, как начало народной войны.
В «Письмах русского офицера» впервые сильно и резко была поставлена проблема роста гражданского и национального самосознания русского народа. В них слышатся неприкрытые сарказм и негодование в адрес правительства и ближайшего окружения царя, которые не решились объявить войну народной: «Дух пробуждается, души готовы. Народ просит воли, чтоб не потерять вольности. Но война народная слишком нова для нас. Кажется, ещё боятся развязать руки. До сих пор нет ни одной прокламации, дозволяющей собираться, вооружаться и действовать, где, как и кому можно».
На протяжении всех восьми частей «Писем русского офицера» проводится мысль о неправедности огромных владений и имуществ, сосредоточенных в немногих руках: «Богачи нашего времени! Какой ответ дадите вы, если голос царя небесного или голос отечества спросит вас: „Где деваете вы свои имения?“»
В «Письмах русского офицера» чётко проведена мысль о бесправии русского народа, его бедственном материальном положении, о «дымной избе поселянина». Но огромная заслуга Глинки заключается в другом: он сумел показать, насколько важную роль сыграла война 1812 года в развитии народного самосознания. В «Письмах русского офицера» со всей определённостью наметилось перерастание патриотизма эпохи Отечественной войны в гражданское обличение внутренних язв России. В шестой части «Писем» Глинка предлагал обсудить:
В этих вопросах сказалось мироощущение будущего активного члена первых декабристских организаций. Глинке пришлось подумать о завершении своей эпопеи в письмах, и он прибег к иносказательной форме. В восьмой части «Писем» Фёдор Николаевич спрятал фрагмент, который называл «Фантасмагорией» – мудрый старец просвещает неопытного юношу. Он «живыми примерами» объясняет «великое таинство правления судьбою народов» и указывает юноше самое восхитительное зрелище, картину народа благоденствующего: «…край благословенный: обильные жатвы морями волнуются по необозримому пространству возделанных полей; тучные стада пестреют на злачной зелени долин; города наполнены народом, заливы покрыты кораблями, а реки множеством судов; везде слышны гласы жизни и песни радости». Показывая на эту процветающую страну, престарелый наставник говорит: «Столь счастлива бывает страна, когда управляет ею государь мудрый!» И тут же мудрый старик обращает внимание на картину страданий «народа бедствующего».
Писатель не был свободен в своём творчестве и на страницах «Писем русского офицера» сказал не всё, что хотел. Но до нас дошли его походные книжки, то есть черновые наброски к «Письмам» (они хранятся в Центральном государственном литературном архиве, фонд 141). В них мы находим заметку «Выезд из Парижа». В ней Глинка подвёл итоги своим впечатлениям о загранице: «Революция раздражила страсти, воспламенила головы. Бедные офицеры… могут ли смотреть спокойно из убогих изб своих, как богачи станут пировать на дачах своих. Революция уже много уровняла состояние. Здесь всё ещё тесно жить. Быть чему не есть во Франции… Фитиля нет, а порох остался»
Сравнение Западной Европы с Россией было не в пользу последней, но повторения опыта Франции писатель не хотел – Французская революция и радовала, и настораживала его: «В XVIII столетии посеяно много семян разного достоинства. Они понемногу всходили и взошли, созревали и созрели. Пришла Французская революция, сняла жатву, и началась молотьба. Стук цепов слышен был по всей Европе. Наконец, сгребли всё, как водится, в кучу и начали веять, западные ветры благоприятствовали. Но по закону тяготения лучшие зёрна, если они были и есть, остаются на месте, а пыль и полова летит далеко.
Мы, удалённые от центра нового просвещения, ни одну ли только пыль и полову глотаем. Свобода, равенство, братство были только на языке и в мечтах, а смерть на самом деле».
С окончанием войны Глинка связывал социальные изменения в жизни русского народа, но с сожалением должен был констатировать в последних главах «Писем русского офицера», что на Родине по-прежнему миллионы простых людей страдают и бедствуют, живут в нищете и бесправии.
…С выходом в свет «Писем русского офицера» Глинка стал признанным писателем, занявшим прочное место в отечественной литературе. Небывалая популярность этой книги объясняется её проблематикой и жанром. При всей, казалось бы, ориентации «Писем» на жанр путешествий, в них есть свои существенные отличия. Во-первых, появляется новый тип рассказчика. Это не просто праздный путешественник, коллекционирующий свои впечатления о чужих землях, интеллектуал, смакующий игру ума европейских знаменитостей, пикантные подробности политической жизни. Пожалуй, в «Письмах» Глинки больше радищевского острогражданского пафоса, «уязвлённости человеческими страданиями». Путешественник Глинки неразрывно связан с историческим процессом, реалиями своего времени.
Предшественники Фёдора Николаевича попеременно описывают то Россию, то Европу – но не держат в поле зрения и то и другое, сплетая воедино впечатления как от русской, так и от европейской действительности.
Автор писем как бы всё время поверяет русскую жизнь европейскими проблемами – и наоборот, тем самым значительно расширяя проблематику традиционных «записок», придаёт повествованию и внутреннее разнообразие, и напряжение. «Письма русского офицера» не поддаются заключению в рамки строгого жанра. В текст вкраплены и повесть, и анекдот, и разные виды лирических описаний. При этом не всегда соблюдается строгая хронология событий.
Так, в пятой главе, посвящённой заграничному походу русской армии, Глинка поместил «Выписки, служащие объяснением прежних описаний 1812 года». Выписки эти взяты им явно из описанных авангардных и арьергардных сражений. Над ними он работал в Рейхенбахе, то есть отнюдь не у бивачного костра. Там же была написана небольшая повесть о герое польского народа Т. Костюшко («Черты из жизни Тадеуша Костюшки»), вошедшая в шестую главу «Писем».
Глинка принимал участие только в начальном периоде заграничного похода, но в седьмой главе «Писем» даёт дальнейшее развитие событий 1813–14 годов: «Описание Силезии и военных действий союзников за Рейном до взятия Парижа». Значит, и это «описание» делалось не в походе, а за рабочим столом в Сутоках по воспоминаниям сослуживцев и из каких-то публикаций.
В «Письмах» много внимания уделяется странам, в которых довелось побывать Фёдору Николаевичу, но всё же тема войны является преобладающей. Причём ракурс изображения войны постоянно меняется: то повествование ведётся от лица непосредственного участника событий, то описание даётся со слов очевидца, то возникает оформленное в виде отдельного очерка некое размышление – обобщение о воинском искусстве вообще, русских и французов в частности.
Под пером Глинки строгое документированное повествование перерастает иногда в субъективное лирическое воспоминание, что сближает его как стилиста не только с Карамзиным, но и с Батюшковым и Жуковским.
«Письма русского офицера» стали отправной точкой для целого ряда путешествий и писем конца 1810-х годов: «Письма другу в Германию» А.Д. Улыбышева, «Походные записки русского офицера» И.И. Лажечникова, «Записки Д. Давыдова», «Записки кавалерист-девицы» Н. Дуровой. Разработка Глинкой жанра военных записок имеет непреходящее значение для русской литературы. Более того: значение «Писем русского офицера» выходит за рамки национальной литературы и вписывается в широкий европейский контекст. Одним из примеров чего является книга знаменитой противницы Наполеона мадам де Сталь «Dix Années d’exil» («Десять лет изгнания»), обращённая к событиям 1812 года и восславляющая героизм русского народа.
«Письма русского офицера» были одной из самых читаемых книг в эпоху борьбы с Наполеоном; её можно было увидеть и в дворянских усадьбах, и в избах крепостных крестьян. Один из современников Глинки вспоминал: «Письма эти при появлении своём имели блистательный успех; они с жадностью читались во всех слоях общества, во всех концах России. Красноречивое повествование о свежих ещё, сильно волновавших событиях, живые яркие картины, смело нарисованные в минуту впечатлений, восторженная любовь ко всему родному, отечественному, и к военной славе, всё в них пленяло современников. Я помню, с каким восторгом наше, тогда молодое, поколение повторяло начальные строки письма от 29 августа 1812 года: “Застонала земля и пробудила спавших на ней воинов. Дрогнули поля, но сердца покойны были. Так началось беспримерное сражение Бородинское”».
Основная заслуга Глинки как автора «Писем русского офицера» состоит в том, что он показал народный характер войны 1812 года, показал героизм и мужество русского народа в борьбе за независимость родины. Из записок современников «Письма» Глинки можно сопоставить только с «Дневником партизанских действий 1812 года» Дениса Давыдова.
Установка на реалистическую верность и правдоподобие изображаемых картин придаёт «Письмам русского офицера» значение исторического документа, по которому можно судить о движущих силах и характере Отечественной войны. Со страниц «Писем русского офицера» война 1812 года выглядит подлинно народной войной: народ, творящий свою историю, был главным участником исторического события. Не трескучие морозы, а героизм и самоотверженность русского народа спасли Россию от покорения французами и обеспечили ей национальную независимость.
И тем не менее потомки не баловали Глинку своим вниманием. С 1815 по 1942 год «Письма русского офицера» издавались (за 127 лет!) только один раз. В последний вспомнили о писателе-патриоте только на второй год Великой Отечественной войны. И с этого года творчество Фёдора Николаевича вновь стало достоянием народа.
«Зачем ты послан был?..»
Наполеон в творчестве А.С. Пушкина
«О, страх! О грозные времена!» События 1812 года и заграничные походы русской армии (до «Парижу», по выражению императрицы Елизаветы Алексеевны) заняли немалое место в творчестве великого поэта начиная с лицейских лет. О начале войны Александр и его сокурсники узнали из манифеста от 13 (25) июня. Царь взывал ко всем подданным, ко всем сословиям и состояниям, духовным и мирским, призывая их «единодушным и общим восстанием содействовать против всех вражеских замыслов и покушений». Манифест содержал знаменитую фразу «Соединитесь все: с крестом в сердце и с оружием в руках никакие силы человеческие вас не одолеют».
Светскую власть поддержала церковь. Священный синод выпустил воззвание, которое вместе с царским манифестом читалось во всех храмах страны. В воззвании Наполеон именовался «властолюбивым, ненасытным, не хранящим клятв, не уважающим алтарей врагом, который покушается на нашу свободу, угрожает домам нашим и на благолепие храмов божьих простирает руку».
Царский манифест и воззвание Синода сыграли немалую роль в духовном вооружении населения России. Пушкин говорил: «Известие о нашествии и воззвание государя поразили нас». Преподаватели держали своих подопечных в курсе военных событий, и весной 1814 года Александр и его сокурсники узнали о взятии Парижа и ссылке императора французов на остров Эльба. Пушкин откликнулся на это событие следующими строками в поэме «Бова»:
Это было первое обращение юного поэта (ему только-только исполнилось пятнадцать лет) к личности Наполеона.
…В октябре в лицее должны были пройти экзамены для перевода учащихся с младшего трёхлетнего курса на старший.
Профессор российской и латинской словесности предложил Пушкину написать к экзаменам подобающее случаю стихотворение. К намеченному сроку оно было готово – «Воспоминания в Царском Селе». Но экзамены перенесли на начало следующего года – на 8 января 1815-го. Испытания проходили в присутствии многочисленных гостей, среди которых были Г.Р. Державин и высокие чины империи. Юный поэт покорил их буквально с первой строфы стихотворения:
Наполеон
В стихотворении много деталей, связанных с пейзажами Царскосельского парка и памятниками эпохи Екатерины II. Упоминание последних подготавливает читателя к главной теме – описанию основных событий Отечественной войны 1812 года и «дерзости венчанного царя»; бича вселенной, которого поэт предупреждает:
В следующих строфах стихотворения повествуется о главных эпизодах Отечественной войны:
В этой строфе хромает логика: побежал и вдруг оказался в Московском Кремле, сердце России. Но здесь следует вспомнить, что логики не было и в официальных документах, исходивших из штаба М.И. Кутузова. Его первое сообщение царю было о том, что неприятель отражён на всех пунктах и русская армия удержала за собой все занятые ею позиции. В Петербурге восприняли донесение главнокомандующего как рапорт о победе, а через неделю (!) узнали о падении старой столицы. Эту двойственность в восприятии Бородина мы видим и в стихотворении лицеиста Пушкина.
Обращает на себя внимание характеристика юным поэтом Наполеона – сильный в боях. То есть если император французов для своих соотечественников тиран, то на военном поприще он непревзойдённый полководец, подчинивший своей власти почти всю Западную Европу и впервые потерпевший поражение в России:
Здесь Пушкин несколько опередил события: Наполеон никуда не исчезал, а вёл борьбу с Россией, Австрией и Пруссией до марта 1814 года, о чём мы читали в следующей строфе стихотворения:
Маршал Мармон вручает Александру I ключи от Парижа
Восстание Бича Европы! Вскоре после падения Парижа Наполеон отрёкся от престола Франции. В качестве «откупного» союзники выделили в его управление Эльбу, остров вблизи его родной Корсики. В начале июня 1814 года вчерашний владыка Европы вступил во владение им.
Низвержение Наполеона и изгнание его из цивилизованного мира были долгое время предметом удивления и досужих рассуждений самых широких масс населения Старого Света. Откликнулся на них и Пушкин, написав стихотворение «Наполеон на Эльбе». В нём изгнанник Европы представлен погруженным в размышления, которые отнюдь не обещают счастья человечеству:
Из исторических трудов известно, что в первые месяцы пребывания на острове фактический узник активно обустраивал его и не собирался никуда бежать. Но пятнадцатилетний юноша не допускал и мысли о том, чтобы столь активный и успешный государственный деятель смирился со своим унизительным положением.
Наполеону везло в жизни, и он считал, что родился под счастливой звездой, и вдруг счастье («злобный обольститель») изменило ему:
Долгое время императора терзал вопрос: где и когда начались его неудачи? Конечно, он знал ответ на него – в России. Но надменный завоеватель не хотел признать победу над собой «этих варваров» и лгал сам себе. Следом лгали многие историки. Но юный поэт по свежим следам назвал источник всех бед бича Европы:
Как известно, с Эльбы Наполеон бежал и без единого выстрела за двадцать дней вновь овладел Францией, вогнав в ступор монархов Европы, которые собрались в Вене и весело проводили время. Юный поэт предсказал и это:
Как показали дальнейшие события, на гробах соотечественников великий человек сидеть не захотел, но Пушкин правильно предсказал, что великий воитель не смирится с его отторжением от власти и цивилизации. В этом стихотворение «Наполеон на Эльбе» поистине стало пророческим. Современному читателю может показаться странным видение поэтом жизненных перспектив узника Европы: водрузиться в отвоёванной короне на гробы! А вновь покорённые народы видеть перед собой поверженными в прах: «Уж мир лежит в окопах предо мной».
Такое нетривиальное восприятие личности Наполеона объясняется тем, что в России того времени господствовала «чёрная легенда» о французском императоре, одной из характерных черт которой была его демонизация. Русская православная церковь придавала противоборству России и Франции религиозный священный смысл. Поэтому в печати можно было встретить такое: «Кровожадный, ненасытный опустошитель, разоривший Европу от одного конца её до другого! Ты восседаешь на престоле своём посреди блеска и пламени, как Сатана в средоточии ада, препоясан смертью, опустошением и пламенем» («Сын Отечества», 1812/1).
В устных проповедях Наполеона прямо называли антихристом, пришедшим в Россию за многие грехи наши.
Преуспели в этом и учёные мужи, путём цифровой эквилибристики доказавшие, что по древнееврейскому исчислению имя Наполеон соответствует 666, а это число зверя, то есть антихриста. Духовная и мирская пропаганда подкреплялись фактами кощунственного отношения завоевателей к православным храмам (молодые французы в основном были неверующими, то есть безбожниками). Словом, лицеисту четвёртого курса сложно было в характеристике французского императора выйти за рамки пропаганды десятых годов XIX столетия.
И ещё. Стихотворение «Наполеон на Эльбе» писалось в самом начале знаменитых «Ста дней» – второго правления Наполеона, покинувшего остров 26 февраля 1815 года. Общая обстановка в Европе была тревожной. Против Франции, с такой охотой избавлявшейся от Бурбонов, формировалась миллионная армия, нацеленная на её границы. Страна, истощённая 20-летними войнами, могла противопоставить союзникам не более 300 тысяч человек. Мир затаил дыхание в предчувствии новых бедствий и жертв.
Пушкин явно колебался в решении вопроса: чья возьмёт? С одной стороны, уверял читателей в неизбежном поражении великого воителя: «Трепещи! Погибель над тобою!» А с другой констатировал: «И жребий твой ещё сокрыт!» Увы, раскрытия судьбы баловня побед ждать оставалось недолго.
«Ты человечество презрел». Весной 1821 года в Кишинёве[6] взахлёб читали и перечитывали статью из «Гамшейрского телеграфа», перепечатанную во многих российских газетах. В ней было сказано, что Бонапарт, с некоторого времени находившийся в опасной болезни, изъявил желание говорить с губернатором острова Святой Елены Гудсоном. Из этого делался вывод, что Наполеон почувствовал близкое приближение смерти.
Действительно, 5 мая камердинер императора Луи-Жозеф Маршан записал: «В 5:50 после полудня послышался пушечный выстрел, служивший сигналом отбоя. Солнце, блеснув своим последним лучом, скрылось за горизонтом. Это был также тот самый момент, когда великий человек, властвовавший своим гением над всем миром, был готов облачиться в свою бессмертную славу. Тревожное состояние д-ра Антоммарки достигло предела: рука стала ледяной. Д-р Арнотт подсчитывал секунды между вздохами; сначала пятнадцать секунд, потом тридцать, затем прошло шестьдесят секунд. Императора больше не было!»
В России узнали об этом в середине лета. 18 июля Пушкин отметил в дневнике: «Известие о смерти Наполеона». Кончина недавнего повелителя Европы подвигла Александра Сергеевича на создание стихотворения «Наполеон». В лицейские годы поэт, как и все вокруг него, считал императора Франции «кровавым тираном» и «антихристом». Но восстановление на престоле Бурбонов, репрессивные деяния Священного союза, революции в Испании, Италии, Португалии и Греции пошатнули престиж европейских монархов, победителей Наполеона.
Вникая в суть политических событий, Пушкин всё больше осознавал, что у владык Запада были чисто эгоистические цели в их противостоянии Франции и её главе: сражаясь против Наполеона, они защищали власть автократии, свою шкуру. Наполеон же при всех оговорках был наследником Великой революции, и популярность его росла с каждым днём. Покинув бренный мир, он стал легендой, а его жизнь и деятельность – темой для славословия. Но, конечно, не в печати королевской Франции. К стихотворению «Наполеон» Пушкин предпослал эпиграф: «Ingrata patria»[7].
В блестящей художественной форме поэт прослеживает жизненный путь Наполеона, начиная от революции, получившей позднее название «Великая французская»:
Пушкин преклонялся перед этим эпохальным событием и нигде больше с таким увлечением и силой не говорил о Французской революции, породившей Наполеона:
В этих строках поэт укорял своего героя, несколько опережая события, ибо в первые годы революции будущий властелин Европы был всего лишь бедным офицериком, перебивающимся с хлеба на воду. Тут было не до амбиций.
Двадцатилетний Бонапарт встретил революцию с энтузиазмом: Декларация прав обещала продвижение на службе революции исключительно по способностям индивида. А больше ему ничего не требовалось – в себе молодой лейтенант был уверен. Но довольно скоро его революционный пыл угас, и 20 июня 1792 года со всей очевидностью проявилось презрение дворянина к толпе. В этот день парижане ворвались на территорию дворца Тюильри. «Пойдём за этими канальями», – предложил Бонапарт товарищу.
Когда перепуганный король Людовик XVI, напяливший на голову фригийский колпак (символ революции), из окна дворца поклонился толпе, Наполеон бросил с презрением: «Какой олух! Как можно было впустить этих каналий! Надо было смести пушками пятьсот-шестьсот человек, остальные разбежались бы!»
В этом пренебрежении к простонародью сказались гены старинного (но обнищавшего) дворянского рода; оно же позвало Наполеона в период его уникальных «Ста дней». Что касается презрения человечества, то это произошло позже – со славой и завоеваниями. Об этом следующие строки стихотворения:
Наполеон усмирил бушевавшую целое десятилетие революционную бурю (1789–1799), а затем пятнадцать лет успешно отражал все поползновения европейских держав покорить Францию и возродить в ней власть Бурбонов.
– Поведение всех правительств по отношению к Франции, – говорил император, – доказало мне, что она может полагаться лишь на своё могущество, то есть на силу. Я был вынужден поэтому сделать Францию могущественной и содержать большие армии. Не я искал Австрию, когда, озабоченная судьбой Англии, она вынудила меня покинуть Булонь, чтобы дать сражение под Аустерлицем. Не я хотел угрожать Пруссии, когда она принудила меня пойти и разгромить её под Иеной.
Словом, в создании могучей армии и успешном отражении семи (!) коалиций иноземцев ничего криминального не было: защита отечества – священный долг любого народа. А все семь коалиций начинали войны с Францией первыми, и Наполеон резонно говорил по этому поводу: «В чём можно обвинить меня, чему не было бы оправдания? В том, что я всегда слишком любил войну? Так я всегда только защищался».
Слова «Аустерлиц» и «Тильзит» долго резали слух каждого русского человека, о чём мы и читаем в следующих строках стихотворения:
В 1812 году русские вполне рассчитались с Наполеоном и за Тильзит, и за Аустерлиц. Это было для поэта в порядке вещей, но он не мог понять, как великий воитель, при его незаурядном уме, решился на такой шаг, как поход в Россию. Уникальные данные императора Франции отмечали многие, даже коварный, лживый Шарль Морис де Талейран-Перигор, ненавидевший Наполеона и пытавшийся организовать его убийство, говорил: «Его гений был поразителен. Ничто не могло сравниться с его энергией, воображением, разумом, трудоспособностью, творческими способностями».
Мысль Пушкина билась над вопросом: кто обуял (затмил) дивный ум прославленного полководца и государственного деятеля? Причин этому было немало, но главная – Индия, как слабое звено цепи британских завоеваний. Наполеон считал Александра I слабым правителем и трусливым человеком, окружённым сановниками, готовыми предать его при всяком удобном случае. О такой возможности царь писал своему главному сопернику: «Земля тут трясётся подо мною. В моей собственной империи моё положение стало нестерпимым».
Очень низкого мнения был воитель в целом и о России: «Варварские народы суеверны и примитивны. Достаточно одного сокрушительного удара в сердце империи – по Москве, матери русских городов, Москве златоглавой, и эта слепая и бесхитростная масса падёт к моим ногам».
Наполеон привык к тому, что европейские государства просили мира после первого же серьёзного поражения. Так, полагал он, будет и с царём, после чего легионы Великой армии хлынут в долины Ганга. Представителю нарождавшейся буржуазии, класса стяжателей, и в голову не могло прийти, что русские с остервенением будут жечь свои города и веси, не сделав исключение даже для старой столицы:
Надменный завоеватель не понял народного характера войны, навязанной им России, и одной из причин своего поражения считал гибель старой столицы. «Не будь московского пожара, – говорил он, – мне бы всё удалось. Я провёл бы там зиму. Я заключил бы мир в Москве или на следующий год пошёл бы на Петербург. Мы думали, что нас ожидает полное благосостояние на зимних квартирах, и всё обещало нам блестящий успех весной. Если бы не этот роковой пожар…»
Второй, главной, причиной гибели Великой армии, по убеждению Наполеона, были русские морозы и связанный с ними голод:
Словосочетанием «железный венец» Пушкин напоминал современникам, что Наполеон был не только императором Франции, но и королём Италии, а по сути – полным властелином Западной Европы, которая (после поражения в России) поднялась против его владычества:
«Длань Немезиды» – рука мщения, которая простёрлась над завоевателем в октябре 1813 года под Лейпцигом, где в трёхдневном сражении он потерпел страшное поражение. В историю это кровавое побоище вошло под названием «Битва народов». Следствием её стали вторжение союзных войск (России, Австрии и Пруссии) на территорию Франции и низложение Наполеона.
Император был сослан на Эльбу, но менее чем через год бежал оттуда и вновь захватил престол Франции. Пятнадцатилетняя эпопея завершилась второй ссылкой, и опять на остров, но на этот раз предельно удалённый от всех очагов цивилизации.
К 1821 году многие из тех, кто интересовался судьбой Наполеона, знали о его нелёгком положении на острове Святой Елены: тяжёлый убивающий день за днём климат, примитивные бытовые условия, всяческие притеснения местной власти; отсутствие активной деятельности, которой была наполнена вся его жизнь, тоска по семье и, наконец, болезни, изнурявшие физически.
Вращаясь с лицейских лет в военной среде, Пушкин всё это знал и, как истинно русский человек, сострадал поверженному врагу:
Двадцатидвухлетний поэт мыслил уже мировыми масштабами, и при всём негативе, обрушенном на изгнанника официальной пропагандой (особенно во Франции), понимал значение личности усопшего императора:
Характерны эпитеты, которыми Пушкин аттестует героя стихотворения: «великан», «великий человек», «баловень побед», обладатель дивного и отважного ума, веривший в свой «чудный день»; личность, обречённая на бессмертие, но не на прощение:
Разделив деяния Наполеона как тирана, которого будут помнить по пролитой им крови, и его человеческие качества, поэт призвал к примирению с тенью усопшего:
Более того, стихотворение заканчивается по существу здравицей в честь того, кто оставил вдовами и сиротами не одну сотню тысяч россиян:
Этими строками Пушкин наводил современников на мысли о том, что дала стране титаническая борьба с Наполеоном. Прежде всего – рост её политического престижа. Российская империя заняла подобающее ей место в мировой политике как великая держава. Потрясения 1812 года способствовали пробуждению национального самосознания русского общества, его нравственному раскрепощению и росту вольномыслия, к чему очень и очень был склонен гениальный поэт. А рост самосознания, в свою очередь, способствовал расцвету русской культуры, давшей миру десятки выдающихся писателей, художников, композиторов и артистов.
Что касается самого Пушкина, то тема Наполеона вывела его лирику на мировые просторы и раскрыла в нём поэта-историка.
«И делу своему владыка сам дивился». Падение Наполеона стимулировало создание Священного союза ведущих держав Европы (Австрия, Пруссия, Россия). Главной задачей Союза было подавление революционных и национально-освободительных движений. Россия занимала в Священном союзе первое место. Александр I с тайным удовлетворением взял на себя роль жандарма Европы. Это, конечно, не улучшало отношения Пушкина к «достойному внуку Екатерины».
На рубеже 1823–1824 годов Александр Сергеевич работал над стихотворением «Недвижный страж», в котором выразил своё отношение к российскому императору, сопоставив его с Наполеоном:
«Недвижный страж» и «владыка севера» – это русский император, только что вернувшийся с очередного конгресса Священного союза, который простёр кипучую деятельность от своей летней резиденции (Царского Села) до бурных вод Атлантического океана. Александр I, игравший руководящую роль в Союзе, доволен: «Се благо». Что именно? Читайте:
В одну строфу стихотворения вмещена треть века истории Западной Европы – от французской революции с террором якобинцев до революционных движений начала 1820-х годов в Греции, Неаполитанском королевстве и Испании. И в этот исторический период «самовластие лишь север укрывал», то есть Россия. И «се благо»!
Александр I
Пушкин с иронией вставил во вторую строфу это библейское выражение: «И увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма…», «Се благо, думал Он, и взор его носился» (Бытие I: 31, II, 310).
Размышления «владыки севера» полны мстительного торжества:
Для самодержца народ – безумная толпа, из среды которой временами выделяются говоруны, которые не способны на реальное действие, требующее мужества и жертвенности.
А потому их (народов) удел – целовать «жезл России», то есть благоговейно склониться под поправшую их силу («железную стопу»). Но неожиданно столь бодрящие размышления «недвижного стража» Европы встревожил неведомо откуда повеявший дух, и «владыку севера» объял мгновенный хлад; «раздался бой полночи», и перед ним предстал незваный гость:
В посланнике проведения легко узнаётся император Наполеон, пришедший к власти после вакханалии революции и ввергший Европу в череду кровопролитных войн, завершившихся отречением от престола и ссылкой на остров Святой Елены. Человек чрезвычайно деятельный, он был обречён на медленное умирание, будучи отлучён от своих многогранных обязанностей по умиротворению и управлению покорёнными государствами, что весьма отрицательно сказалось на его физическом состоянии:
То есть перед торжествующим «владыкой севера» предстал отнюдь не мученик злорадствующих монархов Европы:
Стихотворение «Недвижный страж» осталось незаконченным, но и из того, что мы имеем, можно сделать некоторые выводы. Обоих императоров (и здравствовавшего, и усопшего) Пушкин представил на вершине их могущества. Но первый из них – фактический душитель революционных движений в Европе, а второй – воин с чудным взором, «живой, неуловимый», «грозящий», такой, каким был в дни своих высших торжеств – при Аустерлице и в Тильзите.
В сражении при Аустерлице Наполеон наголову разгромил союзную русско-австрийскую армию. Русские потеряли 21 тысячу человек убитыми и пленными, 199 орудий, французы – до 12 тысяч человек. Среди пленных оказались восемь русских генералов. Александр I бежал с поля битвы. С ним были врач, берейтор[8], конюший и два лейб-гусара. Когда царь остался с одним гусаром, он слез с лошади, сел под дерево и разрыдался – это было первое с Нарвы генеральное сражение, проигранное русскими, и, конечно, реакция в стране была на случившееся самая негативная.
В 1807 году в Тильзите был заключён довольно приемлемый для России мир. Но и там Александр I умудрился получить оплеуху. Перед расставанием императоры обменялись высшими наградами своих держав. Царь попросил орден Почётного легиона для генерала Л.Л. Беннигсена. Наполеон, не называя причины, отказал (как он говорил позднее, ему «было противно, что сын просит награду для убийцы своего отца»). Александр изменился в лице, поняв свой промах (кстати, это был второй случай, когда Наполеон напоминал царю о кровавом пятне в его венценосной биографии).
Великий поэт явно отдавал предпочтение Наполеону, для него он герой «во цвете здравия и мужества и мощи». Александр же – лживый, подлый и коварный неудачник, волей случая вознесённый на самый верх монархического олимпа Европы.
Он душитель свободы народов, которые для него всего лишь «безумная толпа». А для Пушкина понятие «свобода» было священно, поэтому такое обострённое неприятие им императора Александра I, главного организатора и руководителя Священного союза, подавившего народные движения начала 1820-х годов.
Пожалуй, нигде и никогда осуждение Александра за его негативную роль в подавлении либерального движения в Европе не звучало у Пушкина столь определённо, как в стихотворении «Недвижный страж». На фоне демонстративного и наглого попрания царём воли народов даже Наполеон, оставивший после себя гекатомбы трупов, оказался для Пушкина фигурой более предпочтительной, чем правитель собственной страны. Для поэта Наполеон – венчанный воин, строитель мировой империи на основе великих идей Французской революции.
«Вещали книжники, тревожились цари». Начало 1820-х годов – апогей культа почившего императора Франции и повелителя Европы. Начало ему положил граф Лас-Каз своим трудом «Мемориал Святой Елены». О содержании его он говорил: «Неспособный выносить национальную деградацию[9], свидетелем которой он был каждый день в окружении вражеских шпионов, я решился направить мои мысли в сторону от всех картин бедствий в стране».
За работой Лас-Каза появились воспоминания соратников покойного императора, способствовавшие возрождению национального интереса к этой неоднозначной фигуре мировой истории. Не остался в стороне и наш великий поэт:
Вопросом о ниспослании землянам «чудесного посетителя» поэт сразу вводит нас в мир мистических измерений: необъяснимое появление великого человека и столь же таинственное его исчезновение. Игнорируя реалии событий, Пушкин отвергал ординарность личности великого воителя и государственного деятеля. В интерпретации поэта Французская революция – знак свыше о появлении необыкновенного деятеля:
Эта строфа по смыслу и тональности очень близка следующим евангельским строкам: «Ирод царь встревожился… И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: где должно родиться Христу» (Матфей, 2: 3–4). Сближение двух явлений (рождения Иисуса Христа и Наполеона Бонапарта) как бы уравновешивало их и отвечало на вопросы, поставленные в начале стихотворения. Зачем послан? Для великих деяний. Добрых или злых? И тех и других.
Наполеона упоминают чаще всего как непревзойдённого полководца, как гения военного искусства. При этом в вину ему вменяют покорение народов, захват некоторых территорий и наложение определённых обязательств на побеждённые страны.
Но территории, приобретённые Францией в результате Наполеоновских войн, не идут ни в какое сравнение с колониальными завоеваниями Англии, ставшей империей, в которой не заходило солнце. Захватом чужих земель расширяла свои владения маленькая североамериканская республика, ставшая владычицей целого континента. Войнами увеличивала свои немалые владения и Россия – Финляндия, восточная часть Польши (герцогство Варшавское), позднее – Северный Кавказ и Средняя Азия.
На протяжении столетий захват чужих территорий был рядовым явлением, этим гордились, а не плакались по судьбе покорённых народов. И с этой точки зрения Наполеон не совершил ничего предосудительного. К тому же все его войны с ведущими державами Европы были оборонительными – он защищался от антифранцузских коалиций, в которые в основном входили Австрия, Англия, Пруссия и Россия.
Конечно, в абстрактном смысле – безусловное зло, но всякое явление конкретно, поэтому нельзя все войны, которые вёл Наполеон, чохом относить к завоевательным. Таковыми в чистом виде были только Испанская война и Отечественная война 1812 года. Тут оправданий у великого воителя нет.
Но были у завоеваний Наполеона и положительные моменты. На первых порах его армия несла народам Европы идеи великой революции – свободу, равенство, братство. Это способствовало упразднению крепостничества в немецких государствах и принятию буржуазного права. Сказывалось и влияние французской культуры.
Конечно, народы покорённой Европы роптали, были отдельные выступления против французского владычества, но не было того, что последовало вскоре после свержения Наполеона с престола – почти одновременные восстания в Неаполитанском королевстве, Пьемонте, Испании и Греции. Монархи Европы инстинктивно почувствовали в них влияние революционных идей, принесённых на штыках наполеоновских солдат, и жестоко подавили народные движения. Наступила реакция:
Каждое явление имеет две стороны – светлую и тёмную. Это мы и видим на примере Наполеоновских войн, о которых хорошо сказал А.И. Герцен: «Я не могу равнодушно пройти мимо гравюры, представляющей встречу Веллингтона с Блюхером в минуту победы под Ватерлоо. Я долго смотрю на неё всякий раз, и всякий раз внутри груди делается холодно и страшно… Веллингтон и Блюхер приветствуют радостно друг друга. И как им не радоваться! Они только что своротили историю с большой дороги по ступицу в грязь, и в такую грязь, из которой её в полвека не вытащат… Наполеон “додразнил” другие народы до дикого бешенства отпора, и они стали отчаянно драться за свои рабства и своих господ».
Победа седьмой антифранцузской коалиции отрицательно сказалась в социально-экономическом плане: на несколько десятилетий в континентальной Европе был заторможен процесс развития капитализма. И тут мы подходим к ответу на вторую часть вопроса, которым задавался (и конечно, не случайно) А.С. Пушкин: «Чего, добра иль зла, ты верный был свершитель?»
Восемь лет (1816–1824) Александр Сергеевич вращался в военной среде. Сначала это была молодёжь лейб-гвардии Гусарского полка, позднее – более зрелые офицеры 16-й пехотной дивизии генерала М.Ф. Орлова. И тем и другим было что порассказать весьма любознательному поэту – его вольнолюбивые стихотворения рождались не на пустом месте.
Были беседы и об экономическом положении германских государств и Франции (Орлов позднее даже издал книгу «О государственном кредите»). Военных они занимали меньше, но не Пушкина с его взыскующим умом, не довольствовавшимся официальной пропагандой. Разница здесь была более чем существенной. Обратимся к фактам.
Много говорилось и писалось об обезлюдении Франции. На самом деле при Наполеоне её население (без присоединённых территорий) увеличилось на три миллиона человек (на 12 %). Страна превратилась в экспортёра зерна, растительного и сливочного масла. Производство шёлка увеличилось в 11 раз. Впервые в мире было налажено производство сахара из свёклы. К 1813 году во Франции было 334 свекольно-сахарных завода. В два раза выросло производство стали, в пять раз – угля.
Франция покрылась сетью дорог и каналов. Дороги связали Париж с Миланом (через Альпы), Турином, Испанией и Италией. В Париже были построены рынки, бойни, общественные здания, фонтаны, ликвидирован дефицит воды. Наполеон хотел сделать из него мировой центр цивилизации. Суровый воин и жёсткий правитель говорил: «Иногда мне хочется, чтобы Париж стал городом с двумя, тремя, четырьмя миллионами жителей, чем-то сказочным, колоссальным, невиданным до наших дней, и чтобы общественные учреждения в нём соответствовали количеству населения».
Но император заботился не только о Париже – шесть миллионов франков было потрачено на реставрацию памятников Рима. Всего на общественные работы ушло более миллиарда франков (общественные работы – это реставрация зданий, обновление портов, строительство дорог и мостов, мелиорация, строительство больниц и приютов, содержание музеев).
Скучать французам не приходилось. И не случайно рабочие с окраин Парижа на протяжении многих лет после низвержения Наполеона выходили на улицы города с криками «Да здравствует император!».
Словом, интуицией гения Пушкин понял двойственность деяний другого гения, и у него не хватило решимости бесповоротно осудить его в атмосфере наступившей реакции.
Кстати. Пушкину очень повезло, что в Кишинёве он очутился в военной среде и имел возможность черпать сведения о событиях 1812–1815 годов от непосредственных участников их. Особенно это относится к Отечественной войне, к которой Александр Благословенный отнюдь не благоговел (и который, по выражению Пушкина, «в 1812 году дрожал» и фактически был отстранён от руководства армией). И причины для этого были. Александра I связывали с 1812 годом самые мрачные ассоциации: ослабление в чрезвычайных военных условиях режима неограниченной власти, падение личного авторитета и острая, разделяемая царской семьёй критика в его адрес в разных слоях общества, угроза смещения с престола. Даже заграничные походы, в которых царь после смерти Кутузова играл главенствующую роль, как победитель Наполеона, «освободитель» и миротворец Европы, не могли сгладить тяжкие впечатления лета и осени 1812 года. Наконец, на события этого года неизгладимую печать накладывала атмосфера народной войны, пробудившая дух независимости и гражданских настроений, принципиально несовместимых с политической системой самодержавия и сословно-крепостным строем.
После окончательного сокрушения Наполеона Александр I проявил явное желание заслонить значение 1812 года последующими событиями, представив великую народную войну лишь как одну из серий кампаний, имевших главным политическим итогом вступление русского царя в Париж. Этой тенденцией были проникнуты планы царя по созданию истории Наполеоновских войн, порученной А. Жомини.
А.И. Михайловский-Данилевский, флигель-адъютант царя, сопровождавший его в Москву, когда там торжественно праздновалась годовщина Бородинского сражения (1817), был оскорблён в своих патриотических чувствах при виде того, «как 26 августа государь не только не ездил в Бородино и не служил в Москве панихиды по убиенным, но даже в сей великий день, когда почти все дворянские семейства в России оплакивают кого-либо из родных, павших в бессмертной битве на берегах Колочи», предавался увеселениям на балу графини А.А. Орловой-Чесменской.
Глубоко неодобрительно писал Михайловский-Данилевский, подытоживая наблюдения прежних лет над поступками Александра I: «Император не посетил ни одного классического места войны 1812 года: Бородина, Тарутина, Малого Ярославца и других, хотя из Вены ездил на Ваграмские и Аспернские поля, а из Брюсселя – в Ватерлоо. Достойно примечания, что государь не любит вспоминать об Отечественной войне и говорить о ней». В более поздних воспоминаниях, уже в конце 1820-х годов, окидывая общим взором царствование Александра I, Михайловский-Данилевский с горечью отмечал, что при нём прославление подвигов Отечественной войны «у нас вовсе было пренебрежено», а в 1836 году в письме к генералу А.П. Никитину снова жаловался на то, что Александр I не поощрял их описаний, от чего «начали мало-помалу наши войны предавать забвению».
Демонстративное равнодушие Александра I к событиям Отечественной войны 1812 года на фоне его подчёркнутого внимания к местам, связанным с кампаниями 1813–1815 годов, отмечали и другие его современники. Н.Н. Муравьёв, будущий наместник Кавказа, посетив в 1816 году Бородино, писал: «Никакой памятник не сооружён в честь храбрых русских, погибших в сём сражении за Отечество. Окрестные селения в нищете и живут мирскими подаяниями, тогда как государь выдал два миллиона рублей русских денег в Нидерландах жителям Ватерлоо, потерпевшим от сражения, бывшего на том месте в 1815 году» (Русский архив. 1885, № 11, с. 338).
Д.В. Давыдов сетовал, имея в виду царя и придворные круги: «Ныне стараются придать забвению и события, и людей, ознаменовавших сию великую эпоху, коей слава есть собственность России».
В среде, в которой Пушкин находился с 1820 по 1824 год, о грозе 1812 года не забывали, ибо были участниками войны и находились далеко от Петербурга, не стесняемые мнением царя и его окружения, одёргивавшего «непонятливых» офицеров.
«Давно пора перестать говорить о кампании 1812 года или по крайней мере быть скромнее. Если кто-либо сделал что хорошее, он должен быть доволен тем, что исполнил свой долг, как честный человек и достойный сын Отечества», – писал в марте 1821 года начальник Главного штаба П.М. Волконский командиру Гвардейского корпуса И.В. Васильчикову.
Д. Давыдов
Отстранённость от темы Отечественной войны 1812 года чувствуется и в творениях великого поэта – его больше привлекали фигуры Наполеона и Александра I, хотя обстановка, в которой он находился, и впитываемые им впечатления давали пищу и для отражения в творчестве событий, более близких для русского человека. То есть высочайшая установка на прославление периода заграничных походов невольно сказалась на выборе Пушкиным творческих тем. Словом, невозможно, жить в обществе и не зависеть от него, как говаривали классики.
«Там угасал Наполеон». 11 июня 1824 года Пушкин был переведён из Одессы в Михайловское. Это стало его настоящей ссылкой. В сельской глуши вспоминались цивилизованный город европейского типа и море. Главное – море! Свободная стихия, с помощью которой он пытался вырваться из России.
Не случилось. И на лист бумаги вырвалось:
Мощь морской стихии ассоциировалась в сознании поэта с титаническими фигурами его времени:
Этот «другой» – английский поэт Байрон. Удивительно и весьма значимо соединение Пушкиным имён поэта и воина под эпитетами «гений» и «властитель наших дум». То есть он не разделял (по крайней мере, в данном случае) деяния великих на «хорошие» и «плохие», а принимал Наполеона без оговорок о добре и зле, соотносил его деятельность с разгулом стихии, правомерной в любом своём качестве.
Стихотворение «К морю» было напечатано в октябре 1825 года с большим пропуском, сохранившимся в рукописи:
Этот фрагмент стихотворения аналогичен 13-й и 14-й строфам другого – «Наполеон», и Пушкин отказался от их повторения. А вот конец оды «К морю» он опустил уже по другим соображениям – цензурным (автоцензура существовала всегда):
В своём сельском уединении не забывал Пушкин об антагонисте Наполеона – царе Александре I, который, мотаясь по Европе, фактически передал всю власть А.А. Аракчееву, «притеснителю всей России», и поэт по отношению к царю забавлялся юморесками, в которых Александр I выглядит туповатым острословом и пошляком:
В эпиграмме «На Александра I» Пушкин буквально в восьми строчках обрисовал весь жизненный путь царя:
Под Аустерлицем (1805) были разгромлены две союзные армии, русская и австрийская. Первой фактически командовал царь, отстранив М.И. Кутузова. Что касается «фруктового профессора» – это о шагистике, которой изнуряли армию. Были и другие минусы внедрения прусской системы в боевой подготовке солдат и офицеров. Вот фрагмент разговора Пушкина с великим князем Михаилом Павловичем по этому поводу. Беседа проходила в саду Аничкова дворца 16 декабря 1834 года:
– Что ты один здесь философствуешь? – полюбопытствовал князь.
– Гуляю.
– Пойдём вместе.
Разговорились о плешивых, Пушкин заметил:
– Вы не в родню, в вашем семействе мужчины молодые оплешивливают.
– Государь Александр и Константин Павлович оттого рано оплешивели, что при отце моём[11] носили пудру и зачёсывали волосы; на морозе сало леденело, и волосы лезли.
Плешь – это всё, что осталось у Александра от воинской науки папаши. Не лучше получилось у царя и с попыткой верховодить в политике. Убедительным примером чего является отказ (под давлением коллег по Священному союзу) от помощи Греции, восставшей против турецкого ига.
Словом, при всём внешнем блеске правления Александра I («Он взял Париж, он основал лицей») великий поэт внутренне так и не принял его как историческую личность, сопроводив иронией даже на тот свет. «Говорят, ты написал стихи на смерть Александра, – укорял он Жуковского, – предмет богатый. Но в течение двадцати лет его царствования твоя лира молчала. Это лучший упрёк ему. Никто более тебя не имел права сказать: глас лиры – глас народа. Следственно, я не совсем был виноват, подсвистывая ему до самого гроба».
«Когда ж твой ум он поражает?» В 1829 году Пушкин совершил поездку в Арзрум. Во время этого путешествия он дважды встречался с командиром 4-й батарейной роты 21-й артиллерийской бригады подполковником И.Т. Радожицким, автором «Походных записок артиллериста, с 1812 по 1816 год» (в четырёх частях), в которых он писал: «Наполеон был гением войны и политики, гению подражали, а врага ненавидели».
Именно в первом качестве воспринимал Пушкин поверженного императора Франции, не случайно одно из его стихотворений называется «Герой». Оно было написано в Болдине, где поэт пережидал карантин, введённый в связи с эпидемией холеры. В начале ноября 1830 года Александр Сергеевич извещал издателя «Московского вестника» М.П. Погодина: «Посылаю вам из моего Пафмоса[12] апокалипсическую песнь. Напечатайте, где хотите» (10, 314)
Стихотворение «Герой» написано в форме диалога поэта и его друга. Последний задаёт вопрос о славе и её наиболее ярком воплощении в представителе рода человеческого:
Для поэта ответ самоочевиден, и он, не колеблясь, говорит:
Друг не удивлён выбором поэта, но уточняет: в каком эпизоде своей необычной карьеры больше всего привлекает его Наполеон?
Вопросы друга поэта охватывают почти все годы военной и политической карьеры Наполеона, начиная со знаменитой итальянской кампании 1795–1796 годов. Тогда небольшая республиканская армия, состоявшая из полуголодных оборванцев, наголову разгромила отборные войска Священной Римской империи (как называлась тогда Австрия с присоединёнными к ней территориями). В этой войне молодой генерал[13] не раз рисковал своей жизнью, бросаясь во главе атакующих прямо на неприятельские орудия. Эпизод со знаменем произошёл в сражении при Арколе. После Италии Наполеон воевал в Египте и совершил поход в Сирию. Перед первым серьёзным сражением, вдохновляя армию, Наполеон воскликнул: «Солдаты, сорок веков смотрят на вас сегодня с высоты этих пирамид!»
В ноябре 1799 года победоносный генерал стал первым консулом Французской республики, а через пять лет – императором. К этим событиям относится упоминание Пушкина о жезле диктатора. На это надо заметить, что формально вопрос о провозглашении империи решался по результатам плебисцита (всенародного голосования).
Конечно, не случайно Москва упомянута в стихотворении именно в день вступления в неё Великой армии. Неприятель входил в старую столицу России с музыкой и барабанным боем. Полковые оркестры играли марши, часто звучала «Марсельеза», которая призывала солдат и офицеров Франции:
Многие солдаты и офицеры знали слова революционного гимна, звавшего когда-то французов на защиту республики. А кого они пришли защищать в Москву? Кто угрожает им? Их семьям? Кто несёт им рабство? Несмотря на торжественность момента, настроение в рядах победителей было напряжённым. Граф Сегюр вспоминал: «Ни один москвич не показывался, ни одной струйки дыма не поднималось из труб домов, ни малейшего шума не доносилось из этого обширного и многолюдного города. Казалось, как будто 300 тысяч жителей точно по волшебству были поражены немой неподвижностью. Это было молчание пустыни!»
Тревожное состояние покорителей Европы передаёт офицер Цезарь де Ложье: «Молча, в порядке, проходим мы по длинным пустынным улицам; глухим эхом отдаётся барабанный бой от стен пустых домов. Мы тщетно стараемся казаться спокойными, но на душе у нас неспокойно: нам кажется, что должно случиться что-то необыкновенное. Мы нигде не видим ни одного русского. Страх наш вырастает с каждым шагом: он доходит до высшей точки, когда мы видим вдали, над центром города, густой столб дыма».
…На картину жизни завоевателя, нарисованную другом, поэт ответил полным отрицанием:
То есть ни воинская слава, ни его восхождение от безвестного лейтенанта до полноправного члена семьи одного из старейших монархических родов Европы (Габсбургов), ни трагический конец столь феноменальной карьеры особенно поэта не вдохновляли. Так что же возбуждало у него особый интерес, кого он назвал героем?
Это случилось при возвращении армии Наполеона из Сирии в Египет. Пушкин узнал об этом эпизоде войны из «Мемуаров» Бурьена, выходивших в 1829–1830 годах. Описание страшной болезни, поразившей французов, живо напомнило Александру Сергеевичу о собственных наблюдениях, сделанных во время путешествия в Арзрум:
– Мысль о присутствии чумы очень неприятна с непривычки. Желая изгладить это впечатление, я пошёл гулять по базару. Остановясь перед лавкою оружейного мастера, я стал рассматривать какой-то кинжал, как вдруг ударили меня по плечу. Я оглянулся: за мной стоял ужасный нищий. Он был бледен как смерть; из красных загноённых глаз его текли слёзы. Мысль о чуме опять мелькнула в моём воображении. Я оттолкнул нищего с чувством отвращения неизъяснимого и воротился домой очень недовольный своею прогулкою.
Поэтому на следующий день Александр Сергеевич повторил свой променад: «Я отправился с лекарем в лагерь, где находились зачумлённые. Я не сошёл с лошади и взял предосторожность встать по ветру. Из палатки вывели нам больного; он был чрезвычайно бледен и шатался как пьяный. Другой больной лежал без памяти. Осмотрев чумного и обещав несчастному скорое выздоровление, я обратил внимание на двух турков, которые выводили его под руки, раздевали, щупали, как будто чума была не что иное, как насморк. Признаюсь, я устыдился моей европейской робости в присутствии такого равнодушия».
Словом, Пушкин воочию соприкоснулся с чумой и мог оценить мужество человека, дерзнувшего находиться среди поражённых этой болезнью. Свои ощущения он передал через стихотворного поэта:
Прагматичный друг пытается охладить восторженность приятеля:
Друг напоминает поэту, что, описывая бедствия, принесённые страшной болезнью, Бурьен опровергает распространённое мнение об общении командующего армией с чумными. Поэт не отрицает этого, но и не приемлет прозаизма и бесчувственности толпы:
Таковым и представляли монархи Европы своим народам великого полководца и государственного деятеля, что не очень соответствовало действительности: «тиран» не хотел власти ради власти и отказался от неё, когда почувствовал, что Франции грозит гражданская война. На острове Святой Елены он говорил доктору О’Мира: «Я должен был погрузить в кровь мои руки вплоть до этого места». И показывал на подмышки.
После изгнания Наполеона борьба между его сторонниками и приверженцами короля Людовика XVIII продолжалась ещё несколько месяцев, принимая в некоторых департаментах ожесточённый характер. Американский историк В. Слоон писал: «Надо принять во внимание, что даже в летописях революционных неистовств не отыщется ничего, способного сравняться со злодейской свирепостью роялистского белого террора, разразившегося в Провансе и южной Франции. Этот мерзостный террор быстро распространился, хотя и в более слабой степени, и по другим местностям Франции».
В стране происходило то, от чего Наполеон хотел её уберечь, – малая гражданская война. Но в связи с тем, что Франция была обезглавлена, реакция победила (не без поддержки Бурбонов монархами Европы). Страна смирилась с иностранной оккупацией и не потонула в крови своих граждан. Наполеон заплатил за спасение нации ссылкой на далёкий остров в безбрежности Атлантического океана.
Вторичное отречение Наполеона от престола, когда он ещё мог противостоять нашествию, но предпочёл этому умиротворение страны и спасение нации, пожалуй, самое значительное деяние в жизни великого воина и человека. Именно человека угадал в нём великий русский поэт. Гений понял гения.
«Измучен казнию покоя». Осенью 1830 года Пушкин сжёг десятую главу романа «Евгений Онегин», так как в ней говорилось о революционном движении начала 20-х годов в Европе и России. Но некоторые фрагменты из этой главы сохранились:
Это о Наполеоне. 2 декабря (21 ноября) 1804 года он короновался в Париже. На этой церемонии вынуждены были присутствовать почти все монархи Европы. Из Рима прибыл папа Пий VII. Он благословил шпагу Наполеона, императорскую державу, скипетр, жезл правосудия и кольца супругов. В кульминационный момент коронационного ритуала Наполеон выхватил из рук «святого отца» корону и сам надел её на свою голову. Присутствовавшие на церемонии поняли: Наполеон наглядно показал им, что он заслужил этот венец и престол Франции ратными подвигами и не намерен получать его из чьих-либо рук: корона не дар небесный. Представители старых монархий были втоптаны в грязь этим жестом «солдафона», но смиренно проглотили плевок в душу. А император, не обращая внимания на папу, увенчал короной и голову супруги – Жозефины.
Словом, «унизились цари». Монархическая Европа кипела гневом. Её правители восприняли коронацию «разбойника» с дикого острова как личное оскорбление, ибо Наполеон встал вровень с ними, августейшими государями, помазанниками Божьими. Против Франции была сколочена очередная коалиция, которой при Аустерлице (1805) был преподан жесточайший урок.
«Исчезнувший как тень». Да, монархическая Европа (при содействии стотысячной армии России) всё же одолела Наполеона. Победители сначала сослали его на остров Эльба, а через полтора года – на остров Святой Елены, о чём в сожжённой главе «Евгения Онегина» сохранилась только одна фраза: «Измучен казнию покоя».
Удалив пленника на тысячи вёрст от всякой цивилизации, победители не смогли вытравить память о нём. Это крайне беспокоило их. Англичане превратили далёкий остров в крепость, ощетинившуюся пушками с каждого удобного выступа скалистого острова. Место заточения Наполеона (Лонгвуд) охраняли 3000 солдат. Вокруг острова круглосуточно курсировала флотилия из одиннадцати военных судов.
Это при жизни свергнутого императора. Но и после его кончины, боясь самозванцев и двойников, англичане почти девятнадцать лет держали у могилы усопшего караул из двенадцати солдат. И что симптоматично, великий поэт связал смерть Наполеона (1821) с началом народных волнений в Европе:
«Была пора». Стихотворение под таким названием Пушкин написал к 25-й годовщине со дня открытия Царскосельского лицея и прочитал его в кругу однокашников 19 октября 1836 года:
Далее следуют строфы, в которых эскизно обрисовываются изменения в жизни бывших лицеистов, которые произошли за минувшие годы. И наконец – вопрос к собравшимся:
В трёх строчках Пушкин охарактеризовал положение, которое сложилось в отношениях России и Франции накануне Отечественной войны 1812 года: обе стороны знали о её неизбежности и обе готовились к ней. Царь предупреждал французского посла Коленкура, что в случае войны он будет отступать вплоть до Камчатки и армию Наполеона ждут сюрпризы русской зимы: «Если император Наполеон начнёт против меня войну, то возможно и даже вероятно, что он нас побьёт, если мы примем сражение, но это ещё не даст ему мира. Если жребий оружия решит дело против меня, то я скорее отступлю на Камчатку, чем уступлю свои губернии и подпишу в своей столице договоры, которые являются только передышкой. Француз храбр, но долгие лишения и плохой климат утомляют и обескураживают его. За нас будут воевать наш климат и наша зима».
Успешный воитель не внял Александру: не считал Россию достойной его меча и с её завоеванием помышлял о походе в Индию. Война началась 12 (24) июня, но русская армия перебрасывалась к границам с весны:
События Отечественной войны Пушкин уложил в три с половиной строки:
В этих строчках уместилось всё: упоминание о вторжении в Россию разных народов Западной Европы; интерпретация Бородинского сражения как ничейного по своим результатам (Русь только «обняла» противника, но не задушила его); бесславный конец нашествия, освещаемый пожаром старой столицы и прикрываемый на полях бескрайней империи снегами Севера.
Действительно, события 1813–1814 годов, завершившиеся взятием Парижа, необычайно подняли международное значение России. Ещё более оно возросло с созданием Священного союза, в котором Александр I занял руководящую роль, став де-факто царём царей. Пушкин осуждал Союз за подавление народных движений. Поэтому, говоря о вознесении России «над миром изумлённым», он имел в виду только освобождение Европы от засилья Наполеона. И ещё: к концу жизни его восхищение антагонистом царя заметно поблёкло:
Нет, повергнутого императора не так-то просто было забыть. И забыт он не был. Наоборот, после его кончины во Франции с каждым годом росли и усиливались бонапартистские настроения, что в конечном счёте кончилось восстановлением на престоле Франции династии Наполеона, а на первом этапе движения за это – возвращением останков императора в Париж.
…12 мая 1840 года, когда полусонные депутаты Законодательного собрания Франции начали дискуссию по поводу производства сахара, на трибуну поднялся министр внутренних дел Ремюза. «Месье, – провозгласил он, – король[16] приказал Его Королевскому Высочеству монсеньору принцу де Жуанвилю направиться со своим фрегатом к острову Святой Елены, чтобы забрать останки императора Наполеона».
Депутаты от неожиданности оцепенели, а затем разразились аплодисментами. Трудно себе представить более мощный стимул, чтобы взбудоражить общественное мнение Франции (а затем Европы), чем идею о возвращении тела Наполеона на родину. Через семь месяцев французы встречали прах великого человека, ставшего гордостью страны и завистью мира. Утром 15 декабря траурный кортеж проследовал через Париж. Шествие описал историк Андре Кастело:
«Погребальную колесницу тащили шестнадцать лошадей в попонах с золотым шитьём, их вели лакеи в императорских ливреях. Император в своей легендарной форме полковника кавалерийских стрелков гвардии на погребальной колеснице проезжал под Триумфальной аркой по площади Этуаль. Под звуки траурного марша он ехал по самой красивой в мире улице (на острове Святой Елены император пророчествовал: “Вы ещё услышите в Париже возгласы «Да здравствует император!»”).
И толпа, видя, как идут за гробом ветераны, приветствовала их криками, услышав которые на поле битвы противник дрожал от страха: “Да здравствует император!” Гренадёры, стрелки старой гвардии, драгуны императрицы, уланы в красных мундирах – все проходили перед толпой, выпятив колесом грудь, высоко вскинув голову на этом последнем параде – параде фантомов. И сердца этих уцелевших в сражениях людей колотились в груди, когда они сопровождали своего императора к тому сверкающему на солнце золотому куполу, под которым он обретёт отныне свой вечный покой».
«Представьте себе, что Москва взята…» После окончания Царскосельского лицея Пушкин был назначен статским секретарём в Коллегию иностранных дел. 6 мая 1820 года он был переведён в Екатеринославль (фактически выслан за вольнолюбивые стихотворения). Из Екатеринославля Александр вместе с семьёй генерала Н.Н. Раевского совершил путешествие на Кавказ. Своими впечатлениями о поездке он поделился с братом Львом:
«Кавказский край, знойная граница Азии, любопытен во всех отношениях. Ермолов[17] наполнил его своим именем и благотворным гением. Дикие черкесы напуганы; древняя дерзость их исчезает. Дороги становятся час от часу безопаснее, многочисленные конвои – излишними.
Должно надеяться, что эта завоёванная сторона, до сих пор не приносившая никакой существенной пользы России, скоро сблизит нас с персиянами безопасной торговлей, не будет нам преградой в будущих войнах, и, может быть, сбудется для нас химерический план Наполеона в рассуждении завоевания Индии».
В этом фрагменте длинного письма обращает на себя внимание упоминание, сделанное мимоходом, о плане императора Франции завоевать Индию. Мысль о проникновении в эту экзотическую страну, жемчужину в короне Британской империи, волновала его всю жизнь.
В 1800 году этому представился случай. В ноябре Наполеон (тогда ещё первый консул) известил императора Павла I, с которым Франция официально была в войне, что желает вернуть в Россию всех русских пленных из разгромленного корпуса Корсакова.
Это умилило царя, и он в одночасье возненавидел англичан, союзников по второй антифранцузской коалиции, и возлюбил первого консула. В середине декабря в Париж прибыл посланник России генерал Спренгпортен. Бонапарт выразил самое горячее чувство симпатии к российскому императору, подчеркнув благородство и величие его души. Посланнику Павла Петровича Бонапарт сообщил, что русским пленным (около шести тысячи человек) за счёт французской казны сшиты новые мундиры по форме их частей, выдана новая обувь и возвращено оружие. В личном письме к царю первый консул заверил его в том, что мир между Францией и Россией может быть заключён в 24 часа.
Всё это совершенно пленило Павла. В ответе Бонапарту он согласился на мир и изъявил желание вернуть Европе тишину и покой. Спренгпортену первый консул заявил: «Ваш государь и я – мы призваны изменить лицо земли».
Опережая планы Бонапарта по нейтрализации Англии в европейских проблемах, царь снарядил четыре эшелона (22 500 человек) войска Донского и направил их в… Индию. Казаки выступили с Дона 27 февраля 1801 года, но шли недолго: 11 марта царь был убит придворными из его ближайшего окружения. Когда известие об этом дошло до Бонапарта, он воскликнул: «Англичане промахнулись по мне в Париже[18], но они не промахнулись по мне в Петербурге».
О насильственной смерти Павла знал ограниченный круг людей. Пушкину это стало известно на исходе осени 1817 года. Вольное или невольное участие в этом злодеянии наследника престола навсегда уронило его как личность в глазах поэта. Саму картину душегубства Пушкин дал в оде «Вольность»:
Но вернёмся к нашему герою. Накануне вторжения в Россию Наполеон говорил графу Н. Нарбонну: «Чтобы добраться до Англии, нужно зайти в тыл Азии с одной из сторон Европы. Представьте себе, что Москва взята, Россия сломлена, с царём заключён мир или же он пал жертвой дворцового заговора. И скажите мне, разве есть средство закрыть путь отправленной из Тифлиса Великой французской армии и союзным войскам к Гангу, разве недостаточно прикосновения французской шпаги, чтобы во всей Индии обрушились подмостки торгашеского величия?»
То есть, приближаясь к границам Российской империи, Наполеон думал не о войне с ней, а о захвате Индии при её (России) содействии. При этом рассчитывал на трусость царя или дворцовый переворот и устранение Александра по аналогии с его отцом. Конечно, беседа владыки Европы с графом проходила с глазу на глаз. Наполеон избегал оглашать свои планы. Тем не менее что-то просочилось наружу.
Кастеллан, будущий маршал Франции, писал 5 октября 1811 года (!) в дневнике: «Говорят о походе на Индию. У нас столько доверия, что мы рассуждаем не о возможности подобного предприятия, а о числе месяцев, необходимых для похода, о времени, за которое к нам будут доходить письма из Франции».
Да что французы! Об истинных намерениях Наполеона знали и русские. В канун Бородинской битвы, вспоминал поэт-партизан Д.В. Давыдов, общее мнение было то, что если Наполеон одержит победу и заключит мир с Россией, то пойдёт с русской армией на Индию. Денис Васильевич этого не хотел и говорил князю П.И. Багратиону: «Если должно непременно погибнуть, то лучше я лягу здесь. В Индии я пропаду со ста тысячами моих соотечественников без имени и на пользу, чуждую моему Отечеству».
Более того, вслед за изгнанием остатков Великой армии из пределов России полковник П.А. Чуйкевич выпустил книгу «Покушение Наполеона на Индию 1812 года». Пётр Андреевич служил в это время управляющим особой канцелярией военного министра, одной из функций которой была внешняя разведка, и знал то, о чём писал по первоисточникам.
Вообще, если вдуматься, странную войну вёл Наполеон в России. С 24 (12) июня по 5 октября 1812 года, то есть за 104 дня, в среднем два раза в месяц он сделал шесть попыток заключить мир с Россией. Мирные поползновения императора варьировали от категорического заявления А.Д. Балашову «здесь и сейчас» до унизительного Ж. Лористону: «Мир во что бы то ни стало…»
Наполеон на каждом шагу пытался добиться мира. Он не собирался терять свою армию на полях необъятной страны, она была нужна для похода в Индию. Он полагал, что перепуганный царь быстро откажется от своего химерического обещания отступать хоть до Камчатки. А если нет, то «восстанут московские бояре», лишившись своих богатств и крещёной собственности. Словом, не выдержит нашествие нового Тамерлана и пойдёт с ним на мировую.
«Варварские народы суеверны и примитивны. Достаточно одного сокрушительного удара в сердце империи – по Москве, матери русских городов, Москве златоглавой, и это слепая и бесхребетная масса падёт к моим ногам».
А тогда… Тогда – заветная Индия, бесценная жемчужина в короне королевства Британии. Словом, Россия была для Наполеона придорожным валуном, у которого можно с удобством пересидеть и следовать дальше, к истинной цели.
То есть о вероятности похода за Гималаи знала вся армия и мрачно была готова к такому повороту событий. А это возможно только при одном условии – в армии велась соответствующая пропагандистская работа. Не слишком открыто, не очень навязчиво, но целеустремлённо и упорно.
Наполеон не только поставил своей целью удушение Англии и завоевание мирового господства, но и определил сроки для этого. В 1811 году, в канун Русского похода, он говорил: «Через пять лет я буду господином мира». И тогда: «Французская империя станет матерью всех остальных государств. Я хочу заставить всех европейских государей построить для себя в Париже по грандиозному дворцу. Ко дню коронации французского императора все государи переселятся туда. Своим присутствием и выражением почтительных чувств они украсят эту торжественную церемонию».
Здесь речь идёт о повторной коронации, которую Наполеон хотел провести в Риме, приурочив её к 10-й годовщине первой, то есть в 1814 году император был настолько уверен в осуществлении своих замыслов, что заранее озаботился изготовлением памятной медали. На её лицевой стороне был изображён его римский профиль и сделана надпись: «Наполеон – император французский, царь Московский. Небеса твои, земля моя».
В мыслях владыка Европы уже поделил вселенную с Богом, «скромно» оставив за собой Землю. Наш гениальный поэт не знал этой тонкости в биографии великого завоевателя и поэтому спрашивал: «Зачем ты послан был и кто тебя послал?» Уж, конечно, не Бог! Не будем грешить на Всевышнего.
«Три войны и все на коне»
Говорят, родиться в мае – всю жизнь маяться. К.Н. Батюшков, один из крупнейших русских поэтов, и маялся: от плохого здоровья, от бедности, от несоответствия высоких идеалов прозе жизни.
«Дружба была его кумиром, бескорыстие и честность – чертами его характера», – писал современник о Константине Николаевиче.
Женщины больше обращали внимание на внешность поэта: «…небольшого роста, молодой красивый человек, с нежнейшими чертами лица, мягкими, волнистыми русыми волосами и со странным взглядом разбегающихся глаз» (графиня А.Д. Блудова).
Сам Батюшков в очерке «Чужое: моё сокровище!» писал о себе: «Лицо у него точно доброе, как сердце, но столь же непостоянное. Он тонок, сух, бледен, как полотно. Он перенёс три войны, и на биваках был здоров, в покое – умирал! В походе он никогда не унывал и всегда готов был жертвовать жизнию с чудесною беспечностию. Он вспыльчив, как собака, и кроток, как овечка. Он жил в аде – он был на Олимпе».
Последнее предложение этой самохарактеристики – о войне и поэзии. Батюшков одинаково любил эти крайности бытия:
На военное поприще Батюшков вступил двадцати лет, записавшись в петербургское ополчение. Отцу сообщил: «Падаю к ногам твоим, дражайший родитель, и прошу прощения за то, что учинил дело честное без твоего позволения и благословения, которое теперь от меня требует и Небо, и земля. Но что томить вас! Лучше объявить всё, и Всевышний длань свою прострет на вас. Я должен оставить Петербург, не сказавшись вам, и отправиться со стрелками, чтоб их проводить до армии».
Был февраль 1807 года. Через два месяца в сражении при Гейльсберге Константин Николаевич был тяжело ранен, пуля задела спинной мозг, и от боли в спине он страдал всю жизнь, а тогда (сразу после ранения) даже не надеялся, что выживет; позднее в стихотворении «Воспоминание» писал:
Участие Батюшкова в военных действиях в 1807 году было отмечено орденом Св. Анны III степени. В рескрипте о награждении говорилось: «Все, находясь впереди, поступали с особенным мужеством и неустрашимостью. Сие послужит вам поощрением к вашему продолжению ревностной службы вашей».
Следующей войной Константина Николаевича стала русско-шведская (1808–1809). Она велась в тяжёлых климатических условиях севера и оставила двойственное впечатление в памяти поэта-воина: «Всякий шаг в Финляндии[19] ознаменован происшествиями, которых воспоминание и сладко, и прискорбно. Здесь мы победили; но целые ряды храбрых легли, и вот их могилы! Там упорный неприятель выбит из укреплений, прогнан; но эти уединённые кресты, вдоль песчаного берега или вдоль дороги водружённые, этот ряд могил русских в странах чуждых, отдалённых от родины, кажется, говорят мимоидущему воину: и тебя ожидает победа – и смерть!»
Батюшков был слаб здоровьем, но на войне преображался. Мирные дни буквально убивали его (и в конечном счёте убили). Вернувшись из Финляндии, Константин Николаевич жаловался: «Я весь переродился – болен, скучен и хил, так хил, что не переживу и моих стихов».
В таком расхлёстанном состоянии застала Батюшкова весть о вторжении 24 июня 1812 года вражеских полчищ на территорию России. В этот день он писал П.А. Вяземскому: «Если бы не проклятая лихорадка, то я бы полетел в армию. Теперь стыдно сиднем сидеть над книгою; мне же не приучаться к войне».
Тогда же, в послании «К Жуковскому» Константин Николаевич писал:
Вновь Батюшков попал в армию только в середине 1813 года. Участвовал в сражениях при Кульме и Лейпциге. Последнее вошло в историю как Битва народов. По-видимому, вернее было бы название Трагедия народов (по числу погибших и изувеченных).
Досталось в нём и нашему герою. «Для меня были ужасные минуты, – рассказывал позднее Константин Николаевич Н.И. Гнедичу, – особливо те, когда генерал[20] посылал меня с приказаниями то в ту, то в другую сторону, то к пруссакам, то к австрийцам, и я разъезжал один по грудам тел убитых и умирающих. Не подумай, что это риторическая фигура. Ужаснее сего поля сражения я в жизни своей не видел».
В сражении под Лейпцигом погиб полковник Иван Александрович Петин, лучший друг Батюшкова, незаурядный человек и отличный воин, одним внешним видом располагавший к себе окружающих. «Счастливое лицо, зеркало доброты и откровенности, – писал позднее Константин Николаевич, – улыбка беспечности, которая исчезает с летами и с печальным пониманием людей, все пленительные качества наружности и внутреннего человека. Ум его был украшен познаниями, ум зрелого человека и сердце счастливого ребёнка».
Батюшков и Петин познакомились во время похода русской армии в Германию (1807). И с тех пор кошелёк и шалаш, мысли и надежды были у них общими. «Души наши были сродни, – говорил Батюшков. – Одни пристрастия, одни наклонности, та же пылкость и та же беспечность, которые составляли мой характер в первом периоде молодости. Привычка быть вместе, приносить труды и беспокойство воинские, разделять опасности и удовольствия теснили наш союз».
И.А. Петин погиб в возрасте 25 лет (Сколько их, молодых мужчин и юношей, полегло на просторах от Немана до Сены, чтобы хамская Европа «отблагодарила» Россию Крымской войной и двумя мировыми, чтобы армии НАТО бряцали оружием сегодня у границ нашего Отечества?); Константин Николаевич беспрестанно возвращался к памяти друга. В очерке «Воспоминание мест, сражений и путешествий» он писал: «Приятель мой уснул геройским сном на кровавых полях Лейпцига. Дружество и благодарность запечатлели его образ в душе людей. Он будет путеводителем к добру; с ним неразлучный, я не стану бледнеть под ядрами, не изменю чести». Не забыл Батюшков упомянуть друга и в большом стихотворении «Переход через Рейн»:
Переход границы Франции происходил в первый день 1814 года; Константин Николаевич уведомлял Гнедича: «Итак, мой милый друг, мы перешли за Рейн, мы во Франции. Эти слова – „мы во Франции“ – возбуждают в моей голове тысячу мыслей, которых результат есть тот, что я горжусь моей родиной в земле её безрассудных врагов».
На 109-й день – 19 (31) марта – после этого знаменательного события[21] капитулировал Париж. Столица Франции ошеломила Батюшкова: дворцы, музеи, театры, развязная пресса, женщины. «Ночь застала меня посреди Пале-Рояля. Теперь новые явления: нимфы радости, которых бесстыдства превышает всё».
Со своей последней войны Константин Николаевич вернулся больным и растерянным: как жить дальше? Статская служба его не устраивала: «Человеку, который три войны подставлял лоб под пули, сидеть над нумерами из-за двух тысяч и пить по капле все неприятности канцелярской службы?.. Из-за двух тысяч!!! Ничего не хочу, и мне всё надоело».
Не порадовал Батюшкова даже подарок императрицы Марии Фёдоровны – бриллиантовый перстень, вручённый ему за стихи, на которые композитор Бортнянский написал песнопение в честь возвращения царя из Заграничного похода. Это были первые признаки надвигавшейся болезни, от которой скончались мать, отец и сестра поэта. Предчувствуя её, Батюшков писал:
Некоторое время Константин Николаевич ещё служил, но в 1816 году в чине ротмистра вышел в отставку. Работал в Императорской публичной библиотеке, а в ноябре 1818 года в составе Коллегии иностранных дел выехал в Италию. Через три с половиной года вернулся в Петербург – сознание его начало мутиться; врач констатировал сумасшествие.
В невменяемом состоянии Батюшков просуществовал ещё 33 года, но его жизнь как homo sapiens (человека разумного) оборвалась в 35 лет. Россия потеряла в нём выдающегося поэта и воина:
Впечатление военных лет отразились во многих элегиях Батюшкова: «Проход через Неман», «Пленный», «Тень друга», «Переход через Рейн». Первые отзвуки двух пережитых поэтом войн мы находим в стихотворении «Мои пенаты» (весна 1812 г.):
В эту странную поэтическую обитель заказан вход богачам и вельможам, но в ней всегда найдёт приют бедный путник, особенно если это ветеран войн:
На рубеже XVIII–XIX столетий Россия вела многочисленные войны. Жертвы их, сохранившие жизнь, но оставшиеся калеками, скитались по городам и весям необъятной России. Батюшков одним из первых ввёл на страницы поэзии образ нищенствующего ветерана.
В Отечественной войне Константин Николаевич не участвовал – болел, но был свидетелем двух исторических эпизодов грозы двенадцатого года. Первый – оставление Москвы её жителями:
В декабре Батюшков вновь был в старой столице и с ужасом увидел, что богатейший город с сотнями дворцов и храмов практически исчез:
Гибель великого города взывала к отмщению, и на руинах златоглавой столицы Батюшков дал зарок всё принести в жертву ради торжества над варварами нового времени:
Вновь влиться в ряды русской армии Константин Николаевич смог только в середине 1813 года. В должности адъютанта генерала Н.Н. Раевского участвовал в важнейших сражениях второй половины года. О трёхдневной Битве народов говорил: «Иные минуты напоминали Бородино».
После Лейпцига крупных сражений не было – противник отступал – и 1 (13) января 1814 года победоносные войска союзников (России, Австрии и Пруссии) форсировали Рейн, границу Французской империи:
«С морей, покрытых льдами», «от струй полуденных» – этой географией России поэт подчёркивал необъятность пространств родной стороны, на которые неразумно посягнул Наполеон. Великая армия великого завоевателя столкнулась на этих пространствах с представителями многочисленных народов Российской империи; и вот результат – русские на Рейне, на границе Франции:
Переход реки, представляющей весьма значительное водное препятствие, осуществлялся в виду крепости Гюнинга, но сопротивления наступающим не последовало. «Построили мост, отслужили молебен со всем корпусом гренадёр, закричали “ура” – и перешли за Рейн, – писал Константин Николаевич Гнедичу. – Эти слова – “мы во Франции” – взбудоражили в моей голове тысячу мыслей, которых результат есть тот, что я горжусь моей родиной в земле её безрассудных врагов».
Через три месяца к ногам победителей пал блистательный Париж. Батюшков не задержался в нём – в дни наступившего мира заболел. Даже возвращался морем. В пути написал стихотворение «Тень друга». Это дань памяти полковнику И.А. Петину:
Стихотворение «Тень друга» было опубликовано в 1816 году в журнале «Вестник Европы» и получило широкий читательский резонанс. Поэтическое осмысление Батюшковым гибели товарища по оружию помогло укоренению в обществе мысли о том, что смерть человека – это не просто исчезновение единицы, а утрата целой вселенной, потрясение всего мироздания.
По мнению Д.Г. Шиварова, автора книги «Двенадцать поэтов 1812 года», Батюшков открыл прямой путь к фронтовой поэзии Великой Отечественной войны, к поэмам: «Сын» Павла Антокольского и «Зинка» Юлии Друниной, к стихам Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом…» и Сергея Орлова «Его зарыли в шар земной», к песням о «Серёже с Малой Бронной и Витьке с Моховой» и «Песенке о Лёньке Королёве».
…Вернувшись в Россию, Константин Николаевич с удивлением обнаружил, что и после огромных жертв, нанесённых стране иноземным нашествием, после гибели Москвы и десятка других городов, сотен сёл и деревень, Наполеон по-прежнему оставался в сердце дворянства высоко почитаемой личностью – кумиром. С возмущением и болью Батюшков писал П.А. Вяземскому: «Мы ходим по развалинам и между гробов, а Наполеон живёт[23]. И этот изверг, подлец дышит воздухом. Удивляюсь иногда неисповедимому Проведению. Дай Бог, чтобы ему свернули шею скорее или разгромили это подлое гнездо, которое называется Парижем. Ни одно благородное сердце не может любить теперь этот город и этого народа».
В Петербурге Константин Николаевич сразу вошёл в литературную среду и познакомился с начинающим поэтом, лицеистом Александром Пушкиным, посетив его в Царском Селе в начале февраля 1815 года. Юноша в это время находился под сильным воздействием эпикурейской, элегической и батальной лирики Батюшкова и посвятил ему два послания – «Философ резвый и пиит» и «В пещерах Геликона». Второе из них связано с разговором, который произошёл между поэтами и был обусловлен отказом Константина Николаевича от гедонистических тем своего раннего творчества. Александр не поддержал старшего коллегу и, возражая ему, писал:
Спешить за Мароном значило переключиться на военно-патриотическую тематику. Пушкин, не отрицая её значимость (был уже автором стихотворений «Воспоминания в Царском Селе», «Наполеон на Эльбе», «На возвращение государя императора из Парижа», «Александру»), но искусственно ограничивать себя какими-либо творческими рамками не хотел. И хотя первая встреча поэтов оставила некоторый осадок неудовлетворённости, отношения их оставались дружескими. 21 марта 1816 года в письме к Вяземскому Александр просил: «Обнимите Батюшкова за того больного, у которого год тому назад затевал он Бову Королевича[25]».
После знакомства с молодым поэтом, Константин Николаевич встречался с ним на заседаниях литературного общества «Арзамас», на «субботах» В.А. Жуковского, у Олениных и общих петербургских знакомых. 4 сентября 1817 года Пушкин, Батюшков (и другие лица) сочинили в Царском Селе эксперимент «Писать я не умею» и «Вяземскому». Ровно через месяц они провожали Жуковского в Москву.
Батюшков внимательно следил за поэтическим развитием Александра Сергеевича. В письме к Вяземскому от 9 мая 1818 года оговорился: «Забыл о Пушкине молодом: он пишет прелестную поэму и зреет»[26]. Через месяц в письме А.И. Тургеневу хвалит перевод Жуковским одной из баллад Шиллера, но оговаривается: «Размер стихов странный, длинный, вялый; склонность на маленького Пушкина, которому Аполлон дал чужое ухо».
Через полгода спрашивает того же адресата: «Сверчок что делает? Кончил ли свою поэму? – И, беспокоясь о молодом поэте, рассуждает: – Не худо бы его запереть в Геттинген и кормить года три молочным супом и логикою. Из него ничего не будет путного, если он сам не захочет; потомство не отличит его от двух однофамильцев, если он забудет, что для поэта и человека должно быть потомство. Как ни велик талант сверчка, он его промотает, если… Но да спасут его музы и молитвы наши!»
О том же – в письме Д.Н. Блудову: «Сверчок начинает третью песню поэмы своей. Талант чудесный, редкий! Вкус, остроумие, изобретение, весёлость. Ариост в девятнадцать лет не мог бы писать лучше. С прискорбием вижу, что он предаётся рассеянию со вредом себе и нам, любителям прекрасных стихов».
19 ноября 1818 года Батюшков выехал в Италию. Проводы его проходили в Царском Селе. На них присутствовали Жуковский, Гнедич, Пушкин, Е.Ф. Муравьёва и её сын Никита (будущий декабрист).
И в Италии Константин Николаевич не забывал гениального юношу: «Жаль мне бедного Пушкина! – сетовал он в одном из писем к Гнедичу, – не бывать ему хорошим офицером, а одним хорошим поэтом менее. Потеря ужасная для поэзии». К счастью для отечественной литературы, опасения Батюшкова не оправдались, и в 1820 году, восхищённый стихотворением Александра Сергеевича «Юрьеву», он воскликнул: «О! Как стал писать этот злодей!»
После психического заболевания Константина Николаевича Пушкин приложил немало усилий, чтобы его имя оставалось на слуху у читающей публики. В 1824–28 годах в разговорах и набросках критических статей Александр Сергеевич постоянно возвращался к оценке творчества и исторического значения Батюшкова, которого считал основателем (наряду с Жуковским) школы гармонической точности в русской поэзии.
3 апреля 1830 года, находясь в Москве, Пушкин посетил больного поэта. Впечатление от этого визита осталось тягостное и отразилось в стихотворении Александра Сергеевича «Не дай мне Бог сойти с ума».
На протяжении тридцати трёх лет состояние Батюшкова менялось. Иногда окружающим казалось, что дело идёт к абсолютному выздоровлению; но этого, к сожалению, не случилось. Но в любом состоянии Константин Николаевич помнил и повторял имя Ивана Александровича Петина, погибшего в сражении под Лейпцигом. И ещё: изменилось его отношение к извергу и подлецу Наполеону. Батюшков часто говорил о бывшем враге России, с каждым годом всё более превознося и чуть ли не обожествляя его.
И это не был бред сумасшедшего: даже когда Константин Николаевич был в полном разуме и, кляня Наполеона, желал ему свернуть шею, он отдавал должное противнику: «Бог наделил его всем: и умом, и остротою, и храбростию…» То есть мозг больного работал и абсолютного отключения от мира homo sapiens (человека разумного) не было, а это ещё страшнее полного сумасшествия.
Лев Толстой на Бородинском поле
В январе 1865 года читатели «Русского вестника», получив первую книжку журнала, нашли на её страницах новое произведение Л.Н. Толстого «1805 год». Это была первая часть эпопеи, которой суждено было стать одним из величайших творений человеческого гения и занять одно из самых высоких мест не только в русской, но и в мировой литературе.
Через год с небольшим тот же журнал опубликовал вторую часть эпопеи с подзаголовком «Война». Читатели с нетерпением ждали продолжения романа, но оно появилось не скоро: работу писателя замедляло изучение документов по истории Отечественной войны 1812 года. А осенью 1867-го Толстой решил лично осмотреть Бородинское поле.
Накануне отъезда Лев Николаевич писал жене из Москвы: «Сейчас 25-го в пять часов вечера, еду в Бородино со Стёпой, которого отпустили со мной по моей просьбе. Везу с собой письмо к управляющему Аникеевой в её имение, находящееся в 10 верстах от Бородина, и письмо к игуменье в тамошнем монастыре. Останавливаться, вероятно, нигде не буду до Бородина. Еду на почтовых».
На Бородинском поле Толстой находился два дня – 8 и 9 октября (26–27 сентября). Лев Николаевич изучал топографию поля, набросал его план, сделал ряд заметок. Писатель объяснял двенадцатилетнему шурину Степану Берсу, где находились во время сражения Кутузов и Наполеон. На листе с наброском местности он сделал конспективные записи, среди которых были такие фразы: «Солнце встаёт влево, назади. Французам в глаза солнце». В последующем, при описании Бородинской битвы, Толстой неоднократно использовал эту короткую заметку: «Солнце взошло светло и било косыми лучами прямо в лицо Наполеона, смотревшего из-под руки на флеши».
«Войдя по ступенькам входа на курган, Пьер взглянул впереди себя и замер от восхищения перед красотою зрелища. Это была та же панорама, которою он любовался вчера с этого кургана, но теперь вся эта местность была покрыта войсками и дымами выстрелов, и косые лучи яркого солнца, поднимавшегося сзади, левее Пьера, кидали на неё в чистом утреннем воздухе пронизывающий с золотым и розовым оттенком свет и тёмные, длинные тени».