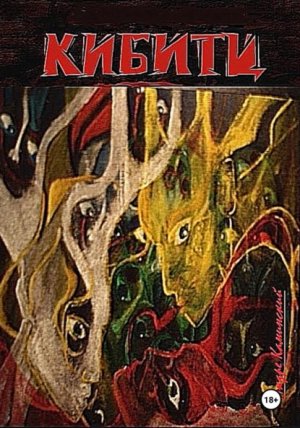
Предисловие к русскому изданию.
Дорогой читатель,
вы держите в руках впервые изданный по-русски роман швейцарского писателя Андре Каминского "Кибитц" (André Kaminski, "Kiebitz). Имя этого писателя еще совсем недавно было широко известно в Европе, особенно – в Польше. Куда же вдруг девалась эта широкая европейская известность автора многократно переиздававшихся бестселлеров, телепродюсера, популярного телеведущего, режиссера и драматурга, одного из блистательных литературных стилистов ХХ века?
Пользуясь привилегией пока единственного переводчика на русский язык произведений А. Каминского, я попытаюсь ответить на этот вопрос, упреждая тем самым чтение этого замечательного произведения.
Андре Каминский родился в 1923 году в Женеве, Отец его, известный в Швейцарии врач-психиатр, выходец из семьи польских евреев, в молодые годы был убежденным коммунистом. Вместе с десятью родными братьями он активно боролся против российского имперского режима, нависавшего тогда над Польшей. Мать будущего писателя была родом из Баварии и происходила она из патриархальной еврейской семьи. Вопреки существовавшим в те времена предрассудкам, связанным с положением женщины в германском обществе, она сумела получить высшее образование и многие годы работала в аптекарском секторе медицины. История становления семьи родителей Андре Каминского с авобиографическими подробностями описана им в замечательном романе "В будушем году – в Иерусалиме". Этот роман – также в моем переводе – был издан в 2013 году Санкт-Петербургским издательством журнала "Звезда".
Во многом автобиографичен и второй роман писателя – "Кибитц". А. Каминский был вполне успешным швейцарцем: получил хорошее образование, защитил диссерртацию, был счастлив в браке. Все это поправ, молодая семья будущего писателя покидает благополучную Швейцарию и уезжает в лежавшую в руинах послевоенную Польшу. Цель одна: помочь родине его предков вернуться к нормальной жизни после страшной разрухи. Преодолевая бесчисленные трудности, молодые люди достигают поставленных перед собой целей.
И тут гром среди ясного неба: в марте 1968 года в Польше произошли студенческие протесты против цензуры и репрессий, которые были жестоко подавлены властями. В попытке отвлечь внимание от внутренней нестабильности, польское руководство не нашло ничего лучшего, как использовать антисемитизм в качестве инструмента пропаганды. Евреев обвиняли в саботаже и антигосударственной деятельности. Правительство во главе с Владиславом Гомулкой распространяло фейки о том, что евреи являются «космополитами» и «пятой колонной», работающей на интересы иностранных держав. Многие тысячи граждан еврейской национальности бросают все нажитое и покидают Польшу. Не избежал этой участи и Андре Каминский.
Мартовские события 1968 года в Польше легли в основу романа "Кибитц".
Как переводчик, я выражаю глубокую признательность Елене Шукайловой-Васютинской, которая взяла на себя обязанность литературного редактора перевода. Работая над ее замечаниями, я не переставал восхищаться широтой эрудиции моего редактора и высочайшей мерой ее профессиональной ответственности.
Я глубоко благодарен художнице Ульрике Зитте (Ulrike Sitte), которая, прочтя роман в оригинале (по-немецки), не задав мне ни единого вопроса, принялась за выполнение поставленною мною задачи: отразить в рисунке обложки не события, не исторические факты и даже не сюжет романа, а лишь состояние души его главных героев, волею судьбы прошедших рукотворное чистилище.
Очень надеюсь, мне удалось передать всю прелесть оригинального языка романа, его необычную стилистику и мастерство блистательного рассказчика, каковым несомненно был швейцарский писатель Андре Каминский.
Леонид Казаков.
______________________________________________________________________________
Иржи Маркушевскому, который наглядно показал мне – что есть настоящее мужество, и, как всегда, – Дорис
1
…условия твои я принимаю и впредь, как ты того требуешь, буду обращаться к тебе на «вы». Ты объясняешь это сугубо терапевтической необходимостью. Что ж, тебе видней. Принято: в дальнейшем я буду обращаться к тебе «Господин доктор». Возможно, при этом мы оба утрачиваем известную степень близости, свойственной нашим прежним отношениям, зато взамен создаем необходимую дистанцию между врачом и пациентом, без которой, видимо, не обойтись, если оба рассчитывают достигнуть желаемых результатов.
Ты пишешь, что нам следует отказаться от фамильярности, присущей гимназистам подросткового возраста, поскольку мы давно уже с ним расстались. Пожалуй, ты прав. Я постараюсь абстрагироваться от совместно проведенных в цюрихской гимназии лет и видеть в тебе лишь врача-психиатра. Тем более, за прошедшие годы ты приобрел широкую известность на этом непростом поприще.
И все же, прежде чем принять должную дистанцию, как ты того требуешь, я хотел бы напомнить тебе об одном твоем замечании в мой адрес, сделанным лет сорок назад. А именно: ты высказался в свойственной тебе саркастической манере, что мое имя – сущая для меня кара. Это было сказано во время урока немецкого языка и буквально привело в восторг старика Цоллингера. Видать, слово «кара» понравилось ему особенно, поскольку звучит оно довольно старомодно, что для нашего слуха было крайне непривычным. Как бы то ни было, замечание это послужило отмашкой для злобных насмешек, которые чрезвычайно конфузили меня. Лишь много позже осознал я, сколь метким оказалось оно. И теперь я окончательно понял: первопричиной всех моих житейских невзгод как раз и является дурацкое имя мое. Оно довлеет над всей моей сутью подобно наследственной болезни, но что же могу я с этим поделать?
Меня зовут Кибитц – забавно звучит, не правда ли? Но это еще не все: полное имя мое – Гидеон Эсдур Кибитц – надо же было отхватить такой ярлык! Именно этому дурацкому сочетанию понятий, стоящих за каждым из трех слов, обязан я тем, что вынужден то и дело выслушивать эдакое «доброжелательное» сочувствие, типа – ах, не заморачивайтесь, дескать, вы этой малостью. Всякое имя – всего лишь звук – не более того. И нет вовсе за этой условностью ничего более глубокого, чем простое обозначение некоего субъекта…
О, как ошибаются они, эти сочувствующие! Имя индивидуума – это все. Оно – как штаны, которые либо подходят человеку, либо нет. Лично мне – мое подходит. Как раз, впору, черт бы его побрал, но в том-то и кроется основная причина всех моих неурядиц. Я ношу это имя, как горб на спине, с которым явился на этот свет и каковой, как известно, только могила исправит…
Вообще-то, Кибитц – это такая птичка: чибис. Из семейства ржанковых. Она все время тянется к солнцу, но это, как раз, импонирует мне. Да, это – мое, тут я не спорю. Только что мне с того? Подобно этой пичуге, с самого младенчества жадно тянусь я к синеве неба, к сладким ароматам цветов, но взамен этого, как и она, несчастная, обречен всю жизнь высвистывать дождь. Ловить рыбу в мутной воде и старательно выковыривать червей из земли, тины и всяких непотребных отбросов протекающей вокруг жизни.
Все это, однако, было бы еще терпимо, но созвучное моему имени слово «кибитцер» – это, уже чересчур! Такой ярлык навешивают вездесущему занудливому наблюдателю, который по собственной инициативе подглядывает за всем и всеми. Этот неуемный, навязчивый зевака вечно рядом и всегда суется со своими дурацкими замечаниями, подсказками и советами. Везде и всюду его ненавидят и проклинают за эту назойливость, за патологическую страсть подглядывать в чужие спальни, прильнув к замочной скважине. За очковтирательство, за неуемный зуд – выискивать соринки в чужом глазу. Все и повсюду спешат как можно быстрее избавиться от его навязчивого общества.
Так вот, все это и еще кое-что в том же духе неизменно связывают с моим именем. Вот почему «Кибитц», как ты тогда вполне резонно выразился, не имя, а сущая кара поистине библейского масштаба.
Моим родителям, от которых я унаследовал такую гадкую фамилию, следовало бы все это знать. Похоже, они-таки предчувствовали нечто в этом роде и – очевидно, желая сгладит ассоциации, которые порождает самое звучание фамилии «Кибитц», нарекли меня двойным именем. Гидеон-Эсдур. Ну, да – просто «Кибитц» звучит слабовато и как-то плебейски, «Гидеон», вроде бы, возвышает. Все-таки, Гидеон, этот драчливый воин Господень, прославился как блистательный герой. Он поднял евреев против мидианитов и амалекитов. Против восточных племен. Он победил, потому что был избранником богов. С тремя сотнями преданных воинов выступил он против несметного полчища врагов и сокрушил их. «Гидеон» – это «сокрушитель», исполин, освободивший нас, евреев, от иностранного господства. Мои родители полагали, видимо, что внушительное „Гидеон“ явится достаточным противовесом неблагозвучному „Кибитц“.
Ужасное заблуждение! Будь они знакомы с библией не столь поверхностно, им было бы известно, что Гидеон, помимо всего прочего, был еще лицемером и чрезмерно самонадеянным плутом. После победы над врагами евреи предложили ему царскую корону, но он демонстративно отверг почетное и вполне себе искреннее предложение соплеменников. "Есть лишь один царь, – театрально изрек он, взглянув на небо с притворной улыбкой, – это сам Господь!" С этими словами он сошел к ликующей толпе и выразил «скромное» желание получить в качестве вознаграждения налобные ленты поверженных врагов. Это составляло, между прочим, сорок фунтов чистого золота – громадное состояние! Он повелел сшить ему фрак и к нему – накидку из чистейшего благородного металла. Этим продемонстрировал он, что для него истинно свято. Скрягой он был, скупердяем! Ему хотелось красоваться перед женщинам. Кстати, у него было семьдесят сыновей – легко себе представить, на что растрачивал он отпущенное ему время…
Выходит, Гидеон – мой покровитель. В глубине души я стыжусь этого.
А тут еще и «Эсдур». У имени этого, как говорил мой отец, ассирийские корни, и означает оно – воздушные замки, эдакую несбыточную мечту. Эсдур – значит чуткий, сентиментальный, сострадающий – чем не портрет несчастного лунатика?
Ради бога, с чего бы мне и не быть таковым? Разумеется, порой можно чуточку и перебирать. Но я-то перебираю беспрестанно. Иной раз не грех спутать сон с явью. У меня это – правило. Злой рок. Можно, наверное, проявлять такую степень чувствительности и сострадания, что это переходит всякие границы приличий и становится безвкусицей и даже пошлостью. В этом тоже – одна из моих слабостей! Мне бы и вправду родиться лунатиком. Наверное, это отдает неким эпатажем, но даже, будучи истинным лунатиком, можно шляться по ночам до такой степени бездарно, что однажды свалиться с крыши и свернуть себе шею.
Обо всем этом мне надлежит помнить ровно потому, что в имени моем заложен первоисточник если и не всех моих несчастий, то уж, во всяком случае – большинства из них.
Насколько я знаю тебя, ты подумал сейчас: каков, дескать, нарцисс! Не слишком ли далеко заходит он в этом досужем самолюбовании?
Ты заблуждаешься, если так подумал. Мне известно, что «Эсдур» означает крайнюю душевность, но – скажи мне – что есть душа без мудрости? Не более, чем кусок неотесанного мрамора – ровно это я собой и являю. Содержание без формы. Готов согласиться: «Эсдур» – гораздо благозвучней, чем «Кибитц», но по сути это мало что меняет.
Ты не забыл, конечно, как весь класс потешался надо мной. Да и сам ты, дорогой Пауль, немало в том преуспел – разве нет? Уже тогда я обладал недюжинным аппетитом, и вы все дразнили меня «Фрэсдур» – то есть – обжора – о, как обижала меня эта злобная кличка! И только толстяк Эшбахер не терял дружеского ко мне расположения. Он усаживался к пианино и заявлял, что Es-dur – любимая тональность Бетховена. «Героика» и пятый фортепьянный концерт, опус 13, номер 3, были написаны им в этой тональности, и потому всякому кто зовется Эсдур, надлежит носить это имя с гордостью.
Есть, впрочем, и другие основания считать имя мое сущей напастью. Я имею в виду полнейшую абсурдность соединения в одном имени столь несовместимых понятий, как возвышенное «Гидеон» и уничижительное «Кибитц». Благородного Es-dur – этой возвышающей душу тональности ми-бемоль мажор – в тесном соседстве с непритязательной болотной пичугой. Непосредственное следование одного за другим – величественного и банального до ничтожности – то и дело порождает взрывы саркастического веселья.
Глубина падения с высоты величия славного воина до ничтожности жалкого, суетящегося перед дождем свистуна с дурацким подрагивающим хохолком, так огромна, что, по меньшей мере, смешна.
Словом, для меня имя мое пуще божьей кары. Смех и грех, а не имя. Сюжет дешевенького фарса для ярмарочного балагана…
Теперь – о деле: тебе, полагаю, известно, что я – человек слова. В том смысле, что слово и речь – главные инструменты моей профессии и мое призвание. И надо же – вдруг судьба безжалостно лишает меня способности говорить. Я погружен в абсолютное безмолвие. Именно я, которому по жизни предназначалось быть говоруном. Бульварным демагогом. Рупором для обывателей среднего достатка.
С момента моего прибытия в Вену я страдаю жуткими нарушениями речевой функции.
Вначале я заметил, что вдруг стал заикаться – никогда прежде со мной этого не было.
Проблема стремительно нарастала, моя речь становилась все более заторможенной, и очень скоро я уже был не в состоянии произнести что-либо членораздельно. Язык мой путался в звуках, увязал в них, будто в тягучей массе, и вместо слов из уст моих вырывался невнятный лепет. А с минувшего вторника я вообще не осмеливаюсь больше вступать в контакт с окружающими. Стоит лишь приблизиться ко мне незнакомому человеку, и всего меня начинает трясти. Панический, безотчетный страх перехватывает мое дыхание, и весь я сейчас же покрываюсь холодным потом. Я чувствую, как язык мой сковывает тотальный паралич.
Тебе не нужно объяснять, что в этом моем состоянии я не в силах посещать тебя. Сколько-нибудь продуктивный разговор между нами едва ли мог бы состояться. Вот почему я прошу тебя о попытке провести со мной сеансы заочного лечения. Возможно, ничего подобного психиатрия до сих пор не знала, но для меня, учитывая нынешнее состояние мое, попытка эта – единственный шанс вернуть мне дар речи.
Недавно я случайно наткнулся на интервью, которое ты дал "Новой Цюрихской газете". И я уверовал, что реально помочь мне можешь только ты.
Наверное, ты станешь возражать, ссылаясь на то, что единственно личный контакт способен здесь что-то изменить, что мне крайне необходимо погружаться в специфическую обстановку твоего дома, и только тогда твое воздействие на меня способно принести реальные плоды.
Сомневаюсь, что в моем случае это действительно так. В конце концов, мы с тобой знаем друг друга еще со времен совместной учебы в гимназии. Я отлично помню дом твоих родителей, в котором ты рос и в котором – если верить фотографии в газете – ты продолжаешь проживать и поныне.
Я будто сейчас отчетливо слышу твой голос с его характерной протяжной интонацией и вижу ироническую улыбку на твоем лице…
Газетные снимки свидетельствуют: ты мало изменился. И это твое внешнее сходство с Дюрренматтом – вы так похожи между собой, будто два пасхальных яйца…
Ты знаешь, я всегда был неисправимым фантазером. И, несмотря на разделяющее нас расстояние, легко могу представить себе твою реакцию на эти мои слова. Мне будет достаточно твоих писем, чтобы чувствовать на себе воздействие твоих рук, малейшие движения мускул твоего лица.
Нелишне заметить, кстати, что не так давно я получил небольшое наследство, любезно завещанное мне моим американским дядюшкой Джеймсом Грейсоном. Благодаря этому, я располагаю теперь средствами, достаточными не только для поддержания моей жизни, но и для оплаты предстоящего лечения. И значит, я готов щедро оплатить твои усилия. Несмотря на то, что я живу в Вене, а ты – в Цюрихе, я не сомневаюсь, ты вылечишь меня.
Теперь же, с этого самого момента я хотел бы, в соответствии с твоим пожеланием, перейти на "вы".
Таким образом, уважаемый господин доктор, я надеюсь, что Вы не откажете мне стать моим лечащим врачом, и что прежние отношения между нами никак не помешают моему новому положению Вашего пациента.
Остаюсь с совершенным к Вам почтением —Ваш Г-Э. Кибитц.
2
Господин Кибитц,
ваша идея провести с вами заочный курс лечения не лишена интереса. Насколько я осведомлен, в психиатрии такая практика действительно могла бы стать новаторской, обозначив собой новое направление в медицинской науке.
Это дает мне основания принять ваше предложение с надеждой на успех такого эксперимента. Успех этот зависит от нас обоих, и в особенности – от вас лично, от вашей готовности посвящать меня в обстоятельства вашей жизни абсолютно без прикрас и с должной мерой самокритики. Мне нужна от вас полнейшая искренность, тем более что вы – я хорошо помню это – издавна питаете особое пристрастие к фактам.
Думаю, вы не забыли еще, как мы величали вас «Дон Кибитц Ломанчский», за то что тогда уже, в юношеские лета, вы сражались с ветряными мельницами за высокие идеалы, смешная нелепость которых была очевидна всем, кроме вас. Сдается мне, в главной сути своей вы мало изменились.
Если вы серьезно рассчитываете на выздоровление, вам придется проявить железную волю. Я ни на йоту не сомневаюсь – ваш недуг напрямую связан с вашей оторванностью от жизни, с вашими фантазерством и непомерным честолюбием. Что же до имени вашего, то оно – я совершенно уверен – абсолютно ни при чем. Я допускаю, что оно было поводом для насмешек, которые в свое время и я отпускал в ваш адрес, но я не думаю, что непременно оно, это ваше имя, стало причиной столь внезапно постигшего вас недуга. Ваши фантазии – лишь плод болезненного воображения, и в этом состоит пропасть между вашими бредовыми идеями и реальностью.
Я предпочел бы поэтому слышать от вас голую правду. Подчеркиваю – голую правду! И потому убедительно прошу вас держаться подальше от любых форм избыточного живописания, столь свойственных вашей манере изложения. Именно по этой причине, а не какой-либо другой, я попросил вас отныне быть лишь моим пациентом. Всякие фамильярности между нами, как я уже говорил, будут лишь во вред нашему непростому эксперименту.
Ваша гипотеза относительно истоков постигшего вас недуга – я настаиваю на этом – абсолютно лишена смысла. Ибо не может ваше имя, равно, впрочем, как и любой другое, быть причиной заболевания. В конце концов, вы носите его почти полвека, а дара речи вы лишились только теперь. Ваши страдания – и это мне очевидно – порождены исключительно обстоятельствами последнего периода вашей жизни, и я хотел бы быть посвященным в них как можно более подробно.
Из вашего сообщения я понял, что вы переселились из Швейцарии в Польшу, а двадцать лет спустя – из Польши в Австрию. Это весьма странное двойное перемещение в пространстве, полагаю я, как раз и таит в себе разгадку предстоящего решения вашей проблемы.
Итак, я еще раз настаиваю: пишите мне коротко и ясно о том, как провели вы эти годы. И, пожалуйста, избавьте меня от ваших теоретических измышлений. В конце концов, психиатр тут я, а не вы – потрудитесь не забывать об этом.
3
Уважаемый господин доктор,
Ваша неприязненная реакция на мои «теоретические измышления», как вы их назвали, вполне понятна. И впредь я постараюсь придерживаться исключительно фактов, избегая каких бы то ни было комментариев.
Вы хотите знать, как и почему я оказался в Польше.
Все началось с того, что я и моя бывшая супруга однажды покинули Швейцарию и отправились на родину моих предков. Это был роскошный ноябрьский день, ослепительно сверкающий осенней бронзой. Тогда я еще не знал, господин доктор, как опасно доверяться чувствам, навеянным подобным блеском! Это теперь мне ясно, что тот самый ноябрь и был началом моего пути к конечной станции. То есть, к тупику.
Итак, мы с Алисой отправились в путь. В страну чудес, как мы полагали, и дивный ноябрьский свет лишь прибавлял восхитительных оттенков к нашим и без того радужным надеждам.
Алиса… Эта женщина была поистине Эоловой арфой – такой представлялась она мне тогда. С утонченными линиями изящного стана, будто вырезанного твердой рукой большого мастера из настоящего кремонского дерева. Я никогда не мог вдоволь наслушаться ее голоса, наглядеться в ее глаза. Слова она не выговаривала, а буквально выдыхала из самой глубины груди и ворковала при этом, как лесная горлица. Рука об руку шли мы по жизни, безжалостно руша за собой все мосты. Все или ничего – никаких компромиссов! Решение принято – ни шагу назад, и это сделало наше путешествие столь судьбоносным. Мы были влюблены, и нам не хватало мудрости. Мы были не в состоянии понять, что избранная нами дорога в «страну чудес» – это улица с односторонним движением, выстланная иллюзиями болотного цвета и столь же болотного свойства.
О, как жестоко мы заблуждались! Мы внушили себе, что в конце пути нас ждет Ханаан – волшебный райский сад самого Господа, где молоко и мед искрящимися струями стекают с веток деревьев. Нам было невдомек, что коварная дорога эта в один конец ведет – в пропасть. К концу света. К абсолютному нулю в житейском итоге.
Наивно улыбаясь, мы прямиком угодили в ад, оказавшись перед теми самыми железными вратами с отдающим ржавчиной названием «Зебжидовице». Для западных языков это название непроизносимо, а для польского уха звучит зловеще. Польское «brzydko» означает «мерзко», а «wice» – это «деревня». Таким образом, неведомая дотоле Польша начиналась для нас мерзкой деревней.
Так выглядела первая глава драмы. Так начинался вожделенный парадиз, и здесь решили мы подвергнуть испытаниям силу нашей любви.
Безрассудными младенцами оказались мы, господин доктор! Нам казалось, мы были готовы к любым вызовам неизвестности. Но к Зебжидовицу мы были совершенно не готовы, а это было только начало, всего лишь краешек Индокитая. Это была Азия, но без нефритового дворца, без экзотических джонок и орхидей. Банальное завершение затянувшегося и очень грустного рассказа. Будь мы немного старше и рассудительней, нас обоих тотчас хватил бы сердечный удар. Но мы вместо этого браво поприветствовали пограничников, будто те были святыми порученцами самих небес. Мы смотрели на них сияющими глазами и щедро угощали плитками швейцарского шоколада – эдакое подслащенное приветствие из чуждого им мира. А те охотно приняли все, даже не моргнув. Их каменные лица остались непроницаемыми, и они потребовали открыть чемоданы. Понятно, это входило в их служебные обязанности, но зачем они рылись с таким остервенением, будто перед ними стояли заклятые преступники? Сегодня я знаю, что они делали это для пущего устрашения. Чтобы с самого начала методично, шаг за шагом, выбивать из нас чувство собственного достоинства. Но мы тогда просто закрывали глаза на столь очевидные факты. Мы упрямо не хотели допускать грубого развенчания наших заветных мечтаний.
Они обнаружили у нас тоненькие сборники произведений Шекспира, изданные в Лондоне и Нью-Йорке. На английском языке, разумеется, а это был для них язык злейшего врага. Штука чрезвычайно опасная – их блуждающие глаза буквально источали панический страх перед английским текстом. Наши тряпки интересовали их не особенно. Они лишь хотели знать, что запрятано – замотано, завернуто, замаскировано – в них, в их складках и между ними. На моющее средство они вначале даже не взглянули, зато «Капитал» Маркса сейчас же насторожил бдительных стражей. Юбилейное издание в коричневом кожаном переплете. Имя Карла Маркса, стоящее на самом видном месте, их ничуть не впечатлило, зато от слова «капитал» исходил дурной запах капитализма, а он, капитализм, был здесь вне закона.
Больше они не обнаружили ничего подозрительного, и, похоже, именно это обстоятельство послужило причиной тому, что их завидное терпение было, наконец, исчерпано. По причинам, абсолютно нам непонятным, мы оба жутко не понравились им, а значит, эти прилежные парни просто обязаны были найти у нас что-нибудь недозволенное. Все до одного книжные корешки были безжалостно распороты – ничего! НИЧЕГО!!! Придраться не к чему, хоть лезь из кожи вон. Тогда нам было велено вообще покинуть вагон и не возвращаться до особого распоряжения. Мы и это сочли в порядке вещей и без малейших возражений повиновались. Выйдя наружу, мы пересекли железнодорожные пути и впервые вдохнули воздух Польши. О счастье! Мы были на седьмом небе! Вот он, терпкий воздух социалистической революции, крепко настоянный на гремучей смеси пота и крови трудящихся масс. В первом попавшемся киоске мы накупили почтовых открыток – две дюжины достойных образчиков импозантного уродства. Сгорая от нетерпения, мы сейчас же уселись на железную скамейку и принялись писать послания своим товарищам, оставшимся там, где прежде был наш дом. Текст один: «Сердечный привет из Двадцать Первого Века!» Так точно, дорогой господин доктор, именно так писали мы с Алисой!
Смеетесь? Думаете, это была всего лишь шутка? Ничуть не бывало: мы на самом деле так думали и выцарапывали наше первое послание с глубочайшей верой в наступление новой долгожданной эры всеобщего счастья на Земле.
Что же нас так понесло тогда? Мы разослали наши открытки с текстом, который по сей день заставляет меня заливаться краской стыда: надо же так завихриться – «Сердечный привет из Двадцать Первого Века!»
Мы пребывали в состоянии болезненной эйфории и совершенно не ведали, что творим. «Двадцать Первый Век» целиком захватил нас, встряхнул наши наивные души, размякшие от безоблачного быта. Мы бредили сказочной страной, в которой рукой подать до молочных рек с кисельными берегами. Мы были переполнены безотчетным восторгом предстоящего погружения в сказку.
Неподалеку от киоска сидела какая-то торговка. Она продавала перекисшую капусту и откладывала свою выручку на деревянных счетах, передвигая по проволочным жердочкам засаленные костяшки. «Боже мой, я впервые вижу счетный аппарат из каменного века». Эта крамольная мысль вначале потрясла меня, но я тотчас опомнился: такое не должно приходить мне в голову! И я сказал себе: «Деревянные счеты – это всего лишь трогательное напоминание о навсегда канувших в прошлое предметах старинного быта, так милых сердцу сентиментального человека».
Поодаль, за вокзальным забором, стояли пролетки с возницами, поджидавшими седоков. Хриплыми голосами бурчали они чуть слышно свои молитвы, прося пресвятую деву о самом простом: «Непорочная дева Ченстохова, черная Мадонна польская! Пошли нам сегодня кусок хлеба и еще 590 злотых, чтобы купить на них всего один американский доллар!»
Они шептали достаточно громко, чтобы молитва была услышана той, к кому она обращена была, и вместе с тем, осмотрительно тихо, чтобы не долететь до постороннего уха и не быть уличенным в недозволенных стенаниях: незаконное приобретение иностранной валюты грозило в те времена пятью годами тюрьмы. Несмотря на это, вся Польша промышляла незаконным оборотом заветных купюр и, похоже, до конца дней своих будет промышлять тем же.
Мы были поражены, а Алиса – даже возмущена, однако и это я отнес к разряду отживающего народного духа. Точно так же, как эти молящиеся, собрались вокруг нас облаченные в тряпье калеки душой и телом. Но милостыню они не просили: нищенствовать запрещено законом. Никто из них не проронил ни слова, но было очевидно, что каждый из этих несчастных знал собственные секреты – как размягчать сердца прохожих, побуждая их к милосердию. Один – дрожал всем телом, другой – молча исходил горючими слезами, третий – взглядом неподвижным и безучастным высматривал что-то у самого горизонта.
Мы воздержались делать подаяния, хотя сердца наши обливались кровью. Нас же учили, что в Двадцать Первом Веке нищеты не существует в принципе. А тот, кто просит подаяние, обыкновенный тунеядец, уклоняющийся от работы элемент.
Вначале мы заметили только одного, потом – еще троих или четверых. А вскоре – целую группу таких же. Откуда они вдруг появились? Вся зона обнесена километрами проволочных заграждений. На каждом шагу – бдительные блюстители порядка и таможенники. Но вдруг словно ниоткуда появляется некто в штатской одежде, а это не предвещает ничего хорошего. В единый миг все попрошайки бросаются врассыпную, охваченные внезапным паническим страхом. Позже нам объяснили, что человек этот – тот самый, который взяток не берет и одним этим представляет смертельную опасность. В воздухе повисает ледяное облако всеобщего страха. Несколько мгновений спустя, в зоне снова все возвращается на круги своя.
Проводник знаками велит нам войти в вагон. Еще немного, и мы продолжим наш путь в самое чрево только что открывшейся перед нами «Монголии».
В нашем купе нет ни таможенников, ни пограничных служащих. Вообще никого и ничего, в том числе – и нашего багажа. Пусто.
Что-то здесь не так… Спешно возвращаемся на перрон и бежим к начальнику станции, чтобы пожаловаться. Тот посмотрел на нас так, словно мы с луны свались.
– Вы что – рехнулись оба! – прорычал он, – как можно оставлять без присмотра целую кучу вещей? Вы что, не знаете, в какой стране вы теперь находитесь?
– Но это невозможно, чтобы нас обокрали, – ответил я со свойственной мне простотой, – нас ведь проверяли, когда в купе не было посторонних. Оставались лишь таможенники и пограничники!
Начальник станции захватил ртом побольше воздуха, чтобы хватило на громкое выражение чувств, охвативших его от объяснения с двумя залетными идиотами:
– А кто вам сказал, что пограничники и таможенники не воруют?! Да им – только подавай! Даром, что они носят мундиры с партийными билетами в карманах…
С чувством глубокого отвращения развернулись мы и поплелись обратно в свой вагон. Этот парень, видимо, законченный скептик. Пережиток прошлого. Чудак, право, он полагал, что мы примем его сторону и станем противниками нового мира – нас занесло сюда, как-никак, с Запада. С ЗА-ПА-ДА!
Заблуждаешься, любезный, не так просто своротить нас с избранного пути, не на тех напал! Мы не из тех, кто легко поддается на подобные уловки. Мы принадлежим к передовому классу общества. Мы – люди нового времени, строители Двадцать Первого Века. Ничто не способно разочаровать нас, а неудачи только больше укрепляют нас в наших убеждениях. Да, наш багаж украли. Весь до последней нитки. И что с того? И без багажа не пропадем. Даже еще лучше: меньше хлама на плечах – легче дорога…
Даешь Двадцать Первый Век!
4
Господин Кибитц,
меня так и подмывает спросить: кто вы, собственно, больше – законченный психопат или круглый идиот? Ваши поступки, образ ваших мыслей, дают основания причислить вас как к одной категории ненормальных, так и к другой. Однако я думаю, что, прежде всего, у вас не все в порядке с восприятием действительности. Похоже, вы способны воспринимать лишь то, что соответствует вашим личным представлениям. Между тем, все они, а заодно и душевное равновесие ваше, основаны на сплошных иллюзиях, на абсолютно искаженном понимании самой сути вещей.
Ваше письмо изумляет меня каждым замечанием, каждой мыслью. Возникает множество вполне логичных вопросов. И прежде всего – как вообще пришло вам в голову так запросто сняться вдруг с насиженного места, так легко покинуть уютное родовое гнездо? И почему вы отправились непременно в страну, от которой не осталось ровным счетом ничего? В страну, которой у всех на глазах правят отпетые мошенники? Какого лешего не сиделось вам в Швейцарии – вам было там невтерпеж? Не думаю, ибо я помню еще дом и быт ваших родителей с его чудесными картинами, скульптурами и коврами.
Только безумие могло толкнуть человека на подобный шаг. Или, может, вы стали жертвой преследования? За ваше происхождение, за убеждения ваши? Разумеется, нет, ибо Швейцария является одной из самых толерантных стран в мире – этого и вы отрицать не можете.
Далее: это ваше беспросветное самообольщение, это упрямое, патологическое игнорирование очевидных фактов. И эта инфантильная восторженность ваша, когда речь заходит о таком очевидном мыльном пузыре, как Польша, с которой рано или поздно вам предстояло войти в непримиримую конфронтацию. Не хочется забегать вперед, и я далек от мысли тотчас давать оценки, но я непременно и прежде всего должен себе уяснить: являются ваши душевные недуги врожденными или приобретенными. Если они врожденные, в чем я сомневаюсь, я ничем не смогу вам помочь. Врожденные пороки – не моя епархия, этим занимаются нейрохирурги. Если же речь идет о некем экзогенном недуге, то есть, пороке приобретенном, я могу попытаться найти средство для его лечения.
Однако я еще раз убедительно прошу вас избегать в ваших письмах любых форм экзальтации. Когда вы пишете, к примеру, что супруга ваша – сущая Эолова арфа, вырезанная к тому же, из чистого кремонского дерева, вы мешаете критически оценивать реальное положение вещей. Ради бога, избегайте вы подобных выкрутасов! Пишите кратко и содержательно, как того требовал от нас старый Цоллингер. В конце концов, в первую очередь – это в ваших личных интересах.
5
Уважаемый господин доктор,
Ваше письмо меня, мягко говоря, сильно раздосадовало. Вы упрекаете меня в экзальтации, а между тем, именно она, эта моя непомерная восторженность, являет собой отражение истинной сути моей. И если уж Вы действительно намерены ее постичь, то совсем не в Ваших интересах выхолащивать ее из моей речи, принуждая меня к совсем иной, несвойственной мне манере выражать свои мысли и представления. Напротив, вам надлежит приветствовать эту экзальтацию и находить в моих посланиях как можно больше соответствия между стилем изложения и его содержанием.
Впрочем, это лишь мое частное мнение, и но не претендует на сколько-нибудь значительное внимание.
Итак, вы спрашиваете меня, как пришло мне в голову сняться с насиженного гнезда, и какие такие непреодолимые обстоятельства вынудили нас направить стопы в Польшу, от которой не осталось ничего, кроме пыли и пепла.
Вопрос правомочен, поскольку в то время Варшава действительно являла собой не более, чем сугубо географическое название.
Для меня лично и для моей природной социальной активности этот город был еще и кладбищем героев, и он окрылял собой мои и без того далекие от реальности фантазии.
Немедленно по прибытии я заявил о себе в, так называемом, «Государственном ведомстве по делам возвращенцев», которое располагалось в деревянном бараке посреди сплошных развалин. Повсюду стояла невыносимая вонь от разлагающихся останков, от обугленных стен и людских испражнений. Кругом сновали малокровные худосочные дети. Всего несколько лет назад тут были улицы с именами, дома с номерами, магазины и офисы, но теперь ничего этого не было, кроме одинокого, чудом уцелевшего, газового фонаря. Он понуро ржавел, забыв о своем назначении. Перед ним также неприкаянно торчал из развалин фасад некогда красовавшегося здесь здания. Единственный чудом уцелевший балкон с нелепо задранными перилами сиротливо нависал над грудой камней, и на балконе этом непостижимым образом росла береза.
Я был потрясен. Это была другая планета. Иной мир. Декорация жуткого абсурдистского спектакля.
Сидевший за столом «ведомства» инвалид разглядывал меня с придирчивым любопытством:
– Что вы здесь ищете? – спросил он, и тень горькой ухмылки пробежала по его усталому лицу. Всем видом своим он хотел показать мне, что искать тут нечего, и уж во всяком случае, ничего путного для себя я здесь не найду.
– Я только что прибыл, – замялся я, – и хотел бы найти какую-нибудь работу…
– Ах, даже так, – проворчал он все с той же ухмылкой, – вы хотели бы работать. Так вот запомните, господин: хотеть или не хотеть здесь не положено. У нас каждому надлежит работать – нравится ему это или нет. А кто не работает, тот не ест. Или, может, вы привезли еду с собой? С запасом, чтоб хватило на ближайшие годы?
Этот тип будто из кожи вон лез в своем старании выглядеть подчеркнуто недружелюбным. Все в его облике было отталкивающим до крайности: тонкий нос, нелепо торчащий из жуткой физиономии, мертвецки синие губы, за которыми, едва они натужно раздвигались, чтобы выпустить наружу какие-то звуки, тотчас проступали черные, неестественно заостренные зубы. Подозрительность и неизменно дурное расположение дух буквально выпирали из всего его существа.
Возможно, он был евреем. Одним из тех в особом сообществе, все члены которого были намертво скованы паническим страхом – то ли заскорузлым, первозданным, то ли уже новоявленным, ставшим уродливым порождением нового времени.
Этот тип был облачен в сильно потертый мундир, призванный, очевидно, подчеркивать социальную значимость его служивого обладателя, однако весь облик этого человека выдавал крайнюю степень обнищания. Он больше походил на жалкого шута, чем на государственного служащего, хотя изо всех сил старался держаться в высшей степени официально, как того требовало дело, к которому он был приставлен.
Таким предстал передо мной первый поляк, с которым мне пришлось иметь дело на польской земле. Общение с ним энтузиазма никак не прибавляло. Мое здесь появление было ему явно не по душе. Неприветливо разговаривая со мной, он царапал что-то пером на листке лежащего перед ним календаря:
– Я здесь для того и нахожусь, чтобы подобрать вам какую-то работу. Что вы умеете делать?
Вопрос оказался для меня неожиданным и трудным. Действительно, что я умею делать? Признаться, не слишком много. И уж во всяком случае – ничего такого, что могло бы пригодиться здесь и сейчас. Я учился, защитил диссертацию, но это, пожалуй, и все.
– Есть же у вас какая-нибудь профессия, или нет? – с нескрываемым раздражением в голосе буркнул строгий служака, выковыривая деревянной щепкой застарелую грязь из-под ногтей.
Неприязнь и подозрительность буквально пронизывали меня. Мне стало понятно: если я хочу здесь остаться, я должен любой ценой завоевать его симпатии.
– В Швейцарии я преподавал историю, – ответил я, как можно более спокойным тоном.
– Мать честная, – простонал он, – надо же такое: историю он, видите ли, преподавал!
Я понял, что сморозил несусветную чушь.
– Но я согласен на любую работу, – поспешил я исправить впечатление, – готов делать все, что скажете. Куда бы вы не определили меня, я буду стараться делать все, что в моих силах…
– На любую работу согласны вы, – снова огрызнулся он, – на любую! Так вот, выбросьте это из головы и запомните: здесь так не пройдет! У нас каждому положено делать только одну работу, но делать ее на все сто!
Похоже, каждое сказанное мною слово лишь усугубляет мое положение.
– Мне двадцать семь лет, – пролепетал я, потеряв всякую в себе уверенность, – и, как видите, здоровьем не обделен. Я вовсе не слабак и не лентяй. Скажите только, где могу я быть полезным, и я приступлю к работе немедленно.
Он стал долго и обстоятельно сморкаться. Я чувствовал, что ему в этом мире не нравится решительно никто и менее всех – я. А я, между тем, стараясь не встречаться с ним взглядом, тупо уставился в окно и увидел громадную крысу, которая с трудом продиралась между торчащими в разные стороны пружинами валявшегося в груде хлама матраса. Никогда прежде я не видел живой крысы. И вообще, мои представления о реальной жизни были целиком построены на информации, почерпнутой из книг. Из вторых рук, можно сказать, а тут вдруг я воочию увидел самого отвратительного грызуна из всех обитающих на нашей планете. В двух шагах от меня. И это была реальность.
Сердце мое зашлось от ликования! Стоило мне протянуть руку, и я коснулся бы этой твари. Наконец-то я нахожусь в правильном месте. Настоящая, а не книжная жизнь из первых рук предстала передо мной в первозданной реальности, всей осязаемой сутью своей – весомо, зримо…
– Я бы хотел отрезвить вас, уважаемый господин, – заявил мой невзрачный сутулый собеседник, возвращая меня с небес на землю, – у нас понятие «история» трактуется несколько иначе…
– Иначе, чем где? – спросил я.
– Чем у вас на Западе, – ответил он, – история, знаете ли, штука деликатная. Но уж если вам непременно хочется рассказывать разные истории, – он на мгновенье задумался, – то как насчет радиовещания?
Он не шутил, господин доктор, он говорил вполне серьезно. Этот тип решил направить меня на работу на радиовещание, хотя я не имел ни малейшего представления о том, чем они там занимаются. «Там вещают, – подумал я, исходя из определения, – вероятнее всего – на весь мир. Понятно. Следовательно, мне предстоит всему белому свету рассказывать различные истории, поскольку я по профессии историк. Что ж, вполне логично. Или опять я понимаю что-то не так? Значит, если бы я изучал искусство, я был бы направлен на фабрику по переработке искусственных материалов…
Уму непостижимо!
– А почему, собственно, нет? – ответил я, стараясь не поддаваться охватившим меня сомнениям, – очень даже оригинальная идея! Мои будущие коллеги повалятся со стульев, когда я явлюсь к ним с этим направлением и представлюсь, кто я такой…
Со стула, однако, никто не свалился. Напротив, мои новые коллеги с улыбкой обменялись понимающими взглядами и предложили тотчас приступить к работе.
– Завтра во Франкфурте на Одере будет иметь место исторический момент, – сказали они мне, – поскольку ты историк, тебе и карты в руки. Как говорится, нужный человек – в нужном месте – лучше не придумаешь! Отправляйся туда и сделай репортаж.
– А как это делается? – задал я абсолютно невинный вопрос.
– Вполне обыкновенно: там будет установлен микрофон. Берешь его в руки и начинаешь говорить.
– О чем говорить-то, Господи прости?
– О том, что видишь, и о том, как ты это воспринимаешь. Задания проще и не придумать. Отправляйся, товарищ, и ни о чем не беспокойся!
Беспокойство все-таки меня не покидало. Я ведь еврей, а беспокойство, как известно, вечный спутник еврея. Слишком уж в новинку было все это для меня. Слишком непривычно. Почему мои товарищи решили, что непременно состоится исторический момент? До сих пор я был уверен, что исторические моменты происходят случайно. Подобно метеоритам, которые падают с неба, когда никто их не ждет.
Но товарищи преподавали мне иные правила:
– Так было раньше. А нынче все у нас происходит по-другому. Сегодня мы не ожидаем тех или иных событий, а творим их. Как говорит товарищ Сталин, мы – кузнецы истории. И тебе предстоит у нас этому научиться. Так что, не задавай лишних вопросов. Отправляйся, и все свершится само собой.
Так оно и было. Прибыв на место я узнал, что руководители Польши и Восточной Германии подписали исторический документ! Договор о вечной дружбе на Одере и Нейсе. Грандиозно! Сказочно! На вечные времена, как меня уверяли. Ну разумеется, это был единственный в своем роде, абсолютно исторический момент: граница между бывшими врагами в единый миг превратилась в границу между вечными друзьями. Всего две подписи – и чудо свершилось. Наконец-то жуткое упущение, веками правившее бал, исправлено раз и на всегда. Впервые с сотворения мира!
– И с этого исторического момента, – взахлеб гремели на всю округу тысячи репродукторов, – все у нас будет иначе!
Я слушал все это и принимал к сведению, но внутренний голос не унимался: всякий договор, – назидательно подстрекал он, – всего лишь бумага. Я изучал историю в трезвомыслящей Швейцарии, где меня учили, что всякие соглашения принимаются для того, чтобы в должное время быть разорванными. Или преданными огню. На глазах неистово бушующей толпы. Сколь историческим является такое соглашение выяснится позже…
О, Господи, и угораздило же меня стать историком…
Как бы то ни было, я отодвинул свои сомнения на задний план и погрузился в технические детали: как, собственно, обращаться с микрофоном? На каком расстоянии от губ следует его держать? Как громко и как быстро нужно в него говорить? Вскоре я приловчился, но смущение все еще не покидало меня. К тому же, донимала головная боль, но это я целиком отнес на счет переменчивой погоды: над Франкфуртом висел мокрый туман, холодный и неуютный.
Город лежал в руинах, и только вокруг главной площади – кажется, она называлась площадью Сталина – одиноко маячили два – три уцелевших фасада. Море людей заполняло улицы. Крайне бедно одетые, с абсолютно постными бледными лицами, они уныло, будто из-под палки, тянулись к указанному им месту, которое когда-то являло собой центр города.
Я намеревался сделать репортаж века, эдакую незабываемую летопись о звездном часе человечества, но тяжелое чувство, не унимаясь, грызло меня изнутри и начисто лишило мой голос выразительности. Тем не менее, я взял в руки микрофон, приготовил свои шпаргалки и, весь собравшись, приступил к делу. «Может быть, – говорил я себе, – все у меня получится совсем не так, как надо, но за правдивость я ручаюсь».
«Ну и пусть, – продолжал я успокаивать самого себя, – и дай бог, чтоб так получилось! Даже лучше, чтобы у коллег моих не было соблазна сделать из меня придворного репортера правящей верхушки…»
Но все получилось совсем не так, как я полагал. К моему великому удивлению, всеобщее равнодушие масс переросло внезапно в пламенное всеобщее возбуждение, которое вполне можно было назвать историческим. Когда громкоговорители провозгласили, что нынешний день будет золотыми буквами вписан в историю Европы, что наступил момент всеобщего торжества и ликования, массы буквально взорвались от восторга, и народ действительно стал неистовствовать. Весь Франкфурт высыпал на улицы, чтобы приветствовать наступление новой эры, эпохи братского сотрудничества и всеобщей пролетарской солидарности. Именно такие слова неслись из тысяч охрипших от ора громкоговорителей, и великая страсть разом охватила многотысячную массу ликующих людей.
Во всяком случае, таким представлялось мне тогда все это бушующее действо…
До той поры в моем представлении существовали два основных способа открытого выражения возвышенных чувств – так называемые, континентальный и средиземноморский. Последний тип, как я полагал, имеет сугубо генетических характер. Это сидит в нас под самой кожей и готово при первой подходящей возможности вырваться наружу. При этом человек легко срывается с якорей, забывая обо всем на свете. Он весь трепещет и готов рвать на себе рубашку. Он плачет, рыдает или вовсе беснуется, готовый высадить зубы любому, кто подвернется под горячую руку.
Наряду с этим, полагал я, при континентальном типе изъявления высоких чувств человек выражает свое отношение к происходящему едва заметной морщинкой, почти тенью, промелькнувшей в уголках рта. Движением руки столь легким, что кажется, будто рука эта сутками находилась в состоянии глубокой заморозки и буквально только что была подвергнута основательной стерильной обработке. Человек может кивать в знак согласия, даже аплодировать, так и не стряхнув с губ многозначительной, едва заметной ухмылки.
Во Франкфурте на Одере я открыл для себя третью разновидность выражения своего отношения к происходящим событиям. Революционную. Это было организованное буйство толпы. Управляемая безудержность. Всеобщее помешательство, добротно отрежиссированное для средств массовой информации.
Людские потоки проносились мимо, изрыгая одни и те же лозунги, которые сотрясали все вокруг словно ударами тяжелого молота. Люди дружно маршировали по улицам четко отработанным шагом. Миллион пронзительных голосовых связок, будто тяжелый выдох гигантского локомотива, ритмично сотрясал наэлектризованный воздух.
Полмиллиона немцев были нарочно стянуты во Франкфурт на Одере. И еще столько же поляков привезли сюда на грузовиках и специальными поездами. Слившимися в общий нестройный хор голосами они кричали, что коммунизм – это будущее человечества, и что рабочий класс является единственным гарантом мира на земле. Холодный пот прошиб меня снова. Вокруг бушевала настоящая жизнь. Вот она – стоит лишь протянуть руку, и я коснусь ее…
Я стоял где-то в центре площади на специально для этого сколоченном подиуме, обнесенном забором, который ограждал меня от общего шабаша. Потрясенный происходящим, наблюдал я, как другие мои коллеги служили эту массовую торжественную мессу. С энтузиазмом, не ослабевающим ни на миг, декламировали они через микрофон крылатые фразы. В отдельные моменты голоса их вздымались до призывного крика, обращая текущую мимо толпу в форменное неистовство. Когда же они вдруг сникали, будто по команде, они звучали еще более угрожающе, и от этого становилось по-настоящему страшно.
Были мои коллеги искренними или нет – судить не могу. Я был всего лишь начинающим репортером и потому не вправе был спрашивать, не показным ли был весь этот бойцовский запал. Скорее всего, они-таки лгали, эти неуемные глашатаи партии, с тем чтобы просто заработать себе на хлеб. Я, между прочим, тоже. Человеку нужно выживать, господин доктор, или вы думаете иначе? Народ должен выстоять при любом раскладе, и потому люди громко и выразительно подыгрывали неистовствующим горлодерам.
Я действительно не мог знать, были все эти нервические конвульсии толпы спонтанными или всего лишь мастерски поставленной имитацией массовой эпилепсии.
Я всегда был человеком достаточно музыкальным. Малейшая фальшь одного только инструмента, не говоря уже о целом оркестре, резала мне слух, и я весь буквально вздрагивал, не находя себе места. Но тут я оказался, как никогда прежде, тугоухим. Я избегал задавать вопросы, потому что боялся ответов на них. Единственное, что волновало меня, это вопрос формального свойства: следует ли мне читать со шпаргалки, или я должен выдумывать что-то свежее, импровизируя прямо по ходу дела? Из осторожности я тайком решил читать мои домашние заготовки. Так я, по крайней мере, не зависну в растерянности и – главное – не сболтну чего-нибудь невпопад.
Судьба, однако, решительным образом скорректировала мои планы. На то была божья воля, как видится это мне сегодня. В тот самый момент, когда я готов был начать мой репортаж, случился неожиданный порыв ветра и вырвал у меня из рук все мои шпаргалки. В ужасе застыл я на полуслове. Теперь уж точно придется импровизировать – хочется мне этого или нет. Будто из-под палки, стал я выдавливать из себя слова, которые приходили на ум. Моя голова буквально раскалилась от величественного зрелища, но сердце мое – как бы это правильнее объяснить – оставалось абсолютно холодным, а ум – столь же трезвым, и оба никак не сочувствовали происходящему вокруг. Иначе я не мог. Воспитание в цюрихской гимназии взяло свое.
Все, что холодным размеренным голосом стороннего наблюдателя вещал я в тот зимний день в мой микрофон, правдиво передавало происходящее на моих глазах и ровно по этой причине решительно не отвечало ожиданиям тех, кто послал меня сюда. Одному черту известно, зачем я демонстрировал столь откровенную объективность. Видать, с самого рождения засели в моем языке какие-то особые тормоза, которые чутко реагируют на фальшь. А может, в тот самый момент некий внутренний голос назидательно и лицемерно нашептал мне: «Ты должен уцелеть – ДОЛЖЕН»!
Когда я говорю «мое цюрихское воспитание», вы, господин доктор, хорошо понимаете, что при этом имею я в виду. Кстати сказать, наставления незабвенного Цоллингера принесли свои плоды.
Подведу короткий итог: это был редкий случай в моей карьере, когда я строжайше придерживался фактов. Я говорил только о том, что видел, не давая разгуляться фантазии: кратко, четко, объективно. Через несколько минут я закончил мой репортаж и, швырнув свой микрофон на подиум, выбрался из толпы. Мой ночной экспресс отправлялся в 17.30. Я вошел в вагон с чувством исполненного долга и с уверенностью, что жребий, брошенный мной, непременно отзовется. Где-нибудь. Рано или поздно.
Мой поезд натужно тащился по равнине, и до Варшавы было добрых четырнадцать часов. Вопреки смертельной усталости, уснуть я так и не смог. Я сидел в полном одиночестве в моем купе и, будучи абсолютно в себе разочарованным, предавался черным мыслям.
Это провал! Мой репортаж был, мягко говоря, никудышным, и я с пристрастием спрашивал себя, что вообще из меня получится. Мне представился великий шанс, и я упустил его. Поразительно! В тот год я упустил добрую дюжину шансов. Понятия не имею – почему, но это так. Быть может, сдали мои тормоза… Невероятно. В Швейцарии они исправно служили. И лишь здесь, в Двадцать Первом Веке – вдруг столь досадный отказ…
Я сидел в моем купе и нагонял на себя уныние. Вдруг я заметил некое видение. В коридоре, в пяти шагах от меня, стояла – как бы это выразиться – колдунья, нимфа или черт знает, что это было. Коралловый цветок персика. Огненногривая русалка. Она курила, облокотившись на стекло, и соблазнительно покачивала ногой.
Должен заметить, что подобные встречи мне не чужды. Они составляют часть истории моих неудач. Они случаются со мной с определенным интервалом. Всякий раз, когда я где-то терплю фиаско – или что-то в этом роде, какая-нибудь дама непременно оказывается на моем пути. Коварное искушение настигает меня и сладко кружит мне голову.
Хочу подчеркнуть: женщины никогда не являлись причиной моих неудач. Скорее, наоборот, они способствовали душевному равновесию, приносили утешение, облегчение, а порой давали добрый совет. Но всякий раз они становились началом новой главы – так случилось и на сей раз, когда, вконец удрученный, я уныло возвращался домой из моей первой служебной командировки.
Не знаю, приметила ли меня эта Цирцея, помню только, что она во все стороны постреливала глазками и время от времени томно закатывала их. Она подмигнула мне, глядя при этом сквозь меня. Казалось, она только что сошла с небес. Внезапно она повернулась и решительно направилась в мою сторону.
– Меня зовут Ирена, – тут же представилась она, – а тебя?
Меня бросило сначала в жар, потом – в холод.
– А разве мы знакомы? – задал я в ответ дурацкий вопрос, совершенно растерявшись от неожиданности.
– Так в чем же дело, – просто ответила она, – можем познакомиться, если не возражаешь.
От нее исходил такой аромат, что в голове у меня помутилось. Она загасила сигарету, тут же раскурила другую и пристроилась рядом со мной. Запах свежего хлеба исходил от ее волос. Наши колени соприкоснулись…
Будь я настоящим мужчиной, я немедленно овладел бы ею. Но я отнюдь не был таковым, господин доктор. Я был солдатом мировой революции.
Она положила руку мне на шею и попыталась привлечь к себе. Искушала меня, не проронив ни слова, будоражила мои чувства, но я оставался неприступным, как сухое бревно. Молчал, тупо уставившись в пустоту.
Лицо ее вдруг помрачнело.
– Что с тобой стряслось, парень, – спросила она ледяным тоном, отодвигаясь от меня, – ты лишился дара речи?
Дрожь сотрясала всего меня с ног до головы. Холодный пот стекал со лба, но я продолжал оставаться неприступным, как святой Антоний Падуанский.
– Что стряслось с тобой, спрашиваю я, – девушка все еще не теряла надежды достучаться до подвернувшегося ей олуха, – ты слишком робок? Ты очень волнуешься или что-то другое?
Собрав остатки мужества, я стал просить у нее прощения. Я, дескать, слишком озабочен и не расположен вести пустые разговоры с кем бы то ни было.
Она встала и направилась к выходу.
– Ты понимаешь, парень, какую возможность ты упустил? – сказала она, обернувшись у самой двери, – ладно, желаю тебе успешно справиться с твоими заботами. И спи спокойно.
Вы понимаете, господин доктор, что после всего этого я никак не мог заснуть. Мои мысли метались из стороны в сторону. От событий во Франкфурте на Одере – вихрем обратно к моей прекрасной Мелузине с тициановски огненными волосами. Как мог я оставаться при ней столь жуткой окаменелостью? Таким трусливым и безвольным? Ведь я же – стальной парень, – воображал я себе, – как случилось, что вдруг я лишился дара речи, когда представилась редкая возможность пережить незабываемое приключение с шикарной ведьмочкой, у которой беломраморная кожа и такой сладкий соблазнительный голосок? Было ли это следствием воспитания в цюрихской гимназии? Объясните же мне это хотя бы вы, господин доктор! Почему не ликовал я, когда два веками враждовавших народа, взявшись за руки, клялись в дружбе на вечные времена? Разве я замаскировавшийся враг? Или поборник кровавых войн? А может, я просто потерпел фиаско из-за моей замкнутости, моего замороженного сердца западного интеллектуала?
Я, наверное, один из тех простофиль, наивных вьюношей, которые свято верят, будто и в самом деле можно очистить собственную шкуру от налипшей на нее грязи, оставаясь при этом совершенно сухим…
Ах, как права она, эта огнегривая Ирена! Да, я слишком робок и потому пячусь всякий раз, когда настоящая, реальная жизнь самым краешком касается меня. Что в классовой борьбе, что в любви – все одно. Я – вечно колеблющийся. Как говорят евреи, «холодная печенка».
Почему не овладел я Иреной, когда она соблазняла меня? Нужно ли доказывать, что стрелка моего компаса упиралась острием в небо, и кровь моя стала закипать, но именно моя способность к действию оказалась намертво заблокированной. Мое сердце было на грани обморока, оно буквально пошло вразнос, но разум мой непоколебимо стоял на своем: НЕТ! Тогда как все тело мое трепетало от предчувствия наслаждения и требовало: ДА! ДА! ДА!
Вот, где по-настоящему бурлило самое важное противоречие моего характера!
Я закрыл глаза, мысленно представил себе мою бледнорозовую Цирцею. Я видел, я осязал ее рядом с собой. Обнаженной, волнующей. Я чувствовал, как ее огненные волосы живительной прохладой струятся по моим бедрам…
Я проклинал мою железобетонную непоколебимость и в сладостных грезах снова и снова переживал все то, что так бездарно упустил наяву при полном сознании.
Когда я проснулся, уже брезжил рассвет. Я чувствовал себя совершенно истерзанным и вяло поплелся в туалет. Из зеркала на меня пялилось нечто абсолютно жалкое: скомканное и безвольное лицо с тяжеленными мешками под глазами.
Что со мной произошло? За одну ночь превратился я в некую бесполую субстанцию. В нечто среднее между потенциальным сластолюбцем и существом якобы высокого долга. Который, с одной стороны, вроде бы, тянется к возвышенному, а с другой – являет собой жалкого мямлю, начисто лишенного естественной для человека жажды наслаждений.
Около девяти часов мой скорый поезд прибыл к Западному вокзалу. Я нанял такси и отправился в радиостудию. Я чувствовал, знал наверняка – что меня там ждет. Придворные репортеры – каждый за себя – проповедовали по доброму часу без передышки. Мне хватило для репортажа неполных пяти минут. Мои коллеги во все горло голосили хвалебные гимны. Я оставался невозмутимо холодным. Вялым, безучастным и абсолютно безразличным к происходящему. Малодушным оказался я и потерпел двойное фиаско: вначале от микрофона, потом – и от этого цветка персика с коралловым отливом… И за все это я непременно должен поплатиться – как же иначе!
Старик Узданский встретил меня саркастически-пренебрежительно.
– Мы очень благодарны вам, – проворчал он, доставая из портсигара очередную сигарету.
– За что? – растерялся я от неожиданности и не понимая намека.
– За оба ваши репортажа, – спокойно ответил он.
– За оба, – пролепетал я, – какие оба? Я ведь сделал только один, да и тот – сомнительный…
– За оба репортажа, товарищ Кибитц, – повторил он, – за ваш первый и он же – последний!
В тот же день я был отстранен от репортерской работы. Мне еще крупно повезло: за мой провал меня могли бы и вовсе упрятать, куда подальше. Тогда я еще не знал, радоваться мне или огорчаться. Это был мой первый провал в Двадцать Первом Веке, первое в жизни серьезное поражение. Сегодня я спрашиваю себя, не явилось ли это началом полосы неудач, которая впоследствии и привела к моему недугу? А что думаете об этом Вы, господин доктор?
6
Господин Кибитц,
я готов согласиться с тем, что именно эти два фиаско, постигшие вас в тот роковой день, являются началом полосы неудач в вашей жизни. Однако это вовсе не означает, что именно в этих роковых, как вы их называете, провалах следует искать истоки вашего недуга. Более того, серьезные житейские неудачи, побуждают человека искать и находить себя, предопределяя тем самым становление личности – процесс столь же мучительный, сколь и созидательный. Подтверждений тому сколь угодно много. Глубокое и опасное заблуждение полагать, будто человек как индивидуум приходит к нравственному созреванию исключительно на крыльях успеха. Как раз напротив: например, мы, швейцарцы, постигли высокое искусство оставаться в тени и быть неприметными. Неприметным цветком, как говорят, никто не насладится, но зато он и сорван не будет. Наибольшей вероятностью выживания, как показывает статистика, обладают люди малоприметные, поскольку они не бросаются в глаза.
У меня складывается впечатление, что вы страдаете комплексом обязательности успеха во всех ваших начинаниях. Эдаким биполярным неврозом, который напрочь утвердился в вашем иудаизме – с одной стороны, в виде комплекса неполноценности, а с другой – в виде тщеславия, непомерно раздутого и алчущего сиюминутного удовлетворения, которое, в конечном счете, и является следствием того же самого комплекса неполноценности.
Касательно обоих полюсов этого вашего невроза хочу сказать следующее: комплекс неполноценности и успех – непримиримые антагонисты. В психиатрии говорят о каталептическом торможении, которое как в сексуальной, так и в профессиональной сферах препятствует нормальному проявлению воли человека, начисто ее подавляя. Явление каталептического торможения восходит обычно к опыту детских переживаний и впечатлений. В вашем случае они, к тому же, могут объясняться укоренившимся глубоко в сознании евреев чувством вины. Вы терзаетесь осознанием этой вины в смерти Господа – в распятии Христа, и эти терзания свойственны вашей расе, равно как и корыстолюбие, граничащее с алчностью. В то же время, вы страдаете непомерным тщеславием, которым пытаетесь компенсировать ваше самоуничижение.
Вовсе не случайно решили вы сделаться репортером, эдаким высшим проповедником коммунистических праздничных ритуалов, певцом красной диктатуры, который взахлеб курит фимиам власть предержащим и подобострастно поет панегирики их верховному жрецу. Вы мечтали, небось, воспевать победу автократии, сделаться личным профессиональным льстецом и столь преуспеть в искусстве лести, что вас провозгласят любимцем тирании. И тогда, как виделось это вам, сделавшись ревностным пропагандистом Верховного Жреца, вы возвыситесь над собственной ничтожностью. Вы возжелали выслужиться в царедворцы и состоять своим при дворе, насыщать утробу и в благодарность за эту сытость собственной безупречной службой наводить искусственный блеск на уродливую коросту власти. Облагораживать фасад деспота, припудривать его жуткую гримасу.
Извольте, но в этом как раз и состоит ваше главное поражение – именно в этом, а вовсе не в безобидном фиаско с той рыжей девицей. И значит, на этом надлежит нам сосредоточиться в анализе случившегося с вами.
Неудачи, если присмотреться к ним внимательней, нередко таковыми вовсе не являются. И даже совсем напротив.
Вы опростоволосились дважды, однако, что случилось бы, окажись вы на высоте положения? Вы стали бы придворным репортером или любовником сомнительной бабенки. И я, знаете ли, склоняюсь к тому, чтобы этот ваш комплекс неполноценности, сыгравший на сей раз положительную роль благоприятного тормоза, противодействующего разгулу вашего непомерного тщеславия, расценивать как фактор стабильности.
Вы, однако, в вашем письме говорите, что позже, во сне, вы как бы пережили все ощущения, которые, якобы, бесславно упустили наяву. Судя по этому, вы ведете двойную жизнь, что свидетельствует о раздвоении личности. Дневные представления отделены от ночных глубочайшей пропастью. Сознательная жизнь с должными тормозами рассудительности, которую вы, возможно, ведете, и тут же – ничем не сдерживаемая вольница безудержной фантазии. Это было бы еще вполне терпимым, не преступай вы то и дело границы обоих состояний. Слишком уж часто принимаете вы решения, навязываемые вам болезненной фантазией вашего подсознания. Это является свидетельством затянувшихся явлений инфантильности или пубертата, жертвами которых вы то и дело становитесь. Изо всех сил тянетесь вы к ирреальному, к недостижимому и потому – к опасному.
Я напоминал вам, что мы дали вам кличку "Дон Кибитц". "Дон Кибитц Ломанческий". Похоже, таковым вы и остались. На вашем худом Росинанте несетесь вы сквозь годы, подобно апокалиптическому рыцарю печального образа.
В Польшу вас занесло, чтобы там отчаянно рваться навстречу своей погибели. Вы устроились на радиовещание – и что в итоге? Вы были изгнаны. Вы познали муки поражения, и все это из-за вашего болезненного еврейского честолюбия, перемешанного с каталептическим торможением. Вам захотелось возвыситься и для этого вы пошли на самоунижение. Высшая точка, апогей мечтаний – это всегда притягательно, но и столь же чревато сломанной шеей. Вы тянетесь к этому и боитесь – одновременно. Этот конфликт, который сродни многочисленным фобиям, называют в последнее время навязчивым страхом перед оргазмом.
Я пока не знаю, против чего, в первую очередь, нам предстоит бороться: против честолюбия или против комплекса неполноценности. Или против чего-то третьего, что нам лишь предстоит установить. Пока мне хотелось бы знать, как сложилась ваша жизнь после изгнания из радиокомитета.
7
Уважаемый господин доктор,
прежде чем продолжить описание моих блужданий, я хотел бы коротко коснуться Вашей гипотезы о каталептической заторможенности. То есть, о психическом блокировании определенных функций, которое Вы странным образом называете навязчивой оргазмобоязнью. Эта ваша гипотеза неприятно меня удивила и даже позабавила. Ибо она, эта самая боязнь, никак не вписывается в мой жизненный опыт. Ваши умозаключения имеют под собой абсолютно ложные предположения.
Во-первых, я вовсе не собирался становиться придворным репортером. Тот тип из службы возвращенцев приставил меня к этой работе, и я дал согласие, абсолютно не представляя себе, что за этим стоит.
Во-вторых, у меня физически не было времени сделаться льстецом правящего режима, ибо в двадцать четыре часа я был изгнан из радиокомитета. Изгнан, потому что не соответствовал требованиям, предъявляемым к пропагандисту. За то лишь, что не проявил должной почтительности к тиранам. Потому что прибыл из нейтральной Швейцарии и сам оказался до мозга костей нейтральным.
Что же до оргазмобоязни, то мнения Вашего я абсолютно не разделяю. Будь это так, я был бы предрасположен к страстям. На самом же деле, все обстоит как раз наоборот. Я родился под знаком Тельца, и потому крайне от этого далек. Разумеется, я свято чту высокие идеалы, но я приписываю это исключительно своей нечистой совести: я имею в виду мою животную чувственность, которую я средствами непомерной одухотворенности пытаюсь вогнать в должное русло. С юных лет мне хочется доказать, что я идеалист, противостоящий плотским наслаждениям. Об этой моей раздвоенности, этой губительной двойной игре я готов кое-что любопытное поведать Вам, однако, вернемся к моей истории.
Итак, я был выгнан, что в те времена являлось определенной формой наказания. Меня вполне могли куда-нибудь сослать или даже загнать в исправительный лагерь. Но вместо этого меня отправили к Дарджинскому на обучение в качестве ассистента режиссера в отделение радиопостановок. Узданский хотел всучить мне какую-то памятку, но я, вопреки горечи поражения, чувствовал себя счастливейшим человеком на свете. Мой шеф вознамерился, как можно сильнее, унизить меня, но, вместо это, буквально втолкнул меня в сказочную империю искусства. В сладкую ссылку по имени «Театр». Лучшие польские актеры приходили в нашу студию, божественные женщины и неземные мужчины, которые всем своим существом буквально парили над непроходимой трясиной тусклой бытовщины. Они разговаривали с удивительным очарованием в голосе, и все, что они делали, казалось мне великолепным и многозначительным.
Я носил почетный титул ассистента режиссера, а в сущности от меня требовалось подавать Дарджинскому кофе. Кроме того, я носил артистам булочки с начинкой, однако мне и в голову не приходило выражать недовольство моей работой. Светская жизнь, которая кипела вокруг меня, затуманила мне глаза. К тому же, я втайне надеялся: не вечно же быть мне на побегушках. Рано или поздно меня заметят и поручат настоящее дело, и мне, быть может, доведется сыграть на этой блистательной сцене пусть даже второстепенную, малозаметную, но собственную роль.
О чем еще мог я мечтать, господин доктор? Я учился новой профессии, которая интересовала меня несравненно больше, чем все насквозь пропыленные документы женевского архива вместе взятые.
Наверное, господин доктор, эти мои откровения удивят вас. Еще бы, вы все рассуждаете о пороках, якобы имманентно свойственных моим соплеменникам. Будто бы я вечно снедаем неутолимой жаждой успеха. А тут – на тебе: согласен на малозаметную роль…
Уверяю Вас, вы ошибаетесь, если и не абсолютно, то в немалой степени. Я много наблюдал Дарджинского. Как он готовится к передаче, как работает над текстом, как растолковывает актерам их роли. Я внимательно наблюдал за тем, как звукорежиссер подносит актерам микрофоны, руководствуясь знаками, которые едва заметно подает ему Мастер. За монтажницами, которые, беспрекословно подчиняясь его желаниям, подмешивают в записи шумовые эффекты. За композиторами, которые воплощали в музыке видение Дарджинского. Все в унисон исполняли свои партии в этом громадном слаженном оркестре Великого Мага. Все боготворили могучего Старика, который непререкаемо царствовал в ирреальном мире, но который, при всем при этом, был прекрасней, поэтичней и, если хотите, реальней нашей серой будничной суеты. В этой микровселенной я был всего лишь крохотной шестереночкой, но я чувствовал себя бесконечно счастливым. До той роковой пятницы, которую мне не забыть до смертного часа моего.
Дарджинский послал меня в центральный универмаг за парой шнурков для его ботинок. В его голосе я услышал явное раздражение и подчинился весьма неохотно. Когда я вернулся с покупкой, он повелительным жестом указательного пальца велел мне вытащить из его ботинок старые шнурки и втянуть новые.
Это было уже слишком. В конце концов, я приехал из Швейцарии, где ни управителям, ни режиссерам никто в ноги не бухается. Весь дрожа от возмущения, я, тем не менее, взял себя в руки.
– Почему, – сухо выдавил я из себя, – по какому праву вы обращаетесь со мной, как с куском коровьего дерьма?
– Потому, – спокойно ответил он, – что вы таковым и являетесь, господин Кибитц. Все очень просто.
Мне стало понятно: я для него – лишь сор под ногами. Неисправимый болван, из которого ничего путного не выйдет. Никакого повода для подобного суждения я ему не давал, но он открыто оценил меня ровно так же, как та красотка в ночном экспрессе. И почему только все так ополчились против меня? Это было выше моего понимания.
– По какому праву вы оскорбляете меня, – спросил я, весь полыхая от стыда и гнева, – я сделал вам что-нибудь дурное?
Дарджинский вплотную подошел ко мне. Он сочувствующе покачал головой, и я отчетливо видел, сколь отвратителен я ему.
– Умный человек, – процедил он сквозь зубы, сверкнув глазами, – бежит из Польши в Швейцарию. А вы, господин Кибитц, кусок коровьего дерьма, потому что вы перебежали из Швейцарии в Польшу.
– И что с того? – неуверенно спросил я.
– Ровным счетом ничего, – спокойно ответил Дарджинский, – замените мне шнурки в ботинках, и мы продолжим!
Вы спросите, господин доктор, почему вообще я позволил Дарджинскому такое со мной обращение? Очень просто: я любил его. Я молился на него, как на бога. Я мечтал стать таким, как он. Яркой звездой на бесконечном небосклоне. Ради этого он мог унижать меня, как хотел. Перед всеми коллегами и актерами. Я не смел, не мог держать на него обиды. Потому что он был не от мира сего. Он целиком принадлежал искусству.
8
Господин Кибитц,
полагаю, вы не станете возражать, что, в известной степени, Дарджинский был прав, позволяя себе так грубо унижать вас. Его аргументация достаточно убедительна, хотя излагал он ее не совсем тактично. Слова его были жесткими, но справедливыми. А вот вашего возмущения я понять не могу. Вы же сами говорите, что Дарджинский был большим художником. И вы не можете не согласиться, что этот «большой художник» называл вещи своими именами – что же вы блажите? Чем тут возмущаться? Тем, что он послал вас в магазин за шнурками для ботинок? Это показалось вам унизительным? Вы пишите, что прибыли из страны, где ни управителям, ни режиссерам никто в ноги не бухается. Это действительно так: у нас, швейцарцев, обостренное самолюбие, но и здесь никто не отказал бы в просьбе купить кому-то пару обувных шнурков. Вы с таким пылом пытаетесь объяснить, почему вдруг вам расхотелось становиться подобием этого самого Дарджинского. А что, собственно, показалось вам столь унизительным – перешнуровать ему ботинки? Вы же молились ему, как богу. А богу служат покорно, даже когда он посылает человеку испытания.
Я отчетливо вижу, как через всю вашу жизнь красной нитью проходят все те же свойственные вам особенности: непомерное тщеславие и неугомонная спесь. Видать, и вправду маленькому Кибитцу, сидящему в вас, не дают покоя лавры могучего Гидеона. Вполне возможно, именно эти проявления комплекса неполноценности, являющиеся следствием психических расстройств, как раз и толкают вас к совершению новых и новых ошибок. И уж коль скоро в обсуждении нашем мы коснулись столь деликатной и важной темы: в вашем последнем письме вы откровенно называете себя чувственным животным, эдаким сластолюбцем, который постоянно пытается смирять или, по меньшей мере, маскировать свою животную сущность тягой к высоким идеалам. Как раз эта деталь интересует меня главным образом и в первую очередь. Этим откровением вы наводите меня на след, который я едва не упустил из виду. Вы скрываете ваше истинное лицо под благородной маской эдакого благодетеля. Вот уж странно: мир полон разного рода распутников и развратников, которые не просто упиваются, но и открыто гордятся верховенством в себе такого рода животных инстинктов. Что же побуждает вас столь тщательно скрывать их?
Эту загадку нам с вами непременно разгадать надобно, если уж мы серьезно намерены продвинуться в наших изысканиях.
И, кстати, еще одну попутно: какую, собственно, роль во всей этой истории играет ваша супруга? Она, насколько мне известно, не еврейка и, к тому же, далека от досужего умствования – то есть, как мне кажется, вполне нормальная швейцарская женщина. Или это не так?
9
Уважаемый господин доктор,
это действительно так: моя бывшая супруга была абсолютно нормальной швейцарской женщиной. В Женеве, работая секретаршей, она посещала вечернюю гимназию, после успешного окончания которой решила продолжить образование в Варшавском Университете по специальности «Литературоведение». В целеустремленности Алиса мне ничуть не уступала. Она верила, что при должном усердии в социалистической Польше достижимы и самые неприступные вершины.
Поймите меня правильно, господин доктор! Карьеризм и честолюбие в равной степени были ей чужды. Единственное, чего она страстно хотела, это верой и правдой служить нашим высоким идеалам, устремления ее были искренними и благородными. Она посещала на своем факультете немыслимое множество семинаров. Во всем, что она делала, проявлялось неподдельное прилежание и беспримерное чувство долга. По крупицам собирала она и тщательно записывала бесчисленные цитаты, которыми в то время были до отказа забиты наши уши, стараясь непременно проникнуть в глубинную суть всякой сентенции, будь она даже выцарапана гвоздем на заборе. Это были годы излияния на головы обывателей всякого рода несуразиц, словесного блуда, но Алисе удавалось выуживать в этом мутном потоке некие таинственные истины. Например, нам вдалбливали, что вся западная литература служит единственной цели – отражению интересов капиталистического строя, и потому мы начисто ее отвергаем. Всю разом. Гуртом. Она прославляет идеологию загнивающего общества и потому в руках правящего класса являет собой коварный инструмент насильственного влияния на умы обывателей. Это звучало чудовищно: чтобы осмыслить всю эту несуразицу и самому при этом не свихнуться, следовало хлебнуть хорошую порцию свежего воздуха.
Вначале Алиса была абсолютно шокирована, и, чтобы как-то осмыслить всю эту галиматью, в которой она потерялась, она всячески уклонялась от критических оценок и старалась не задавать острых вопросов. Здесь следует заметить, что она – дочь строительного рабочего из Фриборга, человека жизнерадостного, большого любителя приложиться к рюмочке, который одну половину сознательной жизни провел, что называется, подшофе, а вторую – в лагере левых радикалов, где униженные и оскорбленные держали его за лидера и где он своим пронзительным голосом проповедовал левацкие истины.
Признаться, мы жутко гордились нашим папенькой. Он был чем-то вроде герба наших левацких убеждений, истинным представителем революционного рабочего класса. Таким образом, еще в отчем доме Алиса была приобщена к эксцентричности, и потому всякого рода несуразности не слишком ее впечатляли. Она обладала здравым рассудком маленького человека. Алиса испытывала непреодолимое влечение к постижению глубинной сути проблем. Вместе с тем, она неизменно сосредотачивала свое внимание на самых незначительных, абсолютно поверхностных деталях любой проблемы, весьма и весьма далеких от объяснения ее в целом и главном. Вот уж, поистине, типично швейцарский менталитет!
Однажды, к примеру, она нажила себе врагов, возмутившись отсутствием в учебной библиотеке книг, зарегистрированных в каталоге. Их просто не оказалось в наличие. Они бесследно исчезли. На ее вопрос, почему так, ей ответили, что книги эти в библиотеку еще не поступили, а в каталоге они внесены как подлежащие приобретению.
Это было явной ложью, и Алиса ответила, не нужно, дескать, рассказывать ей сказок. Книги эти уже не раз выдавались читателям, что подтверждает факт их наличия в библиотеке. Тогда ей было заявлено – пусть, дескать, это так, но книги эти не в каждые руки выдаваться могут. Алиса, которая свято чтила принцип равноправия людей, что, к слову сказать, неоднократно осложняло ей жизнь, резко возразила:
– Тогда извольте объяснить мне, кому именно эти книги не должны попадать в руки?
– Этого я не могу вам сказать, товарищ, – было ей отвечено, – это решает партийный комитет.
– Потрясающе! – не унималась Алиса, – а кто выбирает этот самый партийный комитет?
– А вот это вы знаете не хуже меня: его выбирают массы.
– Очень любопытно, – продолжала Алиса, – массы избирают партийный комитет. А партийный комитет решает, что эти массы вправе читать, а что – нет. Я правильно понимаю?
– Да, – ответили ей, – все именно так и обстоит. Что странного видите вы в этом? И почему допытываетесь с таким пристрастием?
– Потому что хочу знать, – ответила Алиса, – кто же, собственно, в подобном раскладе находится вверху и кто – внизу.
– Массы – превыше всего, – услышала она в ответ, – массы – высшая инстанция. Последнее слово – за ними. Так написано во всех уставах.
– В таком случае, – продолжала настаивать Алиса, – я хочу знать, почему высшая инстанция – я имею в виду рядовых членов партии, которые, согласно уставу, превыше всего, и за которыми – последнее слово во всех делах, не вправе читать то, что они, эти самые массы, считают нужным.
В воздухе повисла тяжелая пауза. Алиса демонстративно села и стала ждать объяснений.
– Запрещенные книги, – сухо выдавил из себя библиотекарь, не поднимая глаз, – выдавать запрещено, потому что они – за-пре-щен-ны-е. И я очень советую вам, товарищ Кибитц, не задавать больше подобных вопросов.
На удивление, библиотекарь выглядел человеком отнюдь не глупым. Во всяком случае, он не был похож на простака, который сам воспринимает всерьез всю ту чушь, которую несет. Напротив, по всему было видно, что он испытывал крайнюю неловкость от осознания своего бессилия перед такими вопросами. От неловкости этой он то и дело жмурился близорукими глазами. Через весь его лоб пролегали симпатичные борозды, которые выдавали в нем человека, склонного к размышлениям.
Будучи явно обескураженным неприятным для него допросом, он, тем не менее, упрямо гнул линию, навязанную ему общественным положением, выкручиваясь по мере сил и находя всему наиболее удобные объяснения.
Библиотекарь этот носил фамилию Зундерланд, отчего Алиса решила, что родом он либо из Великобритании, либо из Америки. «Возможно, это составляет его личную тайну!» – подумала Алиса и тут же решила подставить ему ловушку:
– Вы же отлично знаете, черт побери, – сказала она в сердцах, – что из студенческой библиотеки исчезли ценные книги. Кто-то их изъял. Если вы не разберетесь с этим, мистер Зундерланд, это может обернуться для вас серьезными последствиями.
Зундерланд медленно снял очки. Ему стало ясно, что от этой девицы так просто не отделаешься. Алиса мыслила другими категориями. Она явилась сюда из другой солнечной системы, господин доктор, где, по сравнению с Польшей, приняты иные масштабы, иные представления и, что всего важнее, иные моральные принципы.
Зундерланд отчетливо осознал: чтобы сохранить собственное лицо, он должен сказать все, что думает. Именно сейчас – все или ничего.
– Товарищ Кибитц, – ответил он, протирая носовым платком стекла очков и беспомощно щурясь на Алису, – я вас предупредил. Вы задаете слишком много вопросов. Это плохо для вас кончится. Не забывайте, что вы прибыли из западной страны.
– Вы тоже, если судить по вашей фамилии, – раздраженно парировала Алиса.
– И опять вы ошибаетесь, уважаемая товарищ, – спокойно ответил библиотекарь, – я родился в Польше. Я – сын крестьянина из Татр, и я отлично знаю как следует себя вести. Ваше упрямство подозрительно. Возможно, вы ищете правду, и я готов согласиться, что это ваше личное дело. Но у меня вы ее не найдете. Вам лучше обратиться к вашему профессору. Возможно, он поможет вам в ваших исканиях, а меня – увольте, прошу вас.
Алиса последовала этому совету. Она явилась к профессору и стукнула кулаком по столу. Перед ней сидел человек с потухшим взглядом и восковой лысиной. Все в нем говорило о том, что он еврей. К тому же, на его запястье был вытатуирован шестизначный номер. Чудом вырвавшись из ада концентрационного лагеря, он был похож на собственную тень.
– Моя дорогая юная товарищ, – еле выговорил он, дрожа всем телом и глядя на Алису глазами, исполненными животного страха, – есть такие книги, которые не предназначены для любых рук и глаз. Вы очень молоды и прекрасны. Надеюсь, вы хотите жить долго и счастливо. И свободно, если это вообще где-нибудь возможно. Не забывайте о существовании такой вещи, как практический разум. Вы изучали Гегеля и должны иметь представление об осознанной необходимости. Вы понимаете меня? – Профессор многозначительно подмигнул и продолжил:
– Вы должны примириться с нашими реалиями. Они необходимы и неизбежны. К тому же, не стоит сражаться с ветряными мельницами. Они сильнее нас…
Профессор вообразил себе, наверное, что ему удастся переубедить Алису. Он ошибался. Алиса была невинна, как полевая фиалка, и всякие словесные уловки были ей чужды.
– Что за казуистика, – возмутилась она, – вы хотите Гегелем заткнуть мне рот? Вы призываете меня совершить сделку: принять вашу трусость в обмен на практический разум? Не задавать вообще никаких вопросов, чтобы, не дай бог, не задеть чьих-нибудь интересов? Демонстрировать покорность, отказавшись от поисков истины? Зачем же тогда приехала я в Польшу? Во всяком случае, не для того, чтобы превратиться тут в презренного клопа…
Спорить с ней дальше было бессмысленно, и профессор понял это. Он громко высморкался и закрыл глаза, давая понять, что тема дискуссии для него исчерпана.
– Библиотекарь явно что-то недоговаривает, – полыхая глазами, говорила мне Алиса несколькими часами позже с нескрываемой яростью в голосе, – а этот профессор – просто противен мне!
– Как, говоришь, имя этого библиотекаря? – озадаченно спросил я.
– Зундерланд. Библиотекарь нашего факультета. То ли англичанин, то ли американец. А почему ты спрашиваешь?
– У меня был дядя с той же фамилией – муж моей тети по отцовской линии. Бронка Зундерланд из Нью-Йорка. Она умерла от старости, а он, говорят, напротив, пал жертвой геноцида – то ли в Аушвице, то ли в Кракове. Точно не знает никто.
– Но это совсем ничего не означает, – Алиса аж подпрыгнула, – мало ли, кто носит эту фамилию! Сотни, тысячи Зундерландов ходят по земле. Почему мой библиотекарь должен непременно оказаться твоим дядей?
– Разумеется, ты права, – ответил я, – но нередко случается же самое неожиданное. Не могла бы ты спросить его, как звали его отца – не Адам ли случайно? Просто так. Между прочим. Ничего больше меня не интересует.
Алисе еще пуще захотелось разобраться во всем этом. Она попросила меня рассказать о моем дяде подробнее. Я охотно выложил ей то немногое, что было мне известно. Что незадолго до начала Второй мировой войны он вдруг бесследно пропал. Никаких вестей от него не было. Покуда однажды мы не получили известие о том, что его больше нет.
– И что это означало?
– Что он был расстрелян или повешен.
На следующее утро Алиса задала библиотекарю вопрос, знает ли он человека по имени Адам Зундерланд. Библиотекарь в ответ не проронил ни слова.
– Он был женат на Бронке Зундерланд из Нью-Йорка, – продолжала наседать. Алиса, – в девичестве – Бронке Кибитц из Варшавы.
Библиотекарь стоял перед ней с плотно сжатыми губами. Внезапно он ухватился за столешницу, тяжело втянул в легкие воздух и зашатался. Неожиданная реакция его была в высшей степени подозрительной, и потому во всем этом действительно следовало разобраться.
Так твердо решили мы с Алисой. И зря: куда благоразумнее было бы не будить спящую собаку. Наша неуместная настойчивость столкнула с мертвой точки лавину, и это аукнулась громким эхо, потрясшим всю мою дальнейшую жизнь.
Алиса еще раз пошла к профессору и напрямую спросила его, кто, собственно, такой, этот таинственный библиотекарь. Лицо профессора покрылось бледностью. Он весь дрожал от страха, поняв, сколь опасна эта настойчивая дамочка, сколь ужасно она наивна и невменяема. Именно поэтому он отвечал на ее вопросы как можно более обтекаемо, следуя старинной народной мудрости: уж лучше довериться хватке опытного зубодера, чем безрассудству напористой барышни.
– Каждому человеку, товарищ Кибитц, – ответил он замявшись и тщательно подбирая слова, – и особенно – каждому поляку есть, что скрывать. Разумеется, основания для этого у каждого свои. Порой, скажу я вам, гораздо мудрее не вникать в глубинную суть вещей, чтобы не оступиться ненароком. По этой причине мы – как бы это точнее выразиться, обособлены в этой стране. Право человека на обособленность, на личную тайну относится к числу фундаментальных прав человека…
– Господин профессор, – не унималась Алиса, – я задала вам прямой вопрос: кто этот человек? И я хочу получить на него такой же прямой ответ.
– Мой ассистент по части историко-литературного семинара, – холодно ответил профессор, – человек лет тридцати. Родился в районе Татр, точнее – в волости Косцелиско, если вам это о чем-нибудь говорит. Мы дали ему полставки библиотекаря. Пока это никаких нареканий или претензий не вызывало…
– Вы что – издеваетесь надо мной, – не сдержалась Алиса, которой вся эта комедия порядком надоела, – у вас с ним заговор? В этом есть нечто такое, о чем мне не следует знать? Потому, например, что я – женщина? Потому, что я из Швейцарии? А может, вы считаете, что для понимания таких вещей мне не достает ума? Или я попросту не заслуживаю вашего доверия? Ответьте же мне!
– Я сказал вам все, что я знаю об этом человеке, – раздраженно ответил профессор. Большего я знать не должен и не желаю. Зундерланд – человек способный и достаточно начитанный. Все прочее меня абсолютно не интересует. Это дело полиции.
– Как я вижу, господин профессор, здесь непременно хотят поставить меня на место, – раздражение Алисы продолжало нарастать, – я и без вас знаю, что он талантлив и начитан. Иначе он не получил бы этого места. Зачем вы забиваете мне голову тем, что не имеет никакого отношения к поставленному мною вопросу?
– Согласно учетной карточке, – ответил профессор обиженным тоном, – Зундерланд является сыном крестьянки из горной местности. Он происходит из высокогорного альпийского пастбища Косцелиско. Если верить статистике, он должен был быть человеком ограниченным и невежественным. Разве в Швейцарии иначе? Разве ваши ледники сплошь заселены философами?
– Нет, – холодно ответила Алиса, но я не верю, что отец Зунделанда – крестьянин.
– Уж не хотите ли вы этим сказать, что я вам лгу?
– Именно это я и хочу сказать.
Я вижу, как Вы, господин доктор, покачиваете головой: Алиса, дескать, была просто безрассудна и прямиком неслась к собственной погибели. Это на самом деле так, потому что она своим поведением восстанавливала против себя людей, вполне способных ей навредить, тот же профессор, например. Он отнюдь не был лжецом. И уж во всяком случае, не был он хитрюгой. Просто, в отличие от нас, он разговаривал на другом языке. И еще: в отличие от нас, он побывал в самой преисподней. Такие люди знают больше. Мы полагаем, каждый обязан сражаться за истину. За полную открытость в отношениях между людьми. Он же считал это лишенным всякого смысла.
А что из сущего, кстати сказать, не лишено смысла, спрашиваю я сегодня? Много мнений существует на этот счет – много! Этот профессор, в отличие от нас, мыслил иными категориями. Он побывал в таких переделках, что видел смысл в единственном: в умении выжить.
Алиса, между тем, была вне себя от гнева:
– Философия соглашателей, вечно идущих по линии наименьшего сопротивления, – возмущалась она, – плыть по течению ради самосохранения – позор! Твой дядя, например: он предпочел быть расстрелянным или повешенным, но пресмыкаться ради физического выживания он не стал. Честь ему и слава!
Вот такой была она, моя бывшая супруга.
Я же был другим. Вечно терзаемый сомнениями. Пал ли мой дядя смертью героя – для меня это еще большой вопрос. Слишком много неясностей во всей этой истории. Не исключено даже, что и он, как многие другие, выживал и выжил. А вдруг! Почему бы и нет?
Лишившись сна от всех этих «а вдруг» и «почему», я сказал себе: я должен съездить в Косцелиско, откуда Зундерланд, если ему верить, был родом. А значит, и его отец, который и впрямь мог оказаться моим дядей.
Выпросив короткий отпуск, я отправился в Высокие Татры. Вовсе не для того, чтобы найти там отдохновение или подышать воздухом, напоенным хмельным ароматом шампанского, которое невидимой пеной стекает с голубых горных склонов. Я прошел пешком от Закопаны до Каспровы Верх, непроходимыми тропами пробирался к высокогорным селениям, о которых говорил профессор. Я должен был узнать как можно больше о нашем библиотекаре или о его отце, который вдруг исчез столь таинственным образом.
Но тут случилось со мной нечто из ряда вон выходящее, что совершенно выбило меня из колеи.
Я уже слышу, как Вы, господин доктор, воскликнули: «Вот, вот они – ранние симптомы вашего недуга, господин Кибитц! Первые проявления вашего помешательства!»
Но это не так. У какой-то развороченной стены – я готов поклясться в этом – я увидел моего погибшего дядю, который колол дрова. Никаких сомнений. Бывший муж моей тети Бронки из Нью-Йорка, который давно был на том свете, лихо управлялся с деревянными колодами.
Не сомневаюсь, господин доктор, Вы сочтете меня сумасшедшим. Будучи человеком науки, Вы не верите в загробную жизнь или в воскресение. Не верю во все эти штучки и я. Но есть факт: я собственными глазами видел, что это был тот самый человек, который незадолго до начала войны навестил нас в Цюрихе. Тот самый Адам Зундерланд, которого Сомерсет Моэм называл самым остроумным, самым забавным гидом на всем Западе. Тот самый еврей, который туристам, своим клиентам, так живописал Польшу, что им не терпелось немедленно засесть за изучение польского языка, чтобы вновь и вновь возвращаться в этот ни с чем не сравнимый уголок Земли.
10
Господин Кибитц,
вы упорно продолжаете уклоняться от темы. Впрочем, запутанная история ваша могла бы вывести нас на весьма интересный след. Два обстоятельства настораживают меня: то, как вы представили вашу супругу, и, разумеется, ваша, якобы, реальная встреча с покойным дядей.
Во-первых, что касается вашей жены: сдается мне, как раз в ней таится источник хронического дисбаланса вашего душевного равновесия. Ее радикализм не перестает вызывать в вас протест. Своим максимализмом она постоянно провоцировала, подбивала вас. Вдобавок, это подогревалось ее непреодолимым тяготением к откровенно экстремистским проявлениям. Таким образом, ваша супруга, в известной степени, повинна в том, что вы оказались на грани горячки. И в этой связи становится понятным пережитое вами видение вашего покойного дяди. Вопрос лишь в том, как давно стали проявляться у вас подобные бредовые явления. Знать это – чрезвычайно важно! Я не исключаю симптомов эндогенной шизофрении, но мне крайне важно знать как можно больше об этом «самом забавном гиде на всем Западе», как определил его Сомерсет Моэм. Какую роль в вашей жизни сыграл этот неуловимый дядя?
Вы упоминаете об одном его визите в ваш дом в Цюрихе. Был этот визит на самом деле, или это все те же галлюцинации, продукт вашего воспаленного воображения?
11
Уважаемый господин доктор,
о галлюцинациях не может быть и речи. Адам Зундерланд действительно приезжал ко мне в Цюрих, где я жил в доме моих родителей. Он предстал передо мной абсолютно реальным, во всех трех измерениях. Я был тогда подростком лет четырнадцати. Он уделял мне немало времени. На скрипке, которую дядя постоянно возил с собой, он исполнял для меня партиты Иоганна Себастьяна Баха. Дядя играл по памяти, вел легко, как майское облако. Когда он виртуозно исполнял Чакону, я просто весь заходился от восторга, ибо в жизни не слышал ничего более прекрасного!
Итак, теперь, двенадцать лет спустя, он вновь стоял передо мной и тяжелым топором раскалывал надвое толстенные деревянные колоды. Дядя выглядел вполне осязаемым, созданным из плоти и крови, и не будь я наслышан о его ужасной кончине, я не был бы так потрясен увиденным. Одни уверяли меня, что он был повешен в Кракове, на Базарной площади, другие – что тернистый путь его завершился в газовой камере Освенцима. Третьи – живописали, как он собственными руками рыл могилу и вместе с другими несчастными был расстрелян у ее кромки. Так или иначе, уверяли меня, дядя Адам сложил голову за свое отечество, и его последними словами были: «Niech żyje Polska!» – «Да здравствует Польша!», что для меня звучало вполне убедительно, поскольку Польша всегда была его безответной любовью. Рассказывали, впрочем, и такою версию: в самые последние мгновения жизни дядя Адам сломался и душераздирающе рыдал. Но и этого я не ставлю ему в вину, ибо не могу с уверенностью сказать, как повел бы себя сам, окажись я в подобной ситуации.
Есть, наконец и последняя версия: она кажется мне и вовсе невероятной, хотя именно эта нравится мне более всех других. Распространяет ее некий Мак-Леллан, который, якобы, хорошо знал дядю Адама. Будто бы нацистский палач спросил дядю, есть ли у того последнее желание. Смех, да и только! Когда такое было, чтобы фашистский вешатель поинтересовался у приговоренного польского еврея, нет ли у того последнего желания? Тем не мене, этот шотландец утверждает, что все именно так и было. А дядя Адам, дескать, на этот вопрос ответил нацисту на чистейшем английском языке с оксфордским произношением: «Would you be so kind, Sir, as to kiss my backside!“ – не будете ли, дескать, вы, сэр, столь любезны, поцеловать меня в задницу – надеюсь, господин доктор, вам понятно значение этой фразы. Да, да, именно это она и означает: прежде чем свершить свое гнусное дело, палач должен поцеловать моего дядю в задницу. Я уже говорил, что версия эта маловероятна, но от этого она нравится мне не меньше, а даже больше.
Так вот, этот самый Мак-Леллан полагает даже, что именно это безрассудство моего дяди, столь дерзкий его ответ палачу, как раз и спас ему жизнь. Разумеется, немец не понял ни слова из сказанного приговоренным к смерти, но он твердо знал, что его на всех фронтах воюющее отечество остро нуждается в людях с хорошими знаниями иностранных языков, и он, дескать, не решился просто повесить столь ценного для Вермахта поляка.
Как бы то ни было, но случилось именно так, как я вам повествую: в богом забытом высокогорном селении в районе Каспровы Верх, перед ветхой, полуразвалившейся стеной покошенного сарая, стоял мой покойный дядя Адам Зундерланд и мирно колол дрова. От этого я не отступлюсь, ибо в тот момент все пять моих органов чувств были свежи, как никогда. Можете считать, господин доктор, что я стал свидетелем чуда, но Ваше заявление о том, что меня одолевали галлюцинации, лишено всяких оснований. На моем дяде была вязаная кофта из шерсти горного козла и застиранные войлочные штаны, отделанные на карманах красными лацканами. Перед моими глазами средь бела дня стояло самое оригинальное в мире привидение, а за его спиной красовался каменный мост, изящно изгибавшийся над потоком горного водопада.
Когда я стал к нему приближаться, он пристально всматривался в меня. В нескольких шагах от него я остановился, но он вдруг вернулся к своему занятию и продолжил рубить дрова. Я не поверил собственным глазам, всем чувствам моим выразил я недоверие. В конце концов, я был воспитан в духе марксизма, и вера в привидения была для меня не более, чем давно отжившим рудиментом реакционных представлений о сути вещей. Оставалось одно из двух: либо я накануне крепко перебрал хмельного зелья, либо случилось-таки то, чего не могло случиться по логике, по природной сути вещей, по определению: то есть, обыкновенное чудо! Только и всего. Третье предположение, что человек этот фактически остался в живых и поныне здравствует, я вообще не рассматривал. Ибо я пребывал в состоянии полнейшего абсурда. Боюсь, и Вы, господин доктор, окажись Вы на моем месте, тоже лишились бы свойственной Вам рассудительности.
В профессиональном плане Вы принадлежите к особой категории трезвомыслящих индивидуумов, которые признают лишь факты, объясняемые средствами точных наук. Но в данном случае даже Вы были бы поражены, будто ударом молнии! Сама мысль о том, что дядя Адам мог оказаться живым, противоречит основам здорового рассудка. К тому же, очевидная бредовость этой мысли как бы подчеркивалась его, более чем странным, облачением: вязаная кофта из шерсти горного козла, красные лацканы на карманах войлочных брюк, крестьянский топор, сжимаемый его хрупкими пальцами музыканта – словом, всем его обликом в целом. Горбатый нос, пористая кожа, коренастая, худая фигура. И смех и грех: Адам Зундерланд с оттопыренными ушами. Крестьянин из горного селения, в нелепом головном уборе, похожем то ли на шляпку в стиле альпийских лугов, то ли на субботнюю шапочку. Но – вне всякого сомнения – это был тот самый музицирующий на скрипке, получивший изысканное английское воспитание гид, который очаровывал своих англосаксонских клиентов неповторимыми прелестями юдофобской Польши, и который покорил сердце своего четырнадцатилетнего племянника проникновенным исполнением бессмертных сонат Иоганна Себастьяна Баха. Нет, господин доктор, никакой воспаленной фантазии там не было и в помине. Передо мной стоял человек из протоплазмы, из живой субстанции, из мяса, костей и крови. Над ним возвышались остроконечные шпили Каспровы Верх, а под ним живописно зеленели альпийские пастбища Косцелиско.
Вы многозначительно покачиваете головой, господин доктор. Видение мертвого дяди, утверждаете Вы, есть не что иное, как проявление безошибочного симптома глубокого помешательства.
Вы заблуждаетесь. Не я был или есть помешанный, а он. Таковым он был всегда. Именно поэтому моя тетя, которая не переставала его любить, все-таки рассталась с ним. Весь его облик являл собой сущую катастрофу. Я стыдился ходить с ним по людным улицам Цюриха. И в то же время, всегда боготворил его.
Время от времени он появлялся за нашим обеденным столом и декламировал английские стихи – грудным голосом тенора, исполняющего героические партии, сопровождая их выразительными жестами великого Сатира.
Я готов дать обе руки на отсечение, что это был ОН, а не какой-то мираж. ОН, и никто другой!
Я уставился на него, не смея верить собственным глазам. Вначале и мне казалось, что все это лишь сон, мечта, мираж. Но тут мне вспомнилась английская народная мудрость: вкус пудинга познается едой. Отлично, пусть эксперимент покажет – брежу я или нет. И тогда я собрал все остатки моих сил, схватил этого человека за плечи и закричал:
– Дядя Адам, это я, твой племянник из Цюриха!
Но он продолжал молча пялиться на меня. Тогда я закричал еще раз:
– Партиты Баха – разве ты забыл о них? Ну же!
И тут случилось непостижимое: он выхватил толстенный деревянный кол, размахнулся им и так хватанул меня по лбу, что я тотчас лишился рассудка. Когда я очнулся, его нигде не было. Дядя исчез. Растворился в воздухе.
Я был абсолютно беспомощным. Что сделали бы на моем месте Вы, господин доктор? Я отправился в обратный путь и, не солоно хлебавши, вернулся в Варшаву. Если это действительно был дядя Адам – а это несомненно был именно он, то дядя мой, надо сказать, позволил себе довольно мерзкую шутку. Он, может быть, и считается самым забавным гидом на всем земном шаре, но на сей раз этот забавник явно перебрал.
Очень может быть, – говорю я себе, – дядя давно на том свете, и просто развлечения ради плюет сквозь долину Татр, чтобы вывести из равновесия замшелых рационалистов. Возможно, однако, и другое: дядя Адам где-нибудь живет-поживает и ничего обо всем этом попросту не знает. В конце концов, живут же на свете люди, которые потеряли рассудок только потому, что не сумели одолеть всю нелепость бытия.
Признаюсь, я не нахожу никакого объяснения всему произошедшему со мной. Садясь в вагон в Закопане, чтобы через Краков и Кельце возвращаться домой ни с чем, я сам, должно быть, выглядел сумасшедшим.
12
Господин Кибитц,
неужели вы серьезно полагаете, что из всей этой вашей сказки можно извлечь для нашего анализа что-нибудь полезное? С совершенно излишними подробностями рассказываете вы об абсолютно невозможной встрече с давно умершим человеком. Вы уж не взыщите, но из всего этого пустословия напрашивается единственный вывод: уже тогда, лет восемь назад, у вас налицо были все признаки умственного расстройства. Это видение там, в горах, лишний раз подтверждает, что вы давно уже подвержены игре необузданной фантазии. Допустим, свершилось-таки чудо, и странный дядя ваш не погиб, и в данном случае речь идет, как вы называете это «чудо», о самом банальном недоразумении. Но вы сами приводите такое множество вариантов его кончины – согласитесь, одного этого достаточно, чтобы усомниться в том, что ваш родственник еще жив. С другой стороны, вы отвергаете всякие тому свидетельства с такой искренней яростью, что можно подумать, будто здесь и в самом деле что-то не вяжется. Не исключено, что вашего дядю, благодаря исключительному владению иностранными языками, и вправду пощадили, и он был определен на службу к нацистам. Эта маловероятная гипотеза еще как-то объясняет бессмысленность его дерзкого поведения. Но, согласитесь: раньше или позже кто-то должен был докопаться до факта, что дядя ваш был самым обыкновенным коллаборационистом. И тогда судьбе его не позавидуешь.
Будь что будет. Рассказанная вами история занимательна, но от этого она не становится более полезной для вашего излечения. Самое большее, о чем она свидетельствует, так это о том непреложном факте, что вы страдаете либо врожденной, либо давным-давно приобретенной шизофренией. И если это действительно так, стоило бы серьезно подумать о медикаментозном лечении, так называемыми, нейролептиками. Но прежде мне хотелось бы знать, как после вашего возвращения из той невероятной поездки в горы развивались ваши отношения с женой.
13
Уважаемый господин доктор,
Ваше предположение о том, что мой дядя мог допустить, чтобы его определили на службу к этим дьяволам и тем записался в коллаборационисты, абсолютно для меня недопустимо. Возможно, гипотеза эта делает всю мою историю более вероятной, но такое развитие событий, будь оно реальным, нанесло бы непоправимый удар по всем моим убеждениям. Я никогда не соглашусь с мыслью, что человек, проникновенно исполняющий сольные произведения Баха, может одновременно быть подручным самого дьявола. Он играл на скрипке, как Бог, а Вы выставляете его Дьяволом. Непостижимо, господин доктор! И ваше заявление о том, что вся история с Адамом Зундерландом ни на йоту не приближает нас к цели, я должен решительно отвергнуть. Конечно же приближает! Сама поездка моя в Закопане подтверждает совершенно обратное.
Позвольте мне продолжить мой рассказ.
Поезд с грохотом полз вдоль Вислы. Тяжелые мрачные тучи нависали над раскидистыми вершинами грабов, и я в сотый раз мысленно проигрывал только что пережитую сцену. Нет, это был не сон: громадная шишка на моем лбу была достаточно наглядным и осязаемым тому свидетельством. Мой дядя крепко хватанул меня дубиной, в этом не могло быть никаких сомнений! В то же время, разум противился восприятию этого факта. Я терялся в догадках, отвергал одни и тут же строил другие, с ужасом понимая, что неотступно погружаюсь в какой-то запутанный лабиринт, из которого мне уже не выбраться. Я находился на самой первой ступеньке бесконечной лестницы, ведущей прямиком в преисподнюю. Все двадцать семь предыдущих лет мне более или менее удавалось оставаться на плаву, пребывая в здравой памяти и рассудке. И вот я оступился. Тяжелые бронзовые ворота напрочь сомкнулись за моей спиной, и я вдруг задрожал всем телом. Крупные струи холодного пота стекали с моего лба.
Я понимаю, господин доктор, для вас все это – лишь очередные проявления ранних симптомов, но вы все же ошибаетесь. Я испытывал страх и ничего кроме. Страх от сознания, что вступил в противоборство с неким неведомым для меня миром…
Вдруг до меня донеслись нежные звуки альта – мягкого женского голоса, который обращался ко мне, будто мы были старыми знакомыми: «У вас, кажется, жар. Могу я помочь вам?» Такой голос мог исходить, разве что, от полевого цветка. Им оказалось юное существо, которое находилось в одном купе со мной и, как выяснилось позже, так же, как и я, направлялось в Варшаву.
Я ответил, что никто не может мне помочь, и тут же поведал ей всю историю о том, как мой родной дядя, с которым долгие годы меня тесно соединяли самые теплые дружеские отношения, не признал меня. "Невероятно, – сокрушался я, – как мог он вдруг совершенно отречься от меня?"
Неожиданно в разговор наш вмешался чей-то бас. Он принадлежал человеку, сидевшему у окна с раскрытой библией в руках:
– И что такого невероятного видите вы в этом? – произнес он, не отрывая глаз от страницы, – я нахожу это вполне естественным.
Этот попутчик – то ли священник, то ли член какого-нибудь ордена – сильно смахивал на автопортрет Дюрера: костлявое мрачное лицо, которое в сочетании со всем остальным было исполнено уверенности, пожалуй, даже самоуверенности, основанной, по всей видимости, на немалом житейском опыте.
– Вы действительно так полагаете, – спросил я, окинув его беглым взглядом, – вы издеваетесь надо мной – или как?
– Отнюдь, – ответил он, – мне лишь очевидно, что вы воспринимаете мир иначе, чем другие.
– Но вы совсем меня не знаете! Как же можете вы судить?
– В вашей речи слышатся иностранные нотки, и одеты вы лучше здешних людей. Из этого я делаю вывод, что вы прибыли сюда из другого мира.
– И что это доказывает?
– Все, кто теперь приезжает в Польшу, мыслят иначе, чем мы.
– Что значит «иначе» – лучше или хуже?
– Кто приезжает теперь в Польшу, принадлежит к одному из вас.
– Я вас не понимаю: принадлежит к кому?
– Принадлежит к тем, кто стоит у руля и раздает приказы, – почти шепотом произнес мой собеседник с недоброй улыбкой и не отрывая взгляда от библии.
– Именно поэтому, полагаете вы, подобное вполне естественно, – продолжал я, – он отказался признать меня и обошелся со мной, как с пустым местом? Что-то вы фантазируете, уважаемый! Мертвец отрекся от меня, потому что… Потому что я, как вы изволили выразиться, принадлежу к одному из них – это хотели вы сказать?
– Именно это, – подтвердил он, – даже мертвецы боятся вас. Слава Иисусу Христу!
С этими словами он покинул купе и сошел с поезда: мы прибыли в Кильце, где наш поезд простоял добрую половину часа.
Я был потрясен и совершенно обескуражен. Я, Кибитц, вселяю в людей страх. Лишь тем, что, якобы, являюсь «одним из тех». Я – именно я, являю собой злобное существо из семейства рулящих и раздающих приказы? Я, Кибитц, которому и в голову не приходило добиваться власти – какой бы то ни было и над кем бы то ни было! И вот тебе на: я вселяю в людей страх. Непостижимо!
Я взглянул на притихшую в углу купе девушку. «Вас боятся даже мертвецы!» – так он сказал. А живые?
– А я не боюсь вас – ну ни капельки! – девушка широко улыбнулась.
– Совсем? Ни капельки? Почему же?
– Потому что я, как и вы, из приезжих. Разве вы не слышите мой акцент?
– Что-то есть, но вы так мало говорили… Так вы тоже из Швейцарии?
– Вот видите, – снова улыбнулась полевая фиалка, – мой акцент меня и выдал: до замужества я была швейцаркой.
– И что же вы делаете в Польше?
Девушка смутилась:
– Я… Я еду в столицу, – произнесла она дрожащим голосом, – я еду навестить моего мужа.
– Вы живете врозь?
– Можно сказать, что так, – еще больше понизив голос, ответила она, – он сидит в тюрьме.
У меня перехватило дыхание. Что угодно ожидал услышать я в ответ, только не это: тюрьмы в Двадцать Первом Веке! Мой разум отказывался воспринимать такое.
– Но его, конечно же, немедленно выпустят на волю, – уверенно сказал я, – разве не так?
– Возможно он скоро окажется на воле, – грустно ответила девушка, отвернувшись к окну, – но только мертвым…
Кажется, я бестолково повествую, господин доктор, перескакиваю с пятого на десятое. И Вы снова будете корить меня, за то что я то и дело отвлекаюсь от главной темы. Но это ведь и есть главная тема! Вся жизнь предстала передо мной абсолютно не такой, как я ее себе представлял. И в этом виноват я, а не жизнь. Я забрасывал удочку, чтобы поймать рыбу, а вместо этого на мой крючок то и дело попадались лишь старые раскисшие ботинки, выброшенные кем-то прочь. Я отправился на поиски моего дяди, а вместо этого нашел землячку – швейцарку, печальная судьба которой окончательно сбила меня с толку. «Антоний Падуанский, – скажете Вы – очередное искушение и, конечно же, опять в поезде!» И снова Вы заблуждаетесь, господин доктор. Наверное, я действительно некое подобие этого евангелического доктора по имени Антоний Падуанский, и я легко поддаюсь искушениям, но та милая «свирелька» отнюдь не была дьяволом, подвергшим меня испытанию искушением. Эта девушка заинтересовала меня. И даже понравилась. И с нее началось приключение, перевернувшее с ног на голову всю мою дальнейшую жизнь. Только совсем не так, как Вам сейчас подумалось, господин доктор. Впрочем и не совсем так, как поначалу думалось мне…
Вы не поверите, но человека этого, ее мужа, я знал лично. К тому же, знал очень хорошо. Многие годы мы с ним были друзьями. Может, не совсем друзьями, но добрыми приятелями – во всяком случае. Но мне и в голову не могло бы прийти, что однажды он вклинится в мою жизнь подобным образом.
Он – и вдруг в тюрьме – это было выше моего понимания! Что-то загадочное было нем всегда. Мой отец, например, с трудом переносил этого парня, утверждая, что от того веет каким-то полумраком. Этим ощущением своим отец, как говорят, попал в десятку: Януш действительно был личностью мрачной. Более того: это был явный шарлатан, игрок, мелкий авантюрист, который любил азартно играть с жизнью. Тунеядец, кормившийся исключительно за счет своих близких. Все это не было тайной для тех, кто его знал, но никому не приходило в голову делать на основании этого вывод, что Януш был шпионом. Столь несусветная чушь могла зародиться разве что в воспаленном полицейском мозгу. Этот парень был кем угодно, только не американским агентом. Агент должен обладать гибкостью, уметь ко всему приспосабливаться, а Януш был твердолобым упрямцем. Шпионы умеют легко импровизировать на разных роялях одновременно, Януш был способен играть на одном единственном, и только ту музыку, которую отображали стоящие перед его глазами ноты. Шпионы свободно владеют языками своих врагов, а он и в родном-то был не шибко силен. Он был маниакальным коммунистом, и, сколько я его знаю, даже мысли не допускал о малейшем отклонении от генеральной линии партии.
Наше с ним знакомство состоялось в Цюрихе. Он назвался доктором Закржевским, но мой отец сразу понял, что никакой это не доктор и не Закржевский. Скорее всего, имя его тоже было вымышленным, хотя к облику этого молодого человека оно вполне подходило: Януш. Сразу же возникают ассоциации с двуликим Янусом, богом времени, а также всякого начала и конца, охранителем входов и выходов, покровителем разного рода аферистов и фальшивомонетчиков. Его имя хотя и наводило на некоторые размышления, но не могу сказать, что оно сколько-нибудь меня настораживало. Двойной смысл его псевдонима будил во мне фантазии, и я строил разного рода догадки относительно маски, за которой скрывал он свое истинное лицо.
А отношения между нами складывались непросто с самого начала. Помню, мы встретились случайно в маленькой кофейне, и он сразу предложил мне сыграть с ним партию в шахматы, к тому же, непременно на деньги. Причем, не именно на деньги, а на ужин, чего я в то время не слишком мог себе позволить. Тем не менее, я подсел за его столик, рассчитывая двумя-тремя красивыми ходами заставить его уважать во мне достойного противника. В надежде с первых ходов нагнать на него страху, я навязал ему довольно агрессивный дебют. Эффект однако оказался прямо противоположным. Усталая улыбка едва заметно соскользнула с его губ, и он тотчас отпарировал ходом коня, который любой невежда в шахматной игре, ничуть не сомневаясь в том, счел бы за самоубийство. "Либо он полнейший дилетант, – сейчас же подумалось мне, – либо редкий наглец". Но очень скоро стало понятным, что он ни то, ни другое. На одиннадцатом ходу я получил мат. Скрипнув от досады зубами, я потребовал реванша. Как на зло, к нам подсело несколько зевак, которые злорадно ухмылялись, всячески давая мне понять, что в поединке этом я могу рассчитывать лишь на сокрушительный разгром. И ни на что более…
Я считал себя вполне приличным игроком, и не допускал мысли, что этот парень так запросто разгромит меня на всех фронтах. К тому же, мы играли на обед, что для моего тогдашнего бюджета было весьма разорительно. И еще: с горечью для себя я отчетливо видел, как абсолютно расслаблен и даже демонстративно рассеян был Януш в игре. Его взгляд блуждал по сторонам, высматривая по-летнему одетых красоток, которые прогуливались вблизи, одобрительно подмигивая ему.
Наша партия ему явно наскучила. Он отчетливо понимал, что по-любому загонит меня в угол, к тому же непременно на одиннадцатом ходу. Одной, как говорится, левой. Он всех укладывает в нокаут одиннадцатью ходами и тем кормится.
Это может показаться сомнительным, но игорная страсть этого парня сильно отдавала тривиальной бедностью. А может даже – как знать – ее подогревал обыкновенный прозаический голод. Именно из этого обстоятельства обвинители Януша плетут веревку для его шеи: дескать, революционер, не может существовать на доходы от столь сомнительного промысла. Чушь собачья: где вообще написано, на какие доходы может или должен существовать революционер? Он ведь вообще – вне общества. Он вправе делать все, что ему подобает и нравится делать. К тому же, речь идет не о каком-то там мошенническом промысле, а о благородной и всеми почитаемой шахматной игре – никакого трюкачества!
Я писал Вам, господин доктор, что Януш жил как бы играючи. Это на самом деле так, но в любой игре, даже в покер, можно оставаться честным игроком. В покер играет человек или в шахматы – какая разница, если при этом он сохраняет порядочность и выигрывает исключительно за счет своей фантазии, точного расчета допустимой степени риска?
Но товарищи решили, что перед ними отпетый мошенник.
Супруга Януша убеждена в его невиновности. Они произвели на свет троих детей, которые проживают в Швейцарии у родителей матери. Она прожила с ним достаточно долго, чтобы знать всю его подноготную, все его достоинства и недостатки.
– Шахматы, утверждает она, вовсе не игра, а гимнастика для ума. Я могу поклясться, что выигрывал он без всякого обмана. Тонкий расчет – да, комбинационное мышление – бесспорно, но этим и ограничивается арсенал средств, с помощью которых он добивался многочисленных побед за шахматной доской. Януш – это вообще ходячий калькулятор. Он не допускает просчетов ни в шахматной игре, ни в банальных делах житейских. Вы же знали его, господин Кибитц, вы были ему другом. Вы должны знать, что никакой он не заговорщик. Скажите же – разве я не права?
Я уже чувствовал, что женщина эта очаровывает меня. Но в полной невиновности мужа ее я все-таки не был уверен, хотя слова ее меня глубоко трогали. Она говорила так убедительно, что это не могло быть ложью. Чем дольше она убеждала меня, тем отчетливей мне становилось, что я уже волей-неволей втянут в это дело по самые уши. В конце концов, я и сам был того же мнения: обладая блестящими мыслительными способностями, этот человек оставался довольно безрассудным. Он мог схитрить, может быть, даже в чем-то слукавить, но в главной сущности своей это был весьма примитивный человек, лишенный инициативного начала. Все, что не касалось его собственной личности, оставляло его абсолютно безучастным. И вообще, это был человек безликий, начисто лишенный какой бы то ни было индивидуальности. Единственное, что удавалось ему, это немедленно извлекать пользу из ошибок шахматных соперников. Возможно, это и является неким свидетельством его ума, но уж никак не благоразумия.
Хайди – так звали его жену – смотрела прямо мне в глаза в ожидании ответа. Зрачки ее сузились, губы были полураскрыты.
Мог ли я поклясться, что никакой он не заговорщик – этого я не могу Вам сказать, господин доктор. Что вообще знаем мы о своих близких?
Тем не менее, я подтвердил:
– Никакой он, конечно, не американский шпион. Во всяком случае, сколько я его знаю…
– И что же, господин Кибитц, – с надеждой спросила она, – вы сделаете для него что-нибудь?
– Я сделаю все, что в моих силах.
Домой я вернулся в полнейшем смятении. Всю ночь напролет рассказывал я Алисе обо всем, что в поездке этой пришлось пережить. Невероятная история с моим дядей, зловещая фраза священника, брошенная в мой адрес, неожиданное знакомство с Хайди и эта жуткая трагедия с Янушем, который томится в тюрьме с петлей на шее, будучи абсолютно невиновным – все это выложил я ей в мельчайших подробностях, будто на исповеди.
– Ему грозит расправа – здесь, в Польше? – усомнилась она.
– Да, здесь.
– Это исключено!
– Что именно?
– Что невиновного человека отправят на виселицу. Кем бы он ни был.
– Но бывают же ошибки, Алиса, заблуждения, особые обстоятельства, наконец! Возможно, Януш стал жертвой ужасной клеветы, чьей-нибудь интриги. В этом мире все возможно.
– Но не в социалистической стране, – настаивала Алиса.
– Почему же нет?
– Потому, – ответила она уверенно, – что мы сражаемся с нашими врагами, а не с друзьями.
– Теоретически – это так, Алиса, но…
Наш разговор едва не перешел в тяжелый конфликт. Мы вдруг оба почувствовали это и попытались обуздать свои страсти. Алиса резко поднялась и отправилась на кухню готовить чай.
– Он действительно был тебе другом? – донеслось оттуда.
– И да, и нет, – ответил я, – он оказался в труднейшем положении и попытался выжить. И он выжил, вопреки всем законам вероятности. При фашистах четыре года кряду провел он в исправительной колонии. Затем он сбежал на Запад, где ему пришлось хлебнуть все прелести эмигрантской жизни. Вначале – в Австрии, затем – в Чехословакии и, наконец, в благословенной Швейцарии. И всюду он был чужаком, нелегалом. Десятки, сотни старых коммунистов были уничтожены. Но Януш продолжал оставаться на плаву. Он вышел целым и невредимым из таких переделок, что его стали подозревать. У него было множество врагов, и ни души рядом, на которую он мог бы положиться.
– Я спросила, был ли ты ему другом, – снова донеслось из кухни.
– Наши отношения, – уклончиво ответил я, были, скорее, деловыми. О взаимной симпатии не может быть и речи. Мы исповедовали одни и те же убеждения, и это все. Его виртуозное умение всегда держится на плаву не слишком меня занимало. Как знать, может и я был бы не против, чтобы однажды он пошел ко дну. Как герой, как положительный образ из советской литературы. Но Януш был антигероем, и вместо того, чтобы героически сгинуть, он остался в живых. Но уметь выживать и уметь просто жить – далеко не одно и то же. Второго Янушу было не дано. Как не дано ему было умения просто и понятно выражать свои мысли. Его высказывания отдавали примитивизмом, его лексикон был сплошным убожеством. На все – про все ему хватало двух крайних оценок: либо «дерьмо», либо – «сто процентов». Все, что было не по нему, это дерьмо. Остальное – сто процентов. Будь это кусок хорошо приготовленного мяса, страстная женщина или сталинская острота – все это стояло у него в одном ряду, и все – сто процентов. Но Америка, философия Сёрена Кьеркегора, абстрактная живопись, поэзия Рильке – это у него в другом ряду, и все это – дерьмо! Ладно по-немецки – это все же не родной ему язык, но и по-польски он говорил коряво, напоминая жителя свайных построек. Не суть важно, на каком языке выражал он свои скудные мысли, весь мир в его глазах был окрашен в два цвета: черный и белый. «Дерьмо» либо «сто процентов». Никаких промежуточных оттенков. Никаких полутонов. Он признавал лишь два состояния, две ипостаси всего сущего. Посредине – абсолютная пустота. Провал. Terra incognita.
– А знаешь, – продолжал распаляться я, – он был идеальным коммунистом. Революционером без сучка и задоринки! Ума не приложу, чего хотят от него его обвинители?
– Короче, – парировала Алиса, – ты в нем уверен – так?
– Этого я не говорил, – возразил я, – но я уверен, что никакой он не агент Америки. Человек может быть нечистым на руку, или, как говорил мой отец, личностью весьма мрачной, сомнительной, может иметь склонности к мошенничеству или к аферам, играть краплеными картами, но все это отнюдь не означает, что такой человек – непременно изменник родины. Согласись, что между ветрогоном, человеком просто без царя в голове, и перебежчиком кое-какая разница все-таки есть.
– Означает ли вся эта твоя тирада, – продолжала наседать Алиса, подавая чай и стараясь не смотреть на меня, – что за парня этого ты готов поручиться собственной головой?
– Его жена, – не поддавался я, – знает его изнутри и снаружи. Она уверена в его невиновности.
– Ты ей что-то пообещал? – спросила Алиса, глядя мне прямо в глаза.
– Нет, – неуверенно ответил я, раскуривая сигарету, – что-то обещать ей я не стал…
Это была неправда. Первая ложь, господин доктор, которую я позволил себе сказать Алисе. И с этой минуты отношения между нами сделались не такими, как прежде.
Все, что я здесь написал, не есть абсолютно точная передача нашего разговора. Не исключаю, что сегодняшнее видение того, что тогда произошло, в какой-то степени отразились в моем пересказе. Скажем, я не уверен, что сплошное черно-белое отражение всего сущего в глазах моего приятеля я уже в то время находил абсолютно негативным. Сомневаюсь также, что тогда я уже был в состоянии ставить под сомнение правоту сталинских кровавых акции против своих соперников. Тем не менее, в ту ночь с наших уст слетело много разных слов, которые едва ли соответствовали линии поведения верных членов партии. А моя явная ложь была лишним свидетельством того, что встреча с Хайди стала решительным толчком к крушению моей прежней веры.
14
Господин Кибитц,
скажу вам сразу и без лишних церемоний: этот двуликий Янус, которого вы так обстоятельно мне живописали, отнюдь не заслуживает столь пристального внимания, каковым вы его удостоили. Ваш отец считал его сомнительным типом, от которого исходит полумрак. А он, этот ваш Януш, и того меньше: он – форменное ничтожество. Круглый нуль. Не думаю, что этот господин Никто мог сыграть сколько-нибудь заметную роль в вашей жизни. Но я пытаюсь понять, когда возникли в вашем сознании соображения насчет виновности или невиновности этого скользкого типа – еще тогда или гораздо позже? Предположим, уже тогда вы были способны отличить матерого шпиона, который, согласно легенде своей, косит под шалопая, от самого обыкновенного шалопая, который ни под кого не косит, ибо таковым является по жизни. Тогда это на самом деле было бы несомненным свидетельством особенных умственных способностей, которых я в вас, простите, не заметил, если судить по рассказам, которыми вы меня потчуете. Если же предположить, что озарение это сошло на вас позже, то тогда это и вовсе можно считать симптомом, отрадным для нас с вами. А именно: это могло бы означать начало вашего созревания, что вы, наконец, расстались с вашей инфантильностью и потихоньку превращаетесь в логически мыслящего человека.
Что же касается вашей швейцарки, то я не вижу ничего странного в том, что подобное дорожное увлечение вызвало решительные перемены в вашей жизни. Вошла ли она в нее как женщина или всего лишь послужила толчком к размышлениям – мне судить пока трудно. В любом случае, она разбередила замшелую кору вашей наивности, насквозь прошибла ее, и вы тут же пообещали ей сделать все, что в ваших силах. А то, что вы той ночью солгали спутнице вашей жизни, сказав, будто никаких обещаний не давали, я нахожу даже положительным. Это лишь свидетельствует о взрослении вашего сознания, а невозможность или, тем более, нежелание сознаться говорит, в свою очередь, о начале пересмотра жизненных принципов, которых вы придерживались дотоле.
Ваша супруга увидела в этом предательство, идеологическое вероломство. Пусть так, но вопреки ее представлениям, вы, по меньшей мере, в четырех стенах вашего дома, вступились за этого двуликого, а вернее сказать – двуличного Януша, ставшего якобы невинной жертвой подлого наговора. Это возвышает вас в моих глазах. Подобная твердость позиции, признаться, даже удивила меня, и я приписываю это обстоятельство воспитанию, полученному вами в стенах нашей цюрихской гимназии. Ваше достойное поведение весьма импонирует мне, и я начинаю серьезно верить в возможность полного избавления от постигшего вас недуга.
Вместе с тем, я по-прежнему прошу вас не растекаться мыслью по древу. Излагая мне историю вашей жизни, постарайтесь сдерживать вашу склонность к многословию.
15
Уважаемый господин доктор,
не знаю, право, радоваться мне Вашему последнему письму или сердиться на него? Все, что Вы написали и главное – какими словами, звучит одинаково ободряюще и бестактно. Не думаю, что порядочностью своей я обязан исключительно воспитанию в стенах швейцарской гимназии. И без нее я стал бы не меньшим поборником справедливости. Так что, будем считать эту добродетель неотъемлемой частью моей личности. Если я чему-то и научился у вас, моих товарищей по гимназии, так это искусству хитрить и притворяться. Если бы я в те годы дерзнул, как говорится, ходить под собственным флагом, не видать мне аттестата, как своих ушей. Я был вынужден слиться с вашей средой, раствориться в ней без остатка, чтобы не быть отторженным от нее, как инородное тело. Изображать простачка, эдакого парнишку, своего в доску…
Однако, я хотел бы, как Вы того постоянно требуете, быть кратким и вернуться к истории с моим другом, который, как и я, вынужден был постигать искусство вести двойную жизнь.
Януш Закржевский был, как и я, евреем, и также, как я, вынужден был всячески скрывать этот факт. Любой ценой, потому как еврейство было его клеймом, родимым пятном, Ахиллесовой пятой. Эта необходимость превратила его жизнь в сплошной маскарад. Назвавшись доктором Закржевским, он как бы окончательно дистанцировался от того, кем был на самом деле. А был он евреем по имени Шлаумайер – швейцарцы таких слов и выговорить не в состоянии. Да им и дела нет до подобной экзотики. А имя «Закрежвский» – о чем оно говорит швейцарцам? Да ни о чем. Человек с таким именем для них – жалкий цыган, представитель бродячего племени.
В Польше это имя звучит совсем по-другому. У поляка это имя ассоциируется с охотничьими доспехами знати – с хлыстом и сверкающими блеском хрустящими сапогами для верховой езды.
Но в Цюрихе! Там это слово никто и не выговорит. Хуже того: обладатель такого имени может быть только евреем. Мало того – евреем восточным, а это значит – абсолютным голодранцем. К евреям богатым отношение совсем другое. Их почтительно, с придыханием величают израильтянами, и в этом отражается глубокое почтение за отлично сложенную собственную жизнь. Израильтяне имеют много денег и носят вполне произносимые имена, скажем, Блох или Гуггенхайм. Разумеется, в душе их ненавидят так же, но имена их впечатляют и порождают совсем другие ассоциации: процветающий бизнес, крупный счет в солидном банке, роскошную виллу у подножья живописной горы Зюдханг.
Словом, Януш просчитался. Как с именем, так и с докторским титулом. Кстати, о последнем: в Швейцарии доктор либо человек зажиточный, либо – если он недостаточно богато одет, это жалкий эмигрант, чудом вырвавшийся из какого-нибудь гетто, и его без промедления следует отправить восвояси. И вообще, что за дипломы носят в карманах эти чудаковатые непрошеные гости? Клочки бумаги из Софии или Бухареста. Ни денег, ни манер. Полудикари…
Разумеется, все это Вам хорошо известно, господин доктор, и Вы отлично понимаете, почему Януш получил, в конечном счете, именно то, чего он с таким усердием старался избежать. Он сам себя разоблачил, чем, собственно, и привлек к себе внимание соответствующих органов.
– Скажи мне, наконец, – раздраженно наседала Алиса, – пообещал ты вмешаться или нет? Вечно ты рассказываешь какие-то истории, которые лишь нагоняют скуку, и этим выводишь меня из себя. Ты подал ей знак надежды? Скажи прямо!
– Никаких знаков надежды я ей не подавал, черт побери, – не сдавался я, – понятия не имею, что вообще могу я предпринять. У меня – голова кругом! Януша отправили в тюрьму, к тому же не в каком-то там западно-капиталистическом логове, а в благословенной Польше, в стране социалистического лагеря, которой он посвятил всю свою жизнь. И на чем основаны выдвинутые против него обвинения? Если верить его жене, то всего лишь на псевдониме, под которым он жил, и на вымышленном титуле. «Ты шулер! – кричали они ему в лицо, – ты таился в чужой шкуре. Ты посмел присвоить себе незаслуженный титул…»
Два имени. Два убеждения. Значит, он двойной агент. Когда же Януш посмел возразить на это, что даже Ленин – не Ленин вовсе, а Ульянов, и настоящая фамилия Сталина – Джугашвили, следователь с гневом бросил ему в лицо, что какая-то паршивая еврейская свинья из Галиции не смеет ставить себя рядом с великим Лениным, а тем более – со Сталиным, гениальным вождем мирового пролетариата!
– И ты всему этому веришь? – тяжело вздохнула Алиса
– Конечно, – попытался смягчить я, – этот следователь – всего лишь исключение. И в партию может затесаться какая-нибудь свинья. Вот только…
– Что? – тут же подхватила Алиса.
– Видишь ли, я ведь тоже еврейская свинья из Галиции, – ответил я, – и теперь уже мое будущее отнюдь не кажется мне столь отрадным, как прежде.
– Если во всем этом есть хоть толика правды, Гидеон, то нам остается только повеситься. Но правдой это не может быть никак. Эта женщина клевещет. В последний раз спрашиваю тебя: ты ей что-нибудь обещал?
– Я лишь сказал, – признался, я, наконец, – что попытаюсь сделать все, что в моих силах. Но ты же знаешь, что я абсолютно бессилен! Я всего лишь ничтожный ассистент студии радиовещания, который помогает инсценировать классические пьески. Кто принимает меня всерьез? И что, собственно, могу я предпринять – что?
Наше жилье погрузилось в сумерки. Мы оба были на пределе сил. Случилось то, чего оба мы старались не допустить: наш разговор выплеснулся из нормального русла и превратился в словесную перебранку. Нам следовало немедленно прекратить его, либо само будущее наших отношений и даже нашего брака будет поставлено под вопрос.
– Если есть истина в том, что узнали мы из всей этой истории, – тихо сказала Алиса, то мы должны немедленно убираться отсюда вон.
– Нас отсюда не выпустят так просто, Алиса, – ответил я.
– И что же нам делать, – в ее глазах блеснули слезы, – что?
– Ждать. Терпеливо ждать и искать правду. – Я старался говорить, как можно, спокойнее. Вид плачущей Алисы потряс меня. Никогда прежде я ее такой не видел.
– Искать правду? – прошептала она в ответ, – представь, что мы ее нашли. И что же дальше?
– Надо же, – ответил я, неуверенно подбирая нужные слова, – еще совсем недавно никто и ничто не могло так потрясти нас…
Алиса молча подошла к окну и стала разглядывать пустую улицу:
– Нет, сказала она после паузы, – все это совершенно невозможно. Не верю! Не верю! Не верю!
Я подошел к ней и обнял ее за плечи. Я стал целовать ее мокрые глаза, но она вдруг вывернулась из моих объятий:
– Эта женщина клевещет! Это же очевидно! Она подло лжет!
– Допустим, – ответил я, – допустим ты права, и она действительно лгала мне. Но как ты поступила бы на моем месте? Помчалась бы в полицию? Стала бы бить себя в грудь, заступаясь за этого человека? Даже если он и вправду невиновен – что вышло бы из такого вояжа?
– Если на нем нет вины, ты просто обязан пойти туда, Гидеон!
– Они запросто могут там меня и оставить. Скорее всего, Алиса, оттуда я уже не выйду.
– Ты испугался? – неожиданно спросила Алиса, резко повернувшись ко мне.
Это был страшный вопрос, господин доктор. В ее голосе сквозило презрение, потому что сама она ни разу в жизни не испытывала чувства страха. Не было его и теперь. Это была истинная дщерь пролетариата, которая, если в чем-то была уверена, готова была пойти решительно на все.
Но в Януше она усомнилась. Она знала его лишь по моим рассказам, и сведения эти были односторонни. Возможно, повествуя о нем, я выбрал такие слова, которые представили его не в лучшем виде. Незначительными штрихами я сделал его чуточку хуже, чтобы самому на его фоне выглядеть привлекательней.
В смысле сугубо политическом, Януш был не более сомнителен, чем я сам. Напротив, в сравнении со мной он был, что называется, гранитной глыбой. Наверное все-таки я моим рассказом скомпрометировал его, чтобы этим самым оправдать нежелание за него заступаться. С плохо скрываемым предубеждением я как бы принизил его, щедро разбросав семена сомнений.
И я добился гораздо большего, чем ожидал сам. Алиса окончательно прониклась к нему подозрением, которое целиком распространилось и на его супругу:
– А почему, собственно, я должна слепо верить ее словам? – спросила она, заметно успокоившись. – В конце концов, это ее святой долг выгораживать своего мужа, с которым она живет. У нее три дочери от него. Если она его любит, она просто не в состоянии и не вправе быть к нему объективной. Отвернись она от него, и все сочтут ее предательницей. И значит, свидетелем, достойным доверия, она быть не может, – заключила Алиса, ставя в нашем споре последнюю точку.
Два десятилетия миновало с той ночи, но я помню все до мелочей. Не только отдельные слова, произнесенные нами, но и ту мучительную подавленность, в которую Алиса загнала меня. Она поставила меня перед выбором: быть мне человеком или примитивным моллюском:
– Если ты, в отличие от меня, уверен в его невиновности, – сказала она, – ты должен пойти к ним и заступиться за него. Если такой уверенности нет, ты должен выйти из игры!
Выглядело все очень просто, но на самом деле, это было уравнением со многими неизвестными.
Кем был Януш? Я знаю его по Швейцарии. Знаю, с кем он общался, чем занимался и чем он кормился. Но кем был он на самом деле? Достаточно ли хорошо я знаю этого человека, чтобы поручиться за него? И еще: кем, собственно, является сама Хайди, супруга его? О ней я и вовсе ничего не знаю. Когда они поженились, меня в Цюрихе уже не было. Она была привлекательной и даже больше того: она была очаровательна, пленительна и отличалась, к тому же, горячим темпераментом. Она являла собой тот тип швейцарской женщины, которая бесстрашно, рискуя головой, готова в любой драке отстаивать свои убеждения. Была ли она абсолютно искренней тогда – судить трудно. Одно могу утверждать: лгать она не умела. Допускаю, что она несколько упорядочила понятие истины в собственном сознании, чтобы облегчить себе ее восприятие – кто же, скажите, не делает этого? Но в общем и целом, она была, может быть, самым искренним существом из всех, каких я прежде встречал.
И наконец, третий вопрос, самый, пожалуй, сложный: кем был я сам? Сколь искренними были мои помыслы? Что вызывало во мне страх? Возможность самому угодить на виселицу? Или все гораздо сложнее? А может, я испытывал страх за непоколебимость моей веры?
Если бы следователь действительно обозвал Януша еврейской свиньей, с моими убеждениями было бы покончено. Но я гнал прочь от себя такие мысли. В социалистической Польше, через несколько лет после победы над Гитлером? Исключено! Какую-то вольность следователь, наверное, себе позволил, но такое – ни за что! Исключено. Ис-клю-че-но!
Однако еще больший страх не давал мне покоя: что станется со мной, если Януш, при очевидной невиновности своей, будет все-таки повешен? Смогу я дальше жить с таким камнем на сердце? Конечно же, нет. Моя совесть до смерти замучит меня. Жизнь сделается невыносимой. Значит, я должен что-то предпринять.
Но что?
Алиса посоветовала мне еще раз съездить в Закопану, поговорить с Хайди и выяснить правду. Такое решение пришлось мне по вкусу, потому что супруга Януша приглянулась мне. Скажу больше, я был восхищен ею и постоянно думал о ней. Кроме того, такая поездка как бы отодвигала принятие окончательного решения.
Не сомневаюсь, господин доктор, вы готовы утверждать, что я влюбился. Уверяю Вас, нет, потому что я любил Алису. Но она начинала тяготить меня. Из-за ее бескомпромиссности я оказался в сложнейшем положении. Она требовала во всем четкой позиции, ясных решений. Но я был совсем другим. Я хотел просто жить. Моя работа делала меня счастливым. Театр переносил меня из скучного мира упрямых фактов в комфорт иллюзий, в сказочную нирвану искусства. Большего я и желать не мог.
Мы с Алисой были совершенно разными индивидуумами в самой основе своей. Пропасть между нами разрасталась.
Я чувствовал, что приближается час принятия решения. В пользу Януша или против него. Быть мне с Алисой или… Жить по собственным представлениям или продолжать придерживаться ее житейских правил?
Но к этому часу пик я был менее всего расположен. Сколько помню себя, я стараюсь любой ценой избегать принятия решений.
Не здесь ли таятся корни моего недуга?..
16
Господин Кибитц,
ваша гипотеза не лишена оснований. Долгое время продолжающаяся нерешительность при определенных обстоятельствах может привести к полной потере дара речи, к отказу речевого аппарата вследствие психологического страха перед необходимостью принятия решения. Это вполне возможно, но не следует забывать, что со времени той конфликтной ситуации минуло двадцать лет, а ваше заболевание лишь недавно проявилось. Вы сами говорите, что полная потеря дара речи наступила у вас лишь в нынешнем году. Непосредственная причинная связь между этими двумя явлениями кажется мне сомнительной. Можно допустить, что заторможенность вашего речевого аппарата долгое время прогрессировала, прежде чем окончательно наступило ступорозное оцепенение. Но гипотеза эта не кажется мне бесспорной. Единственное, в чем можно быть уверенным: к вашему недугу в известной степени приложила руку и ваша супруга. Своей непримиримостью она превратила ваш быт в сплошной ад.
Вы угодили, можно сказать, в польскую ловушку, и о том, чтобы выбраться из нее, не могло быть и речи. Чего же добивалась от вас несгибаемая супруга ваша? Непримиримой, бескомпромиссной борьбы за правду? Как она это себе представляла? Что вы, очертя голову, с голыми руками броситесь на меч существующего режима?
Слава богу, на вашем горизонте внезапно появилась другая женщина. Оказалась ли она благоразумнее вашей Алисы, мы еще узнаем. Расскажите же о вашей второй поездке в Закопане. Это может продвинуть нас в наших исканиях.
17
Уважаемый господин доктор,
боюсь, я не сумею удовлетворить ваши ожидания. В повествовании моем я действительно много внимания уделил «другой женщине», однако совсем не потому, что Вы вообразили себе. Эта «другая» сыграла роль связующего звена цепи, некой промежуточной личности, которая, сама того не желая, вовлекла всего меня в иную солнечную систему.
Вы будете возражать, и скажете, будто меня вновь заносит в очередную крайность. Но это не так. Эта самая «другая женщина» втянула меня в магнитное поле некоего дружеского круга – своего рода, мужского квартета, который впоследствии целиком переменил мою жизнь. Четыре товарища разрушили все мои былые представления о жизни, с ног на голову поставили мои житейские принципы, превратив меня из невольного пассивного зрителя в играющего актера. Хайди сыграла в этом вышеупомянутую роль: ей обязан я знакомством с мужчинами, которые предопределили мое второе рождение. Поэтому и только поэтому говорю я об этой «другой» с таким придыханием.
Итак, по совету Алисы я вновь отправился в Татры. На сей раз – не столько для того, чтобы прояснить ситуацию с моим дядей, сколько для того, чтобы разузнать подробности, касающиеся двуликого Януса. Но если говорить честно, была у меня и другая цель: Хайди, которая поглотила всего меня без остатка. Она явилась для меня загадкой, которую я должен был непременно разгадать. Хайди была женщиной, как говорят, моего романа: эдакая святая Иоанна с пламенным взглядом, бесконечно преданная единственной идее.
Подобно Алисе, она верила в справедливость и, как мне казалось, готова была во имя этой веры взойти на костер. Таинственная улыбка не покидала уголков ее губ. Когда она смотрела на кого-нибудь, ему казалось, она готова сейчас же заключить его в объятия, но ничего подобного она никогда не делала. Сотни раз я сгорал от желания поцеловать ее, но мне не хватало на это мужества. Она была до такой степени натуральной, что рядом с ней я самому себе казался насквозь неестественным, наигранным, эдаким абсолютно синтетическим существом.
Мы сидели вдвоем в мансарде. После ареста Януша она снимала жилище казарменного типа, в котором некогда размещался сиротский дом. Кормилась случайными заработками домашней уборщицы, и меня поражало, с какой легкостью она говорила об этом. Из окна ее комнаты можно было любоваться вершинами гор и сползающим за горизонт диском заходящего солнца. Внутри едва хватало места для деревянной табуретки и узкой настенной полки с несколькими книгами.
Хайди сидела на кровати и разглядывала меня. Ее раскованность не только не расслабляла меня, а, напротив, держала в полном внутреннем напряжении.
Она расспрашивала меня о юности и Швейцарии. Ей хотелось знать, что привело меня в Польшу. Как давно я знаю ее мужа, и что я о нем думаю.
Я отвечал бессвязно. Хайди молча слушала меня, потом еще немного помолчала и вдруг лицо ее озарилось все той же таинственной улыбкой. Очень жаль, сказала она, что дороги наши пересеклись лишь теперь, к тому же, при обстоятельствах столь грустных. И добавила, что с момента ее знакомства с Янушем я еще ни разу не бывал в Цюрихе…
Опять этот Януш… Громким стуком в висках отдавался мой лихорадочный пульс. Ладони мои покрылись противной влагой, и я не знал, как увернуться мне от этой мучительно неприятной темы. Вся беседа крутилась вокруг этого парня, который все более испытывал мое терпение.
Я отчетливо чувствовал запах ее волос, но непреодолимая преграда, разделявшая нас незримо и надежно, невыразимой отчужденностью напрочь зависла между нами.
Внезапно меня озарила идея. Распутная мысль, которая могла бы столкнуть с мертвой точки наше рандеву, застывшее в полной неопределенности. Ни к тому, ни к сему, я вдруг задал ей вопрос, любит ли она своего мужа. Гнетущее молчание еще более невыносимой тяжестью повисло в воздухе. Было слышно, как пролетают минуты. Вдруг она поднялась и направилась к умывальнику. Головой нырнув в холодную воду, она по-собачьи отряхнулась и произнесла, энергично вытираясь полотенцем:
– Это уже стало прошлым. Давно. Он не тот, кем я его считала. Он стал другим.
Меня подбросило вверх, будто молнией: ответ звучал многообещающе.
– А кто из нас на вечные времена остается тем, за кого его принимают? – ответил я с горячностью, пытаясь, однако, сохранить хладнокровие, – человек подвержен воздействию внешних сигналов. Он так или иначе отзывается на них, связывая те или иные сигналы с определенными достоинствами своими, – продолжал философствовать я, – И так продолжается до тех пор, покуда ему не откроется истина о собственных глубоких заблуждениях.
– Да, – ответила Хайди, – я заблуждалась.
– Вот уж, не поверю…
– Почему же?
– Потому что вы так страстно боретесь за него.
– Одно никак не мешает другому, господин Кибитц. Я борюсь за него, потому что он невиновен.
– А я полагал, что вы это делаете из любви.
– Из любви это может делать любой, господин Кибитц, но тогда это не было бы вовсе доказательством его невиновности.
– Но вы же верите, что ему можно доверять?
– Политически – да. Безусловно. Но именно это и говорит против него.
– Почему?
– Потому что он достаточно давно живет здесь, чтобы знать, в каком болоте все мы погрязли. Будь он прежним, он объявил бы товарищам войну. Но он стал другим. Он превратился в червяка в коммунистическом сале. В глубокой яме, полной навозной жижи, он чувствовал себя своим и делал все то, что делают другие ее обитатели.
– Но вы же хотите его спасти! Я отказываюсь вас понимать…
– Потому что он не шпион, господин Кибитц, а самый обыкновенный трус. А это совсем не одно и то же.
– Если вы все это видите именно так, Хайди, то и я – такой же червь в куске сала. К тому же, червь особого плана. Я работаю на радиовещании и цветочными лепестками облагораживаю муть каждодневной похлебки. Софокл, Шекспир, Мольер… Острые приправы, чтобы народ выхлебывал до самого дна. И вылизывал тарелочки. Вы полагаете, мне тоже следует объявить войну товарищам?
– У меня – моя жизнь, у вас – своя… Решать за вас я не вправе. Я только знаю, что в марте начнется процесс. Если, конечно, судилище это можно назвать процессом.
– Жуть! И что будет?
– Ничего. У него нет ни одного шанса.
– И что это означает?
– Процесс этот он не переживет…
Хайди сидела передо мной с каменным лицом. Но глаза ее полыхали яростью, которая заставила меня содрогнуться.
Я чувствовал, что от судьбы мне не уйти.
– Вы ждете от меня, – чуть слышно спросил я, – что я вступлюсь за него?
– Да.
– И вы полагаете, что в этом есть смысл?
– Решайте сами. Если не хотите, можете оставаться в стороне.
– Но если уж я должен вступиться, я хочу быть уверенным, что вступаюсь за благое дело. Так скажите мне искренне: Януш – это благое дело?
– Вы рассказали мне историю вашего дяди, который не признал вас или просто не захотел вступать с вами в контакт. Он испугался быть раскрытым. Здесь все боятся друг друга, даже мертвые, даже священник. И он должен знать…
Она все более распалялась и вдруг вскочила с кровати:
– Вы же не кролик, – бросила она мне в лицо, хватая меня за плечи, – я вижу, я чувствую вас – вы же мужчина. – Ее дыхание обжигало меня запахом примулы, глаза ее полыхали. – Я знаю, – горячо продолжала она, – вы пойдете туда. Вы будете его свидетелем. Вам не нужно ничего приукрашивать, скажите лишь то, что вам хорошо известно. Вы, только вы можете ему помочь – вы слышите? Только вы! Могу я рассчитывать на вас?
Что оставалось мне делать, господин доктор? Я не мог отказать ей – слишком красивой, слишком желанной была эта необыкновенная, непостижимая женщина! И потом – это ее заявление: «Я вижу, я чувствую вас – вы же мужчина!»
Я поступил так, как – уверен – поступили бы и Вы: я пообещал ей в ближайшие дни отправиться в полицию и рассказать все, что знаю о нем.
Когда я уходил, Хейди приложила к моим губам мимолетный поцелуй, как мне сейчас это помнится.
Я вернулся в Варшаву в высшей степени возбуждения. Слишком многое было мною обещано! Но с другой стороны, я сам заблудился в этой женщине, поддавшись ее чарам. Никогда прежде я не испытывал столь осязаемо ощущения разверзшейся под ногами пропасти. Животный страх за собственную голову охватил меня целиком.
Обо всем произошедшем в тот день между нами я в подробностях рассказал жене. Все без утайки, включая прощальный поцелуй. Я старался придерживаться только фактов: о том, что Хайди открыто призналась, кем – на самом деле – был Януш. Вовсе не тем, кем он был, когда они познакомились. Что в Польше он превратился в мелкого мошенника, сделался червем в куске сала, паразитом, который был не прочь жировать за счет власти над другими. Я сказал ей, что Хайди больше не любит его, а заступается за него исключительно из чувства лояльности, потому что того требует справедливость.
На эти мои откровения Алиса отреагировала совсем не так, как я ожидал. Теперь-то я знаю точно, что устами ее говорила инстинктивная женская ревность. Она возмутилась и обвинила Хайди в малодушии:
– Теперь, именно теперь она от него отвернулась? Он стоит с веревкой на шее. В этот момент она нужна ему более, чем когда-либо, но именно теперь у нее прошла к нему любовь. Весьма странная личность – эта Хайди, чтобы не сказать большего!
Я возразил: Хайди знает его лучше нас всех. Она встретила его в Швейцарии и знала его, как непреклонного революционера. И только здесь, в Польше, он морально опустился. Переродился в оппортуниста, в самоуверенного бюрократа.
Алиса оставалась непреклонной. До сих пор она не была сторонницей Януша, но теперь, из страха перед соперницей, она видела то же самое в совершенно ином свете:
– Если уж она отрекается от него, – сердито заключила она, – то тебе тем более надлежит заступиться за этого парня. И если ты не сделаешь этого, то сделаю я.
– Что ты кипятишься? – ответил я, – судебный процесс начнется лишь в марте. У нас есть еще несколько недель, чтобы определиться…
– Несколько недель, говоришь? Пока ты будешь определяться, одолеваемый сомнениями – стоит ли за него заступаться, они повесят его – ты этого добиваешься? Господи, во что ты превратился?
Я был загнан в тупик. Две женщины – разумеется, из различных соображений – наседают на меня, чтобы я бросился спасать Януша, а я боюсь, что меня самого могут засадить за решетку и вырвать из меня какие-нибудь нужные им показания. Я трясусь, потому что боюсь пыток.
«Ах, ерунда, – уговаривал я сам себя, – и как такое могло прийти мне в голову? Всего три года живу я в этой стране и уже рассуждаю, как все другие. Как реакционная западная пресса. Полнейшая чушь! В государстве Двадцать Первого Века не может быть пыток! И я не смею поддаваться пропаганде, распространяющей всякие грязные измышления об этой прекрасной стране!»
– Хорошо, – сказал я, полный отчаяния, – я пойду в полицию. Единственное, что мне хотелось бы прежде знать: что имела в виду Хайди, когда говорила, что Януш получает барыши от нынешней власти? Разве здесь такое возможно? Ведь у нас власть принадлежит народу. Она просто обязана предоставить мне доказательства этим своим заявлениям. В противном случае, я умываю руки и с места не сдвинусь, чтобы помочь ему.
18
Господин Кибитц,
в этом вашем самоанализе вы зашли слишком далеко и вступили в фазу самообвинения или даже самобичевания. С необыкновенной легкостью приписываете вы себе все грехи истории в надежде быть за это достойно вознагражденным – то есть, полностью избавленным от тяжелого недуга.
В той конкретной ситуации вы лично проявили больше здравого рассудка, чем обе женщины, между которыми вы метались. Вы были абсолютно правы, не желая добровольно отдавать себя в руки вешателей. Конечно, такое решение противоречило вашим принципам – еще бы! Но вы, тем не мене, сами засомневались в вашем катехизисе и предпочли довериться разуму, а не чувствам. Может быть, впервые в жизни. Браво! Вы испытывали страх – это свидетельствует о приоритете разума. Ибо страх вовсе не является отражением малодушия. Скорее, напротив, он подтверждает наличие здравого мышления.
Не знаю, как будет дальше развиваться вся ваша история, но знаю точно, что для этой жизни вы еще не окончательно потеряны. Вы не отдали себя на растерзание. Из этого факта следует, что ваш разум оказался сильней вашего фанатизма. И теперь меня разбирает любопытство, как же развивались дальше события. Надеюсь, вы не поддались искусной игре этой вашей соблазнительницы Хайди. Она тоже слишком многого требовала от вас. Но требования эти, надо признать, фактически являются следствием страстного противостояния болоту, в котором все вы тогда барахтались.
19
Уважаемый господин доктор,
благодарю Вас за понимание. Приятно сознавать, что хоть иногда тебя все-таки причисляют к существам разумным. Однако я, к моему глубокому сожалению, совершенно убежден, что за мотивами совершаемых мною поступков стоит не столько разум, сколько в высшей степени сомнительные качества моей изначальной сути.
В третий раз отправился я в Закопане, непрерывно думая о том неожиданном поцелуе, которым Хайди одарила меня на прощанье. Может, его не было вовсе, и все это было лишь плодом моего воспаленного воображения. И я вообразил себе, что поцелуй этот является как бы задатком, прелюдией предстоящих более существенных наслаждений…
Я сидел в насквозь прокуренном купе. Мои попутчики читали, вязали и сладко подремывали под мерный перестук вагонных колес.
Так был поцелуй, или мне это только приснилось? Нужно вспомнить, как все было: Хайди сказала, что лишь я один могу спасти Януша. Да, именно так сказала она. И тогда я пообещал ей пойти в полицию. Нет, не так: я ответил ей, что в ближайшие дни я явлюсь в полицию и выложу им все, что знаю. Так это было. После этих слов она притянула к себе мою голову и молча запечатлела на моих губах легкий поцелуй. От неожиданности и потрясения я совершенно остолбенел и даже не подумал воспользоваться сложившейся ситуацией. Едва ступая, я спустился с лестницы и невольно оглянулся. Она стояла в контражурном свете и выглядела, как… Господи, как же она выглядела? Не припомню, хоть убей! А сейчас, в поезде, я пытаюсь восстановить в памяти ее образ, но он вовсе расплылся, слившись внезапно с другим – да, именно так! С образом той огненной лилии, красногривой Ирены, которая горячо шептала мне в самое ухо: «Если хочешь, можем познакомиться…»
Я ехал скорым поездом в Закопане, грезил о Хайди, и вдруг перед глазами моими предстала совсем другая – русалка с коралловыми волосами, о которой я не имею ни малейшего понятия, где бы могла она сейчас быть. Я не удосужился спросить у нее, где она обретается. Бестолочь, неотесанный швейцарский мужлан, испугавшийся девчонки! Нет, не ее – себя самого испугался я. Она предлагала себя, а я ее прогнал. В следующий раз буду умней. Появись она сейчас, как тогда в ночном экспрессе, я овладел бы ею непременно. Я выплеснулся бы в нее весь без остатка, я искусал бы ей шею, обеими руками распотрошил, истрепал бы ее огненную гриву!
Странно: я исходил жаждой к двум женщинам сразу, не отдавая себе отчета, какая из них была мне желанней. Одна была сладкой загадкой, другая – непроницаемой тайной…
Через три часа поезд прибудет в Закопане. Как хотелось прямо сейчас оказаться в ее деревом отделанной комнате в мансарде, где теплый запах смолы перемешан с невыносимо соблазнительным запахом женского тела. Желанен ли я ей так, же как мне она? Ее муж долгие годы находится в тюрьме. Теоретически она изголодалась по ласкам и должна буквально исходить от вожделения. Как повести мне себя, чтобы добиться цели?
А, собственно, почему такие мысли? У меня ведь есть Алиса, моя Эолова арфа из кремонского дерева, самая красивая женщина из всех, каких я знал!
Тогда у меня не было ответа на этот вопрос. Теперь я его знаю: меня мучил страх. Страх перед смертью. Я смертельно боялся последствий моего вмешательства. Мне предстояло заступиться за Януша, как того ожидала от меня Хайди и требовала Алиса. Увиливать я больше не мог. Было совершенно понятно, где окончу я мои дни. На виселице. Две женщины требовали от меня последней жертвы. Доказательства моего мужества. То есть, высшей жертвы. И я вынужден пойти на нее, но прежде я хочу достойно предстоящей жертве вкусить от жизни, в полной мере насладиться ею. Хотя бы и напоследок.
Хейди встретила меня довольно сдержанно:
– Вы ходили туда?
– Прежде чем пойти, – смущенно ответил я, – мне нужно кое-что уточнить.
– Ах, так, – сказала она разочарованно и пригласила меня в комнату. На ней был зеленый шелковый халатик, который позволял видеть всю ее грудь. Мой приход был для нее неожиданным, отчего она была несколько раздражена:
– Я могу уделить вам совсем немного времени, господин Кибитц. Через час у меня назначена встреча.
Меня будто окатили целым ушатом ледяной воды. Такого я никак не ожидал. Значит, она с кем-то встречается – с кем? Мне и в голову прийти не могло, что между мной и Янушем может оказаться еще некто третий.
– Ваши слова смутили меня, – промямлил я, стараясь не проявлять моего потрясения.
– Какие слова?
– В минувшую пятницу вы сказали, что Януш злоупотреблял своей властью. Я должен знать, что вы имели при этом в виду. Какой властью он был наделен? И вообще, где он служил?
– В госбезопасности, господин Кибитц. Вы должны бы это знать.
– Отнюдь! Об этом я не имею ни малейшего понятия.
– А где бы еще ему служить? У него не было никакой профессии. Небось, это и привело его в полицию. Всю жизнь он мечтал о власти, и он добился своего.
– Так он ею злоупотреблял?
– Я приведу вам один пример, господин Кибитц. Однажды нам понадобилась газовая печь для ванной. Но газовые печи продавались по талонам. В открытой продаже они не появлялись. Тогда Януш пошел к Шпенглеру, что на углу, и сказал, что хотел бы иметь такую печь. Когда тот ответил, что у него нет печей, Януш заявил, что непременно хочет получить желаемое, к тому же – немедленно. И предъявил Шпренгелу свое удостоверение. Выбора у того не было. Он приобрел газовую печь на черном рынке и сам же ее нам установил. Того, что случилась потом, вы и представить себе не можете.
– Что же случилось потом?
– Януш донес на Шпенглера, и тот оказался в исправительной колонии. На этом трюке мой муж сэкономил двадцать тысяч злотых.
– Не могу в это поверить!
– Это происходило на моих глазах, господин Кибитц, не сомневайтесь, именно так все и было. Подобных историй я могла бы вам поведать вдоволь.
– Так расскажите же!
– Извольте. У нас был сосед. Он работал хирургом в военном госпитале. Милейший человек, тонкий и остроумный. Его жена страдала неизлечимым параличом. Долгие годы провела она в постели в ожидании смерти. Однажды вечером Януш зашел на склад, чтобы взять оттуда чемодан. Там он застал нашего соседа с какой-то девицей. Случай был вполне понятным, но Януш знал, как его использовать в собственное благо. Он был уверен, что лишь господам дозволены такого рода вольности. И он заявил, что в принципе он человек великодушный и мог бы, как говорится, уладить это дело. То есть, сделать вид, что ничего не видел. Мог бы…
– Мог бы? Уладить? Так прямо и заявил?
– Мой Януш не упускал ни одного случая, чтобы не извлечь из него пользу. С этого дня он ежемесячно стал получать «скромные» подарки. В виде импортных товаров и западной валюты. Он жил, как червь в сале.
– И вы участвовали во всем этом, Хайди?
Дважды предупреждала я его. В третий раз я заявила, что немедленно оставлю его, если подобное еще хоть раз повторится.
– Я верю вам, – выдавил я из себя, – только я никак не возьму в толк, почему вы обиваете пороги учреждений, мечетесь из стороны в сторону, чтобы только спасти ему жизнь. В этом есть какой-то смысл?
– А что вообще имеет смысл? – чуть слышно спросила она, опустив голову. В глазах стояли слезы. Лицо ее окаменело, и вдруг из глубины души ее вырвалось громкое рыдание. Она глубоко вздохнула, и слезы потоком хлынули из глаз. Мне пришлось ее утешать, что для меня было в высшей степени кстати. Я стал как можно бережней успокаивать ее. Я поднялся с моего стула, подсел к ней на кровать и обнял ее за шею:
– Я глубоко ранил вас? Мои слова причинили вам боль?
– Вы ни в чем не виноваты. Эти слезы делают меня отвратительной. Мне стыдно, что я так распустилась перед вами.
Случай был подходящим: она стыдится меня. Ей не хочется выглядеть противной в моем присутствии. Отлично, подумал я, теперь самое время сказать ей, до какой степени покорила она меня. Что слезы совсем не портят ее, что она подобна цветку актинии, который трепещет на весеннем ветру. Что у нее движения лани и ресницы газели.
Я шептал ей в ухо самые нежные слова, какие только знал. Тесно прижав ее к себе, легкими прикосновениями гладил ей шею, расточая весь арсенал известных мне эпитетов. Но Хайди все еще дрожала, будто не решаясь ответить на мои нежности. А я, все более раскаляясь, громко шептал ей, что она должна успокоиться: у нее есть теперь я, и я не допущу, чтобы она в чем-то нуждалась. Я целовал ее глаза и лоб. Рука моя, между тем, как бы нечаянно легла на ее грудь, и я с жадностью и вожделением заглянул в ее глаза. Тонкий халатик, который едва прикрывал ее наготу, распахнулся, и рука моя сейчас же соскользнула на ее бедро. Хайди потерянно всхлипывала. Какая-то мимолетная судорога вдруг молнией пронзила всю ее с головы до пят, гусиной кожей разойдясь по ее уже почти беспомощному телу, будто кругами по воде.
– Ты сердишься на меня? – зачем-то спросил я, покрывая поцелуями ее дрожащий затылок.
Впервые я обратился к ней на «ты», давая тем самым понять, сколь далеко зашло у нас дело.
– С чего бы это, – совсем по-детски ответила она, – ты же так добр ко мне…
Неслыханно! Она сидела передо мной почти голая, похожая на беломраморную статуэтку богини любви, можно сказать, целиком находилась во власти моих пылких объятий и, словно вовсе не замечала этого, будто и впрямь была сработана из холодного камня.
Или здесь совсем другое: может, она просто захотела чуточку поиграть с моим огнем, испытать, устою ли я перед столь сладостным искушением – как знать?
– Ты и впрямь полагаешь, что наша жизнь лишена смысла? – зачем-то задал я неуместный и откровенно ханжеский вопрос.
– Не знаю, – ответила Хайди, утирая слезы, – может, какой-то смыл в ней и есть, если…
– Если что? – подхватил я.
– Если его видеть… Если задаться целью его увидеть…
После этих слов мне стало понятно, что она целиком поощряет мои действия. Что мне надлежит отбросить всякие предрассудки и быть просто мужчиной. Я же, между тем, продолжал оставаться скованным, ибо не сделал ровным счетом ничего, чтобы с должным мужеством продолжить эту затянувшуюся игру.
– Что же дальше? – опять же по-дурацки прошептал я, нежно, почти по-отечески, целуя в лоб обнаженную женщину, которая безвольно сидела рядом со мной и только всхлипывала.
– Ты сам знаешь, – коротко ответила она.
– А ты, Хайди, чего хочешь? Скажи, наконец!
– Чтобы ты шел и выполнил твое обещание.
– Прямо сейчас?
– Да. Мы не должны терять ни минуты.
– А потом? – Я все еще терялся в сомнениях.
– А потом увидим, – спокойно ответила она, – думаю, ты не пожалеешь…
Обеими руками я взял ее голову и прошептал ей в самое ухо:
– Один поцелуй, Хайди, один единственный поцелуй, и я уйду!
– Ровно в семь здесь появится Бронек, – хладнокровно ответила она, пытаясь высвободиться.
– Бронек, – вырвалось у меня от неожиданности, – какой еще, к черту, Бронек?
20
Господин Кибитц,
вы рассказываете о вашем третьем визите в Закопане так, будто уверены, что я стану вас осуждать. Вы продолжаете заниматься самобичеванием, выставляя себя эдаким злодеем-соблазнителем. Однако, я вижу все это совсем по-другому: не вы достойны осуждения, а эта ваша «невинная» полевая фиалка, которая на поверку оказалась обыкновенной гетерой. Заметьте, я не называю ее уличной девкой, потому что уличная девка осознанно идет навстречу вашим желаниям, не пытаясь казаться лучше, чем она есть на самом деле. А у этой – все иначе: эта заманивала и захватывала вас всеми доступными ей уловками. Она будоражила вашу страсть единственно затем, чтобы использовать вас для собственных интриг. При этом она отлично понимала, что в подлой игре этой она ставит на кон вашу жизнь – не больше и не меньше. Отправившись в полицию, вы едва ли вернетесь обратно. Уж в этом-то она, наверняка, не сомневалась! Тем не менее, она апеллировала к вашей чести. Более того, она щекотала ваше мужское тщеславие. И напрасно, как я вижу: вы остались в живых. Ваш разум одержал верх над секундным порывом – исключительным образом, надо сказать. Вы ускользнули из цепких лап опытной кокотки. Это радует меня, хотя здесь вновь сказал свое слово все тот же страх перед оргазмом. Эта блокада вашего сознания едва не довела вас до полного экстаза, зато спасла вашу голову. Знаете, я теперь склонен полагать, что главный нерв вашего недуга как бы защемлен между неистовостью чувственных порывов, свойственных вам от природы, и сухой логикой, которая исходит из упрямого «рацио». Между Дионисием и Аполлоном, как это образно представлял Цоллингер. Поскольку же я сам целиком отношусь к людям аполлонического склада характера, исповедующим превосходство разума над инстинктами, мне импонирует конечный итог приключения. Он вселяет в меня надежду и даже уверенность: я сумею нащупать путь к вашему полному излечению.
21
Уважаемый господин доктор,
вот уж на сей раз вы определенно угодили пальцем в небо: полное заблуждение по всем статьям! Конечно же, Хайди никакая не гетера – в этом я готов поклясться чем угодно. Самое непредсказуемое существо из всех, что я знал. Начисто лишенная задних мыслей. И Ваше последнее письмо, если откровенно, привело меня в негодование. Как только могли Вы обвинить в злом умысле эту святую женщину! Ведь ничего, кроме справедливости, она не добивалась и ничего, кроме обыкновенной человечности, от меня не требовала. Она просила меня изложить лишь то, что мне известно. Будь она кокоткой, она, напротив, требовала бы говорить то, чего я не знал и знать не мог. То есть, она требовала бы от меня лжесвидетельства. Но Хайди хотела, чтобы я говорил лишь правду. Разве это преступление? Уж не взыщите, господин доктор, здесь наши взгляды коренным образом расходятся.
Я, с Вашего позволения, продолжу мой рассказ, и Вы очень скоро убедитесь, как заблуждались Вы в Ваших оценках.
На следующее утро – как раз в мой судьбоносный день, поскольку мне надлежало явиться в полицию – нам пришлось срочно доставить Дарджинского в реанимацию. Едва мы приступили к репетиции нового спектакля – «Ричард Третий», с ним случился инфаркт. Дарджинский как раз объяснял актерам свое видение трагедии Шекспира. Мне показалось, он был возбужден более обычного, а в какие-то моменты – будто весь взвивался до эйфории. Он говорил дребезжащим, часто прерывающимся голосом:
– С самого первого появления, уважаемые дамы и господа, Ричард предстает перед нами человеком решительным, сущим злодеем, и это неотступно подтверждается на протяжении всего спектакля. Лицемерием, предательством, лжесвидетельством и злодейскими убийствами прокладывает он себе дорогу к трону, к абсолютной власти. Он – сущий дьявол, достойный ненависти. И что же? Мы невольно проникаемся к нему сочувствием. В этом – весь Шекспир, уважаемые дамы и господа. Он создает образ, чудовища, которое нам следовало бы возненавидеть, но вместо этого мы околдованы этим чудовищем. Его ледяная холодность вызывает у нас отвращение, но мы сострадаем ему. Почему же? Да потому что чудовище это появилось на свет калекой, хромым уродом. Отсюда и происходит некая – пусть ложная, пусть извращенная, но столь же и неотступная потребность в любви, удовлетворить которую сей монстр попросту не способен, и это – именно это, уважаемые дамы и господа, трогает нас. Да, зритель испытывает к нему вполне объяснимое отвращение, но этот же зритель, абсолютно необъяснимо для себя самого, готов принять посильное участие в ужасной судьбе этого отпетого злодея. Почему? Да потому лишь, что Шекспир наделил его могучим интеллектом. Блистательным остроумием гениального комедианта, благодаря чему самых извращенных, самых могущественных врагов своих он легко обводит вокруг пальца.
Ричард непревзойденно разыгрывает любую роль. Он может ловко прикинуться благочестивым христианином, заботливым другом, достойнейшим монархом, чьё могущество настолько велико, что не нуждается более в рукоплесканиях восторженной толпы, или даже нежным любовником. Во всем сущем он являет собой само воплощение зла. Его подлость столь устрашающа, что никто не в состоянии противостоять ему. Я полагаю, здесь мы имеем дело с человеческой драмой, в высшей степени современной.
Глаза Дарджинского буквально обшаривали лица присутствующих. Он просверлил каждого пристальным взглядом.
– Если сейчас, здесь, среди нас – случайно, разумеется, присутствует полицейский шпик, – съязвил режиссер, – или если кому-то из вас, дамы и господа, угодно донести на меня, советую внимательнейшим образом прислушаться к тому, что я скажу ниже: я, Славомир Дарджинский, открыто заявляю, что Ричард Третий – есть гениальная предтеча грузинского злодея, кровавого диктатора, восседающего на московском троне и…
В этом самом месте Мастер схватился за грудь. Голос его оборвался. Он покачнулся и сполз со стула на пол. Мы осторожно подняли его и доставили в реанимацию.
Но театр остается театром: двумя часами позже репетиция продолжилась. То ли по прихоти самой Судьбы, то ли по велению Ее Величества Бюрократии, именно мне, официальному помощнику режиссера, надлежало взять на себя все его обязанности и продолжить дело, столь неожиданно выпавшее из рук Мастера. Событие это стало поворотным пунктом в моей судьбе. В мгновение ока превратился я из холопа в господина. Что называется, из грязи – в князи! До этой минуты я мог рассчитывать, разве что, на скучную, теневую роль некоего фактотума, мальчика на побегушках, и это в лучшем случае, а тут вдруг я неожиданно предстал перед всеми в ярком свете рампы. Мое доселе неизвестное имя немедленно запало в головы и души всех без исключения актеров, а мое мнение сделалось для них указанием к действию. Все сказанное и сделанное мною приобрело решающий вес. Благодаря этому чудесному превращению, я обрел, наконец, вожделенную значимость, весомость, если угодно, в глазах Хайди, Алисы, да и в моих собственных. По-любому теперь у меня не было решительно никакого времени ходатайствовать перед госбезопасностью за Януша. Я просто предоставил его – собственной Судьбе, и, не случись известных событий, гнить бы ему сейчас в сырой земле.
Дарджинский к делам так и не вернулся. Остаток жизни он скучно провел в постинфарктном реабилитационном центре.
В последний день февраля я проводил первый прогон спектакля на сцене, продолжив при этом – разумеется, в рамках собственного видения, разъяснение сути драмы Шекспира:
– Ричард был горбат и хром. Это не могло не отразиться на его характере. Его хромота, его во всех отношениях отвратительные телесные уродства породили в нем неукротимое бешенство, непомерную, дьявольскую жажду власти. Да, это так, но при всем величайшем моем уважении к господину Дарджинскому, я должен задать вопрос: достаточно ли одной этой всепоглощающей жажды, чтобы встать у руля? Многие миллионы калек коротают свой век на нашей планете. Все они мечтают о признании и о власти, но так и умирают безвестными. Ричард же, напротив, взошел на королевский трон Англии, жестоко и грубо устранив при этом все препятствия на своем пути. Как же могло это стать возможным, уважаемые дамы и господа? Кто и что способствовало столь удивительному восхождению этого уродца? Кому обязан он своей непостижимо головокружительной карьерой? На эти непростые вопросы мы находим ответ у самого Шекспира. В нескольких совершенно второстепенных фразах, которые остаются незамеченными большинством режиссеров, таятся разгадки этих феноменов. И даже почитаемый всеми нами господин Дарджинский просто-напросто вычеркнул их из текста, тогда как именно эти фразы имеют непреходящее значение для понимания сути величайшей драмы, написанной для нас гением. Я имею в виду фразы из седьмой сцены второго акта, которые по замыслу Шекспира как нельзя лучше характеризуют окружение английского трона, самих граждан той страны. Именно в этом поведении окружения, народных масс, уважаемые дамы и господа, как раз и таится вся загадка феномена Ричарда Третьего: «Народ безмолвствует»! Он окружает трон безмолвно, наподобие немых изображений, неодушевленных камней, каковыми они, по сути, не являются, и в этом, дамы и господа, главная тайна силы и власти кровавого злодея. Этим молчанием объясняется победное шествие негодяя. И отнюдь не его жажда власти, не лживость его, не ярость отчаянных порывов привели его к вершинам власти, а само его окружение. Народ с его тупой терпимостью. Который позволяет топтать себя, потому что готов молча сносить тиранию, принимая ее как должное. Все это результат массового мазохизма, безотчетного упоения чувством собственного уничижения.
Ричард отлично понимает эту особенность массового сознания, которая питает его природную лютость. В ней таится источник всякой тирании. И пока народ будет трястись перед властью, уважаемые дамы и господа, он не поднимется с колен, чтобы взять свою судьбу в собственные руки, и в угоду жестоким тиранам своей же кровью будет обильно орошать несчастную землю нашу…
Это была самый первый прогон на сцене спектакля, руководимая мною. И мой первый триумф, чего я никак не ожидал.
Я закончил мою речь. Несколько мучительных секунд актеры молча переваривали услышанное. И вдруг раздались восторженные аплодисменты. Что в моих ремарках так понравилось моим коллегам? Я всего только проанализировал пьесу. Я лишь попытался изложить в духе Шекспира мои собственные о ней представления. Правда, при этом, справедливости ради должен признаться, у меня не было никаких задних мыслей. О том, что в действительности происходит вокруг нас, я, признаться, и не думал. Более того, я все еще пребывал в иллюзорном пространстве "Двадцать Первого Века". Конечно, теперь уже не абсолютно, не слепо, а с некоторыми оговорками. Однако мне и в голову еще не приходило проводить какую-либо параллель между царящей у нас диктатурой и тиранией Ричарда Третьего. Я с жаром говорил о страданиях, которые выпали на долю английского народа пять столетий тому назад, но актеры слышали в моих словах суровую правду о сегодняшней Польше.
Господи, прости мне мое простодушие! Помимо воли моей я сделался в глазах моих коллег символом инакомыслия, активным и бесстрашным диссидентом. С того самого дня, стоило мне где-нибудь появиться, меня встречали радостными возгласами и аплодисментами. Пошли слухи, будто словами мужественными и отважными я пробуждаю в людях бунтарские настроения. Будто я, Кибитц, открыто пригвоздил к позорному столбу безмолвную пассивность народа, молча принимающего участь стада, и наглядно продемонстрировал собственным примером необходимость и возможность активного противостояния преступному режиму. Таким образом, вознамерившись стать режиссером, я, сам того не желая, превратился в живой монумент. Не отдавая себе отчета в возможных последствиях, я невольно устроил пляску на огнедышащем вулкане. И тем, что тогда я не был немедленно схвачен и скручен в бараний рог, я целиком обязан столь же случайному, сколь и счастливому стечению обстоятельств мировой истории.
Второго марта 1953 года случилось нечто совершенно невообразимое: Иосифа Виссарионовича Сталина хватил удар. Такое было невозможно теоретически, по определению, ибо боги не подвержены инсультам, инфарктам и прочим земным напастям! Но именно это – столь будничное и столь человеческое земное несчастье как раз и свалилось на голову любимого товарища Сталина в таинственных покоях его собственной дачи.
Обнародование события сего произошло двумя днями позже. За этой странной задержкой стояли, оказывается, соображения чисто гуманного свойства: столь горестную весть нельзя было единым духом выплескивать в народ – это могло бы причинить ему, народу, непереносимые страдания и даже повергнуть в шок. И потому решено было доводить ее до сознания масс строго дозированными частями.
В Москве и в бесчисленных уголках советской империи за вождя буквально молились. От Эльбы до берегов Японского Моря воцарились скорбь и траур. Миллионы громкоговорителей регулярно разносили по городам и весям бюллетени о состоянии здоровья отца всех народов. И лишь вечером пятого марта время на горестной планете нашей остановилось. Глаза Гения всех времен и народов закрылись навсегда. Сверхчеловек был выставлен в Большом Кремлевском Дворце для всенародного прощания, и людские массы потоком ринулись к гробу, чтобы проститься с всемогущим, всезнающим Отцом всех племен и народов. Весь мир сотрясали рыдания. Слезами обливались поголовно все, но это были разные слезы. Одни плакали от ярости, что Сталин умер естественной смертью, другие – потому что, находясь под непрерывным и строгим присмотром компетентных органов, не плакать было небезопасно. Третьи блеском слез демонстрировали не столько искреннюю скорбь, сколько собственную лояльность существующему режиму, тайно руководствуясь соображениями сугубо карьеристскими.
У меня было такое чувство, что вся Земля вдруг сошла с орбиты. Стыдно признаться, господин доктор, но в тот день меня душили искренние, чистые слезы большого личного горя. Неизбывного, которое обрушивается на нас с уходом самого близкого человека.
А тут еще находились типы наподобие Янека Духа – эти и вовсе ненормальные, не ведающие, что творят сами и что творится вокруг. Они плакали неподдельно. Янек Дух выглядел вполне соответственно своей фамилии – как призрак, как ночной кошмар. Он непрерывно скалился, с утра до вечера взывал о спасении, вглядываясь в неведомую даль. Казалось, сам голос его исполнен ехидства, и весь он, точно поверженный внезапным слабоумием, безотчетно пребывает в трансе какого-то восторженного неосознанного возбуждения. Его рот ни на минуту не закрывался, он беспомощно захватывал очередную порцию воздуха, который, не задерживаясь в легких, чтобы отдать им толику живительного кислорода, тотчас вырывался обратно наружу в виде совершенно бессвязных слов. Всем видом своим этот тип давал окружающим понять, сколь неподдельно обуреваем он внезапно нахлынувшим на него потрясением. В принципе, он был славный малый, этот Янек Дух, на этот счет я не испытывал ни малейшего сомнения. Такие парни вообще импонировали мне. Они превосходно вписывались в мои тогдашние представления о людях и о жизни.
Жутко искривленные, бог весть как закрученные руки Янека Духа неизменно будили в памяти широко известное изображение танцовщицы из буддистского храма. Правый угол рта его был искривлен, бесчувствен и потому вечно полураскрыт. Бедра этого парня были деформированы и абсолютно асимметричны. Выбрасывая вперед неестественно вывихнутую внутрь ногу, ковылял он по улицам, удерживая равновесие широко растопыренными пальцами и втягивая голову в плечи; глядя на него, казалось, что он то и дело норовит увернуться от неожиданного удара, или прячет лицо от вечно преследующих его невидимых врагов.